Все ураганы в лицо
О РОМАНЕ МИХАИЛА КОЛЕСНИКОВА «ВСЕ УРАГАНЫ В ЛИЦО»
Книга Михаила Колесникова «Все ураганы в лицо» вернула меня к далеким годам, насыщенным революционными событиями большого значения: тут и боевая юность М. В. Фрунзе, его побеги из тюрем и ссылки, империалистическая война, революция, гражданская война, создание Советских Вооруженных Сил. Именно в последние месяцы, предшествовавшие Великой Октябрьской социалистической революции, и состоялось мое знакомство с Фрунзе. Я был связан с ним как председатель полкового комитета и заместитель председателя дивизионного комитета, а фактически я исполнял тогда обязанности председателя дивизионного комитета; наш полк, как и все части Кавказской дивизии, был переброшен в Минск. Михаил Васильевич, известный в то время под фамилией Михайлова, был председателем Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, членом исполкома Минского горсовета и членом фронтового комитета армий Западного фронта, а затем, во время корниловского мятежа, начальником штаба революционных войск Минского района. Работа под руководством Фрунзе и другого большевика, Александра Мясникова, и была моей первой настоящей большевистской школой. В последующем наши боевые пути неоднократно сходились. Так было, например, в дни разгрома черного барона Врангеля, когда М. В. Фрунзе стоял во главе Южного фронта, а 1-я Конная армия прибыла в расположение войск правого крыла этого фронта. Чувство восхищения этим человеком я пронес через всю жизнь. Он был полководцем ленинской школы, одним из выдающихся организаторов пролетарской победы, политическим и государственным деятелем, М. В. Фрунзе — организатор масс на всех этапах революции и становления Советской власти, — такова основная черта его яркой биографии. Он был любимцем трудящихся, любимцем армии. У бойцов, командиров и политработников он пользовался исключительным авторитетом, как добрый отец и умный воспитатель. Вся его жизнь была подвигом, ярким примером беззаветного служения интересам народа, славной ленинской партии, великому делу коммунизма. И это святое дело продолжили и продолжают соратники и ученики бесстрашного революционера, весь советский народ, горячей любовью к которому билось сердце Фрунзе до последнего удара. Заслуга писателя Михаила Колесникова, на мой взгляд, состоит в том, что в своей книге он сумел передать всю многогранность Фрунзе как партийного деятеля, его личное обаяние, отобразить работу мысли Фрунзе как полководца. Для того чтобы быть хорошим стратегом, одинаково как в области политики, так и военном деле, необходимы особые, специфические качества, и самое важное из них — научное предвидение, способность руководителя понять определяющие закономерности событий и быстро принять смелые решения, обеспечивающие успех. Эта способность Фрунзе убедительно показана в книге «Все ураганы в лицо». В живой и увлекательной форме М. Колесникову удалось показать талантливость и недюжинность натуры М. В. Фрунзе, полководца без поражений. Хотелось бы сказать несколько слов и о самом писателе. Родился М. С. Колесников в 1918 году в Саратове, детство провел в Заволжье, в тех местах, где действовала в 1918—1919 годах 25-я Чапаевская дивизия. Рассказы о чапаевцах-героях рано вошли в сознание будущего писателя. В 1939 году он окончил военное училище в Ленинграде и сразу же попал в район боевых действий, в далекую Монголию, на реку Халхин-Гол. Двадцать шесть лет жизни М. Колесникова связаны с армией, с флотом. Он был связистом, разведчиком, десантником, танкистом, политработником, военным железнодорожником, носил морские погоны. Видел кручи Большого Хингана и твердыни Порт-Артура. В 1952 году, после окончания редакторского факультета Военно-политической академии имени В. И. Ленина в Москве, Михаил Колесников работал в Военно-морском издательстве, в журналах «Советский моряк», «Советский воин», «Знамя». В 1962 году уволился в запас в звании полковника. Получил инженерное образование. С 1954 года — член Союза советских писателей. Романы и повести М. Колесникова отражают и его личный жизненный опыт, очень многосторонний, — это книга о вожде монгольского народа Сухэ-Баторе, в которой Колесников заявляет себя тонким знатоком истории и быта Монголии, книги о знаменитом разведчике Рихарде Зорге, о Фурманове, о партизане Щетинкине, сборники военных повестей и рассказов, повести и романы о рабочем классе и научно-технической революции «Атомград», «Рудник солнечный», «Розовые скворцы», «Право выбора», «Индустриальная баллада» — всего свыше двух десятков книг. Дилогия Михаила Колесникова «Все ураганы в лицо» и «Без страха и упрека» (роман о Фурманове) в 1972 году отмечена первой премией Министерства обороны СССР. Михаил Иванович Калинин, с которым меня связывала давняя дружба, в свое время напутствовал писателей: «Жизнеописание Фрунзе должно быть настольной книгой для воспитания, для подготовки, для закалки большевизма нашей коммунистической молодежи». Книга М. Колесникова «Все ураганы в лицо» отвечает этой задаче.Трижды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза С. БУДЕННЫЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МИНИСТР «ЖЕЛЕЗНАЯ ПЕРЧАТКА»
Этот сорокапятилетний господин с большим одутловатым лицом фарфоровой бледности и тонкими нервными руками недавно был всего-навсего саратовским губернатором. И неожиданно для всех он вдруг взлетел к вершинам государственной власти: сперва сделался министром внутренних дел, а три месяца спустя — председателем Совета министров необъятной Российской империи. Сосредоточив в руках всю полноту власти, он стал вторым, после царя, лицом в государстве (а фактически — первым). Кого угодно он мог судить и обвинить в чем угодно, посадить в тюрьму или уничтожить. Как все диктаторы, он мнил себя просвещенным правителем и каждое свое действие оправдывал государственной необходимостью. Он ввел военно-полевые суды и создал карательные отряды, покрыл страну виселицами, разогнал I Думу. Своей земельной реформой он совершил глубокий подкоп под крестьянскую общину, этот извечный источник брожений, и создал себе в деревне прочную опору — кулака. Глубоко заглянув умом в сложившуюся историческую ситуацию и ища выхода, он взял твердый курс на буржуазную монархию. Он старался показать всем этим стишинским, макаровым, павловым, заседающим в совете объединенного дворянства, что такое истинное государственное мышление. Произнося речи перед советом дворянства, он цитировал Светония и Плутарха. Рим дал образцы государственности… — Как древние римляне… как древние римляне… Очень часто на заседания он приглашал своего брата журналиста, своеобразного посредника между правительством и газетным миром, и брат своими статьями и заявлениями умело подготавливал общественное мнение к очередному политическому шагу диктатора. Одни называли диктатора «железной перчаткой», другие — «вешателем», а виселицу — «столыпинским галстуком». И когда подобные слова долетали до ушей всесильного министра тайного советника Столыпина, он лишь угрюмо улыбался. Это он, Столыпин, заставил крупных промышленников и землевладельцев смотреть на него, как на спасителя России! К царю, у Столыпина было двойственное отношение. Он презирал этого слабого, безвольного человека, у которого абсолютно отсутствовало государственное мышление. Окружив себя дурными советчиками, Николай II за короткое время натворил массу глупостей, и теперь вот Столыпину приходится все ставить на свое место. Проиграна война с Японией. Давно ли развевались красные вымпелы на мачтах восставших кораблей в Свеаборге, Ревеле, Кронштадте и Одессе? Двести пятнадцать уездов до сих пор охвачены крестьянскими волнениями. А совсем недавно, когда революция достигла кульминации, всем казалось, что дни самодержавия сочтены. С другой стороны, не будь всего этого, никто так и не вспомнил бы о саратовском губернаторе Столыпине. Лишь грозная волна событий вынесла его к вершинам государственной власти. Не дворцовые интриги, а жестокая необходимость приблизила его к трону. Когда трон зашатался, перепуганные вельможи и дворцовые лизоблюды вдруг наперебой заговорили о том, с какой непреклонностью расправился Столыпин с мужицким отребьем еще в бытность свою гродненским губернатором, а позже — в Саратовской губернии. Припомнили и то, что происходит он из старинной дворянской семьи. И оказалось, что при таком монархе, как Николай II, должен быть такой правитель, как Петр Аркадьевич Столыпин — business man, «железная перчатка», беспощадный каратель, враг какого бы то ни было либерализма. После заседания совета объединенного дворянства Столыпин пригласил в свой кабинет владимирского губернатора Сазонова. Только что Столыпин произнес речь и переживал то же самое, что испытывает артист, закончивший с пафосом трудный монолог. Память натренированного оратора нашла те нужные слова и образы, которые заставили всех членов совета полтора часа беспокойно ерзать в креслах: он призвал к государственному перевороту! Он старался пробудить в них волю к победе над внутренними врагами, куда он зачислял не только думских депутатов социал-демократов, но и всех, в ком живет еще свободомыслие: активных рабочих и все рабочие организации, восставших матросов, участников крестьянских волнений и даже либералов всех мастей, оппозиционно настроенных к его реформам. Он чувствовал, что речь, только что им произнесенная, была самой удачной, нет, больше, — самой вдохновенной за время время его правления. И все же она была лишь холостым выстрелом, если учесть, что произносилась она главным образом не для своих, которых вовсе и не нужно было в чем-либо убеждать (все твердо стояли за политику «крови и железа»), а для так называемой «общественности», для тех ненавистных, почти неуловимых людей, которые любят по всякому поводу поднимать шум в газетах у себя дома и за границей. Холодно все взвешивая, Столыпин понимал, что чаша весов истории до сих пор колеблется, и он своими реформами достиг не так уж многого. Римским цезарям было легче: они подавляли своих врагов грубой силой. Калигула мог восклицать в открытую: «Жаль, что человечество не имеет только одной головы, чтобы ее сразу можно было отрубить!» В те мифические времена диктатор мог ради шутки возвести своего любимого коня в ранг сенатора — и все сходило; а сейчас власть диктатора весьма условна: например, назначение на государственный пост нужного человека сопряжено с почти непреодолимыми трудностями. Все эти, собравшиеся в Думе, сразу же делают запрос, поднимают вой в прессе, разжигают страсти. Перед ним, Столыпиным, не просто стихия, а организованная сила — вот в чем камень преткновения. И пока эта сила существует, он никогда не станет полновластным хозяином империи. Если с либералами еще можно как-то справиться, заткнуть им рот подачками, то с фабрично-заводскими рабочими подобный опыт невозможен. У них свои руководители — и не просто подстрекатели, а люди страстно убежденные, экономические умы, со своей тактикой и стратегией, — свое учение, укоренившееся в сотнях голов. Маркс, Плеханов, Ленин… Стол министра был завален прокламациями и нелегальными брошюрами социал-демократов, конфискованными во время обысков в подпольных типографиях. Столыпин, лишенный вельможного снобизма, внимательно вчитывался в страницы тощих синеньких книжечек, и очень часто он начинал думать, что все эти социал-демократические комитеты, социал-демократические депутаты, партия, именующая себя большевистской, более реальны, чем самодержавие, царь, совет объединенного дворянства и он, Столыпин. И чем больше он утверждался в подобной мысли, тем яростнее подготавливал последний удар — государственный переворот. С обезглавленной массой справиться будет легче… Владимирский губернатор Сазонов молча наблюдал за Столыпиным. Они сидели в глубоких креслах. Столыпин, погруженный в свои думы, казалось, совсем забыл о Сазонове. От предстоящего разговора с министром слишком многое зависело, чтобы проявлять нетерпение. Сазонов умел ждать. Ему фатально не везло. Начал он блестяще: в двадцать восемь лет — камергер двора, золотой ключ на голубой ленте при левой поясничной пуговице. Широкие перспективы… А потом о Сазонове как-то незаметно забыли, забыли накрепко, чуть ли не на два десятка лет. Еле добился действительного статского через дядю Шелгунова, сидящего в личной канцелярии царя. Через того же дядю сделался сперва вице-губернатором, а не так давно — губернатором. Успехи скромные. Но Сазонов ждал и верил. Верил в слепой случай, в то, что, в конце концов, его преданная служба престолу будет оценена по достоинству. А еще больше верил в действенность интриг, в протекцию — в тот скрытый, но мощный механизм, который и подсаживает любую административную посредственность в министерское кресло. В то время как другие губернаторы непостижимым образом в короткие сроки становились министрами, перебирались со своими семьями в столицу, вершили дела большой государственной важности, он, Сазонов, был словно незримыми цепями прикован к проклятому смрадному Иваново-Вознесенскому промышленному району, к самой несчастной губернии, захваченной, по сути, рабочими боевиками, которые держат в вечном страхе и полицию, и казаков, и его, губернатора. Разнузданная рабочая голытьба, вооруженная винтовками и револьверами, контролирует железную дорогу, все фабрики, каждый городок, совершает нападение на тюрьму, где содержатся политические. Где берут оружие? Все очень просто: несколько парней устраивают ложную драку, ротозей-полицейский ведет мнимых драчунов в участок — и тут происходит невероятное: драчуны набрасываются на полицейских, связывают их, а потом, ухмыляясь, спокойно разбирают из пирамид винтовки, насыпают в мешки патроны. После чего — ищи ветра в поле!.. В Российской империи столько губерний, что всех не упомнить. Есть тихие, патриархальные; есть сибирские, каторжные, где почти военные законы; есть области, заселенные инородцами, где достаточно сотни казаков, чтобы погасить любую смуту. И из всего обилия губерний судьба уготовала Сазонову самое что ни на есть тяжелое — Владимирскую губернию, подлинный вулкан, беспрестанно изрыгающий стачки, забастовки, демонстрации, митинги. Черная лава, расцвеченная красными флагами, растекается по площадям и улицам, и ее ничем невозможно остановить. В протоколах и донесениях все это имеет название — «беспорядки». И всегда получается, что в беспорядках повинен он, губернатор. Из Петербурга летят грозные депеши, Сазонова обвиняют в либерализме, в попустительстве. И никому невдомек, что живет он под прицелом, под вечной угрозой покушения. Почему-то модно стрелять в губернаторов. Он не принадлежит к людям с уязвимой психикой, но иногда на него нападает страх, самый настоящий страх. Среди ночи он достает револьвер и, шатаясь, хватаясь за стены и двери, бродит по коридорам собственного дома, стараясь уйти подальше от спальни, где его могут прикончить во сне. Он не доверяет охране, собственным лакеям. А если приходится выезжать, окружает карету усиленной конной охраной и охраной тайной. С приходом Столыпина к власти Сазонов воспрянул духом: ведь они считались добрыми друзьями. В кулуарах совета дворянства поговаривали, будто бы Петр Аркадьевич тяготился постом министра внутренних дел, а однажды намекнул, что преемником на этом посту хотел бы иметь Сазонова. Потому-то, когда Столыпин пригласил его в свой кабинет, Сазонов почувствовал сладостную истому в груди. Только теперь он в полную меру ощутил, как опротивел ему замызганный городок Владимир с его тюрьмой, земской сволочью, казармами, пьяным офицерьем, полицейскими. Может быть, именно сейчас Петр Аркадьевич объявят высочайшее повеление… Позолота на стенах и потолке кабинета как бы отгораживала теперь Сазонова от той низменной жизни. Он уже считал себя причастным к высшим сферам, к значительным событиям, прикидывал, кого из друзей придется перетащить из губернской трясины в министерство под свое начало. В нем вдруг проснулась жажда деятельности, он еще может проявить себя в полную меру на новом посту. Да, да, железом и кровью… Он будет беспощаден. Он станет недосягаемым для рабочих дружинников и тогда-то расквитается за все. И так же, как Петр Аркадьевич, будет оправдывать каждый свой твердый шаг государственной необходимостью. Государственная необходимость — существо без души; оно лишено сострадания и милосердия. Чем больше крови, жертв, жестокости, тем лучше. Сазонову не нужны почитание, уважение, слава, репутация доброго, умного правителя; ему необходимо, чтобы его боялись. Месть за свой постоянный страх, за всегдашнюю приниженность… В чертах лица Столыпина было что-то неукротимое, маленькие глазки блистали холодно и остро. Он провел ладонью по коротко подстриженным волосам — его характерный жест — и сказал: — Ваше назначение на пост министра — дело почти решенное. Есть маленькое «но». Поймите меня правильно: сейчас от вас одного зависит, как скоро состоится назначение. Я готов хоть сегодня сложить полномочия министра. Вся думская фронда, разумеется, настроена не в вашу пользу. Наш поход против Думы может не дать нужного эффекта, пока на местах существуют все эти социал-демократические комитеты с их агитаторами. Арестовать депутатов — все равно что обрубить ветки у дерева. Нужно выдрать корни. К несчастью, корни очень разрослись в вашей губернии. Иногда мне кажется, что именно оттуда идет все. Кто они, агитаторы? Почему они не арестованы? Кто, например, автор вот этой прокламации? Кто входит в Иваново-Вознесенский комитет РСДРП? Столыпин взял из кипы одну из листовок и протянул ее губернатору. Сазонов знал содержание листовки. Тут были такие слова:«Царь надеялся, что Дума будет послушной игрушкой в руках его министров-погромщиков и убийц — Столыпиных, Стишинских, Павловых…»Под каждой прокламацией стояла подпись: «Иваново-Вознесенский комитет РСДРП». Но, даже не будучи стилистом, Сазонов мог определить, что все прокламации составлены одним и тем же лицом, опытным журналистом. Да, у автора прокламаций имелся свой, только ему присущий стиль:
«А там, наверху, в раззолоченных палатах царя, князей и министров, идут шумные ликования — что им до народных страданий! Они ведь сыты, у них всего вволю. Там пьют и едят, поздравляют друг друга с избавлением от опасности, там благодарят Столыпина за разгон Думы, за лихую расправу с «крамольными» депутатами, осмелившимися заявить, что не всё в России так, как следовало бы, что не след бы одним с голоду умирать, в то время как другие объедаются и опиваются».Стиль остается стилем. А самое страшное в том, что этот неведомый автор был личностью широко образованной и осведомленной: он знал, что делается за закрытыми дверями совета объединенного дворянства, в Думе, на окраинах России, наперед определял каждый шаг правительства, разбирался в экономических вопросах, легко оперируя цифрами. Отблеск высокой культуры лежал на каждой его листовке. Если бы он разоблачал, клеймил — было бы полбеды. Но главная опасность состояла в том, что он учил рабочих, как объединяться. И то не были советы дилетанта. То было глубочайшее проникновение в психологию задавленного раба, страстный призыв разогнуть спину, несокрушимая уверенность, что близится новая революция. Даже Сазонов, ненавидящий неведомого автора-агитатора, вынужден признать, что ему, губернатору, всей жандармерии и полиции приходится иметь дело с человеком незаурядным, несомненно имеющим большой и всесторонний опыт, знающим военную тактику не хуже другого генерала. Вот его советы рабочим:
«Забастовка ситцевых и механических рабочих в Шуе кончилась неудачно. Почему?.. Прежде чем давать сражение неприятелю, нужно было подготовить свои силы, подготовить провиант, хоть несколько касс, расследовать силы врага, узнать его слабые места, трезво взвесить его и свои силы, выбрать подходящее время и тогда уже дружным натиском ударить на врага».Сазонов знал имя составителя прокламаций. Впрочем, это имя знали тысячи людей: Арсений! Он был самой популярной фигурой не только в губернии, но и далеко за пределами ее. Одно его имя наводило страх на фабрикантов. Об Арсении писала газета «Владимирец». Это о нем совсем недавно прокурор окружного суда доносил начальству:
«Арсений наибольшую деятельность свою проявил перед выборами во II Государственную думу, когда всюду сопровождал Жиделева и руководил последним. Арсений при отъезде из Владимирской губернии члена Государственной думы Жиделева сопровождал его и писал для него речи, которые произносил перед рабочими Жиделев».Все, вплоть до начальника губернского жандармского управления, знали, что руководит выборами депутата по рабочей курии от Владимирской губернии Арсений. Это он дерзко проник в зал губернского предвыборного собрания выборщиков и здесь, на виду у полицейских чиновников, выступил от имени большевиков, разоблачая программы правых партий. Или взять случай, когда Арсений в специально снятом рабочими зале гостиницы «Лондон» три часа читал доклад о профсоюзах при огромном стечении народа, в присутствии шуйского исправника Лаврова и наряда полиции. Полиция просто не могла пробиться к трибуне — не пустили рабочие. Арсений ушел, помахав рукой исправнику Лаврову. Он был неуловим, недосягаем и творил свои дела, словно бы издеваясь над жандармами, казаками и полицейскими. Однажды он ухитрился провести собрание среди казаков, переброшенных с Дона в Шую. Если уж он решил, что депутатом в Думе должен быть рабочий Жиделев, то тут власти бессильны. А кто такой Жиделев? Социал-демократ, большевик, был депутатом совета уполномоченных во время знаменитой на всю Россию всеобщей стачки иваново-вознесенских рабочих. Но его голыми руками не возьмешь: за ним — десятки тысяч рабочих, комитет, дружинники. И все это, как убедился Сазонов, приходит в движение по одному знаку Арсения. Когда в предвыборную кампанию полиция разгромила все подпольные типографии Шуи, чтобы помешать социал-демократам агитировать за Жиделева, произошло невероятное: средь бела дня Арсений во главе большого отряда дружинников захватил частную типографию Лимонова и отпечатал здесь две тысячи противоправительственных прокламаций с призывами голосовать за рабочую партию. Глупее всего, что все это происходило в центре города, возле полицейского участка, рядом с круглосуточным постом городового. Когда городовой Шишков зашел в контору типографии погреться, дружинники обезоружили его и держали под арестом почти три часа. Потерпев такой провал, исправник Лавров решил, что его служебная карьера закончилась. Он добился аудиенции у губернатора и поклялся изловить Арсения. Наверное, ни одного депутата не провожали в Петербург так торжественно, как Жиделева. Все фабрики и заводы Иваново-Вознесенска остановились. Привокзальную площадь запрудили десятки тысяч рабочих с красными знаменами. Власть была в руках комитета, который, вопреки всем расписаниям, задержал поезд на полчаса. На трибуне, рядом с Жиделевым, находился Арсений. Он произносил свои крамольные речи, а толпа отвечала ему пением революционных песен. И происходило это всего несколько дней назад. В представлении губернатора Сазонова жил своеобразный облик этого Арсения. Арсений рисовался ему громадным мужиком с лохматой угольно-черной бородой и мрачным взглядом налитых кровью глаз. На большевистском агитаторе была красная рубаха, а за поясом — топор. Сазонов понимал, что в жизни Арсений совсем другой и, конечно же не носит топора за поясом. Он, должно быть, неотличим от сотен других рабочих, иначе трудно было бы ему скрываться в маленьком городке Шуе. Но картинное представление вопреки всему жило. Все последние годы Арсений был главным врагом Сазонова. Этот человек, о котором Сазонов не знал ничего, кроме его вымышленного имени, был источником постоянных беспокойств, ночным кошмаром губернатора. Арсений присутствовал всюду и даже здесь, в святая святых империи, в кабинете председателя совета министров, он напомнил о себе, встал на пути Сазонова к министерской власти, а со страниц листовок кричал в лицо Столыпину: «Столыпин — погромщик и убийца! Долой же проклятое самодержавие! И да здравствует социализм!» И вся полиция, и жандармерия, и казачьи сотни, сам всемогущий Столыпин были бессильны против этого неведомого агитатора, не могли схватить его за горло — он продолжал глумиться и над царем, и над министрами, разъезжать по губернии, словно по собственной вотчине. — Что вы предприняли для ареста агитатора? — спросил Столыпин. — Я обещал за его голову пять тысяч рублей. Оповещены полицейские, жандармы и казаки. За дело взялся опытный агент шуйского уездного управления полиции урядник Перлов. — Каковы результаты? — Арсений стрелял в урядника, когда тот пытался задержать его. — Великолепно. В таком случае, трудно понять, кто за кем охотится: полиция за агитатором или агитатор за полицейским? Продолжайте! — Не так давно шуйские рабочие устроили хлебную забастовку. Арсений вывел десять тысяч рабочих, говорил перед ними речи. Газета «Владимирец» зафиксировала его слова. С позволения вашего высокопревосходительства…
«Арсений указал, что причины непомерно высоких цен на хлеб кроются в общей правительственной политике, в политике министра Столыпина, при которой из голодающей России хлеб вывозится за границу и продается там вдвое дешевле, чем внутри страны».Столыпин провел рукой по волосам. — И полицейские, конечно, спокойно слушали доклад агитатора, и никто даже не попытался схватить его. — Никак нет. Казачий вахмистр посоветовал исправнику Лаврову застрелить Арсения. — И что исправник? — Исправник поднял револьвер. Арсений заметил это, спокойно расстегнул полушубок и сказал: «Стреляйте, негодяи! Вы можете убить меня, но не убьете революционного духа рабочих». После чего вахмистру и Лаврову пришлось убраться. Толпа разорвала бы их в клочья. — Очень любопытные дела происходят в вашей губернии. Распоряжается там не губернатор, а какой-то агитатор, большевик, ставленник Ленина. Я скажу вам одно: ваш Арсений отлично разбирается в политической экономии, он даже знает, где и по каким ценам мы продаем хлеб за границей. Я скажу вам даже больше: в прошлом году Арсений был в Швеции, встречался на партийном съезде социал-демократов с Плехановым, Лениным и другими лидерами противоправительственной партии. К сожалению, установить, кто скрывается за псевдонимом «Арсений», до сих пор не удалось. Это опасный враг. Умный, изворотливый, дерзкий. Я не сомневаюсь, что он не уйдет от правосудия. Но вы, лично, не передоверяя никому, обязаны проследить, чтобы после ареста Арсения им занималась не судебная палата, а военно-полевой суд. Военно-полевой суд — это смерть! Даже если отбросить все политические обвинения, Арсений повинен в уголовном деле: в покушении на убийство должностного лица. О ходе дела информировать меня. Официальный, сухой тон. Никакой аффектации. За все время, пока шел разговор, Столыпин ни разу не улыбнулся, не проявил дружественной фамильярности. И владимирский губернатор невольно подтянулся. Из кабинета он вышел с твердым намерением немедленно вернуться во Владимир и заняться искоренением всяческих комитетов, которые так неожиданно загородили ему дорогу к министерскому креслу. — Ужо погоди, Арсений или как тебя там!.. — бормотал он, шагая по пустынным коридорам дворца. — Вздерну я тебя, голубчик, тогда будешь знать… А Столыпин продолжал неподвижно сидеть в своем кабинете, откинувшись на спинку кресла. Он был недоволен разговором с владимирским губернатором. Когда они были на равном положении, ограниченность Сазонова как-то маскировалась: ведь оба они тогда чувствовали себя чуть ли не обойденными, при встречах дружно поносили выскочек и всю ту породу ловкачей, которые малыми средствами добиваются многого, оба верили, что преданная служба престолу рано или поздно будет вознаграждена. Теперь Сазонов рисовался Столыпину уже в ином свете: чего стоит человек, который не может навести порядок в одной-единственной губернии? Столыпину приходится заботиться о порядке во всей империи. Конечно же, Сазонов, увы, не государственный человек. Ему недостает того внешнего беспристрастия, солидной неторопливости, умения создавать нужную дистанцию между собой и нижними чинами, а главное — широты мышления и еще многого, на первый взгляд несущественного, что в совокупности и отличает государственного мужа от чиновника. Конечно же, вместо того чтобы пройтись огнем и железом по губернии, может быть, затребовать подмоги у московского генерал-губернатора, этот человек поставит на ноги всю полицию и жандармерию, и все лишь затем, чтобы изловить одного-единственного агитатора. А когда агитатор в конце концов будет выловлен, начнется бесконечное судебное разбирательство, и агитатор, используя трибуну суда, будет кричать во весь голос о прогнившем насквозь самодержавии и призывать к свержению существующего строя, а бойкие репортеры напечатают все это в утренних газетах. Потом… Потом в защиту агитатора выступит та самая «общественность»… Столыпин с горечью думал об упадке Российской империи. Были великие реформаторы, общественные деятели первого ранга, властные государи, талантливые полководцы, не жалевшие живота своего во славу России. Куда все девалось? Во всей империи днем с огнем не сыщешь умного, сильного аристократа. Знать выродилась, погрязла в мелких дворцовых интригах, дворянство утратило былое представление о чести, о преданности престолу. Один он, Столыпин, сохранил в себе старую закалку и вынужден вливать свою энергию в каждое, даже самое мелкое дело, гальванизировать одряхлевший государственный организм и таких вот правителей, как Сазонов. Деяния древних даже в своих крайностях были величественны. Когда сенатор Гай Метелл спросил у Суллы, когда и чем кончится резня в Риме, Сулла пожал плечами: «Я еще не решил, кого прощать». — «Ну, так объяви, кого ты решил покарать!» Сулла составил список приговоренных к смерти, а потом каждый день вносил туда все новые и новые имена. И так до бесконечности. Когда же его вызвали в Собрание для ответа, он заявил, что так будет и впредь, до полного искоренения всех неугодных. И можно ли хоть на мгновение представить в роди Суллы, скажем, того же Сазонова, тем лишь и озабоченного, как бы, не замарав своих пухлых ручек в крови, усесться в министерское кресло? Сазонов жесток мелочно, по-мещански. Что будет, если такой человек получит пост министра внутренних дел? Он прежде всего обрушится на своих личных врагов. Лучше иметь сенатором коня, чем министром Сазонова… Столыпин бережно хранил портрет одного из своих родственников, у которого в свое время любил бывать: Николая Аркадьевича. Этот вельможа, камер-юнкер, был своего рода фамильным эталоном, мерилом государственной непреклонности, отправной точкой для Петра Аркадьевича. Николай Аркадьевич Столыпин доводился двоюродным дядей известному поэту Лермонтову. Так вот, когда убили на дуэли Пушкина, Николай Аркадьевич сказал Лермонтову: «Дантес молодец, он избавил двор от ядовитой гадины!» На что Лермонтов ответил: «Есть божий суд…» Но Николай Аркадьевич не боялся божьего суда, не боялся высказывать вслух все, что он думает о Пушкине, о поэтах вообще, о плохих слугах престола. То был железный человек, понимавший, что власть должна быть твердой, непреклонной, без либерального сюсюканья, без попустительства крамольным элементам. А если Пушкин — гений, то он во сто крат вреднее для престола, нежели посредственный стихоплет, и тем скорее нужно с ним расправиться. Чем, собственно, поэт, писатель отличается от агитатора? Поэт мнит себя посредником между властью и народом, но посредничество-то всегда буйное, в пользу того же самого народа. Белинский, Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Герцен — это они расшатывали царский престол. И расшатали… Нужна полиция, нужны маги и волшебники полицейского сыска. Сейчас нужна такая полиция, какой не бывало ни у Наполеона, ни у Бисмарка. Сегодня Столыпин пообещал совету дворянства, что через двадцать лет искоренит революцию и в умах, и в сердцах. А когда не так давно на него совершили покушение, он заявил с думской трибуны: «Не запугаете!» Он насадил своих агентов в Петербургский комитет большевиков, в Московский комитет, в комитеты других городов. Он будет взрывать комитеты изнутри, зашлет своих азефов в думскую фракцию социал-демократов, во все их организации. Он поднимет полицейскую службу до профессионального совершенства, и тогда ни один Арсений не сможет укрыться от его карающей руки… Столыпин взял толстый красный карандаш и пометил в памятной книжке: «Арсений???»
ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН ЧЕЛОВЕК
Социолог, историк, юрист, наконец, видный общественный деятель профессор Ковалевский привык иметь дело с человеческой натурой, с запутанными, сложными отношениями общественных классов. Профессору было уже под шестьдесят, бо́льшую часть жизни он потратил на то, чтобы выявить некую тенденцию в поведении и идеологии этих классов, отделить добрую волю субъективных волюнтаристов от подлинного исторического процесса. Иногда он с грустью думал, что просто не в состоянии выделить роль и значение каждого класса в современном обществе. У себя в Политехническом институте он прислушивался к мнению молодых профессоров, студентов, так как молодежь всегда несет в себе веяния века. Революция в России вызвала у молодежи бурный интерес к социальным вопросам, в коридорах и аудиториях института открыто ревизовали различные экономические учения. В бесконечные дискуссии втянулись молодые профессора Байков, Павлов, Шателен да и сам Ковалевский. Перетряхивали теории Кенэ, Адама Смита, Рикардо, Сэя, Мак-Куллоха, Бастиа, Сениора, Гильдебрандта, Книса, Роммера, поносили и защищали господина Струве. Ковалевский считал, что подлинная личность проявляет себя прежде всего в самостоятельности суждений, а потому с одинаковым интересом принимал полярные точки зрения. К сожалению, в спорах оппонентов было много школярского, вычитанного из книг, и мало самостоятельного осмысления. Возможно, потому профессор Ковалевский как-то сразу заприметил студента экономического отделения Фрунзе. Этот студент в диспутах не участвовал, появлялся только на зачетных сессиях. Зато вся недюжинная сила его ума с блеском проявлялась в это ответственное для студента время. Он отличался самостоятельностью и широтой воззрений, удивлял профессоров своей необъятной эрудицией. В нем угадывалась крупность натуры. Государственное право, история русского права, психология, история философии, политическая экономия… По этим предметам он уже шагнул на четвертый курс, тогда как другие только приступали к их изучению. В своей неуемной жажде познания он обошел всех. Профессора одобрительно говорили: «Весьма, весьма…» Впрочем, Фрунзе меньше всего заботился об отметках. В его поведении не было ничего школярского. Именно самостоятельность мысли и изобличала в нем подлинную увлеченность наукой. Хорошо владея французским и английским языками, он цитировал европейских экономистов по первоисточникам. Он мог не соглашаться с учебниками, с преподавателями, его комментарии к любому учению были полны спокойного остроумия, поражали своей парадоксальностью. Вот этот дух мятежного несогласия и уловил профессор Ковалевский. Однажды, когда Фрунзе заметил, что у великого Кенэ категория экономического закона еще не отдифференцировалась от категории закона природы и что, уловив объективный характер экономических законов, Кенэ не смог обнаружить их социальной природы, их исторически преходящего характера, Ковалевский догадался: студент увлечен Марксом. — Весьма одаренный молодой человек Фрунзе, — сказал Ковалевский профессору Байкову. — Попомните мое слово: перед нами звезда первой величины. И все-таки угадывается в нем нечто для меня непостижимое, беспокоящее. Такие не ограничиваются рамками теории. Есть в нем некая непреклонность, восхищающая и раздражающая меня. Сколько ему? Двадцать с хвостиком? В его годы я с грехом пополам дошел до Ксенофонта и Плиния. Мне кажется, мы имеем дело с романтиком, наделенным очень трезвым умом. И вот что я вам скажу: никакому безумцу таких дел не наделать, как романтику со здравым смыслом. Потому что он не только задумает, но и в жизнь проведет свою идею самым практическим образом, притом упорно. — Он обладает еще одной редкой особенностью: располагать к себе людей, — ответил Байков с улыбкой. Байков покровительствовал Михаилу Фрунзе. В Политехническом институте училось много детей вельмож, крупных заводчиков и землевладельцев, и они в покровительстве не нуждались. Фрунзе попал сюда, в общем-то, благодаря золотой медали, полученной за отличные успехи в гимназии. Родовитостью похвастать он не мог: отец — выходец из молдавских крестьян, отставной военный фельдшер, мать — крестьянка. Отец, кажется, умер. Огромная семья где-то там, в Туркестане, не то в Пишпеке, не то в Верном. Вот и все, что знал Байков о Фрунзе. В то самое время, когда Столыпин принимал у себя в кабинете владимирского губернатора, в пустом лекционном зале Политехнического института профессор Байков беседовал с Михаилом Фрунзе. Вернее, они вели непринужденный разговор на самые различные темы. Тут шел спор равных. Спорили по поводу работы Госсена «Развитие закона человеческого общения». Спор возник непроизвольно. Сперва заговорили о познании вообще. На этот счет у Фрунзе имелась своеобразная точка зрения. Он никого не цитировал, а говорил то, что ему, может быть, только сейчас пришло в голову. Мягко улыбаясь, он говорил о двух видах знания. Дикарь, обожествляя силы природы, все же улавливает некую закономерность во всех явлениях, хотя часто еще и не в состоянии определить, где причина, где следствие. Нечто подобное наблюдалось и в Древнем Египте, когда жрецы, населив небо и землю божествами и приписав им определенные связи, умели все-таки точно предсказывать разливы Нила и небесные явления. Подобное знание можно было бы назвать неадекватным. Неадекватное знание проявляет себя также и на высших ступенях: например, в диалектическом идеализме Гегеля. Та мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал исчерпывающую и сознательную картину ее общих форм движения. Байков был заинтересован. — А что следует называть адекватным знанием? — спросил он. Собеседник улыбнулся. — По-видимому, то, что ставит диалектику Гегеля с головы на ноги. Если вы, к примеру, возьмете экономическое учение Смита, Рикардо, то тут ведь то же самое. Или историю, социологию… Теперь улыбнулся Байков. — А вы убеждены, что то знание, на которое вы намекаете, в полном смысле адекватное? — Я произвожу такое деление ради собственного удобства, огрубляя преднамеренно. Я-то уверен, что такое знание, во всяком случае, строго научное. — А знаете… в этом есть что-то неотразимое. Своеобразная методология. А как вы в таком случае с подобных позиций оцениваете труд Госсена? В его «учении о наслаждении» много привлекательного, своеобычного, я бы даже сказал, оригинального. — Смотря для кого привлекательного. Госсен утверждает, что по мере удовлетворения какой-то потребности степень наслаждения падает и на известном пределе падает до нуля. При невозможности удовлетворить все потребности полностью необходимо для получения максимума наслаждений прекратить их удовлетворение на том уровне, на каком их интенсивность стала одинаковой. А если перевести это на язык политической экономии, то выходит: народ нужно держать в полуголодном состоянии, это и будет для него «максимум наслаждений». А правящие классы, мол, могут прожить и на нуле наслаждений. По-видимому, и сам Госсен вскоре после выхода своего труда понял, как истолкуют его теорию, так как собрал почти все экземпляры книги и сжег их. Я считаю, что законы экономики имеют не психологическую природу, как утверждает господин Госсен, а классовую… Они еще долго вели научный спор, увлекаясь все больше и больше. Когда стемнело, Байков сказал: — Я рад за вас, Михаил Васильевич. Еще немного усилий — и вы дипломированный экономист. А знаете — Ковалевский имел разговор с начальством. Я разделяю его мнение да и другие профессора тоже: оставить вас при кафедре. При вашей энергии дело за ученой степенью не станет. Фрунзе поблагодарил. Он обещал подумать: время терпит. — И еще, Михаил Васильевич… Если, паче чаяния, будет нужда в моей помощи, монете на меня всегда рассчитывать. Слова Байкова можно было истолковывать двояко. Речь могла идти о помощи в устройстве после окончания института. Но в голосе профессора улавливался совсем иной оттенок. Фрунзе понял и горячо пожал протянутую руку. Из института он вышел в приподнятом настроении. Еще немного усилий и… как сказал древний мудрец: «Несчастный, ты получишь все, о чем мечтал». А дальше?.. Он поехал к Царскосельскому вокзалу, возле которого находилась квартира известного экономиста Анненского. Николай Федорович Анненский его ждал. — Ну-с, Миша, а я уж решил, что вы не приедете. Поспешим в литературное общество. Я вам подготовил сюрприз. В свое время Николай Федорович Анненский отдал дань народничеству, теперь, на склоне лет, отошел от политики и занимался издательским делом. Именно к Анненскому заявился Фрунзе с рекомендательным письмом, приехав из Верного в Петербург в 1904 году. Николай Федорович принял тогда будущего экономиста приветливо, пригласил бывать на средах, которые устраивал у себя на квартире. На средах Фрунзе и познакомился со многими видными литераторами и экономистами, группирующимися возле журнала «Русское богатство». Однажды сюда зашел Горький. То было накануне революции. Фрунзе плохо запомнил, о чем говорил властитель дум России, но ощущение того, что это — Горький, знаменитый Горький, что он, Фрунзе, вот так запросто находится в одном кругу с Горьким, возвышало над мелочами, придавало значительностьсобственной жизни. Особенно близко сошелся Фрунзе с писателем Короленко. Перед Фрунзе сидел бородатый человек с большими спокойными глазами. В нем было что-то патриархальное, уютное, располагающее к откровенности, и как-то не верилось, что за плечами Владимира Галактионовича политические тюрьмы, вятская ссылка, пермская ссылка, якутская ссылка. Это его объявили государственным преступником за то, что он отказался присягнуть Александру III. Рядом с Короленко не верилось в зыбкость мира. Год назад вся мыслящая Россия отмечала пятидесятилетие писателя. Фрунзе со своими товарищами гимназистами был в то время на вершинах Тянь-Шаня. Стоя у границы вечных снегов, они, словно безумные, кричали: — Человек создан для счастья, как птица для полета! Эхо отзывалось в горах, а рядом, распластав крылья, плыли орлы. Опьянение полной свободой, вызов всем и всему, горячие споры о назначении человека. Чехов, Короленко, Горький… Эти кумиры существовали и боролись где-то там, безмерно далеко, и в их реальное существование почти не верилось, но они беспрестанно будоражили умы, они как бы присутствовали рядом: и в гимназии, и дома, и возле розовых снегов Тянь-Шаня. Они стали частицей жизни, миросозерцания. И вот Короленко расспрашивает студента Фрунзе о Туркестане, об охоте в горах. Он никогда не бывал в тех краях, и все, что говорит молодой человек, вызывает у него интерес. Серо-зеленая выцветшая юрта, куда входят согнувшись, где всегда, даже в зной, прохладно. Молодые киргизки на убранных лошадях лихо джигитуют по степи. Блеклое небо над зубчатой стеной Терскей Ала-Тау. Заросли желтой караганы. На лис, волков, зайцев и диких коз здесь охотятся с так называемыми «золотистыми орлами». В поисках подходящих для воспитания птиц киргизы осматривают орлиные гнезда в феврале и марте. Птенцов не трогают до тех пор, пока те не достигнут половины размера взрослой птицы. Сперва молодые орлы должны привыкнуть к людям, затем орла приучают к кожаному колпачку, закрывающему его голову и глаза. Начинается обучение. В глазные впадины чучела лисы или газели вкладывают куски сырого мяса. Вначале орел боится чучела, но в конце концов голод принуждает его напасть на чучело. Потом один из охотников верхом на лошади тянет за собой чучело на веревке, а другой спускает орла, заставляя его преследовать воображаемую добычу. После месяца обучения орел готов для настоящей охоты. Хорошо выдрессированная птица убивает за сезон до пятидесяти лисиц. Волку орел опускается на спину и переламывает ему хребет. — Такие вещи нужно записывать, — сказал Короленко. — Вот вы увлечены экономической наукой. Я тоже некогда был увлечен. Учился в технологическом институте, учился в сельскохозяйственной академии, учился в горном институте. Все это объяснялось стремлением быть полезным нашему безграмотному, забитому народу. А потом оказалось, что служба моя совсем в ином. Ну а вдруг если ваша экономическая наука — не цель, а средство и назначение ваше совсем в ином? Вы рассказывали о своем увлечении ботаникой. Видите ли, послали из Туркестана в Петербург редкую коллекцию растений и даже получили благодарность от академиков. Так почему же вы не пошли по ботанической стезе? Вы знаете латинские названия каждой тамошней травки, читали Коржинского и других авторитетов в этой области. Вам известно, что те земли исследованы поверхностно и что там необыкновенный простор для первооткрывателя. Почему вы решили, в таком случае, уйти в экономическую науку?.. Фрунзе тогда не стал отвечать. Да вопрос и не требовал ответа. Оставалось лишь удивляться проницательности писателя. Он не признавал науки ради науки, ботаники ради ботаники, литературы ради литературы. Все имело смысл лишь как служение более высокой цели. Он намекнул, что Фрунзе не лишен дарования как рассказчик. А Фрунзе никогда не посмел бы показать ему свои стихотворные опыты. Стихи пишут все студенты. Короленко же требовал глубокого отношения к фактам действительности, того отношения, какое просматривалось в его строгих, кристально чистых очерках и рассказах. От Короленко у Фрунзе осталось ощущение суровой чистоты. В литературное общество приехали еще до того, как большой зал стал заполняться публикой. Те, кому предстояло сегодня выступать, были уже в сборе. Александр Блок, Андрей Белый, Леонид Андреев. Из стариков — Градовский, Венгеров, Сологуб, Мережковский. Фрунзе сразу понял, о каком сюрпризе говорил Анненский: из Полтавы приехал Короленко! Он узнал студента-экономиста, указал на пустой стул рядом с собой. — Возмужали. Что пишут из Туркестана? Как называется то симпатичное растение? То, из которого делают посохи для стариков. — Асамуса. — Вот именно. Будете в родных местах, вспомните меня. И снова Фрунзе подпал под обаяние этого удивительного человека. Разумеется, посох ему пока не требовался, да и вряд ли когда потребуется. В нем кипели силы и прорывались, когда он выступал защитником крестьян, участников волнений на Украине, и когда публично на суде защищал невинно осужденных удмуртов, изобличая самодержавие, и когда поднял голос в защиту Горького. Гражданский накал Короленко был высок. И вместе с тем, странное дело, у Михаила Фрунзе больше не было восторженного преклонения перед Короленко. За три года что-то изменилось. Изменился, конечно, не Владимир Галактионович. Изменился сам Фрунзе. С некоторых пор он словно бы обрел второе зрение, стал жестче в оценке людей. Перед ним непонятным образом обнажилась основная черта характера Короленко: он был защитником, а не борцом в прямом смысле этого слова. Защитники нужны. Но защищать и разоблачать — это еще не значит управлять событиями. Управлять событиями… Фрунзе знал людей, которые управляют событиями. — Мы, студенты, восхищены вашей защитой Горького. Короленко спрятал улыбку в бороду, погрозил пальцем: — Если придется защищать вас, Миша, можете не сомневаться, я сделаю все наилучшим образом. Вот вам конфетка! Он порылся в карманах и в самом деле достал конфетку. Потом их разлучили. Зал был полон. Поэты читали стихи. Блок, весь в черном, с изысканно-небрежно повязанным галстуком, наклонив пепельно-золотую голову, меланхолично бросал в передние ряды:Я на земле грозою смятый
И опрокинутый лежу.
И слышу дальние раскаты,
И вижу радуги межу…
Мечты — обман, а жизнь — жестокий сон,
Полна душа и горечи, и яда.
И слушать некогда нездешний тихий звон
Души, стихов и песенного лада.
Нас много, нас много! Вставайте же, братья!
Не надо ни слез, ни бесплодной мольбы.
Проклятье насилью, тиранам — проклятье!
Мы долго страдали! Вставайте же, братья!
И будем борцы — не рабы!..
СКОЛЬКО СТОИТ ГОЛОВА АГИТАТОРА?
Вернувшись во Владимир, Сазонов вызвал начальника губернского жандармского управления. — Удалось вам установить личность Арсения? Полковник поклонился. — Под именем Арсения скрывается студент Петербургского политехнического института Фрунзе Михаил Васильевич. Ему двадцать два года. Уроженец города Пишпека, Семиреченской области. Из крестьян. Русский. Православный. Сазонов рассмеялся. — Милейший! Я мало смыслю в искусстве сыска, но тут вы явно допустили ошибку. Вы хотите меня уверить, что Арсений, по одному знаку которого останавливаются все фабрики и заводы огромного промышленного района, — студентишка, мальчишка?! Признаться, я был лучшего мнения о жандармах. Но полковник был невозмутим и холоден. — Если ваше превосходительство желает выслушать мой доклад… — Слушаю. — По заданию Московского комитета РСДРП Фрунзе вел нелегальную работу сперва в Ливнах, Орловской губернии, затем весной 1905 года был переброшен в Иваново-Вознесенск, где рабочие знали его под кличками Московский, Трифоныч. Здесь он вошел в контакт с руководителями местной группы РСДРП: Афанасьевым, Дунаевым, Балашовым, Самойловым, Постышевым, принял участие в подготовке всеобщей стачки иваново-вознесенских текстильщиков. В ходе стачки он руководил всей деятельностью совета уполномоченных, известного в среде текстильщиков под названием Иваново-Вознесенского Совета рабочих депутатов. Фрунзе организовал охрану стачки, обучал рабочих ружейным приемам и тактике уличной борьбы. Перебравшись в Шую, он создал окружную партийную организацию, которая теперь охватывает все уезды губернии, и стал ответственным организатором Иваново-Вознесенского окружного комитета РСДРП. Это он руководил забастовкой литейщиков завода Толчевского. Арестовывался и высылался неоднократно. Руководил подготовкой к вооруженному восстанию, разработал план захвата арсенала в Шуе, связался с казаками и воинскими командами. Во время декабрьского восстания в Москве повел свои дружины на Пресню и дрался здесь на баррикадах. За два года принимал участие в двести сорока восьми стачках! И чем дальше говорил полковник, тем задумчивее становился Сазонов. Фрунзе, по словам жандармского полковника, организовал вокруг себя целую армию в пять с половиной тысяч вооруженных рабочих. Попробуй тронь его — разнесут все в щепы! Губернатор припомнил то ужасное время, когда промышленная жизнь всего текстильного района замерла, когда даже газета монархического направления «Новое время» отмечала, что стачкой руководят умные головы. Тогда порядком в губернии распоряжались дружинники в черных ластиковых рубахах с черным широким поясом. Фабриканты понесли тогда убытки, исчислявшиеся астрономическими цифрами. — За любое из названных вами дел Фрунзе заслуживает смертной казни, — сказал губернатор. — И все-таки непонятно, почему вы решили, что Фрунзе и Арсений — одно и то же лицо? Полковник укоризненно посмотрел на Сазонова, порылся в папке, вытащил оттуда фотографию и положил ее на стол. С фотографии на губернатора глядел весьма симпатичный юноша с округлым лицом, с тонкими усиками. И только в очертании губ угадывалась твердость. Нет, это далеко не соответствовало тому облику страшного Арсения, какой сложился у Сазонова. И снова сомнения овладели им. Двадцать два года… В таком случае, господа, объясните: кто наделил этого юнца такой властью? Почему все комитеты и советы беспрекословно подчиняются ему? Ведь есть у них там, должно быть, люди и постарше и опытнее! Много раз арестовывался, подвергался пыткам, дрался на баррикадах, успел побывать в Стокгольме, успел с блестящими отметками окончить три курса института. Руководил избирательной кампанией и провел в Думу Жиделева, захватил Лимоновскую типографию на виду у ротозея-исправника, стрелял в урядника. Да какой же нечеловеческой энергией, силой воли нужно обладать для всего этого! Тут что-то не так. Явная ошибка. — Ошибки быть не может, — сказал начальник жандармского управления. — Вернувшись из Стокгольма, Фрунзе-Арсений публично делился своими впечатлениями о съезде партии РСДРП на Иваново-Вознесенской партийной конференции, на рабочих собраниях в Кохме, Шуе, Тейкове, Родниках, Горках. Ему также принадлежит авторство так называемого «Устава профессионального союза рабочих текстильного прядеситцепечатного и ткацкого производства в Шуе». В последнее время Фрунзе-Арсений проживал в доме Соколова, на Малой Ивановской улице, по паспорту Корягина Ивана Яковлевича. И только халатное отношение к своим служебным обязанностям исправника Лаврова позволило Арсению уйти, исчезнуть бесследно. Сазонов приуныл. Значит, Арсений ушел, проскользнул меж пальцев! Полиция — ни к черту! Да и жандармерия не лучше. Они наконец-то установили личность! Два года спустя… А прок какой? Что доложить министру? Ускользнул?.. Губернатору хотелось накричать на вылощенного, неторопливо-спокойного полковника, но он сдержался. — Нужно искоренить все комитеты и все профсоюзы! — сказал он. — Я не потерплю, чтобы в моей губернии… Арсения — на виселицу! Больше всех неудачу переживал урядник шуйского уездного полицейского управления Перлов. Это он за вознаграждение в пять тысяч рублей вызвался изловить Арсения. Пять тысяч! «Господи, — думал Перлов, — за какого-то агитаторишку! Да я его из-под земли достану… Целое состояние. Этак потом и собачью службу оставить можно. Открыть, к примеру, питейное заведение или парикмахерскую». Вот он, Перлов, степенный, полный, с аккуратно зачесанными редкими волосами, галантно склонившись, стоит в дверях собственной парикмахерской: «Извольте-с бриться!» Парикмахерская сверкала, блистала перед его взором. Почему именно парикмахерская, урядник и сам не мог бы объяснить. Но с того памятного вечера, когда в Перлова стреляли Арсений и его товарищ по кличке Северный, пыл урядника немного поостыл. Перлов трусил, в действиях Арсения была беспощадность, такому убить должностное лицо — будь то урядник, исправник или хоть сам губернатор — раз плюнуть. Теперь Перлов из охотника превратился в дичь, боялся появляться на улицах без наряда полиции. О покушении доложил исправнику Лаврову. Исправник сказал: — Ты о том, что в тебя стреляли, до поры до времени помалкивай. Или найди свидетеля — чтоб наверняка. Позор, позор на весь уезд. Того и гляди, выгонят. Растяпа ты, братец… Я тебя и сам попру, ежели не доставишь мне Арсения живым или мертвым. Но губернатору о покушении исправник все-таки донес. Кроме того, дело само по себе получило огласку. Видно, были свидетели, да не захотели выдавать Арсения и Северного. Где укрывался Арсений? Где спит, ест? Урядник расставил переодетых полицейских во всех местах общественного пользования: в трактирах и чайных, на почте и железнодорожной станции. Но все напрасно. Ночные налеты полиции на квартиры рабочих тоже не дали результата. Арсений исчез. Даже перестал показываться на митингах. Может быть, совсем покинул эти края, догадавшись, что его выслеживают? И вот под вечер 23 марта к уряднику прибежал запыхавшийся агент. — Арсений выступает на митинге! — Где? — На заводе Толчевского. — Не обознался? — Да как же я мог обознаться, когда председатель предоставил слово товарищу Арсению. Полицейские оцепили завод. Но митинг кончился. Рабочие разошлись. Арсений опять исчез. — Слава тебе господи, объявился! — радовался Перлов. — А я уж было крест на пяти тысячах положил. Я тебе устрою рандеву… Знал ли Фрунзе о том, что полиция и жандармерия объявили ему войну не на живот, а на смерть? Знал. Потому-то и уехал из Шуи после неудачного покушения на урядника Перлова. С урядником Перловым у него были старые счеты. Познакомились они еще тогда, когда Перлов не был урядником и служил в Ямской тюрьме, в Иваново-Вознесееске. Осенней ночью в 1905 году Фрунзе, Бубнов и Волков возвращались с партийного собрания, проходившего в лесу. На Даниловском тракте на них неожиданно наскочили казаки и полицейские. На шею Фрунзе накинули чембур — казацкий аркан, прикрученный к седлу. Пришлось бежать за лошадью, придерживая обеими руками петлю, чтобы не задохнуться. Его загнали на какую-то изгородь. Казак ударил лошадь плетью. Ноги Фрунзе застряли в решетке, он потерял сознание от боли. Очнулся в Ямской тюрьме. Левая нога у колена вздулась. И тут он впервые увидел усатое лицо Перлова, его немигающие глаза навыкате. Рядом, на полу тюремного подвала, лежали избитые до полусмерти Андрей Бубнов и Волков. Заметив, что Фрунзе пришел в себя, Перлов стал избивать его нагайкой, топтал сапогами, а осатанев окончательно, схватил березовое полено и ударил по спине. С той поры Фрунзе стал прихрамывать. При неосторожном движении смещалась коленная чашечка. Ее приходилось вправлять. Теперь Перлов свирепствовал в Шуе. Начальство ценило в Перлове два качества: исключительную память на лица и умение допрашивать арестованных. То был дикий зверь, истязатель, садист. Под его пудовыми кулаками начинали говорить даже самые молчаливые. Он держал рабочих в постоянном напряжении, совершал ночные налеты на их квартиры, хватал по малейшему подозрению. Приятель Фрунзе молодой рабочий Павел Гусев даже написал письмо старшему брату Николаю, сосланному по доносу Перлова в Нарымский край: как быть с Перловым? Николай ответил: «Паня! Вы писали, что Перлов не дает житья. Меня страшно возмущает… Неужели не осталось, кто бы мог «пожать» руки ему, неужели нет у вас дружинников?.. Что вам до эсеров? Я думаю, что и вы вправе это исполнить». Тогда-то и задумали Фрунзе и Гусев прикончить Перлова. К несчастью, у Фрунзе после первого выстрела отказал маузер, а на дороге появился казачий разъезд. Пришлось бежать. Так как вся полиция поднялась на ноги, товарищи, созвав бюро, предложили Фрунзе на время покинуть Шую. Сперва уехал в Родники, оттуда — в Петербург, из столицы — в Иваново-Вознесенск на окружную партийную конференцию. Встретил старых друзей — Андрея Бубнова, Любимова, Караваева. Избирали делегатов на Пятый съезд партии. А когда избрали Фрунзе, он заторопился в Шую. — Ну вот, Арсений, опять увидишь Ленина, — сказал Гусев. — Тебе и завидовать нельзя: к примеру, послали бы меня на съезд, о чем бы стал там говорить? Да и здесь за твою руку держусь, все никак ума не могу набраться. Умеешь ты повернуть человека лицевой стороной к свету. — Брось, Паня, дурака валять. Стихи лучше почитал бы. Они знали друг друга около двух лет. Вроде бы и немного, а прошли вдвоем сквозь все: стачка, Совет, баррикады, предвыборная кампания, диспуты с эсерами и меньшевиками. Когда Фрунзе впервые приехал в Шую, здесь было засилие эсеров. Во главе шуйской группы РСДРП стоял девятнадцатилетний рабочий Павел Гусев. В теоретических вопросах он не очень-то разбирался. Приезду окружного агитатора обрадовался. Только за один месяц они провели пять дискуссий с шуйскими эсерами, и Фрунзе всякий раз с тонким знанием дела развенчивал эсеровскую программу «социализации земли». Что мог противопоставить эсерам Павел Гусев, даже не нюхавший политэкономии, философии, социологии? Эсеры были из студентов, земских чиновников, они проповедовали с трибуны свое «синтетическое», «социально-революционное» мировоззрение, рассуждали об относительности познания, об «интегральном» социализме и о других мудреных вещах. Одно дело: чувствовать нутром, что под всем этим кроется что-то глубоко неверное, а другое — попробуй поспорь с ними, имея за плечами два класса церковно-приходской школы! Арсений расшвырял эсеров-теоретиков, как свору тявкающих щенков. Гусев только диву давался: когда человек успел постичь все? Говорит всегда спокойно, допытывается вроде без подвоха, как это эсеры представляют себе строительство социализма путем одного только уравнительного передела земель, не свергая помещиков и капиталистов, а эсеры от его слов подпрыгивают, словно грешники на угольях, стараются перекричать, потом «в знак протеста» покидают поле боя. Рабочие перестали ходить на собрания эсеров. Шуйская группа очень скоро превратилась в самую сильную в районе. Фрунзе входил в Союзное бюро Иваново-Вознесенского союза РСДРП, заведовал агитационным аппаратом. Павел Гусев во всем старался подражать Арсению. Тут иногда случались комические моменты. В политическом кружке, которым руководил Арсений, Павел учился прилежно. И вот он узнал, что Арсений пишет стихи. Стал допытываться: — А что, и это революционеру обязательно? Фрунзе пошутил: — Какой же ты революционер, если не в состоянии сочинить четыре стихотворные строчки для листовки! Маркс писал стихи. Во всяком случае, я считаю, что революционер обязан владеть пером и словом, воспитывать в себе журналиста. Так как Павел во всем доверял Арсению, то и решил овладеть нелегким стихотворным делом. — Гомер! — восхищался Фрунзе. — «Развевайся красное знамя труда! Рабочие рабами не будут никогда». — Сам знаю — нескладно получается, — сердился Павел. — А ты научи, научи, а уж потом наводи критику. — Да я и не критикую. В поэзии, как и во всяком деле, главное — революционный дух. Теперь они возвращались с партийной конференции. — Ну а как быть, если получается не революционное, а про любовь? — спросил Гусев. — Ведь есть же такое и у Пушкина, и у Лермонтова. За Некрасова не ручаюсь. Я понимаю, про любовь оно, конечно, революционеру и не следовало бы… — Почему же? — Неловко. — Все поэты-революционеры писали про любовь. А Павлу Гусеву неловко. Читай! — Ладно. Только между нами:Ты помнишь ветхий тот забор,
Удобную лазейку,
Наш приглушенный разговор
И низкую скамейку?..
Каторгу, даже и казнь, именуют указы взысканьем:
Взыскан (так понимай!) царскою милостью ты.
…Уряднику Перлову не везло. Он снова потерял след Арсения. Тогда он решил арестовать Павла Гусева. Был в полиции еще один человек, которого Перлов даже в расчет не брал: пристав первого стана Декаполитов. Вот этот пристав и выследил Арсения. В дверь не стучали. Под напором полицейских она слетела с петель. Накакое-то мгновение Фрунзе увидел мясистое лицо пристава, а потом, не раздумывая, ударил ногой по оконной раме и выскочил на улицу. Метнулся к забору, но за забором послышались голоса полицейских. Они подходили со всех сторон. Фрунзе выхватил из-за пояса маузер, вынул из кармана браунинг. Он не сомневался, что пробьется. Кривые улочки, пустырь, овраг, заросшей тальником, только бы добежать до оврага… В его комнате полицейские найдут гектограф, кипу партийной литературы, две винтовки «Винчестер». — Не стреляйте! Пожалейте детей!.. Это кричала обезумевшая от страха хозяйка квартиры. Дети проснулись, вскочили с постели и стояли, уставившись широко открытыми глазами на полицейских. И если стрелять… то ведь все может случиться… Скрипнув зубами, он швырнул револьверы на землю… В полицейском управлении его провели к исправнику Лаврову. Несмотря на то что шел пятый час, исправник был на ногах и при полном параде. Он ждал. Ждал и теперь не верил, что опасный агитатор у него в руках. Не сделал ни одного выстрела, хотя мог бы перестрелять полицейских, как зайцев. Арестованный вел себя независимо, с исключительным хладнокровием — и это вселило в душу исправника глубокое сомнение: возможно, схватили вовсе не Арсения? В облике Арсения не было ничего устрашающего: обыкновенный парень среднего роста. Лицо спокойное. Да и сам он весь какой-то спокойный, невызывающий. — Значит, вы и есть Арсений? — спросил исправник неуверенным голосом. — Мы располагаем вашей фотографией. Похож! Обычно в таких случаях арестованные начинают отпираться. На столе у исправника лежала брошюра, изданная, как удалось выяснить, заграничным союзом русских социал-демократов, «Как держать себя на допросах» — советы молодым революционерам. Лавров предполагал, что арестованный и поведет себя так, как рекомендует брошюра. Но вышло все по-другому. — Вот что, исправник, — сказал Арсений, — хватит валять дурака. Вы прекрасно знаете, кто я, и также знаете, что на ваши вопросы отвечать не буду, меня никто не арестовывал, считайте, что я сам пришел сюда. Пришел предупредить вас: прекратите ночные налеты на квартиры рабочих, прекратите избиения ни в чем ни повинных рабочих, оставьте в покое агитаторов, увольте урядника Перлова. Из слов полицейских я понял, что вы только что арестовали рабочего Павла Гусева. Требую немедленно освободить его! Лавров хмыкнул. — И конечно, я должен немедленно освободить вас? — Само собой разумеется. — Я не могу выполнить ваши требования, молодой человек. Я только исполняю свой служебный долг, а в данном случае — приказ своего начальства. Гусев, или Северный, обвиняется в уголовном преступлении: в покушении на жизнь урядника Перлова. Согласитесь, что не в моей воле выпустить вас и Гусева. — Однако вы тоже покушались на мою жизнь в прошлом году на Ильинской площади, но я не стал привлекать вас к уголовной ответственности, хотя рабочие уже давно могли бы расправиться с вами. Лицо Лаврова сделалось злым, он хотел резким словом поставить агитатора на место, но сдержался. Он был неглупым человеком и понимал, что сейчас речь идет не конкретно об Арсении, а о тех силах, которые стоят за ним. Эти силы могут смахнуть, как пылинку, любую тюрьму, любое полицейское управление и его, исправника Лаврова. Он радовался, что агитатор наконец-то у него в руках, что обещание, какое он дал губернатору, выполнено и теперь наверняка его не прогонят со службы и, возможно, даже представят к награде, и в то же время страшился гнева рабочих. До сих пор он старался их не особенно-то раздражать. Во время так называемого красного террора, которым рабочие ответили на белый террор, исправник Лавров уцелел чудом, вернее, рабочие его пощадили. Но теперь он оказался между двух огней. Он-то, в отличие от губернатора, понимал, что голова Арсения стоит вовсе не пять тысяч, а гораздо больше, намного больше. И это, самое грозное, скоро начнется: остановятся все фабрики Шуи, а потом фабрики Иваново-Вознесенска и других городов. И чем все может кончиться — не знает никто. Исправник Лавров был не стар и не молод — сорокот. Худощав, поджар. Глаза зоркие, внимательные, живущие всегда своей особой жизнью: такие глаза бывают у людей с раздвоенной душой. В мерзком Шуйском уезде ему всегда приходится лавировать между начальством и рабочими. Но если уж рабочие объявляют забастовку, то начальство отыгрывается в первую очередь на исправнике. Жертва по призванию… Лавров закурил папиросу, сделал несколько торопливых затяжек, потом спросил: — Ну-с, так чем вы нам угрожаете, если ваши требования не будут удовлетворены? — Остановятся все фабрики Шуи. Сюда придут рабочие и освободят меня и Гусева. — Я так и предполагал. И знаете, какие принял меры? Доложил о вашем аресте губернатору, затребовал из Владимира две роты гренадерского полка и казачью сотню из Коврова. Губернатор их уже выслал. Все местные воинские подразделения приведены в боевую готовность, полицейские будут сдерживать напор толпы до последнего патрона. Как видите, я все предусмотрел. И вы, вожак рабочих, конечно же, не позволите, чтобы из-за вас пролилась кровь невинных людей. Маленький психологический расчет. Фрунзе впервые с уважением взглянул на исправника. Этот полицейский был не так прост, как могло показаться с первого раза. Он в самом деле все учел. — Для меня самое важное сейчас, — продолжал Лавров, — поскорее избавиться от вас, переправить во Владимир. А там уж пусть занимаются вами жандармы и губернатор. — Спасибо за откровенность. — Кажется, вы правы, молодой человек: уже начинается! Ах, молодой человек, не посетуйте: я вынужден буду применить оружие… Другого выхода нет.
Было пять часов утра. К полицейскому управлению бежали люди. Вскоре десятитысячная толпа запрудила площадь перед полицейским управлением. Надрывались фабричные гудки, оповещая о тревоге. Подходили все новые и новые отряды дружинников. Появились гимназисты. Гул нарастал. А Фрунзе казалось, что его поднимает огромная волна. Он слышал крики, слышал свое имя. Рабочие требовали освободить его и Гусева немедленно, грозились разнести полицейское управление. Исправник как-то сразу утратил свой бравый вид. Посеревшее лицо было покрыто по́том. Но он еще держался. Отдал распоряжение приготовить оружие к бою. — Уведите арестованного! — приказал он уряднику Перлову. — Впрочем, отставить. Пусть будет здесь. Если рабочие прорвутся, я сам его пристрелю. — Не глупите, исправник! Можете пристрелить меня хоть сейчас. Смерти я не боюсь. Но вам выгоднее сговориться с рабочими. Впустите их — и дело с концом. Вас мало, а за бессмысленную стрельбу в народ придется отвечать по всей строгости. И не перед начальством и не перед судом. А перед ними!.. Пятый год забыли?.. Исправник заколебался. Он взвешивал все «за» и «против». Наконец сказал: — Если вы сейчас же не утихомирите рабочих, я прикажу стрелять! И дело вовсе не в моей жестокости, молодой человек: я имею приказ губернатора стрелять. Вот телеграмма из Владимира… Да, это была телеграмма за подписью губернатора: если рабочие попытаются освободить агитатора, открывать огонь без промедления.
 Михаил Фрунзе считал себя физиономистом. Его интересовали рты: он был уверен, что не глаза, а рот всегда открывает подлинную сущность человека. Рот у исправника был сухой, твердый. Выражение рта не обещало ничего хорошего. Такой, как Лавров, в решительные минуты способен на все. А сейчас — у него приказ губернатора…
Исправник знал, с кем имеет дело, и бил наверняка. Если уж Арсений не стал стрелять в полицейских, опасаясь, как бы не задеть хозяйских ребятишек, то расстрела рабочих он не допустит и подавно. И расчет Лаврова оказался правильным. Сам того не подозревая, исправник выдал тайну губернатора, жандармов, Столыпина. Фрунзе умел читать между строк, чего не умел Лавров. Фрунзе понял одно: ни губернатор, ни тем более какой-то исправник не отважились бы без приказа сверху угрожать демонстрантам расстрелом. Сазонов в категорической форме приказывает открыть огонь. Значит, он заручился поддержкой свыше. До последнего времени никто не осмеливался разгонять митингующих рабочих, и, если проходила стачка, полиция держалась в стороне. Даже вооруженное нападение на Лимоновскую типографию она оставила, по сути, без всяких последствий. Кто-то готовит грандиозную провокацию — вот в чем дело. Кому-то нужно, чтобы рабочие напали на полицейское управление и чтобы полицейские открыли по ним огонь. Арест агитатора — не главное; это затравка. По-видимому, Столыпин надумал раз и навсегда утихомирить Иваново-Вознесенский край, уничтожить социал-демократические комитеты, во главе которых стоят большевики.
Потому-то Сазонов действует так решительно, посылает войска для усмирения рабочих. Хотят сделать кровопускание… А он, Фрунзе, окажется якобы главным виновником, подстрекателем. Он знает, что рабочие сейчас не готовы к массовому выступлению. Знает это и Столыпин, знают жандармы.
Что получилось, когда неподготовленные рабочие поднялись толпой и пошли 9 января 1905 года за попом Гапоном к Зимнему дворцу?..
…Обледенелые деревья Александровского сада, а среди голых веток — черные силуэты детей, подстреленных казаками. Красные лужи на снегу. Фрунзе бежал тогда вместе со всеми, придерживая окровавленную руку. Пуля прошла навылет. Этой рукой, обмотанной бинтами, он писал матери:
Михаил Фрунзе считал себя физиономистом. Его интересовали рты: он был уверен, что не глаза, а рот всегда открывает подлинную сущность человека. Рот у исправника был сухой, твердый. Выражение рта не обещало ничего хорошего. Такой, как Лавров, в решительные минуты способен на все. А сейчас — у него приказ губернатора…
Исправник знал, с кем имеет дело, и бил наверняка. Если уж Арсений не стал стрелять в полицейских, опасаясь, как бы не задеть хозяйских ребятишек, то расстрела рабочих он не допустит и подавно. И расчет Лаврова оказался правильным. Сам того не подозревая, исправник выдал тайну губернатора, жандармов, Столыпина. Фрунзе умел читать между строк, чего не умел Лавров. Фрунзе понял одно: ни губернатор, ни тем более какой-то исправник не отважились бы без приказа сверху угрожать демонстрантам расстрелом. Сазонов в категорической форме приказывает открыть огонь. Значит, он заручился поддержкой свыше. До последнего времени никто не осмеливался разгонять митингующих рабочих, и, если проходила стачка, полиция держалась в стороне. Даже вооруженное нападение на Лимоновскую типографию она оставила, по сути, без всяких последствий. Кто-то готовит грандиозную провокацию — вот в чем дело. Кому-то нужно, чтобы рабочие напали на полицейское управление и чтобы полицейские открыли по ним огонь. Арест агитатора — не главное; это затравка. По-видимому, Столыпин надумал раз и навсегда утихомирить Иваново-Вознесенский край, уничтожить социал-демократические комитеты, во главе которых стоят большевики.
Потому-то Сазонов действует так решительно, посылает войска для усмирения рабочих. Хотят сделать кровопускание… А он, Фрунзе, окажется якобы главным виновником, подстрекателем. Он знает, что рабочие сейчас не готовы к массовому выступлению. Знает это и Столыпин, знают жандармы.
Что получилось, когда неподготовленные рабочие поднялись толпой и пошли 9 января 1905 года за попом Гапоном к Зимнему дворцу?..
…Обледенелые деревья Александровского сада, а среди голых веток — черные силуэты детей, подстреленных казаками. Красные лужи на снегу. Фрунзе бежал тогда вместе со всеми, придерживая окровавленную руку. Пуля прошла навылет. Этой рукой, обмотанной бинтами, он писал матери:
«Милая мама. У тебя есть сын Костя, есть и дочери. Надеюсь, что они тебя не оставят, позаботятся о тебе в трудную минуту, а на мне, пожалуй, должна ты поставить крест… Потоки крови, пролитые девятого января, требуют расплаты. Жребий брошен. Рубикон перейден, дорога определилась. Отдаю всего себя революции. Не удивляйся никаким вестям обо мне. Путь, выбранный мною, не гладкий».И сейчас, разгадав коварный план Столыпина, Фрунзе понял, как нужно поступить. Он взял листок бумаги, карандаш и что-то написал. — Прочтите рабочим. Передайте записку делегации. Я прошу рабочих не идти на ненужные жертвы. Лавров, никогда не слыхавший ни о каких планах Столыпина (да его в них никто и не собирался посвящать), прямо-таки выхватил записку из рук арестованного и теперь уже с гордо поднятой головой и начальственным видом вышел на крыльцо. Как он и ожидал, рабочие согласились не нападать на полицейское управление, но потребовали, чтобы Арсения не отправляли из Шуи. Исправник заверил делегацию, что и не подумает отправлять Арсения куда бы то ни было до полного разбирательства. В Шую вызван прокурор Владимирского окружного суда, который должен прибыть только завтра, — рабочие сами могут во всем убедиться, если взглянут на телеграмму, только что полученную от прокурора. Дружинники успокоились, но с площади не разошлись. Полицейское управление оказалось оцепленным со всех сторон. Но к Лаврову уже вернулось самообладание. Время выиграно. Подошли казаки. Он снова почувствовал себя начальником, отвечающим за порядок в уезде. Твердым шагом вернулся в комнату, где под усиленной охраной находился Фрунзе, сказал уряднику Перлову: — Отведи арестованного в подвал да объясни ему, как нужно разговаривать с начальством полицейского управления. Следи за тем, чтобы он не приходил в себя. Эх ты, растяпа, Перлов: упустил пять тысяч!.. Губернатор Сазонов, получив среди ночи телеграмму от шуйского исправника, уже не смог сомкнуть глаз до утра. Он сразу известил Столыпина о том, что агитатор Арсений арестован и что шуйские фабрики остановились. В Шую бросил войска с категорическим приказом доставить Арсения во Владимирский каторжный централ; если рабочие окажут сопротивление — стрелять. Он предполагал, и не без оснований, что в скором времени вслед за Шуей остановятся фабрики Иваново-Вознесенска и Кохмы, а потому под утро вызвал к себе командира гренадерского Малороссийского полка. Нужно создать фронт против рабочих, перевести губернию на военное положение, осадить фабрики и не снимать осаду до тех пор, пока не будут разгромлены все большевистские комитеты. Жандармы и полиция получили разрешение министра внутренних дел арестовывать любого. Не успокоился Сазонов и тогда, когда узнал, что Арсений и Гусев под конвоем двух рот доставлены во Владимирский централ. Их буквально силой вырвали из рук дружинников. До вооруженного столкновения, правда, не дошло, так как Арсений запретил рабочим поддаваться на провокацию. Да и что могли противопоставить дружинники вооруженным с ног до головы гренадерам? Рабочие намеревались отбить арестованных ночью, напасть на поезд. Тут-то и был их просчет: Арсения и Гусева увезли днем, под прикрытием пулеметов. Это, разумеется, вызвало ярость десятитысячной тонны, собравшейся на Ильинской площади. Некоторые ораторы призывали к восстанию, к походу на Владимирский централ… Через несколько дней Сазонов воочию убедился в организованности рабочих. Как он и предвидел, остановились фабрики Иваново-Вознесенска и Кохмы. Жандармы доносили, что дружинники трех городов создали единый штаб и намереваются взять штурмом Владимирский централ. Кто-то положил на стол Сазонову газету «Владимирец». В ней была статья, посвященная Арсению: «Несомненно, Арсений был самой крупной величиной в районе, имел огромное влияние на массы рабочих, умел их организовывать». Сообщалось также, что вчера в защиту Фрунзе-Арсения и Павла Гусева выступили делегаты Государственной думы Жиделев, Серов, Вагжанов и другие. Делегаты потребовали немедленно освободить арестованных и привлечь к ответственности тех, кто истязал их. На что Столыпин якобы ответил: — И не надейтесь! Напуганный донесениями жандармов, губернатор решил лично проверить, как содержится Арсений, и поехал в тюрьму.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ХОРОШЕЕ АЛИБИ
Очутившись во Владимирском централе, Фрунзе сразу убедился, что его арест не был случайностью. Каждый день в так называемый польский подследственный корпус прибывали все новые и новые партии арестованных. Этот корпус находился на особом положении: здесь ждали своей участи политические подследственные. От общего каторжного двора он был изолирован высокой каменной оградой с электрической сигнализацией. Попасть сюда можно было лишь через массивные железные ворота. За несколько дней число подследственных выросло до ста пятидесяти. Их стали называть арестантской ротой. Все это были старые знакомые Фрунзе: рабочие Иваново-Вознесенска, Шуи, Кохмы, Орехово-Зуева, студенты. Их напихивали в камеры по пятнадцать — двадцать человек. Они выбрали своим старостой Арсения, и начальник тюрьмы не возражал. Начальник тюрьмы вообще находился в растерянности. Губернатор и жандармы призывали его готовиться к осаде, к войне с дружинниками и в конце концов запугали до полусмерти. Собственно, польский корпус был уже взят изнутри. Подследственные распевали революционные песни, переходили из камеры в камеру, вслух читали политические прокламации, призывали к свержению самодержавия, и надзиратели ничего не могли с ними поделать. А возможно, и не хотели делать. В большинстве своем подследственные были молодые люди, едкие, насмешливые, шумные. По всякому поводу они поднимали невообразимый гвалт, и начальник тюрьмы бежал, заткнув уши. Призвать к порядку их мог только Арсений, ему они подчинялись беспрекословно. Вот почему начальник тюрьмы радовался, что среди заключенных находится столь авторитетный человек. Потому-то Фрунзе пользовался относительными вольностями. Он мог заходить в любую камеру, выслушивать каждого, обращаться от имени подследственных с претензиями к начальству. Спал же он в общей камере. В тюрьму губернатор приехал неожиданно. Начальника на месте не оказалось. Как объяснили помощники, он только что отправился в коляске к теще, которая при смерти. Его вызвали. Сазонов знал эту тещу, богатую старуху, и в другое время мог бы чисто по-человечески понять поступок начальника тюрьмы. (Не может же тот безотлучно, наподобие каторжника, находиться в тюрьме! У него есть помощники. Кроме того, губернатор не предупредил о своем визите, решил застать, так сказать, врасплох.) Но сейчас, когда на ноги поднялся весь рабочий край, а арестантское отделение, того и гляди, разнесут… какая теща? кому она нужна?.. Дурака начальника тюрьмы нужно немедленно сместить, доложить министру. — Проведите меня в камеру политического подследственного Арсения! — приказал он. Впереди бежал надзиратель по политической части, загоняя арестантов в камеры. Сазонов шагал в плотном кольце помощников и надзирателей. В конце коридора во весь голос пели «Марсельезу». То был вызов, открытая манифестация. «Видно, давно их не пороли, — подумал губернатор. — Ну ничего, я сам наведу здесь порядок. А дурака начальника отстранить, отстранить…» Загремел засов. В тесной камере на голых нарах сидело с десяток подследственных. — Встать! — рявкнул надзиратель. — Пусть сидят. Кто из них Арсений? — Арсений, вас спрашивает его превосходительство губернатор! С нар поднялся широкоплечий, среднего роста молодой человек с подстриженными ершиком волосами. Он был в белой рубахе и наброшенном на плечи сером пиджаке. Губернатор смотрел на молодого человека с изумлением. Значит, начальник жандармского управления говорил правду… Этот безобидный на вид юноша — Арсений, опаснейший политический преступник, враг престола и правительства? Однако чем пристальнее вглядывался губернатор в Арсения, тем яснее становилось ему, в чем сила этого юноши. Видно, Сазонову показывали старую фотографию. Нет, не таким на самом деле был Арсений. В глаза сразу бросалась крепость, скульптурность всей его фигуры, изобличающая человека с большим самообладанием, неким моральным равновесием. Великолепный мощный лоб матовой белизны. Тонкие, строгие губы с тем странным выражением, какое бывает лишь у людей целомудренно чистых и внутренне твердых. И только резко изломанная тонкая левая бровь выдавала в какой-то мере властный характер молодого человека. Такой в гневе, должно быть, страшен. С молодыми заключенными Сазонов обычно держался отечески-покровительственного тона, журил их, призывал к благоразумию. Но сейчас под спокойно-насмешливым взглядом Арсения он не мог взять подобный тон. Журить человека, который почти три года держал всю губернию в крайнем напряжении, был вожаком сотен тысяч рабочих?! Дай волю фабрикантам, они без суда и следствия раздерут его на куски. Такой не боится ни бога, ни черта. Вон сколько в нем гордости, достоинства, самообладания!.. — Бравый молодчик! — сказал губернатор. — Сейчас же переведите его в одиночку. Фрунзе перевели в камеру номер два. Камера — не больше квадратной сажени. К стене прибита широкая доска, на ней деревянная кружка с водой. На нарах — кусок обшитого дерюгой войлока. В углу — жестяной таз для умывания. — Принесите стремянку! И когда стремянку принесли, губернатор поднялся по ней к самому окну, проверил крепость двойных решеток. Фрунзе наблюдал за ним все с тем же невозмутимо спокойным видом. — Ну-с, господин Арсений, какие у вас будут просьбы лично ко мне? — Я хотел просить о переводе в одиночную камеру, но вы сами догадались перевести меня. Других просьб не имеется. Сазонов нахмурился. — Мне жаль вас, молодой человек, — сказал он негромко. — Я даже не предлагаю вам одуматься. Поздно! Только не пойму, что заставило вас вступить на гибельный путь? И Фрунзе ответил так же негромко: — Государственная необходимость, ваше превосходительство. Сазонов вздрогнул. Эти слова он уже слышал в святая святых империи — в кабинете Столыпина. На другой день, в полночь, когда коридор опустел, надзиратель Жуков вошел в камеру номер два. Фрунзе еще не спал. Надзиратель присел на край нар, закурил самокрутку. — А вы, оказывается, человек не из простых, — сказал он. — Сам губернатор изволили ради вас прибыть. Я чуть от смеха не лопнул, когда он повис на решетках. Слышь, за вашу голову пять тысяч давали! Сам губернатор сказывал. Предупреждал, стращал. В голубеньких с хитринкой глазах надзирателя светился восторг. Он разгладил густые усы, нависшие над бритым подбородком, протянул Фрунзе кисет. Как старосте подследственных Фрунзе часто приходилось иметь дело с Жуковым. Если поблизости было начальство, надзиратель пускал в ход свой свирепый бас, не стеснялся в выражениях. Но стоило начальству удалиться, как Жуков преображался. Угощал махоркой, потому что «политика политикой, а мужикам курить нужно», рассказывал, что делается на воле и кого из новеньких в какой корпус и в какую камеру определили. Все это он делал не из доброты сердечной. Человек он был жесткий, цепкий. В жизни руководствовался своеобразной философией: нет виновных и невинных, а есть те, кому повезло, и те, кому не повезло, а может еще повезти. Эта игра длится испокон веков. Разумный человек из всего может извлечь выгоду. Через руки Жукова проходили сотни арестантов. И всегда к его ладоням что-нибудь прилипало. Особенно щедро платили политические. За какую-нибудь писульку с воли они готовы были отдать последнее. Жуков брал беззастенчиво, раздевал, что называется, догола. Если кто начинал торговаться, с таким старался дел не иметь. Он рисковал всякий раз местом, а возможно, и свободой, а это чего-нибудь да стоит. Все надзиратели негласно взимали дань с заключенных, но Жуков «зарабатывал» свои деньги, брался за самые рискованные поручения. Он богател и наглел. Теперь он уяснил одно: подследственный из камеры номер два стоит дорого. И конечно, есть люди, которые согласятся заплатить за него сколь угодно много. Нужно только навести арестанта на мысль о побеге. Навести тонко, чтобы потом самому ставить условия. Если бы Арсений замыслил побег из общей камеры, все осложнилось бы из-за многочисленных свидетелей. А вдруг все захотят бежать?.. На такой риск надзиратель не пошел бы ни за какие деньги. Он сам не без умысла перевел Арсения именно в камеру номер два, из которой вообще-то бежать нельзя. Но если проломать стену и выбраться в соседнюю угловую камеру, скрытую от наблюдения снаружи, то уйти не составит никакого труда. Через ограду можно перелезть с помощью веревки и железной «кошки». — А устроились вы прямо-таки по-губернаторски, — сказал Жуков со злым весельем. — Никто не надоедает, да и постороннего глаза поменьше… Но Жуков все же плохо представлял, с кем имеет дело. За последние дни Фрунзе успел приглядеться к нему. И понял: этот человек поможет выйти на свободу! Фрунзе думал о побеге с самого первого дня пребывания в тюрьме. Во время прогулок изучал расположение корпусов, сторожевых будок, знал, где находятся мастерские, знал уязвимые места, которые стражникам никак не прикрыть огнем. Он оценил все опытным глазом. И когда надзиратель стал говорить о том о сем, о давней мечте зажить своим хуторком, Фрунзе перебил его: — Я в состоянии помочь вам, Иван Парамонович. Нужно только вызвать сюда моего брата Константина, он земский врач в одном из сел Казанской губернии. Доберется в два счета. Ну а потом, когда он приедет, передадите ему письмишко от меня. Там все будет оговорено, и вы получите то, что нужно. Жуков не смешался, не растерялся. — А чем я смогу отблагодарить вас? — Не стоит благодарности. Вам придется впустить в мою камеру на полчаса Кокушкина и Ростопчина. Они помогут мне пробить стену и распилить решетку. Надзиратель крякнул. Вот такого прямого разговора он все-таки не ожидал. У этого парня железная хватка. — Так вы же не знаете, сколько я могу запросить. — Знаю. Две тысячи. Жуков вытаращил глаза, потом рассмеялся. — Да откуда же вы знаете?! Я никому ни-ни… Ей-богу, две тысячи! Так я и прикидывал. Ведь поделиться кое с кем придется. — Не сомневайтесь, Иван Парамонович. — Задали вы мне задачу, барин. Да вы сам черт, наверное: говорит, знаю — две тысячи!.. Ну, распотешил старика. А ведь и взаправду, меньше никак нельзя. Все-таки пораскинуть мозгами нужно. — Думайте, только не затягивайте. — Так и быть. Семь бед — один ответ… Теперь, когда появилась реальная надежда вырваться на волю, Фрунзе овладело нетерпение. По ночам в тревожных снах он видел себя уже на свободе, разрабатывал хитроумные планы нападения на централ, собирал свои дружины. Распахивались железные ворота и двери камер… Просыпался в ознобе, долго глядел, ничего не соображая, на окно, забранное решетками, сквозь которые лился яростный лунный свет. С Павлом Гусевым он встречался на прогулке. Подбадривал: — Держись, Паня, ждать осталось недолго. Он посвятил Павла во все детали предполагаемого побега. Брат Костя знает несколько явок в Шуе, в Иваново-Вознесенске, он все устроит. Подследственные Кокушкин и Ростопчин согласились помогать. Брат был на четыре года старше Михаила. Они вместе учились в гимназии. Потом Константин поступил на медицинский факультет Казанского университета, стал врачом. Его взяли на русско-японскую войну, отправили в Порт-Артур. Вернулся с Дальнего Востока и поселился в Петропавловском, Чистопольского уезда, Казанской губернии. Казалось бы, не так уж далеко от Иваново-Вознесенска и Шуи, но с братом за последние годы Михаил виделся всего два раза. Они были слишком разными людьми. Константин не осуждал Михаила, сочувствовал революционерам, всегда готов был выручить брата из беды, но политики сторонился. «Каждый из нас лечит общество, как умеет, — говорил он Михаилу. — Я отвечаю за мать, за сестер, за свою семью, и что будет, если я уйду в политику? У меня ты всегда найдешь безопасное пристанище. И твои товарищи тоже». Он был скромным, тихим человеком, увлеченным своим делом. Михаил ему доверял, в последнюю встречу дал несколько явок на случай, если брат захочет с ним повидаться. Конечно же, Константин все устроит. Ему легче все устроить, так как он не находится на подозрении у жандармов и полиции. Отправив через надзирателя письмо брату, Михаил Фрунзе стал ждать его приезда. Перелезть через тюремную ограду — это еще не все. Кто-то должен стоять с коляской и одеждой по ту сторону, кто-то должен укрыть на время, достать паспорт… Побег из тюрьмы — целое искусство, еще плохо изученное, хотя вся Россия покрыта тюрьмами, казематами, каторжными централами… Каждая тюрьма имеет свои особенности, свои плохо защищенные места. Заключенному, замыслившему побег, всегда кажется, что он самый хитрый и умный, сказало одно служебное лицо, совсем недавно прибывшее во Владимирский централ. До откомандирования во Владимир лицо значилось помощником начальника Петербургской пересыльной тюрьмы и прославилось тем, что замучило не один десяток политических. Усердие лица было замечено Столыпиным, и министр решил, что лучшего начальника для Владимирского централа трудно сыскать. Так как этому лицу (по фамилии Гудима) суждено сыграть роковую роль в судьбе Фрунзе, разрушить все его планы, то следует рассказать о нем подробнее. Окрыленный новым назначением, Гудима не стал откладывать свой отъезд из Петербурга. А так как Гудиму послали во Владимирский централ для наведения порядка и уничтожения «вольностей», то он и начал с наведения порядка. Собрав помощников, он решил их просветить, передать, так сказать, опыт бывалого столичного тюремщика. — Нет заключенного, который не мечтал бы о побеге, — изрек он. — Нет надзирателя, которого нельзя подкупить за большие деньги, ибо жадность и алчность — великая сила. Во имя денег люди могут совершать подвиги не меньшие, чем во славу родины и во имя любви. Это зарубите себе на носу. Я вижу всех вас насквозь. Если вы замечаете, что на прогулках заключенные вроде бы ради баловства сооружают пирамиду в несколько человек, то знайте, что сии акробаты замышляют побег; пирамиды всегда не ниже внешней тюремной стены. Если они, опять же как бы из-за озорства, орут песни и бьют в жестяную банку вместо барабана, то сие значит, что они хотят приучить часовых к звукам, которые возникают при лазании через стену, покрытую жестью. Понаблюдайте, чем они заняты в мастерских: они учатся связывать воображаемого часового и затыкать ему рот таким образом, чтобы он не задохнулся. Гуманность. Как видите, все их уловки давно мне известны. Самая опасная категория — политические, ибо они, не в пример уголовным, организованы, способны на самопожертвование ради общего дела, фанатичны. А теперь перейдем к конкретным примерам. Как я установил, в польском корпусе в одиночной камере номер два находится исключительно опасный государственный преступник, известный под именем Арсения, он же Михаил Васильевич Фрунзе. Изучив расположение камеры, я подивился слепоте всех вас. Какой дурак поместил его в одиночку, откуда удрать легче легкого? Стоит лишь перебраться в соседнюю камеру, предварительно подкупив надзирателя… Фрунзе ждет виселица, и неужели вы думаете, что такой человек будет сидеть сложа руки? Я воспрещаю какие бы то ни было свидания Фрунзе с родственниками. Я сам переведу его в надежную камеру. Запомните: из общей камеры бежать труднее, чем из одиночки. В общую камеру можно подсадить своего человека. Сейчас Фрунзе, кажется, на прогулке. Я хочу его видеть. В сопровождении целой свиты новый начальник тюрьмы отправился во двор, где прогуливались арестанты. Все сразу почувствовали твердую руку. Да и внешний вид нового начальника тюрьмы вызывал невольный трепет. Он подавлял своей внушительной комплекцией, широчайшими плечами, могучей грудью. На его бритом лице с бачками на щеках было написано высокомерие. А при звуках его раскатисто-рыкающего голоса у надзирателей захватывало дух. На нем был парадный мундир с высоким воротником, мундир с иголочки. Гудима носил белые лайковые перчатки, которые всякий раз трещали по швам, когда он пытался надеть их на руки. В Петербургской пересыльной тюрьме Гудима привык к беспрекословному повиновению. Вот почему, очутившись во дворе, он был удивлен, что арестанты не обратили на него ровно никакого внимания. Они громко переговаривались, спорили на политические темы. Один «нахал» прошел в двух шагах от Гудимы, не повернув головы. — Смирно! Шапки долой! — заорал Гудима во всю силу легких. Но арестанты как будто и не слышали команды. Они продолжали увлеченно спорить. — Вы что, так вашу… оглохли?! Заключенные рассмеялись. Один из них сказал своему соседу: — Кузя, чего он разоряется? Он что, с глузду съехал? Это уж было слишком. Если сейчас же не поставить их на место, то потом справиться с ними будет невозможно. — Вызвать солдат! Когда появились солдаты, Гудима скомандовал: — Ружья на прицел! По бунтовщикам… Лишь теперь заключенные поняли, что имеют дело с идиотом. Все бросились кто куда. Только Фрунзе стоял как ни в чем не бывало, засунув руки в карманы. Он смотрел поверх головы начальника тюрьмы в ясное весеннее небо. — Что за фрукт? — Арсений! — А, Фрунзе из второй камеры. В него стрелять не нужно. Его повесят. Сейчас же перевести в общую камеру номер три. Кто надзирает ночью? Жуков? Жукова перевести на четвертый этаж. От последних слов Гудимы Фрунзе помертвел. В общую камеру!.. Жукова переводят… В припадке отчаяния он готов был броситься на Гудиму, схватить его за горло. Каков мерзавец!.. Одним ударом разрушить все… Проницательность этого тюремщика была поистине дьявольской. В камере номер три среди других подследственных находился Павел Гусев. — Все, Паня, затея наша лопнула. — Как же так? — Вот так. Почитал бы лучше стихи. — Какие уж тут стихи… — Ну, ну. Vestigia nulla retrorsum, что значит — ни шагу назад! У меня есть новый план. Убежим вместе. Нужно только, чтобы нам разрешили работать в столярной мастерской, в подвале… Гудима угрожал виселицей. Очень уж всем им хочется вздернуть рабочего вожака… Но Фрунзе, как и всякий революционер-профессионал, был искушен в вопросах законодательства, знал наперечет все статьи Уголовного уложения. Как бы ни ярились царские сатрапы во главе со Столыпиным, они вынуждены считаться с законами, ими же установленными. В худшем случае — статья сто вторая: каторжные работы, лишение всех прав и вечная ссылка в Сибирь по окончании срока каторги. Так думал Фрунзе до 3 июня 1907 года. А когда узнал, что вопреки всем законам Столыпин разогнал Государственную думу и арестовал депутатов социал-демократов, то понял, что начинается эра дикого беззакония и что если его, Фрунзе, захотят повесить, то не посчитаются ни с какими уложениями. Рабочего депутата думы Жиделева сослали в Сибирь, в далекое село Качуг, Верхоленского уезда. Судебный следователь по особо важным делам при Владимирском окружном суде объяснил, что к суду привлекается не только Фрунзе, но и все руководители Иваново-Вознесенского союза РСДРП. Арестованы Постышев, Мокруев, Уткин, Караваев, Сулкин, Коняев, братья Шеевы — всего тридцать восемь ивановских большевиков. Взяли большевичку Любимову. От других подследственных удалось узнать, что в результате арестов и репрессий от союза, насчитывавшего совсем недавно свыше двух тысяч членов, осталось человек пятьсот. Затевается грандиозный процесс. Только теперь в полную меру прояснились контуры замысла Столыпина. Министр «железная перчатка» хорошо разработанным маневром нанес тяжелый урон партийным организациям всех крупных городов России: были обескровлены Московская, Петербургская, Екатеринбургская и другие большевистские организации. Фрунзе с самого начала решил использовать суд как трибуну. Следователь был удивлен, что он не стал запираться, а сразу же признал свою причастность к противоправительственной партии. Да, он призывал к свержению самодержавия, руководил Иваново-Вознесенской стачкой, дрался на баррикадах. Но что из того? Это дело убеждений. С таким же успехом можно обвинить Столыпина в приверженности к самодержавию. Сообщники? В революционном деле нет сообщников, а есть единомышленники. Их сотни тысяч. Человек, предающий руководителей рабочего класса, предает дело рабочего класса. А как он, Фрунзе, может предать дело всей своей жизни? Стоит ли после этого жить? — Но вы совершили вооруженное нападение на Лимоновскую типографию? Вот листовки, найденные у вас при обыске. — Господин следователь! У меня при обыске нашли «Капитал» Маркса. Но это еще не значит, что я печатал его в Лимоновской типографии. Следователь развел руками. Он вынужден был прибегнуть к избитым приемам: говорил о несчастной матери, у которой сын так безрассудно ступил на ложный путь. — Слыхал, слыхал. Откуда вы знаете: может быть, моя мать гордится мною? Короче говоря, ради спокойствия матери я должен пойти на предательство? Стыдитесь, господин следователь! У тысяч других, осужденных вами на смерть и на каторгу, тоже есть матери. Вы хотите обвинить меня в том, что мой образ мыслей не совпадает с образом мыслей господина Столыпина? — Вот вы все твердите: борьба, борьба! Я всегда считал, что борьба нужна неудачникам. Преуспевающему человеку — зачем она? Вы с вашими многосторонними талантами могли бы преуспевать, занять значительное место в жизни. — По вашей логике, Столыпин — неудачник. В противном случае, зачем бы ему вести борьбу с рабочими и с нами, социал-демократами? — Из него ничего больше не выжмешь, — доложил следователь губернатору. — Фанатик, который, по всей видимости, задумал использовать суд для пропаганды революционных идей. Каторги и ссылки не боится. — Выжмем! — уверенно произнес Сазонов. — Молодчик так легко не отделается, смею заверить. По нему давно плачет самая высокая осина. Получив телеграмму от губернатора, исправник Лавров вызвал урядника Перлова. — Любезный, ты как-то говорил о покушении на тебя Гусева и Арсения. — Да, меня приглашают на суд над Гусевым. Я предъявил ему обвинение. Как вам известно, у него нашли письмо брата, который советует убить меня. Не отвертится. — На суде ты должен заявить, что вторым лицом, которое стреляло в тебя, был Арсений. — А юридические основания? — Найди свидетеля. Пять тысяч проворонил!.. Упоминание о пяти тысячах всякий раз приводило урядника в бешенство. Закусив удила, он кинулся искать свидетеля. Возле трактира Перлов остановился. Суд над Гусевым должен состояться послезавтра, Перлов, как лицо пострадавшее, уже получил вызов во Владимир. Времени на поиски свидетеля не оставалось. «Сойдет любой, если припугнуть как следует! — размышлял урядник. — Взять хотя бы того же Быкова. Рыло в пуху. Вор, пьяница. Свинью у соседа украл и зарезал. В коленях валялся, чтобы я не губил его». Как и ожидал урядник, Быков сидел в трактире. Обхватив лохматую голову веснушчатыми руками, он неуверенным голосом выводил:Пропил, пропил, промотал
Весь отцовский капитал…
УНИВЕРСИТЕТ И АКАДЕМИЯ С ДВОЙНЫМИ РЕШЕТКАМИ
Как бы ни относился начальник тюрьмы к Фрунзе, он вынужден был с ним считаться. Фрунзе и здесь, в тюрьме, оставался вожаком. Когда Гудима запретил подследственным читать книги по их выбору, все объявили голодовку. И зачинщиком, разумеется, был Фрунзе. Он открыл у себя в камере настоящий социалистический университет: читал лекции по политической экономии и философии, обучал неграмотных рабочих грамматике и арифметике, наставлял их, как держаться на следствии и на суде, учил выдержке, а также тонкому искусству спорить с прокурором и судьями. Он был искушен в логике, и манера его мышления была такова, что даже следователи невольно подпадали под его влияние, начинали ему верить безоговорочно. И если прокурор пытался расставить ему логические ловушки, то Фрунзе очень искусно расставлял ловушки прокурору, бил его тем же оружием. Во время прогулок его окружали заключенные, и он просвещал крестьян по поводу аграрной программы своей партии. Он был неутомим и неуязвим. — Я запрещаю! — кричал Гудима. — А почему, собственно, вы запрещаете? Почему вы обращаетесь с подследственными так, будто уже установлена их вина и они осуждены на каторгу? — Все равно вас всех упекут. Если вы устроите маевку, то пеняйте на себя. — Что угодно делайте, а маевка будет. И вот Первого мая во время прогулки Фрунзе вынул из-за пазухи красное знамя. Заключенные во весь голос запели «Вихри враждебные». Пришлось вызвать солдат. Фрунзе потешался над Гудимой: — С каких пор запрещено носить красную рубаху? — Но вы сделали из нее знамя! — А если бы кто-нибудь стал размахивать белой рубахой, вы вызвали бы солдат? — Вы находитесь в тюрьме, где маевки запрещены. — Мы — подследственные и до суда будем вести себя так, как найдем нужным. Мы, кроме того, революционеры и привыкли праздновать свои пролетарские праздники. Разве есть указ царя не отмечать Девятое января и Первое мая? Если бы царь расстрелял вашего сына, вы справляли бы по нему траур каждый год, не считаясь, приятно это правительству или нет. А у трудового люда убиты сотни сыновей и дочерей. А станете притеснять, будем писать жалобы во все инстанции. Я сам напишу губернатору, как вы отменили его распоряжение и перевели меня в общую камеру. Да, да, губернатор за ручку отвел меня в одиночную, проверил крепость решеток. Вы что же, считаете себя умнее губернатора? Гудима уже знал о своем промахе. Сам того не ведая, он обозвал Сазонова дураком, и кто-то из помощничков, метивших на место начальника тюрьмы, успел донести. — Хорошо, господин Фрунзе, пусть подследственные читают все, что им заблагорассудится, за исключением, конечно, нелегальной литературы. Вам, во всяком случае, знания, взятые из книг, вряд ли пригодятся. Тут уж поверьте мне! Фрунзе выписал книги по политической экономии, по философии, по истории военного искусства, учебники и словари английского, французского и итальянского языков. С того дня, как его арестовали, прошло шестнадцать месяцев, а конца следствию и не предвиделось. Тюремный режим и частые допросы изнуряли. Скверная еда, скверное освещение, скверный воздух. В камере сидело девять человек. Время… Его всегда не хватало. И вот теперь его оказалось в избытке. Раньше заниматься приходилось урывками. Теперь он подготовил не спеша все, что полагалось знать студенту выпускного курса. Собирался защищать свою работу, посвященную важной экономической проблеме. Материал для такой работы он собирал исподволь почти три года. Он хорошо знал экономику Владимирской, а также Костромской губерний, аграрные и иные отношения, сложившиеся здесь. Постепенно у него появилось твердое убеждение, что с точки зрения интересов населения необходимо создать новую губернию: Иваново-Вознесенскую. Да, пока такой губернии нет на карте, но взглядом экономиста легко прощупывается хозяйственно-экономическая однородность некоего района, захватывающего уезды Костромской и Владимирской губерний. Этот район издавна составляет один экономический организм, имея базой мощную текстильную промышленность. Здесь около двухсот фабрично-заводских предприятий. В район могли бы войти Шуйский, Кинешемский, Юрьевецкий уезды и части уездов Нерехтского, Суздальского и Ковровского. Тут, через голову земских властей, возникают потребительские общества, представители которых не раз ставили перед Фрунзе вопрос об объединении всех обществ в большой кооператив Кинешемского района. Фрунзе приходилось выступать не только в роли экономиста-консультанта, но и в роли ходатая перед властями. Он дал наметки устава кооператива. Но начальство утвердить устав отказалось. Без всяких мотивировок. Кооператив? Зачем? Созрели также предпосылки для организации единого Иваново-Кинешемского союза текстилей… Он был захвачен идеей, готов был драться за нее с самыми сильными оппонентами-экономистами, всюду пропагандировать ее и не сомневался, что истинно государственное мышление, та мерка, с которой он подходил ко всем хозяйственно-экономическим вопросам, возьмет верх. Будет, будет Иваново-Вознесенская губерния!.. Новая губерния получит резко выраженный индустриальный характер, станет единственным в своем роде рабочим краем в России, базой, сердцевиной революционного движения… В долгие ночные часы он думал о том, что административное деление Российской империи требует корректив и что здесь необъятное поле для приложения научной экономической мысли. Подобный факт отмечал еще известный исследователь Тянь-Шаня Семенов, со статистико-экономическими работами которого Фрунзе был хорошо знаком. Когда-нибудь, когда страна обновится и народ станет ее хозяином, Фрунзе целиком сможет отдаться увлекательнейшей задаче. И конечно же, первое, что он сделает, это создаст Иваново-Вознесенскую губернию такой, какой она рисуется ему сейчас. Его обостренный ум всегда находил оригинальное решение любой проблемы. Он не сомневался, что экономисты, да и сам Максим Максимович Ковалевский, увлекутся новой проблемой. Все пересмотреть, процедить сквозь научное сито! Но и кооператив, и предполагаемый Иваново-Кинешемский союз текстилей (короче говоря, огромное профсоюзное объединение всего промышленного района) подспудно нужны были для главного: для организации сил. Не цель, а средство. Если экономические начинания и реформы не подчиняются классовым интересам, то зачем они? …Своим соседям по камере, молодым рабочим, он старался внушить одну-единственную мысль: история человеческого общества — история борьбы классов! И эту мысль он щедро иллюстрировал примерами и из древней истории, и из событий современных, участниками которых они все являлись. И то, о чем раньше рабочие парни знали понаслышке — восстания Спартака, Степана Разина, Болотникова, Пугачева, походы Гарибальди, Парижская коммуна, — теперь вдруг повернулось к ним неожиданной стороной — классовой; все важные исторические события, оказывается, были звеньями единой цепи. Один конец цепи был там, в тысячелетнем прошлом, а другой держали они в своих руках. И не существовало больше рядовых, незначительных дел: историю творит каждый. Может быть, именно тут, в камере номер три, они вдруг поняли своего Арсения не только как искусного оратора, но и как непревзойденного рассказчика. Он вел их по каменистым тропам на Везувий, где под пиниями укрылась кучка гладиаторов во главе со Спартаком. Сперва их было всего семьдесят, а вскоре армия Спартака выросла до семидесяти тысяч воинов! И эта армия потрясла Римскую империю. Спартак был ранен в бедро дротиком. Опустившись на колено и выставив вперед щит, он отбивался от нападавших, пока не пал вместе с большим числом окружавших его… — А если бы его не убили? Ведь могли рабы победить? — Могли. Восстания рабов не всегда заканчивались поражениями. Первое сицилийское восстание рабов, например, закончилось победой, и рабы организовали свое свободное государство, почти шесть лет сдерживали натиск римских легионов… Нужно также помнить, что именно восстания рабов привели к гибели великую Римскую империю. — А почему погибло то первое свободное государство? Что оно из себя представляло, какая там была армия? Чем они дрались?.. Шесть лет свободы! Ни царя, ни жандармов, ни хозяев… И рассказчику приходилось отвечать на десятки самых неожиданных вопросов: была ли у рабов своя кавалерия? что представляла собой пехота? что такое легион и что такое когорта? как выглядели метательные машины? И так без конца. Слушателей интересовали детали. Они смотрели на Фрунзе с жадным любопытством, будто он сам видел все своими глазами. И вот, дескать, если бы Спартаку парочку пулеметов да пушчонку… Он не смеялся над подобной наивностью. Тут была жажда победить вместе со Спартаком, помочь ему. И как-то забывалось, что сами-то они всего лишь узники, задавленные тюремным режимом. Рассказы о былых победах рабов вселяли в них уверенность в собственных силах. Было, многое было… И еще будет… История не может остановиться. Он и сам увлекался. А ночью, ворочаясь на жестких нарах, осмысливал то, о чем даже трудно было бы рассказать товарищам. Перед ним словно бы разверзались бездны истории человечества, воскресало то, что давно стерто временем. Подобное ощущение возникало у него и раньше, еще там, в родных краях. Сперва был интерес к военным походам давних времен, к личностям полководцев. Гимназист Фрунзе стоял с киргизом Дикамбаем на берегу горного озера возле груды камней. Груда называлась Санташ, что значит «Тысяча камней». Дикамбай объяснил, как умел, что некогда через эти места проходило миллионное войско грозного завоевателя Тамерлана. Каждый воин, по приказу полководца, нес в своем мешке камень. А когда войско вернулось из дальних походов, завоевав все восточные страны, то Тамерлан устроил здесь привал и приказал выбросить камни. Вот и вышло, что от его несметного войска осталась всего тысяча человек. Эту легенду каждый рассказывал по-своему. Но в передаче хитроватого старого Дикамбая она имела определенный смысл. Конечно же, это была всего лишь легенда: Тамерлан никогда не вторгался со своим войском в долину Иссык-Куля. Но «Железный хромец», какими бы мотивами он ни руководствовался, завоевывая и подавляя народы восточных стран, был фигурой примечательной, последним из великих монгольских полководцев. Его личность почему-то не переставала интересовать Фрунзе. И если Александр Македонский, обосновавший свою резиденцию в Самарканде, пришел в здешние края неведомо откуда, то Тамерлан, или Тимур, родился тут же, неподалеку от Бухары, в городке Кеш. Его отец, владелец маленького улуса, брал Тимура с собой в военные походы. У Тамерлана было всего шестьдесят воинов, когда он уничтожил тысячный отряд хана Тоглука. С двумя тысячами воинов Тимур разбил стотысячное войско сына Тоглука. Объявив себя ханом и сделав своей столицей Самарканд, Тамерлан создал огромную армию, хорошо обученную и организованную. Он подчинил себе Хорезм, Афганистан, Персию, Кавказ, разбил хана Золотой орды Тохтамыша, вторгся в Индию, захватил Сирию, Месопотамию, разгромил большое войско турок в бою при Анкаре, взял Смирну. Когда Тамерлану было уже под семьдесят, он стал готовиться к войне с Китаем. «Монголы были солдатами антихриста, вышедшими снять последнюю страшную жатву», — говорит Роджер Бэкон. Но разве это объяснение, почему армия монголов смогла пройти с победами огромные расстояния от берегов Великого океана до берегов Адриатики? Другой историк, свидетель монгольского нашествия, писал:«Пролитие крови у них считается вроде пролития воды… Они с восторгом хвастаются убийством людей, во множестве убитых их душа находит жалкое наслаждение. Много в них также коварства, лживости и обмана… Всегда от них следует ожидать, что они чаще будут биться при помощи обмана и коварства, чем при помощи храбрости».Опять же подобное свидетельство мало что дает для раскрытия самого главного: почему Тамерлан побеждал с малыми силами? Кто может сказать, сколько пролили народной крови воины Александра Македонского и есть ли в завоевательных войнах мера жестокости? Воспитанник Аристотеля, один из самых культурных и образованных людей своего времени, Александр Македонский до основания разрушил Фивы и продал в рабство тридцать тысяч пленных; а после битвы с персами он истребил греческих наемников, которые сдались ему без боя; захватив Тир, он продал в рабство еще тридцать тысяч горожан, а город Персеполь отдал на разграбление. Мягкосердечных, добрых завоевателей не бывает. Сам Чингисхан проще объясняет свои победы:
«В восемь лет я совершил великое дело и во всех странах света утвердил единодержавие. Не оттого, что у меня есть какие-либо доблести, а оттого, что у цзиньцев правление непостоянно».Великий каган смотрит в самый корень. Тамерлан выставлял себя чуть ли не защитником узбеков, будучи их злейшим поработителем. Это было плохо. А разбив около Самары хана Золотой орды Тохтамыша, он, сам того не ведая, способствовал освобождению русских княжеств от татарского ига. Могучие волны народов издревле перекатывались с запада на восток и с востока на запад, и каждая волна сметала города, целые государства, гибли сотни тысяч людей, и смешно было бы подобные великие колебания людских масс объяснять только свойствами характера, прихотью отдельных личностей, будь то Александр Македонский, Аттила, Чингисхан или Наполеон. И самое примечательное то, что амплитуда этих колебаний от столетия к столетию становится все короче и короче… В те дни Михаила Фрунзе преследовало видение: всадники на фоне багровеющего неба. Оттуда, со стороны заката, взметая красную пыль пустыни, бесконечным фронтом двигались всадники. Угасающее солнце бросало отблеск на их латы и набедренники, на шлемы с белыми и черными султанами; горели красным огнем металлические панцири; в правой руке каждый всадник держал длинную пику. То были катафракты Александра Македонского. За ними шли пехотинцы, рабы несли тяжелые, окованные железом круглые и прямоугольные щиты, тянулись телеги с метательными и стенобитными машинами-гелеполями.
Тут шлемы, как жар, горят,
И колышатся белые на них хвосты…
Есть булаты халкидские,
Есть и пояс, и перевязь…
«Самым величайшим и наиболее полезным искусством является то, что носит название военного и полководческого искусства; его употребительность снискала ему наибольшую известность».И если боевые порядки и сражения армий глубокой древности были для Фрунзе лишь исходным материалом для понимания самого механизма войны в ее зачаточных формах, то совсем по-иному смотрел он на грандиозные битвы народов времен не столь отдаленных. Здесь уж нельзя было на маленьком клочке бумаги изобразить схему того или иного сражения. Иногда даже трудно было сразу вникнуть в суть дела, но, движимый жгучим интересом, он постигал и то, что, казалось бы, невозможно понять без специальной длительной подготовки. Если бы ему кто-нибудь сказал, что он рожден полководцем, и, возможно, великим полководцем, он рассмеялся бы, так как не верил в какие-то прирожденные свойства человека. Не было бы войн — не было бы и полководцев. Полководец рождается не до войны, а в ходе самой войны. Да, да, полководец тот, кто умеет приспособлять способ ведения боя к новому оружию и к новым бойцам. Эту-то истину он усвоил накрепко, так и рассматривал действия того или иного полководца. Самой собой разумеется, что человек, не знающий теории военного искусства, не может быть полководцем. В противном случае пришлось бы поверить в чудеса. Даже тот, у кого есть, скажем, природный музыкальный слух, взяв дирижерскую палочку, еще не становится дирижером. А ведь дирижировать войной куда сложнее! В каждой новой войне сконцентрирован опыт всех предыдущих войн, опыт, купленный самой дорогой ценой: реками людской крови. Из истории всех войн он выделял победы русского оружия. Как бы там ни было, но русская армия во все времена одерживала победы над лучшими армиями мира. Победы русских при Кунерсдорфе, при Кагуле, сражение Суворова при Рымнике, штурм Измаила Суворовым и Кутузовым, сражение при Треббии, итальянский и швейцарский походы, Бородинское сражение, сражение на Березине — все это давало неисчерпаемый материал для размышлений. Он понимал, что тут многое зависело от качества русского солдата, что чувство взаимной связи, являвшееся отражением господствовавшей крестьянской психологии, играло очень крупную роль в повышении боеспособности русского войска и что эти качества в полную меру проявлялись тогда, когда Россия поднималась на освободительную борьбу, как то было в 1812 году, и что только русский полководец в ту пору имел возможность применить на практике стратегию массовой армии. Но что случилось с русским солдатом совсем недавно под Ляояном и Мукденом? Может быть, солдат утратил свои качества? От брата Константина он знал, что солдаты во всех сражениях в Маньчжурии проявляли необыкновенную стойкость и героизм. Только под Порт-Артуром японцы потеряли свыше ста тысяч человек. Все можно было бы свалить на бездарного Куропаткина и на его помощников — немецких баронов. А кто в таком случае повинен в цусимской катастрофе? Фрунзе жалел, что нет под рукой карты Маньчжурии, что ему неизвестны тактические замыслы сторон, неизвестны боевые порядки в том или ином сражении. Русско-японская война вызывала у него особый интерес. Ведь это была самая большая война нового века. Тут, несомненно, зарождались новые формы боя, тут начиналась эра применения новой военной техники, намного увеличились калибры артиллерии, ее скорострельность. Сражения проходили на фронтах, растянутых на десятки, а то и на сотни километров, чего раньше не наблюдалось. Сражения переросли в операции. Он-то знал главную причину поражения русской армии: гнилость военной организации была следствием гнилости царизма в целом. И все-таки он хотел знать частности: где проходили оборонительные позиции, как осуществлялось управление артиллерией, каковы были фортификационные сооружения, где располагались резервы и какова была их численность? Он уже мыслил не как дилетант, а как специалист, хотя и не догадывался об этом. Некоторые свои мысли он заносил в маленькую тетрадку. Как-то он записал:
«Всякое событие, всякий факт в военной жизни может быть правильно понят и оценен не в застывшей, сегодняшней форме, а лишь в процессе его развития, в тесной связи и взаимодействии с целым рядом других, иногда самых разнообразных явлений. Вскрытие этой связи требует широкого кругозора, невозможного без глубокой теоретической подготовки».Теперь тетрадку отобрали жандармы. Ему трудно было вообразить себе человека, равнодушного к военным вопросам. Революция и война — разве они могут оставить кого бы то ни было равнодушным? Или и в самом деле не перевелись еще люди с медными лбами?.. Так размышлял Фрунзе, лежа на голых нарах тюремной камеры с двойными решетками. А когда он засыпал, то снова видел багровое небо, литые барханы какой-то неведомой пустыни, которая казалась безграничным пожарищем, всадников в высоких шлемах с дугообразными гребнями. Тянулись повозки, слышался звон оружия. И сквозь бездну времен прорывался чей-то эпически спокойный голос:
Рати, одна на другую идущие, чуть отступились,
Разом сразились щиты, сразились копья и силы
Воинов, медью одеянных; выпукло-бляшные разом
Сшиблись щиты со щитами; гром раздался ужасный.
Вместе смешались победные крики и смертные стоны
Мужей губящих и гибнущих; кровью земля заструилась…
ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ДЛЯ БОРЬБЫ
Генерал-майор Милков торопился. Он всегда торопился. Когда-то Милков был бравым подпоручиком, и тогда некуда было спешить. Дружеские пирушки, карты, женщины, скачки. Все, как водится в молодости. Тогда казалось, что жизнь пройдет вот в таких пирушках и успокоится Милков в должности командира полка какого нибудь отдаленного гарнизона. Но Милкову удалось получить юридическое образование, и неожиданно для себя он стал орудием военной Немезиды. Успех ему сопутствовал. Генеральские погоны, Москва, молодая жена. Кстати, молодую жену Милков не любил оставлять надолго. Вот почему, когда приходилось выезжать в губернские города в роли председателя суда Московского военного округа, Милков всегда торопился закончить сессию в самые короткие сроки. Бегло ознакомившись со следственным материалом по делу Фрунзе и Гусева, генерал сразу же определил меру наказания: «Смертная казнь через повешение!» Суд военный — суд скорый. Объявив заседание открытым, Милков приказал ввести подсудимых. Он задал Фрунзе и Гусеву несколько малозначащих вопросов, после чего передал слово прокурору. И пока длилась надоевшая до тошноты судебная процедура, генерал Милков вспоминал недавний обед у губернатора. Чего греха таить, генерал любил вкусно поесть. Он не был чревоугодником, но какой московский ресторан может сравниться с доброй провинциальной губернаторской кухней! В провинции знают толк в таких вещах. Соления, варения, балык, паюсная икра — горы разной закуски. Ну и сам обед — страница из гоголевских повестей. Скажем: заяц в сметане! Где видано, где слыхано? Или филе из гуся с пюре из яблок и томатов. Телячья головка под белым соусом… У губернаторши очень темная кожа. В ее лице есть что-то грубое, чувственное, низменное. А вообще — недурна. На шее золотая цепочка с медальоном… Сазонов, кажется, говорил об этом Фрунзе… Да, да, вздернуть молодчика. Самый главный и самый опасный. Завтра же нужно вернуться в Москву. На пятницу прислали билеты. Лучшей исполнительницей Филины нужно, конечно, считать Ван-Брандт. У Боронат фигура плохо гармонирует с хрупким обликом возлюбленной Лаэрта и царицей ночи. Царица ночи с трехпудовым задом… А как великолепно исполняет Нерона Клементьев!.. «Преступника ведут, — кто этот осужденный?..» Тенор у стервеца громадного диапазона. У Милкова тоже был тенор. Он чуть ли не вслух напевал свою любимую арию: «Преступника ведут, — кто этот осужденный?..» Генерала не смущало то обстоятельство, что в суд не были вызваны даже защитники подсудимых. Защитники? Кого защищать? Врагов правительства и царя? Этот Фрунзе и не отрицает свою принадлежность к противоправительственной партии, свое участие в стачках. Да, он был инициатором создания Иваново-Вознесенского союза РСДРП! Что видят в этом господа судьи противозаконного? Капиталисты во всякое время могут собираться для обсуждения своих дел и соединяться свободно в союзы. И везде правительство старается помочь им. Присылают казаков, солдат, отряжают шпионов, жандармов. Так почему правительство не хочет помочь рабочим? Рабочий беден, голоден, темен. Правительство преследует его за борьбу с капиталистами, арестовывает, ссылает, убивает. Закон и право на стороне богачей — вот в чем дело! Вот это позорное судилище — хороший пример тому. Почему не вызвали защитников? Почему не вызвали свидетелей, которых он, Фрунзе, назвал? Законники сами бесстыднейшим образом нарушают законы и порядки. Сперва Милков слушал рассеянно, улавливал лишь обрывки фраз. Но при слове «капиталисты» он насторожился, и постепенно смысл речи подсудимого стал доходить до его сознания. Он отметил про себя, что речь хорошо аргументирована и производит впечатление. Потом подумал, что это же явная, ничем не прикрытая пропаганда и что все может просочиться в газеты, а он, председатель, позволяет с трибуны суда произносить такое. Рабочий вожак… Самая отпетая категория. Ни страха, ни раскаяния. Знаком с судопроизводством, жалуется на нарушение уложения при дознании. Мало его били… А какое благородство во всей позе! По меньшей мере Каллисфен-обличитель. Рабье отродье… И если вначале было лишь раздражение, то теперь Милков все больше и больше наливался слепой злобой. Наконец его прорвало. Он схватил колокольчик, ударил им по столу. — Довольно! Подсудимый, я лишаю вас слова. Здесь судим мы, а не вы. Не забывайте, что вы обвиняетесь и в уголовном преступлении: в покушении на убийство урядника конно-полицейской стражи Перлова. Пригласите в зал свидетеля Быкова. И тут произошло то, чего не ожидали ни заседатели, ни председатель суда, ни урядник Перлов. Быков вошел в зал из особой комнаты, перекрестился и заявил: — Никогда в жизни не видел я этих людей, которых вы называете Фрунзе и Гусевым. В тот вечер, о котором урядник говорит, я сидел в трактире до самого конца. Трактирщик может подтвердить да и друзьяки мои: Филька Пахомов и Лука хромой. А если хотите, господа судьи, знать правду, то так скажу: Перлов запугал меня, грозился за воровство упечь, а я не повинен, потому что корова Лукерьи Зыкиной нашлась. Урядник Перлов хотел его оборвать, но застыл с открытым ртом. Создалось критическое положение: единственный свидетель отказался подтвердить факт покушения. Однако генерала Милкова трудно было смутить. Своим отработанным тенором он призвал всех к порядку: — Следствие велось двадцать два месяца. Мы располагаем, таким образом, огромным материалом, изобличающим подсудимых и достаточным для вынесения приговора. Картина ясна, господа. Урядник Перлов — лицо служебное, и его показания нельзя ставить под сомнение. Когда было совершено покушение, Перлов находился при исполнении служебных обязанностей, у него нет и не может быть личной заинтересованности. Выразив недоверие уряднику Перлову, мы тем самым должны будем пойти дальше: всякий раз ставить под сомнение все доклады и донесения служебных лиц, будь то полиция или жандармерия. Что совершенно нелепо. Вы, свидетель Быков, будете привлечены к ответственности за дачу ложных показаний. — Ну и привлекайте! Боялся я вас… А губить молодые души понапрасну все равно не стану. Не видел я их никогда. Не видел!.. Вот и весь мой сказ. Его вывели. Генерал Милков с нетерпением поглядывал на часы. Хватит! Он привел свой ultima ratio — чего еще? Все было предрешено, и потому особого совещания не потребовалось. Председатель объявил приговор в окончательной форме: к смертной казни через повешение! Поводов к подаче протеста не имеется… Фрунзе почувствовал, как усиленно заколотилось сердце. Но то был не страх, не ужас перед смертью, а холодное ожесточение. Разве он не знал раньше, что этим все завершится? Знал и за двадцать два месяца следствия психологически подготовил себя к страшной вести. А сейчас только бы не потерять самообладания… Павел Гусев обнял его, положил голову на плечо. — Ничего, Паша, ничего… Жизнь прожита не зря. Нас осудили за закрытыми дверями. Не осудили, а расправились. Значит, насолили мы им здорово! А настоящая борьба только начинается… Не повесят они нас, не повесят! Они слишком трусливы для этого. Ты же знаешь, кто за нами… И Павел вскинул голову, улыбнулся. — Ты не так меня понял, Арсений: не боюсь я ее, смерти! Не боюсь! Одного жаль: мало учился, мало думал… Знаю: повесят. И утешать не надо. Только бы быть с тобой рядом в ту минуту… Ведь умрем-то за рабочий класс! Теперь в тюрьме с Фрунзе обращались как со смертником. Под усиленным конвоем провели в подвальное помещение, сорвали пиджак, рубаху, приказали надеть арестантский халат. Два жандарма усадили его на пол. Начальник тюрьмы крикнул: — Ковать! Когда кузнец сделал свое дело, а Гудима проверял заклепки у кандалов, Фрунзе в сопровождении смотрителя и надзирателей под усиленным конвоем отвели в камеру смертников. И если раньше он считался опасным, то сейчас стал исключительно опасным человеком, приговоренным к казни. Он мог натворить массу бед еще до исполнения приговора. Гудима не вступал больше с ним в дискуссии, не кричал. Когда Фрунзе потребовал, чтобы ему принесли в камеру все его книги, начальник тюрьмы согласно кивнул головой: — Исполнить! Гудима окончательно проникся уважением к своему пленнику. С чисто профессиональной точки зрения тюремщика он любовался им, так как на своем веку перевидел немало смертников, а этот был какой-то особый. Другие, самые, казалось бы, стойкие, после вынесения приговора как-то сразу обмякали, становились безжизненными, будто уже стояли за гранью страшной черты, или впадали в буйство, или плакали, а этот потребовал книги! И лицо спокойное, будто из камня. Гудиму даже не удостоил взглядом. Гордый… Над ним нет больше начальства. Тот, кого приговорили к казни, как бы возвышается над всеми, он вычеркнут из числа живых, и ему нет дороги обратно… Но смертник Фрунзе, по-видимому, и не думал вычеркивать себя из списка живых. Позванивая кандалами, он вошел в камеру, сказал обычным голосом: — Здравствуйте, товарищи! Все политические? — И обернувшись к надзирателям: — Сейчас же принесите мои книги. Люди, понуро сидевшие на нарах, уже давно равнодушные ко всему на свете, кроме своей участи, при последних его словах зашевелились. Кто-то нервически рассмеялся. — Вы собираетесь читать здесь книги? Запомните: каждый день в пять утра уводят кого-нибудь туда. Сегодня увели двоих. — Я учу английский, немецкий и французский. Интересуюсь итальянским. Кто его знает, на каком разговаривают святые ангелы? Я так думаю: зачем же нам свои головы вешать, для этого царь палачей держит, у каждого из нас есть слабости, но мы не должны показывать их врагу. — Складно сказано. Да я вас узнаю: вы товарищ Арсений? Вы приезжали к нам в Орехово-Зуево. Я Иван Егоров, рабочий… За убийство директора меня… — отозвался из угла парень, заросший курчавой бородкой. В его больших глазах был тревожный блеск. Он даже привстал, стараясь лучше разглядеть Фрунзе. — Я слышал о вас, товарищ Егоров, и рад познакомиться. Во время прогулок мне рассказывал Башлыков, как вы крепко держались на суде. Так и должен вести себя большевик. Егоров оживился: — А знаете, им так и не удалось доказать, что я убил директора. Эту сволочь мог убить любой. Вот подал кассацию, не знаю, выгорит ли? — Будем надеяться. Раз не доказано — все может повернуться по-другому. — А вы кассацию подали? Фрунзе пожал плечами. — Вот выучу итальянскую грамматику… — С вами скучать не будешь… Егоров с восхищением смотрел на Фрунзе. В прежней жизни был Иван Егоров веселым и даже немного бесшабашным. Унылый вид товарищей нагонял на него безысходную тоску. И вдруг является человек, который смеется над смертью и даже не предпринимает никаких мер для собственного спасения. И этот человек не кто иной, а сам знаменитый Арсений, совсем недавно наводивший ужас на всех хозяев, на начальство, на полицию. В камеру будто ворвался ветер, и страх перед казнью сразу как-то притупился. Приободрились и остальные смертники. Арсения они знали, он был моложе многих из них, и теперь он был с ними. Он понимал этих людей. Некоторых осудили безвинно, по доносу, по подозрению. Так как они считались наиболее активными из рабочих, то жандармерия искала всякий повод для расправы над ними. Были тут участники Кронштадтского и Свеаборгского восстаний, матросы, порешившие своих офицеров, был хмурый крестьянин Илья Соснов, убивший помещика, были здесь и уголовники. Все они вели себя по-разному. Матросы сидели обнявшись, негромко переговаривались. Илья Соснов напоминал величественную каменную статую: безмолвно смотрел в стену, и ничто не могло вывести его из неподвижности. Его счеты с жизнью были уже закончены, и ни на какое помилование он не рассчитывал. Так и не удалось выяснить, за что же все-таки он убил помещика. Социалист-революционер Лавр Морозов во время ликвидации полицейскими группы экспроприаторов отстреливался и тяжело ранил полицейского. Он беспрестанно метался по камере, что-то бормоча себе под нос, иногда вперял в пространство остекленелые глаза, вздрагивал и кричал: «Нет! Нет!..» Он, должно быть, находился на грани сумасшествия. Всякое внешнее проявление страха казалось Фрунзе отвратительным, неестественным. Он не верил, что можно опуститься до такой степени. Как бы ни была драгоценна жизнь, что, кроме самоунижения, может дать судорожное, бессмысленное цепляние за нее? Моральное превосходство над врагами — это уже победа над врагами. Но он был всего лишь человеком, молодым человеком, который, по сути, еще и не жил. Он имел возможность наблюдать, как темный страх перед уничтожением делает людей или апатичными, или невменяемыми. Когда в первую ночь загремел засов и надзиратель выкрикнул Морозова, тот стал хвататься за всех и кричать: «Не хочу!» И все знали: его поведут во двор тюрьмы — и через несколько минут все будет кончено! Всех охватила тревога. Илью Соснова увели на пятую ночь. Он поднялся, окинул всех мутным взглядом, потом рассмеялся каким-то свистящим смехом. И тут его натура проявилась полностью. Он сказал: — Не бойтесь смерти, котята! Нету ее. Был человек — нет человека. Аминь! И, высоко подняв голову, вышел из камеры. Наверное, и за всю жизнь он не произнес подряд так много слов. Это был тот русский мужик, которого Чернышевский звал к топору. Не добренький, патриархальный мужичок, а злой извечный бунтарь, который, перекрестившись без веры в бога, с ухмылкой поднимает на барина остро отточенный топор. Пришла очередь Ивана Егорова. Его почему-то выкликнули среди дня. Он побелел как полотно. Потом повернулся к Фрунзе. — Давай почеломкаемся напоследок. Спасибо тебе за все… А за что, сам, наверное, не смог бы объяснить толком. Матрос Кенка Никитин, когда пробил его час, расцеловался со всеми, даже с уголовными. И сказал только: — Жаль маманю. Старенькая она у меня. А остальное все правильно было. Смерть палачам, товарищи! Прощай, море… Вокруг Фрунзе ощутимо образовывалась зловещая пустота. Когда? Сегодня? Завтра?.. Он жалел, что рядом нет Павла Гусева. Должно быть, в другой камере. Сколько их по всей стране, камер смерти! Военно-полевые суды заседают круглосуточно. Каждая ночь становилась испытанием. Сидели на нарах молча, прислушиваясь к шагам в коридоре, к каждому звуку. Чей черед? При малейшем шорохе стыла кровь в жилах, дрожал каждый нерв. Десять, пятнадцать, двадцать, тридцать ночей… Сколько еще? Выдержит ли рассудок? О чем думает человек, приговоренный к смерти? Может быть, перебирает в уме прошлое, так как будущего у него нет, возвращается в светлые дни, переосмысливая все с самого начала?.. Ничего этого нет. Смертник живет настоящей минутой, жутким ожиданием. Да он, по сути, и не живет вовсе. Он находится в оцепенении. Перед ним черная пустота небытия. Вечное ничто, в которое не верится даже на краю уничтожения. Мудрец сказал: мыслю — значит существую. Но когда воля скована, гаснет и мысль. И все-таки Фрунзе мыслил, а значит — жил. Он торопился зафиксировать на бумаге в лаконичной форме свои статистико-экономические идеи, упорно зубрил английскую грамматику, вновь и вновь с непонятным упорством вел кровопролитные сражения Ганнибала и Сципиона на обрывках бумаги. Ум не должен меркнуть до самого конца, его нужно возбуждать; подобная гимнастика — лучшее средство против надвигающейся апатии, безразличия. Воля! — вот что противопоставлял он смерти. Что такое воля, сила духа? Говорят, силу воли можно воспитать. Может быть, и так. Он не задумывался над подобными вещами. Вся его сознательная жизнь была волевым актом. Сколько он себя помнил, всегда приходилось преодолевать то или иное сопротивление, некую инертность, заложенную в самой природе людей, вещей; инертность среды, инертность мышления, инертность бытия вообще. Ведь подчас приходится преодолевать инертность в самом себе, так как ты всего лишьчеловек, подверженный, многим слабостям. Но инертность — вовсе не главное, с чем нам приходится бороться. Главное: злобная активность тех, кто противостоит тебе как представитель инакомыслящих партий, а чаще всего — правящих классов. Слуги и прислужники правящих классов беспощадны в своих гонениях и всегда ведут игру без правил. Они-то и стараются подавить волю к сопротивлению. Но сила духа — не только качество. Сила духа — своеобразный талант. Есть бездарные в этом отношении. Есть одаренные. Он принадлежал к высокоодаренным. Он слишком уважал в себе человека, чтобы еще при жизни превращаться в окоченелый труп. Иногда он преднамеренно уходил в философские размышления. Теперь он жалел, что философии, в общем-то, уделял мало внимания, ибо всякая созерцательность томила его. Он любил все живое в конкретных формах. Искушенный в высоких абстракциях экономической науки (ибо под ними всегда лежало нечто конкретное — отражение классовой борьбы, то, что было близко ему, то, чему он решил отдать всего себя), он с меньшим энтузиазмом относился к абстракциям естественнонаучного порядка. Время, пространство, конечное, бесконечное… В философии тоже извечная борьба. Некто Николай Кузанский, живший, кажется, еще в пятнадцатом веке, установил относительность всякого движения. То, по всей видимости, был недюжинный ум. Он допускал, что другие звезды так же заселены, как и Земля, и что в человеке отражается бесконечность, и что сфера деятельности человека все время увеличивается. Он разработал свою собственную диалектику, согласно которой все противоположности совпадают: свет и тьма, бытие и небытие. Он выдвинул идею бесконечного расширения вселенной, беспрестанно преодолевающей собственные пределы… Должно быть, под всем этим кроется что-то значительное. Каким он был, этот Николай Кузанский? Что знают люди о нем? Известно лишь, что был он первым гуманистом. Но самое странное то, что он существовал, ходил среди людей, смотрел в звездное небо, умер, как умирают все… И вот сквозь тьму средневековья сюда, в камеру смертников, прорвалась его мысль, абстрактная мысль, казалось бы, далекая от жестоких классовых битв. А за ним были — Джордано Бруно, Коперник, целая полоса немецкой классической философии, Гегель, Фейербах и, наконец, Маркс и Энгельс… Да, человек как зеркало — в нем отражается бесконечность. Значит, она должна зачем-то отражаться, и человек обязан отражать ее до последнего вздоха, пока зеркальце не превратится в солнечную пыль. Позже он вычитал у Маркса о том, что «философия призвана изменить мир». С тех пор он и заинтересовался по-настоящему философией. Изменить мир… С какой страстью мечталось об этом! Можно убить человека, но великую идею убить нельзя, хотя бы на нее ополчились палачи всего света. Человек родится для того, чтобы изменять мир… Еще никогда жажда мыслить не была в нем так велика. Он думал — и тьма отступала. А когда под утро он забывался тяжелым бредовым сном, виделось одно и то же: дикий яблоневый лес, тянущийся на десятки, а возможно, и на сотни верст по склонам Тянь-Шаня. Яблоки большие, красные. Когда они начинают срываться с ветвей, трудно укрыть голову. Яблочный дождь. Нужно прыгать от яблони к яблоне, а это мучительно, потому что каждый раз расходится коленный сустав. Лесу нет конца. Так и блуждаешь по нему, пока грохот засова не вернет к действительности. — Фрунзе! В контору… Так обычно выкликают тех, кому пришла пора прощаться с белым светом. Но надзиратель, помедлив, добавляет: — На свидание с сестрой… Фрунзе все еще не верит. А надзиратель, помедлив еще немного, заглянув в бумажку, называет полностью имя, отчество, фамилию сестры. Теперь сомнений нет. Люша!.. У Михаила Фрунзе было три сестры: Людмила, Клавдия и Лидия. К Людмиле он особенно был привязан. Может быть, за ее энергичный характер, за то, что она понимала его лучше, чем остальные сестры и брат, не упрекала за революционную деятельность. О сестре трудно сказать, красивая она или некрасивая. Для него Люша была самой прекрасной, воплощением сестринской любви и доброты. Даже пять лет спустя он помнил теплоту ее маленьких рук, ее светлые слегка вьющиеся волосы, упрямый, решительный рот. Теперь из-за двойной решетки на него смотрели большие заплаканные глаза, а у рта была резкая скорбная складка. Брата и сестру разделяла не только решетка. Их разделяла вечность. — Миша, Миша… Неужели правда?.. Как сказать маме? Она ничего еще не знает. Она тяжело больна. К ней выехал Костя. Я получила извещение и спрятала. Этого не должно случиться… Я сделаю все… Я брошусь в ноги… — Люша! Я запрещаю тебе… Даже ради спасения моей жизни. Нам нечего у них просить. — Свидание окончено! Он снова вернулся в камеру смертников. Встреча с сестрой взволновала его до крайности. Сам того не замечая, он плакал. Он радовался, что не приехала мать. Это убило бы ее. И впервые его охватило глубокое чувство жалости к родным. До сих пор он мало думал о них и никогда не испытывал той уютной теплоты, которая накрепко привязывает детей к родному дому. Он всегда был немного жестковат. В семье, где пятеро детей, на его долю доставалось материнской ласки не больше, чем другим. Да у них и не принято было нежить, баловать; каждый мечтал поскорее вырваться из-под родительской крыши, уйти туда, за горы и за степи, где огромная Россия. Еще из гимназии он писал брату Константину в Казанский университет: «Я не ищу в жизни легкого. Я не хочу сказать себе на склоне лет: «Вот и прожита жизнь, а к чему? Что стало лучше в мире в результате моей жизни? Ничего? Или почти ничего?» Спор с братом о смысле жизни так и остался незаконченным. Константин вправе спросить: «Вот тебе на шею набросили петлю. А что стало лучше в мире в результате твоей жизни? Ничего? Или почти ничего? Я вылечил столько-то и столько-то сотен больных. А ты?.. Твои товарищи брошены в тюрьмы, сосланы на каторгу или вместе с тобой в грязной сырой камере отсчитывают последние часы своей жизни. А дальше что? Есть ли во всем этом конечный смысл? Ты гордишься своей профессией: революционер-профессионал. Но разве есть такая профессия? Кто установил ее? Кем она узаконена? Тюрьмы, каторга, вечное подполье, существование на авось… Разве это профессия? Столыпин разбил вас, скрутил по рукам и ногам. И после всего ты смеешь утверждать, что в мире стало лучше?..» Да, Столыпин берет реванш. Но надолго ли?.. Волю рабочего класса убить нельзя. В мире стало лучше хотя бы потому, что возврата к старому нет. Тот, кто познал упоение свободой хоть ненадолго, рабом быть не может. Ну а петля… Что ж. В большой борьбе всякое бывает. И умирать нужно учиться. Как сказал матрос Иннокентий Никитин: «Прощай, море!» Жизнь неповторима. Но если бы ее можно было повторить, все равно отдал бы ее борьбе, ибо только борьба наполняет жизнь смыслом… Прошло семьдесят дней. Семьдесят дней жесточайшей пытки. Он стал сдавать. Щеки втянулись. В ушах беспрестанно звенело. Вид пищи вызывал тошноту. Их осталось в камере трое. Значит, скоро… И неожиданно подумал: «Скорее бы!..» Наваливалось безразличие, и оно было страшнее всего. Но он не хотел сдаваться. Он не имел права сдаваться. И его эластичная натура каждый раз брала верх. Те двое, балтийские матросы, успели к нему привязаться, и его постоянная бодрость, его железная пунктуальность — когда он после гимнастики усаживался за учебник английского языка — были для них духовной опорой. Под мягким, спокойным взглядом его серых глаз они стыдились расслабляться. Он был сейчас для них самым нужным, самым близким человеком на свете, так как воплощал в себе руководителя того дела, за которое они согласились сложить свои головы. Даже в смерти он был для них авторитетом. Апрельская ночь. И пока смерть и жизнь под покровом темноты играют в шахматы, все трое приговоренных сидят, тесно прижавшись друг к другу, и прислушиваются к недоброй тишине. У них как бы выработалось особое чутье: они уже знают — сегодня за кем-то должны прийти. За кем?.. И когда во втором часу раздаются шаги в коридоре, они затаивают дыхание. Может быть, мимо? Но железная поступь конвойных все ближе. — Стоп. Здесь! Со скрежетом распахивается дверь. Надзиратель в камеру не заходит. Да и не за чем. Он вызывает: — Фрунзе, в контору! Он поднимается. Матросы виснут на руках. Но ему пора… Выходит в коридор и кричит так, чтобы слышали во всех камерах: — Товарищи, прощайте! Я — Арсений. Меня ведут вешать! И притихшая тюрьма взрывается: — Прощай, Арсений! Смерть палачам! Содрогаются от ударов двери. Гул голосов постепенно сливается, и вот уже во всех камерах поют. Торжественные слова перекатываются из одного конца коридора в другой, с этажа на этаж. Будто резонирует каждый кирпич огромной тюрьмы:В бой роковой мы вступили с врагами…
Марш, марш вперед, рабочий народ…
IPSO FACTO…
Фрунзе приговорили к смертной казни, выражаясь языком юриспруденции, «в силу самого факта». Но факты не были строго аргументированы, обвинителям не удалось создать плодотворную версию. А версия, как известно, в судебном исследовании выдвигается прежде всего по поводу главного факта: в данном, конкретном случае — виновность обвиняемого в покушении на убийство урядника Перлова. Присяжный поверенный Овчинников, взявший на себя защиту Фрунзе, считался своего рода светилом в судебном мире, учеником известного гориста Глазера. Выиграв несколько очень трудных и запутанных дел, Овчинников стал высоко котироваться как адвокат. Еще до суда Фрунзе заявил, что своим защитником он избрал Овчинникова. Почему именно Овчинникова? В среде юристов у Фрунзе не было знакомых, Овчинникова он никогда в глаза не видел. Дело объяснялось просто: во время следствия он через надзирателя Жукова наладил связь с партийными товарищами, оставшимися на свободе. Александр Котов, он же Матвей, один из руководителей Шуйской организации, и большевики Иваново-Вознесенска решили нанять Фрунзе и Гусеву самых опытных адвокатов. Котов выезжал в Москву, чтобы подготовить свидетелей, названных Фрунзе: доктора Иванова, который, разумеется, никогда не слышал о Фрунзе, фельдшерицу Моравицкую, больничную сестру Пителеву и студента Михайлова. Меньше всего Котов мог ожидать, что на суд не будут вызваны ни свидетели, ни защитник. Это было настолько грубое нарушение уложения, что присяжный поверенный Овчинников пришел в ярость: его, ученика известного Глазера, игнорировал какой-то солдафон! Да есть ли, в таком случае, справедливость на свете? Зачем тогда было разыгрывать судебную комедию? Все было сделано, что называется, manu militari — «военной рукой». Котов познакомил защитника с сестрой обвиняемого Людмилой Васильевной. Она была расстроена, но не растеряна. В этой женщине сразу давал себя знать несгибаемый характер. Пока Овчинников гадал да прикидывал, какой шаг предпринять, она решила все одной фразой: — Нужно добиться аудиенции у командующего войсками Московского военного округа! И они вдвоем отправились в Москву. Командующий принял любезно. Когда Овчинников рассказал о нарушениях, допущенных генерал-майором Милковым, командующий возмутился. — Я сам познакомлюсь с делом вашего брата, — сказал он Людмиле Васильевне. — Не сомневаюсь, что Главный военный суд отменит приговор. Возмущение командующего было искренним. Суть происходящего в общих чертах была ему известна: вот уже свыше года готовился процесс над руководителями Иваново-Вознесенского союза РСДРП. По замыслу Столыпина, процесс должен стать показательным. Фрунзе, как наиболее активному деятелю союза, отводилась особая роль на суде. Хорошо подобранные обвинители должны изобличить в подрывной деятельности, направленной против правительства и царя, тридцать семь большевиков. Такой процесс послужит предостережением другим, деморализует так называемое общественное мнение. И вдруг является услужливый дурак в лице генерал-майора Милкова и через голову командующего устраивает суд, попирая элементарные правила судопроизводства. После чего, разумеется, газетчики и общественные деятели поднимут голос в защиту невинно осужденных Фрунзе и Гусева, а главный процесс будет выглядеть фарсом. Газетчики станут кричать: «Все подстроено! Ваша объективность нам известна! Суд без защитников и свидетелей!» И вот такой Милков своей глупостью почти уже погубил тонко задуманное дело. Командующий вызвал Милкова. В выражениях не стеснялся. Генерал-майор стоял навытяжку, вздрагивал от каждого слова командующего, как от удара по лицу. — Вы проявили усердие не по разуму. На первый случай вам будет объявлен выговор в приказе. Вы сорвали процесс, черт бы вас побрал! В спешном порядке Главный военный суд вынужден был пересматривать дело Фрунзе и Гусева. Результат был предрешен командующим: смертный приговор отменить. Имя Фрунзе должно фигурировать на процессе, так как Фрунзе и есть главный руководитель Иваново-Вознесенского союза РСДРП, ставившего своей целью ниспровержение существующего строя путем вооруженного восстания всего народа совместно с армией. Фрунзе в течение ряда лет возглавлял огромную организацию, действия которой на процессе можно характеризовать как массовый террор против фабрикантов и властей. Он организовывал тайные типографии и союзы, распространял запрещенную литературу, захватил типографию Лимонова, угрожал при аресте исправнику Лаврову всеобщим выступлением дружинников. После окончания процесса следует возобновить дело о покушении на убийство урядника Перлова и, строжайшим образом соблюдая все формальности, приговорить Фрунзе к смертной казни. Таков был замысел командующего Московским военным округом. Присяжный поверенный Овчинников не знал подоплеки дела и потому был крайне обрадован, когда в двенадцать часов ночи получил телеграмму на свое имя из канцелярии Главного военного суда:«Смертная казнь отменяется! Дело будет передано на новое рассмотрение».Среди ночи Овчинников ворвался в тюрьму. Он боялся опоздать, так как палачи могли поторопиться с приведением прежнего приговора в исполнение. — Немедленно вызвать Фрунзе ко мне! Смертный приговор отменен. Помощник начальника тюрьмы поручик Синайский выслушал Овчинникова невозмутимо. Он недолюбливал адвокатов. Вечно они суют свой нос, куда им не следовало бы его совать! Надо проучить адвокатишку, поставить его на место. Облизнув сухие красные губы, Синайский произнес скучным голосом: — Фрунзе? Ах, да… По-моему, приговор приведен в исполнение вчера ночью. Овчинников похолодел. — Не может быть! До ответа на нашу кассационную жалобу вы не имели права… Поручик осклабился: — А тут уж вы нам не указ, господин присяжный поверенный. Впрочем, вы правы. Проверим, проверим. В самом деле, еще не повешен! — Так вызовите его сюда и раскуйте! — К чему такая спешка? Нужно запросом проверить подлинность телеграммы. Мало ли бывает всяких ошибок? — Но вы не имеете права ни минуты держать человека в камере смертников! — Ничего вашему Фрунзе не сделается за пару-тройку дней, Я мог бы вас сегодня вообще не принять. Час ночи, господин присяжный поверенный! А я, хе-хе, принимаю днем. — Но это же бесчеловечно! — У нас не институт благородных девиц. Ну а если, к примеру, я сделаю вид, что никакой телеграммы вы мне не показывали, и дам сейчас распоряжение казнить Фрунзе? Хе-хе, свидетелей нет. Вот вам юридический казус. Или заявлю, что вы мне угрожали и я вынужден был вас немедленно арестовать до выяснения обстоятельств, а тем временем… Овчинников уже овладел собой. Он понял, что над ним издеваются. Да и Синайский не был для него человеком-загадкой. Совсем недавно Синайский вытворял всяческие бесчинства в знаменитом Орловском централе. Как начальник Орловского централа он прославился своими изуверствами на всю Россию. Гудима ему и в подметки не годился. Синайским занималась Дума, его понизили в должности и отправили во Владимир. Самой тяжкой мукой для поручика было подчиняться Гудиме, выскочке, примитивному фанфарону. Себя поручик считал человеком утонченным, психологом, знатоком тюремного дела. — В такой необъятной каторжной стране, как наша империя, нужны профессора и доктора тюремных наук, — говорил он без малейшей тени юмора. — Вся Россия — огромная тюрьма без крыши и стен. Все великие государственные мужи были великими тюремщиками: Наполеон, Бисмарк, Николай Первый… Ни для кого не было секретом, что Синайский очень энергично «роет яму» под своего начальника Гудиму. Овчинников свернул телеграмму, сунул ее в карман. — Я не так давно был на приеме у командующего Московским военным округом, — сказал он, собрав все свое самообладание. — Смертный приговор отменен Главным военным судом. Если вы находите, что вправе игнорировать решение Главного военного суда и командующего, я умываю руки. Доброй ночи, господин поручик. Ваши действия я расцениваю как шантаж. Помощник начальника тюрьмы понял, что зашел слишком далеко. Мигом вызвал надзирателя. — Фрунзе в канцелярию! Немедленно!.. Но по выражению глаз поручика надзиратель догадался, что спешки особой нет. Опытный надзиратель знал разрушительную силу мелочей, их психологическое значение. Мелочами, к которым внешне не придерешься, можно довести человека до сумасшествия. Например, несколько раз на день подходить к камере смертников и, постояв минут десять, поворачивать обратно. Для надзирателя подобный садизм был своеобразным развлечением. Открыть дверь камеры смертников, выкликнуть фамилию приговоренного и молча наблюдать, как меняется его лицо, как стекленеют глаза… Из слов адвоката надзиратель понял, что приговор отменен. Овчинников просил сообщить узнику решение Главного военного суда немедленно. Но надзиратель только усмехнулся. Он-то знал, чего стоят смертнику несколько десятков шагов от камеры до конторы. Вот почему, выкликнув Фрунзе, он и не подумал ставить его в известность о решении Главного суда. Зачем отказывать себе в маленьком удовольствии?.. Фрунзе был твердо уверен, что счеты с жизнью кончены. Даже услышав от адвоката о том, что смертная казнь отменена, он не поверил. — Меня не нужно успокаивать, — сказал он твердо. — Я вовсе этого не хочу и нисколько этому не верю. Передайте на волю, что я умер, как умирают люди, убежденные в правоте того дела, за которое они боролись. — Не тратьте громкие слова, Михаил Васильевич. Вон пришел кузнец! И только тогда, когда кузнец снял кандалы, Фрунзе поверил. Жить!.. Борьба еще не окончена… — А Павел Гусев?.. — Вы с ним скоро увидитесь на общей прогулке. Фрунзе снова перевели в польский подследственный корпус, и в первый же день он встретил старых друзей: Постышева, Караваева, братьев Шеевых, Уткина, Коняева, Мокруева, Сулкина, Павла Гусева. Появление Фрунзе в общей камере арестантской роты было встречено пением революционных песен, шумными поздравлениями. — Арсений вернулся! Да здравствует Арсений!.. Тюрьма бурлила целую неделю. Исхудавшего, еле живого Арсения сразу же взяли под опеку. Нужно было его подкормить, подправить. Рабочий ситцевой фабрики Постышев организовал негласный комитет по поддержке Арсения и Северного, то есть Гусева. И они стали замечать, что подследственные стараются подсунуть им самые лакомые куски из тех скромных посылок, какие поступали в камеры с воли. А когда Фрунзе догадался, в чем дело, то рассердился. — Вот что, Павел Петрович, — сказал он Постышеву, — за товарищескую заботу спасибо. Знаем мы с тобой друг друга давно, а ты хитришь со мной. Давай сделаем так: я тоже получаю от родных деньги и продукты; организуем коммуну, все продукты станем делить поровну; установим связь с Красным Крестом — и тогда наша коммуна будет иметь свой фонд. — Да ты, как всегда, прав, Арсений, — согласился Постышев. После камеры смертников жизнь в подследственной камере казалась легкой и почти беззаботной. За десять месяцев Фрунзе поправился, окреп. Даже следы от ножных кандалов постепенно исчезли. Камера смертников вспоминалась, как жуткий кошмар. Да, прошел почти год с того дня, как Фрунзе и Гусева перевели в польский корпус, а следствие по делу Иваново-Вознесенского союза РСДРП все тянулось и тянулось. Начальство умышленно отодвигало день суда, так как массовые выступления рабочих промышленного края не затихали. Процесс начался только 5 февраля 1910 года, то есть три года спустя после ареста Фрунзе. Показательного процесса, как то замышлял Столыпин, не получилось. Обвиняемые, все как один, сразу же взяли на себя роль обвинителей существующего строя. Вел процесс генерал Доку, представлявший Главный военный суд. Генерал Доку славился своей беспощадностью, и его сделали председателем суда не без умысла. Он был достаточно искушен в юридическом крючкотворстве, чтобы, соблюдая форму, не давать обвиняемым использовать суд как трибуну. Он умел запугивать, не повышая голоса, обладал исключительной выдержкой. Он был свиреп своей логикой служки правительства, и тут его сбить было нельзя. Его девизом были слова: «Pereat mundus, fiat justitia!» — «Правосудие должно совершиться, хотя бы погиб мир!» Но правосудие он понимал по-своему: карать взбунтовавшихся рабов! Он знал, что перед ним люди, которых невозможно запугать каторгой и ссылкой. Они были врагами самодержавия и не скрывали этого. Они не стремились защитить себя, выгородить, так как их мужественное поведение на процессе нужно было не столько для них, сколько для той массы рабочих, которая все равно (неведомо какими путями) узнает, что делалось и говорилось на суде. Им нельзя было заткнуть рот хотя бы потому, что они своими речами подтверждали обвинение в антиправительственной деятельности. Они старались объяснить, почему ненавидят царя, самодержавие и Столыпина. Каждый из них давно переступил ту грань, когда человек страшится суда, тюрьмы, гласности, всех тех вещей, которые как бы ставят его вне общества, заставляют знакомых сторониться его. Взять хотя бы того же Постышева. Молодой русоволосый парень в косоворотке. У него на лице написано, что он обыкновенный рабочий. Трудиться начал чуть ли не с восьмилетнего возраста, как все дети рабочих; набивал щетки в мастерской, глотал вредную пыль. На ситцевой фабрике было не лучше. Встречался не раз с известным революционером Бабушкиным, внимал его наставлениям. Зерна падали на благодатную почву. Способный паренек на лету схватывал марксистские идеи, сам стал выступать, писать прокламации. А во время известной стачки текстильщиков его избрали в Совет рабочих уполномоченных. Он воспитал в себе презрение и ненависть к правящим классам. Чего ему страшиться? Нужду и голод, бесправие он испытал. Он понял силу организованности своих братьев, той самой организованности, которая выдвинула его в вожаки, в руководители. Вот и сейчас он говорит с убежденностью, от которой мороз идет по коже: — Мы не устанем повторять, что для уничтожения всякой несправедливости и угнетения нужно взять в свои руки управление делами государства. Можно на него кричать, можно лишать его слова, можно сослать его в Сибирь. Но что из того? Таких каторгой не смиришь. Классовая ненависть — это больше, чем страсть. Это сущность человека. Она неистребима. Самое разумное было бы уничтожать таких без суда и следствия. Но Столыпин, любящий давать интервью корреспондентам иностранных газет, пытается придать всему вид законности. Мы, мол, не хуже Европы… До каких пор Россия будет оглядываться на Европу? Враги самодержавия есть враги, и Европа тут ни при чем. Генерал Доку был прекрасно осведомлен, какое место среди обвиняемых занимает Михаил Фрунзе. Когда взял слово защитник Фрунзе присяжный поверенный Овчинников, генерал насторожился. Защитник говорил пространно. Дескать, обвиняемому в момент всех его революционных деяний было всего двадцать лет, и что в таком возрасте, как известно господам судьям, личность еще только формируется. Почему Фрунзе на суде считают чуть ли не главной фигурой? Да, он дрался на баррикадах, но многие тогда дрались; ему принадлежит идея создания союза РСДРП, но идея — всего лишь идея, ее мог высказать любой из рабочих; нападение Фрунзе на Лимоновскую типографию во главе дружинников не подтверждено никем из свидетелей; что противозаконного в том, что Фрунзе помогал бывшему депутату Государственной думы Жиделеву? Увлекшись, Овчинников стал доказывать, что семидесятидневное пребывание Фрунзе в камере смертников и трехлетнее пребывание в тюрьме вообще является достаточным наказанием для молодого человека, не совершившего, по сути, ничего противозаконного. Все мы в молодости подвержены увлечениям… Но Фрунзе, как и ожидал генерал Доку, сам разрушил искусно построенную защиту. — Я просил моего защитника следить за соблюдением правил судопроизводства — и только. Так как сам не искушен. То, что адвокат называет моими заблуждениями, — отнюдь не заблуждения, а мои твердые убеждения. Не адвокатам и не судьям определять цель моей жизни. Для меня она, во всяком случае, ясна: глубоко познать законы, управляющие ходом истории, окунуться с головой в действительность, слиться с самым передовым классом современного общества — с рабочим классом, жить его мыслями и надеждами, его борьбой и в корне переделать все — такова цель моей жизни. Самодержавие и политика кровавого канцлера Столыпина — помеха к осуществлению цели моей жизни. Потому я борюсь и буду бороться до последнего вздоха. — Четыре года каторги! — изрек генерал Доку. Пять дней длился процесс. «Шумного дела», на которое рассчитывали Столыпин, Сазонов и командующий Московским военным округом, не получилось. Газеты отметили, что судьям не удалось противопоставить речам обвиняемых ничего доказательного. Все обвинение очень шатко, и снова восторжествовал принцип типа manu militari. Всех обвиняемых приговорили к разным годам каторги и ссылки. Хотят сослать в Сибирь Любимову. Что из того? Рабочие комитеты продолжают функционировать и, несмотря на репрессии, набирают силу. Стачки и политические демонстрации не прекращаются. Вновь крестьяне поджигают помещичьи имения. Надвигается всеобщий голод, который уже охватил несколько губерний. Где же эффект от столыпинских реформ? Короче говоря, процесс над ивановскими и шуйскими большевиками провалился с треском. Он вызвал только озлобление у рабочих. Либеральная печать отмечала наметившийся подъем революционного движения. Прямо со скамьи подсудимых под усиленной стражей Фрунзе отвели в общую камеру каторжной тюрьмы. Теперь он был каторжанин. Во Владимирском каторжном централе произошли кое-какие перемены: начальником тюрьмы стал поручик Синайский. По поводу своего назначения Синайский говорил помощникам: — Гудима — парвеню. Он все равно долго бы не продержался. Он рожден быть подчиненным, а не начальником. Кто становится начальником? Тот, у кого есть собственная философия, пусть даже самая примитивная. У Гудимы такой философии не было. Он мастер «сполнять», но не размышлять. А в наше время тюремщик — главная фигура: от его бдительности зависит спокойствие в государстве. Он должен понимать, о чем говорят промеж себя политические, чтобы уяснить, так сказать, выражаясь языком философа Ницше, «мораль рабов». У каждого воля к власти, и побеждает сильнейший. Гудима, например, понимал, что тот же Фрунзе — опасный преступник. А почему опасный, в толк взять не мог. А я так скажу: Фрунзе очень, очень опасный, и вы все глаз с него не должны спускать… Синайский присутствовал на процессе и понял, явление какого масштаба — Фрунзе. Он знал о затаенном желании губернатора Сазонова «тихо убрать» этого агитатора, догадывался, что подобную точку зрения разделяет и командующий Московским округом. Во всем Владимирском централе не было фигуры крупнее Фрунзе — вот что понял Синайский. Фрунзе следовало мерять масштабом всероссийским, ибо известность его давно переступила пределы Владимирской губернии. Он был одним из тех, кто составляет ядро всей РСДРП. Синайский долго думал, как ему извести Фрунзе. И наконец придумал: его нужно поместить в камеру к уголовникам, к страшному Бабичу, который даже за решетками наводит ужас на всех. Бабич — дикий зверь, дегенерат, убийца. Он не лишен хитрости: убивает свою жертву так искусно, что все выходит как бы случайно — упал деревянный брус и проломил человеку череп, человек умер от удушья, а следов нет. Бабич привык верховодить, он попытается грубой силой подчинить себе Фрунзе, но Фрунзе не таков, чтобы подчиняться уголовнику. Кончится тем, что Бабич как бы ненароком пристукнет Фрунзе. Задумано — сделано. Но Синайский не учел сущей безделицы: морального превосходства Фрунзе над Бабичем и ему подобными. Для Фрунзе уголовники были прежде всего людьми, искалеченными в нравственном отношении условиями общества. Он обладал особым даром проникновения в сущность индивидуального характера и предвидения на этой основе общей линии поведения того или иного человека. Когда через три дня Синайский зашел в камеру уголовников, то увидел невозмутимого Фрунзе, обучающего Бабича игре в самодельные шахматы. Бабич почтительно величал своего учителя по имени и отчеству. «Уму непостижимо! Бабич смирнее ягненка, — думал поручик. — Всего три дня… А потом он прикажет тому же Бабичу раскидать надзирателей и конвойных — и Бабич с восторгом бросится за него в огонь и воду. Опасный, очень опасный… Даже я начинаю испытывать к нему нечто, похожее на симпатию. Он умеет внушать…»
ЕЩЕ РАЗ «СТОЛЫПИНСКИЙ ГАЛСТУК»
Без крика, без шума Фрунзе потребовал, чтобы ему разрешили работать в столярной мастерской. — Надеюсь, вы не будете возражать, если я стану обучаться столярному делу? И Синайский, сам не понимая, как все случилось, уступил. — Не возражаю! Для заключенных Синайский был всего лишь жестоким тюремщиком, чудовищем. Фрунзе разглядел в нем тщеславного, нескромного, но не очень-то уверенного в себе психопата, обуянного манией величия. Таким человеком легко управлять, если иногда подбрасывать пищу для его мрачного тщеславия. Пища была, правда, весьма своеобразной. — Вы — талантливый тюремщик, господин поручик, — говорил ему Фрунзе с сарказмом. — Захудалую Владимирскую тюрьму за короткий срок вы превратили в образцовую каторгу, где попираются самые элементарные права политкаторжан, где человеческое достоинство не ставится ни в грош, где каждый день сходят с ума от утонченного садизма и мрут от туберкулеза, цинги, истощения и избиений десятки людей. Удивительно, что вы до сих пор не правая рука Столыпина, ему такие палачи нужны. — Вы еще больше оцените меня, когда я посажу вас в карцер и прикажу выпороть. Впрочем, вы рветесь в столярную мастерскую. Будете делать гробы для тех самых умирающих от чахотки. А когда придет ваш черед, я распоряжусь, чтобы сверху положили социалистические брошюры, искусно переплетенные вами в обложки «Житий святых». Заключенным казалось, что за такую дерзость Синайский сгноит Фрунзе в карцере, однако начальник тюрьмы только зловеще щерился, но ничего не предпринимал. Среди политкаторжан в самом деле распространялись нелегальные брошюры, переплетенные в обложки с религиозными названиями. Синайский слышал об этом от доносчиков, но самые тщательные обыски не дали результатов. Откуда было ему знать, что запрещенные книги прячут сами надзиратели, разумеется, за известное вознаграждение. Пришел надзиратель, чтобы отвести Фрунзе в столярную мастерскую. — Иван Парамонович! Жуков приложил палец к губам, а потом принялся яростно браниться. — Не показывайте виду, Михаил Васильевич, что мы знаем друг друга. В столярной подойдите как бы невзначай к Прозорову. Он хочет с вами познакомиться. Фрунзе ликовал. Все складывается как нельзя лучше. Кто такой Прозоров? Первый, кто попался на глаза в мастерской, где работало около шестидесяти человек, был Иван Егоров. — Значит, смертную казнь отменили? — К счастью, да. Им не удалось доказать, что я убил директора. О вас я уже слышал и радуюсь. — Радоваться рано. Мое дело подали на пересмотр. Кто такой Прозоров? — Вон тот остроносый, за третьим верстаком. Моряк-балтиец. Пятнадцать лет каторжных работ. Сын здешнего попа. Я имею в виду владимирской церкви. Чуть поодаль от верстаков сидели надзиратели. Для виду они прислушивались к разговорам заключенных, а на самом деле все они уже давно были подкуплены щедрыми подачками и, даже когда возникали острые политические споры, делали вид, что ничего не понимают. Некоторое время Фрунзе приглядывался к Прозорову. Резко очерченный рот, глаза темные, выпуклые, в припухших веках, движения энергичные, отчетливые. Он строгал доску и был, казалось, целиком поглощен своим делом. Но иногда поднимал голову и бросал на Фрунзе быстрый взгляд. Фрунзе решительно подошел к нему, представился и добавил: — У вас так ловко получается. — Невеселая работа делать деревянные бушлаты для товарищей. Вы мне очень нужны, товарищ Арсений. Я как только узнал, что вы в каторжном, сразу подумал: вот кто нам поможет. У меня здесь, в городе, сестра. Если вы уговорите Жукова стать связным, она все подготовит. — Вы имеете в виду… — Совершенно верно. Ватага о воле думает. Согласны на все. Но мы не знаем, с чего начать, и вообще, в таких вещах у нас опыта маловато. — Обещаю подумать. Ну а начинать, конечно, нужно так, как вы и наметили: связаться с волей. — Возьмите все в свои руки, товарищ Арсений! И пока Прозоров и Иван Козлов обучали Фрунзе столярному ремеслу, он обдумывал план побега. Жукова ему удалось уговорить сразу. — На вас я, Михаил Васильевич, полагаюсь. Только по приказу Синайского при выходе из тюрьмы нас стали обыскивать. Пронюхал, шельмец. Дня через два старый мастер Васюк сделал из темного дерева табачницу. Фрунзе объяснил Жукову, что табачница с двойным дном. Связь была налажена. Сестра Прозорова присылала письма от ивановских большевиков и даже деньги от Красного Креста. Бежать собиралась целая группа матросов. Что им посоветовать? Они верили в изобретательный ум Фрунзе, а он дни и ночи напролет искал правильное решение. Десятки вариантов… Многие уже использованы другими, а потому не годятся. Побег — искусство, следование шаблону может привести к гибели людей. Глубокий подкоп из столярной мастерской, расположенной в подвальном помещении… Кажется, еще никто не пробовал. Но из моряков только один Прозоров допущен в мастерскую. Значит, отпадает. Чем заняты матросы? Каждый день по всем пяти этажам протирают лестницы. Они умеют драить. После уборки их загоняют в камеры и больше не выпускают. Следовательно, побег возможен только утром, во время уборки. Но как убежишь из коридора, где нет даже окон? Подкоп здесь немыслим. Нападение на стражу тоже ничего не даст. Нужна хотя бы маленькая щель, сквозь которую можно проскользнуть на волю… Постепенно у него созрел план. План, какого еще не бывало. Никому из десятков поколений арестантов еще никогда не приходило в голову ничего подобного. Специалист по побегам сразу отметил бы оригинальность замысла… и невероятную трудность исполнения. Но Фрунзе испытывал радость открытия. Он нашел единственный в своем роде путь на волю. Как-то он сказал Прозорову: — Во время уборки ваши товарищи не натыкались в коридоре на какое-нибудь отверстие, забранное решеткой или затянутое сеткой? — Да вроде бы нет. — Такое отверстие должно быть. — Вы уверены? — Разумеется. Если бы не было отверстия, мы все давно задохнулись бы. — Вентиляция?! — Конечно. — Как это мне раньше не приходило в голову? — Тише. Нешаблонное решение, высказанное вслух, сразу же становится шаблонным. Вы должны отыскать вытяжное отверстие. Я твердо уверен, что через все пять этажей проходит вентиляционная труба. Необходимо выяснить, каков ее диаметр, может ли в нее протиснуться человек. — Вот теперь все понятно. Вы, товарищ Арсений, прямо-таки гений. — Ну, ну, заговорили от восторга в рифму. Еще не известно, каков диаметр трубы. Может быть, в нее и руки не просунешь. Те, кто строили тюрьму, все, должно быть, учитывали, даже то, что мы попытаемся выбраться на волю через вентиляционную трубу. А там кто его знает… Примерно через неделю Прозоров доложил: — Вы оказались совершенно правы: нашли отверстие! Знаете где? На пятом этаже, на лестничной площадке, где обычно стоят ведра, бачки, швабры. Мне остается восхищаться и удивляться: ведь тысячи людей бывали-перебывали на той площадке, и никто не догадался разогнуть спину, поднять голову. Встал я на бачок и сразу же сорвал сетку. Отверстие — человек моей комплекции (а меня, как видите, бог не обидел) запросто проходит. Сперва я даже растерялся, не поверил, что строители могли такую оплошность допустить. Нет ли, мол, тут ловушки? А когда протискался в трубу, понял, в чем дело: шахта сквозная через все пять этажей! Вертикальная, как колодец. Держаться приходится, упираясь локтями и коленями. Чуть ослабил напряжение — и камнем вниз! Темно, морозный ветер. Жуть. Руки и ноги сразу же закоченели. — Ну и как? — Без веревки ничего не выйдет. А где возьмешь ее, веревку такой длины? Как бы вы поступили на нашем месте? — Вас приговорили к пятнадцати годам? — Да. Фрунзе выпрямился, по лицу прошла судорога. — Вы боитесь отморозить пятки? Или боитесь ободрать локотки? Насколько я понял, мне доверили руководство побегом. Вы — исполнитель. Так вот: при первой же возможности вы опуститесь по трубе до конца, исследуете, куда она выходит. В противном случае нам не о чем больше говорить. Прозоров вспыхнул. Он был мужественным человеком и не предполагал, что кто-то может заподозрить его в трусости. А тут ему бросали оскорбление прямо в лицо. Он ведь беспокоился не за себя, а за своих товарищей. Смогут ли они, отощавшие, изможденные, опуститься по трубе? Но Арсений, по-видимому, знал, что делал: он должен был разрушить малейшее сомнение. — Вот что я вам скажу, Федор Васильевич, — произнес он уже более спокойным голосом. — Я не собираюсь командовать вами. Вы хорошо знаете, что бежать с вами я не смогу: каждый мой шаг на учете, на пятый этаж мне не пробиться. Но дело даже не в этом. Я не хочу оставлять Павла Гусева, ведь нас привлекают по одному делу, скоро состоится суд. Я боюсь, что Гусев, оставшись один, растеряется и не сможет защитить себя; а ему грозит казнь. Так же, впрочем, как и мне. Но если бы не последнее обстоятельство, я сумел бы пробиться на пятый этаж. Потому что выбирать нам не из чего. Я не сомневаюсь в вашей личной храбрости. Но ваша ошибка в том, что побег вам представляется делом скоропалительным. Мол, мои товарищи ослаблены недоеданием и вряд ли смогут спуститься по трубе. Запомните: побег подготавливается кропотливо, день за днем, неделя за неделей, возможно, уйдут месяцы, а то и годы. Тут малейший недосмотр может привести к общей катастрофе. Так вот, пока побег готовится, мы сообща займемся поправкой ваших товарищей. Существует коммуна, в фонд которой вкладываются все деньги, заработанные в мастерской, и коммуна возьмет на себя это дело. Побег станем готовить не только мы с вами, а большая группа политкаторжан. Если с вентиляционной трубой ничего не выйдет, придумаем еще что-нибудь. В тюрьме нет такого человека, кто не рвался бы на волю. Но побеждает лишь тот, у кого больше выдержки. И пока Фрунзе говорил, Прозоров становился все задумчивее и задумчивее. Он почувствовал не только твердую руку, но и ум — целенаправленный, трезво взвешивающий и учитывающий все обстоятельства. И Прозоров подчинился беспрекословно. Вскоре он сообщил, что ему удалось спуститься на самое дно шахты; вентиляционная труба выходила в тюремный двор и была прикрыта толстой решеткой. Он умолчал, какого труда стоило ему подняться обратно, на пятый этаж: локти и ноги были ободраны до мяса. Но Фрунзе был на редкость догадливым. — Да, я забыл посоветовать вам обвертывать руки и ноги паклей и концами, — сказал он. — Значит, труба выходит в тюремный двор? Что ж… Диаметр двора мне давно известен: он составляет триста пятьдесят семь шагов. Вы должны пройти это расстояние под землей! Подкоп должен быть глубоким. Запомните: глубоким! По ту сторону ограды — небольшой ров. — Но у нас нет лопат, ломиков и вообще ничего нет. — Придется сделать из обломков железа ножи. Можно пустить в ход деревянные колья. — И вы верите, что ножами можно резать мерзлый грунт? — Да, верю. К тому же скоро весна. Если даже придется рыть голыми руками, вы будете рыть. Прозоров рассмеялся. — Святая правда. Из вас, Михаил Васильевич, вышел бы замечательный морской офицер. — Вот уж никогда не мечтал о военной карьере. Я — агитатор и продолжаю выполнять свои партийные обязанности. В тюрьме самая благодатная аудитория для агитации: испытав на собственной шкуре все «прелести» самодержавия, крестьяне охотно верят нам на слово. Он и в самом деле продолжал выполнять свои обязанности: создал из крестьян, работающих в мастерской, кружок политграмоты и изучал с ними «Что делать?» и «Манифест Коммунистической партии». Вентиляционную трубу «обжили»: матросы наловчились спускаться и подниматься бесшумно; на дне шахты хранились не только ножи, скребки, деревянные колья, деревянные лопатки, обитые жестью, но и нелегальная литература. Всегда существовала опасность, что на уборку лестниц могут нарядить других людей; вот почему моряки с особым усердием драили каждую ступеньку, сделались мирными, покладистыми. Они заслужили похвалу Синайского. Грунт оказался мягким, даже деревянная лопата входила в него, как нож в масло. Прозоров ликовал. Он подсчитал, что при благоприятном стечении обстоятельств все можно завершить в три-четыре месяца. Фрунзе словно передал каждому из них частицу своей воли, и они не щадили себя, работали с веселым ожесточением. А у него, кроме организации побега, были и другие заботы. Котов через надзирателя Жукова сообщил, что защитником на суде будет адвокат Якулов, сочувствующий большевикам. Свидетели оповещены и согласны дать нужные показания. Готовилась к суду и противная сторона. Председателем суда на этот раз был утвержден опытный юрист генерал-лейтенант Кошелев. Назначая председателем человека в столь высоком звании, Главный военный суд тем самым как бы придавал особое значение предстоящему процессу. Обвинителем решил выступить прокурор Московского окружного суда генерал-майор Домбровский, поддержанный в своем намерении главным военным прокурором, генералом от инфантерии бароном Остен-Сакеном. За этими вершителями военного правосудия стояли командующий округом, губернатор Сазонов, целый сонм высокопоставленных жандармов и сам Столыпин. Восемь месяцев провел Фрунзе в каторжной тюрьме. 22 сентября 1910 года его повели в здание суда. Снова они сидели с Павлом Гусевым на одной скамье. Свидетели находились в отдельной комнате. В зале Фрунзе увидел сестру Людмилу и улыбнулся ей. Собственно, этот суд мало чем отличался от двух предыдущих. Генерал-лейтенант Кошелев, представительный старик с раздвоенной седой бородой, говорил жестко, будто сыпал дробь в жестяную кружку. Какие бы доводы ни приводили защитники, в глазах Кошелева оба обвиняемых все равно были обречены на смертную казнь. Поединок в основном происходил между двумя центральными фигурами: защитником Якуловым и прокурором Домбровским. Домбровский сам вызвался на роль обвинителя и теперь всеми силами старался сбить защитника. Генерал-майор горячился, стучал костлявым кулаком по столу, его глубоко посаженные глаза метали молнии, чуб растрепался и напоминал распущенный хвост индюка. Якулов, наоборот, проявлял выдержку. Домбровский пытался построить обвинение, исходя из революционной деятельности Фрунзе. Мол, такой человек способен убить ненавистного полицейского. На что Якулов спокойно заметил: — Господин прокурор, я не сомневаюсь в вашей нелюбви к врагам престола (как вы называете революционеров), но это еще не повод подозревать вас в том, что, основываясь лишь на своих антипатиях, вы способны осудить невинного человека на смерть только потому, что он принадлежит не к вашей партии. Суд должен быть беспристрастным. За свою политическую деятельность Фрунзе осужден на четыре года каторги. Сейчас ему предъявлено обвинение не политического, а уголовного характера. Так в чем же дело? Аттическая соль не может заменить фактов. Где факты? Где ваши свидетели? Нон бис, ин идем!.. «Не дважды за то же!..» Вызвали Быкова. — Я никогда не видел этих людей! Урядник Перлов снова пытался меня запугать. Если он не отвяжется, я на него в суд подам. Якулов развел руками. — Теперь попрошу свидетеля Иванова. Не успел врач Иванов войти, как Домбровский крикнул: — Укажите, кто из двоих Фрунзе? Врач Иванов никогда не встречался с Фрунзе, но не растерялся. Близоруко щурясь, он пробормотал: — Я привык осматривать своих больных при свете, а здесь темно. — Подсудимый Фрунзе, встаньте и выдвиньтесь вперед, в зале темно, вас плохо видно, — сказал Якулов. Фрунзе поднялся. — Вы не имеете права приказывать подсудимому! — прорычал Домбровский. — Я протестую… — А вы не имеете права заставлять близорукого свидетеля угадывать человека, которого он видел чуть ли не три года назад, — спокойно парировал Якулов. — Свидетели Михайлов, Моравицкая, Пителева подтвердили алиби, разве этого недостаточно? Ну а если бы врач Иванов за это время эмигрировал за границу или тяжело заболел?.. Домбровский был положен на обе лопатки. И как он ни ярился, ничего противопоставить Якулову не мог. На выручку пришел генерал-лейтенант Кошелев. Насупив седые брови, он заявил: — Сейчас не время, господа, упражняться в красноречии. Мы судим Фрунзе и Гусева не только за покушение на убийство урядника Перлова, но за все деяния, направленные против правительства и властей. Одно вытекает из другого. Корпус дэликти налицо! Почему мы не должны верить уряднику Перлову и почему должны верить свидетелям Фрунзе? Чем вы докажете, что они — не лжесвидетели? Все они состоят на учете в охранном отделении, так как замечены в сношениях с людьми неблагонадежными, скрывающимися от полиции. Я не стану зачитывать здесь донесения агентов полиции, так как это сведения секретного характера. — Теперь я протестую! — заявил Якулов. — Вы не вправе предъявлять какие-либо обвинения свидетелям, бросать на них тень. Если вы и располагаете донесениями агентов полиции, то чем можете подтвердить, что донесения не сфабрикованы поздним числом? В противном случае вы не стали бы публично предупреждать Иванова, Михайлова, Пителеву и Моравицкую о том, что за ними установлена слежка. Вы преподносите нам сюрприз не перед судом, а в конце суда. Ни о каких отводах я, например, не слышал. Кошелев понял, что допустил промах. Но отступать было поздно. И так как приговор и на этот раз был предрешен, то Фрунзе и Гусева снова приговорили к смертной казни через повешение. Выступление Фрунзе было коротким. Он держался с исключительным самообладанием. Он сказал: — Где люди, убитые мной и Гусевым? Перлов повышен в чине и по-прежнему творит беззакония. Исправник Лавров, покушавшийся на мою жизнь, больше не исправник, его повысили в звании и в должности. Вы осудили на смерть тысячи безвинных рабочих — это и есть ваше правосудие. Но вам воздастся… Его снова заковали в кандалы и бросили в камеру смертников. Людмила Васильевна не стала ждать свидания с братом. Она сразу же выехала в Петербург. Здесь встретилась с профессорами Петербургского политехнического института Максимом Максимовичем Ковалевским, Байковым, Павловым, с ректором института; узнав, что писатель Короленко в Петербурге, она поехала к нему. Все были возмущены расправой над талантливым студентом. Короленко выступил с гневной статьей в печати, требуя освобождения Фрунзе из рук палачей. Вся профессура института во главе с ректором включилась в борьбу за жизнь своего любимца; петиции были направлены не только в правительственные и военные инстанции, но и в Государственную думу. Якулов поднял на ноги всех адвокатов, и они опротестовали приговор военного суда; удалось посеять антагонизм между Судебной палатой и окружным судом. Было доказано, что генерал-лейтенант грубо нарушил Устав уголовного судопроизводства, оскорбил свидетелей, оболгав их. Приговор написан куррэнтэ калямо, то есть беглым пером. Заговорили газеты, заговорили депутаты III Государственной думы. Заговорили текстильщики Иваново-Вознесенска, Шуи, Кохмы. Снова дружинники грозились взять Владимирский централ приступом. Перепуганный губернатор Сазонов просил у командующего округом подмоги, но командующий сам находился в растерянности, так как в последние месяцы массы московских рабочих пришли в движение, стачка следовала за стачкой, и не известно было, во что все это выльется. Ситуация очень напоминала предгрозовую ситуацию 1905 года. Всего этого не знал Фрунзе. Он думал, что двери камеры смертников захлопнулись за ним и за Павлом Гусевым навеки. Не знал он и того, что побег моряков не удался. На подкоп потребовалось не четыре месяца, как предполагал Прозоров, а гораздо больше. До свободы оставались считанные кубометры земли. Нетерпение всех было так велико, что они забыли главный наказ Фрунзе: копайте глубже! Глубже грунт оказался твердым. Тогда решили копать там, куда легко входят ножи и лопаты. Это скольжение поверху погубило весь замысел. Побег должен был состояться утром, во время уборки. За тюремной оградой их поджидала закрытая карета. Но именно утром, за два часа до побега, произошло непоправимое: на тюремный двор въехала телега, нагруженная доверху дровами для кухни. Неожиданно грунт под колесами осел, и телега опрокинулась. Нелепая случайность!.. Явился Синайский. После обследования подземного хода картина сразу стала ясна. Подозрение, разумеется, пало на матросов. На них надели наручные кандалы и отправили в карцер. Синайский сам занялся допросом. Никто из моряков не сознался. У поручика был нюх ищейки. Поскольку Прозоров иногда работал в мастерской, начальник тюрьмы заинтересовался, чей верстак рядом. Кто-то из надзирателей сказал, что верстак сейчас занят уголовным, так как Фрунзе приговорен к казни. Теперь Синайскому все стало ясно. Побегом руководил Фрунзе! Да и кому другому могла взбрести в голову безумная мысль использовать для побега вентиляционную трубу? Может быть, пока Синайский допрашивает моряков, «очень, очень опасный» уже бежал из камеры смертников? — Под усиленным конвоем перевести Фрунзе в отдельную камеру! — приказал Синайский. — Надеть на него еще ручные кандалы… Это дьявол, а не человек. Синайский сам наблюдал, как «очень, очень опасного», закованного в ножные и ручные кандалы, переводили в одиночку. — Может быть, вам нужны учебники английского языка? — съязвил поручик.
Фрунзе был невозмутим.
— У меня просьба другого характера.
— Просите, сегодня я добрый.
— В таком случае прикажите, чтобы мне принесли чистую простыню.
— И это все?
— Все.
— А зачем вам простынка?
— Я давно не спал на простынях. Перед смертью хочется полежать на чистой постели.
— Будет исполнено.
— Один грех с вашей души снимается.
Начальник тюрьмы был озадачен: что задумал этот дьявол? Впрочем, если простыню даже разорвать на ленты, с четвертого этажа не спустишься.
А Фрунзе, оставшись один, разорвал простыню, скрутил веревку, попробовал ее на разрыв, привязал один конец к решетке и задумался.
На какое-то мгновение пришел из детства голос матери. Мама, бедная мама… Тяньшаньские теснины, затянутые дрожащим маревом, ртутный блеск Иссык-Куля, вечерний полет орлов в пламенеющем небе… Этого уже не будет никогда! Но призраки детства растворились в других картинах: черные толпы, выходящие из ворот фабрик, красные знамена, жаркие речи, возбужденные лица, море лиц, песни, от которых звенят дома, улицы, площади…
Он жил достойно. Чувство личной ответственности за все и за всех не покидало его никогда.
Не так давно до суда он прочитал модную книжку, переведенную с французского, — «Этюды оптимизма» знаменитого ученого Ильи Мечникова, трактат о человеческой природе и о средствах изменить ее с целью достижения наибольшего счастья. Прочитав книгу, Фрунзе как бы вернулся в те времена, когда мог спорить с братом, а позже — в литературных салонах о смысле жизни, о понимании счастья. Книга захватывала, толкала на размышления, так как писал ее гениальный знаток своего дела, материалист по воззрениям. Но с автором хотелось жестоко спорить. Мечников говорит: «Чтобы понять смысл жизни, надо долго прожить; без этого находишься в положении слепорожденного, которому воспевают красоту красок». Ну а как быть Михаилу Фрунзе, которому царские палачи набросили петлю на шею в двадцать пять лет? Маститый биолог отвечает и на этот вопрос: нужно беречь свою жизнь, стараться прожить как можно дольше, отрешившись от мирового пессимизма, развивать в себе чувство жизни; молодежь должна отказаться от революционной деятельности, ибо занятие положительной наукой может принести больше пользы России, чем политическая деятельность. «Пребывание за границей, где мне пришлось стать очень близко к главным источникам политической агитации русских революционеров, еще более утвердило меня в моем убеждении… Наука — вот моя политика». Дескать, революционная деятельность отвлекает российское юношество от научной работы, и что попытки создать новый общественный строй есть «толчение на одном месте». Не «невежественная масса», не общественное мнение, а наука в состоянии обеспечить человечеству нормальный цикл жизни и высшее наслаждение — наслаждение красотой. Если бы люди жили по правилам ортобиоза, то молодые люди, достигшие двадцати одного года, не считались бы зрелыми и способными принимать участие в столь трудных делах, как общественные.
Кому нужен этот биологический оптимизм? Не перекликается ли он с пессимизмом Шопенгауэра, утверждающего, что «здоровье есть величайшее сокровище, перед которым все остальное — ничто». И так — будьте здоровы! А нам пора на виселицу. Кто из нас прав, как говорится, рассудит история. Сегодня палачи совершат то самое… Именно потому и перевели его в отдельную камеру, надели ручные кандалы, как будто мало ножных. Жалкие трусы!.. Он страшен им даже на пороге смерти, они, сами того не желая, поверили в его чудодейственную силу. И если бы он вдруг исчез из камеры, они не удивились бы. Они испытывают трепет и радость оттого, что сегодня ночью все будет закончено. Но он не доставит палачам радости. Его смерть должна испортить им праздник. Он сам ударит себя вот этой петлей, сделанной из простыни. Рано или поздно обстоятельства его смерти станут известны общественности, товарищам, и его самоубийство будет воспринято как протест против заранее состряпанного решения суда. Даже после смерти он будет обвинять, призывать к борьбе за справедливость… Прощай, жизнь!..
…Адвокат Якулов торопился. Он то и дело понукал извозчика, а когда лошаденка остановилась у ворот тюрьмы, бросил извозчику крупную ассигнацию и, отмахнувшись от сдачи, побежал в канцелярию.
— У меня срочное дело к начальнику тюрьмы. Дежурный даже ухом не повел.
— Они сплять.
— Такая чудная ночь, а они сплять?
Якулов знал, как обращаться с подобной публикой. Положил десятку на стол. Дежурный покосился, но продолжал сидеть в прежней позе. Адвокат положил еще красненькую. Дежурный зашевелился.
— Вот, бестия, если Синайский будет через десять минут здесь, получишь еще пятерку.
— Не извольте сомневаться, господин Якулов. Спешное дело?
— Это тебя не касается. Ну, звони…
Синайский явился через двадцать минут. Увидев Якулова, зевнул.
— Что вас привело сюда в столь поздний час, господин защитник угнетенных и обездоленных?
— Командующий Московским военным округом заменил Фрунзе и Гусеву смертный приговор каторгой.
— Опять Фрунзе? Ну, совершенно неистребимый. Ладно, завтра переведем в каторжное.
— Вы что-то, Синайский, совсем обленились. Не завтра, а сейчас же, немедленно! Я пойду с вами. Да шевелитесь же, увалень вы этакий! Или решили ждать, пока ивановские рабочие разнесут тюрьму? По дороге я видел большую группу людей, которая направляется сюда. Живо, живо!..
Синайский побледнел. Рабочих он побаивался, а в губернии опять стали орудовать дружинники. Он знал: Якулов слов на ветер бросать не станет. Творится что-то невероятное: два раза приговаривали Фрунзе к смерти, и оба раза словно чья-то сильная рука заставляла командующего отменять приговор. Такого еще не бывало.
Синайский не замечал, что по коридору они бегут. Распоряжался Якулов.
— Да открывайте же! — закричал он на надзирателя. И надзиратель повиновался, распахнул дверь одиночки.
— Михаил Васильевич! Жив!.. Думал, что не успею. Вместо петли еще шесть лет каторги. И того — десять. Поздравляю! Поздравляю, родней вы мой!
— А Гусев?
— То же самое.
— Вы уж извините, простынку я изорвал, — сказал Фрунзе Синайскому.
— Хотели бежать? Как?
В узких с красноватыми веками глазах поручика вспыхнуло любопытство.
— Вот этого-то я и не скажу. Распорядитесь, чтобы мне в камеру принесли мои книги. И конечно же, учебники английского языка. Как сказал принц датский на английском языке: вопрос решен в пользу пролетариата.
Очутившись в каторжном отделении, он в первый же день замыслил новый побег.
Принесли книги, разрешили вернуться в столярную мастерскую.
— Паня, Наполеон однажды сказал: «В этом мире я не боюсь некого, кроме судебного следователя, обладающего правом ареста». Вот я и думаю, что Наполеон был мужик не храброго десятка. Нас с тобой следователь не испугал, а только насмешил. Нас судили три раза и два раза набрасывали «столыпинский галстук» на шею. Но даже камеры смертников мы не испугались. Так чего еще нам бояться? Я скажу чего: они проиграли и постараются выместить на нас злобу. Они хотят уморить нас, сделать жизнь невыносимой. Нужно бежать! И немедленно, пока есть силы.
Фрунзе скрывал от товарищей, что сильно болен. Появилось кровохарканье. При малейшем физическом напряжении тело покрывалось обильным потом. Он потерял сон, аппетит, быстро утомлялся. Разболелись глаза. Занятия пришлось оставить. В столярной мастерской ему поручили править и раздавать инструмент. Целыми часами он просиживал в кладовой, закатываясь кашлем. Надзиратели не отваживались заглядывать в кладовую, так как боялись заразиться. Они-то сразу догадались, в чем дело. По сути, в кладовой он все время был предоставлен сам себе. Лучшей ситуации для побега трудно было представить.
Нужно вести глубокий подкоп! Железные инструменты под руками. Конечно, им с Павлом Гусевым вдвоем не справиться. Необходимо привлечь других каторжан. Жаль, нет Прозорова. Его в мастерскую не пускают. Зато есть Иван Егоров, есть Мицкевич, литовский большевик, есть моряк Башлыков, есть Скобейников.
И снова началась кропотливая работа. Пол в кладовой был деревянный. Так как в щели сильно дуло, то Фрунзе решил, что доски лежат на толстых бревнах. Следовательно, есть пустоты, куда можно будет укладывать вынутый грунт. Сперва нужно вырыть яму метра два глубиной, а уж потом прокладывать горизонтальный лаз. Копали урывками. Перед закрытием мастерской аккуратно укладывали доски на прежнее место. Даже самый придирчивый глаз не смог бы ничего обнаружить.
Копали месяц, копали два. Копали восемь месяцев. Пока Фрунзе с деланно веселой улыбкой раздавал рубанки и пилы, Башлыков и Егоров, прикрытые досками пола, неслышно прокладывали ход на волю.
Синайский не доверял Фрунзе, и хотя начальнику тюрьмы казалось, что из мастерской бежать невозможно, он все же стал сюда наведываться. Так, для порядка.
Эге! Фрунзе сидит в чулане без присмотра. Непорядок… Когда человек без присмотра, он все может. Синайский давно понял, что оставлять «очень, очень опасного» на одном месте долго нельзя. По отношению к Фрунзе он усвоил иронически дружеский тон. При случае любил щегольнуть французским словечком. Вот и теперь, якобы проявляя участие, он сказал:
— Мон ами, да вы сильно больны! Кожа да кости. Вам нужно в Биарриц, в Ниццу, а вы проводите дни в пыльном чулане. Нет, нет, я больше не потерплю такого нарушения медицинских правил! В Ниццу, разумеется, отпустить не могу, но появляться в мастерской запрещаю! Ваша драгоценная жизнь нужна пролетариату. Кладовщиком будет уголовный Неганов.
Фрунзе почувствовал слабость в ногах и головокружение. Мерзкая гадина!.. Им овладела бессильная ярость, граничащая с безумием, и стоило больших трудов совладать с собой. В горле заклокотало, на губах появилась розовая пена.
— Ну вот, оказывается, я совершенно прав, — подытожил Синайский. — Как говорят французы, сан-дут. Без сомнения…
Уголовник Неганов, прыщеватый тип, осужденный за растление несовершеннолетней, всячески выслуживался перед начальником тюрьмы и его помощниками. Надзиратели его не любили, он знал это и все же заискивал перед каждым. Даже сами уголовные помыкали им, не считая за человека.
— Червяк ты и есть червяк, — брезгливо отмахивался от льстивых словечек Неганова Бабич. — Раздавить бы тебя, да грабки не хочется марать. Не подлизывайся ты ко мне, сука, с души воротит!
Неганов всегда старался выслуживаться. Сделавшись кладовщиком, он возгордился, решил, что наконец-то заслужил милость начальства. Однажды, протирая мокрой тряпкой пол кладовой, он обнаружил, что в одном месте доски как-то странно прогибаются, будто под ними нет опоры. Это его заинтересовало. Он просунул в щель ржавое полотно пилы и убедился, что оно уходит в пустоту. Он попытался поднять доску и поднял ее без труда. Яма! С сияющим лицом Неганов выскочил из кладовки и, увидев в мастерской начальника тюрьмы, заорал:
— Подкоп! Это я обнаружил, я, я…
Синайский, обследовав подкоп, сказал:
— Они были близки к цели. Опять Фрунзе!
Всех надзирателей сменили. Фрунзе снова заковали в кандалы. Тех, кто подозревался в организации побега, подвергли экзекуции и посадили в карцер. Ранним утром один из надзирателей, заглянув в кладовую, обнаружил труп Неганова. Никаких следов насилия экспертизой установлено не было.
В тот же день и в другом месте произошло еще одно событие, не имеющее никакого отношения к делам Владимирского централа: в Киеве эсером Богровым был убит Столыпин.
Главное тюремное управление переслало на имя министра внутренних дел прошение от родственников Фрунзе. Оказывается, у Фрунзе обострился туберкулезный процесс. Требуется перевод на юг. Министр задумался, потом написал на прошении: «Николаевский централ».
— Может быть, вам нужны учебники английского языка? — съязвил поручик.
Фрунзе был невозмутим.
— У меня просьба другого характера.
— Просите, сегодня я добрый.
— В таком случае прикажите, чтобы мне принесли чистую простыню.
— И это все?
— Все.
— А зачем вам простынка?
— Я давно не спал на простынях. Перед смертью хочется полежать на чистой постели.
— Будет исполнено.
— Один грех с вашей души снимается.
Начальник тюрьмы был озадачен: что задумал этот дьявол? Впрочем, если простыню даже разорвать на ленты, с четвертого этажа не спустишься.
А Фрунзе, оставшись один, разорвал простыню, скрутил веревку, попробовал ее на разрыв, привязал один конец к решетке и задумался.
На какое-то мгновение пришел из детства голос матери. Мама, бедная мама… Тяньшаньские теснины, затянутые дрожащим маревом, ртутный блеск Иссык-Куля, вечерний полет орлов в пламенеющем небе… Этого уже не будет никогда! Но призраки детства растворились в других картинах: черные толпы, выходящие из ворот фабрик, красные знамена, жаркие речи, возбужденные лица, море лиц, песни, от которых звенят дома, улицы, площади…
Он жил достойно. Чувство личной ответственности за все и за всех не покидало его никогда.
Не так давно до суда он прочитал модную книжку, переведенную с французского, — «Этюды оптимизма» знаменитого ученого Ильи Мечникова, трактат о человеческой природе и о средствах изменить ее с целью достижения наибольшего счастья. Прочитав книгу, Фрунзе как бы вернулся в те времена, когда мог спорить с братом, а позже — в литературных салонах о смысле жизни, о понимании счастья. Книга захватывала, толкала на размышления, так как писал ее гениальный знаток своего дела, материалист по воззрениям. Но с автором хотелось жестоко спорить. Мечников говорит: «Чтобы понять смысл жизни, надо долго прожить; без этого находишься в положении слепорожденного, которому воспевают красоту красок». Ну а как быть Михаилу Фрунзе, которому царские палачи набросили петлю на шею в двадцать пять лет? Маститый биолог отвечает и на этот вопрос: нужно беречь свою жизнь, стараться прожить как можно дольше, отрешившись от мирового пессимизма, развивать в себе чувство жизни; молодежь должна отказаться от революционной деятельности, ибо занятие положительной наукой может принести больше пользы России, чем политическая деятельность. «Пребывание за границей, где мне пришлось стать очень близко к главным источникам политической агитации русских революционеров, еще более утвердило меня в моем убеждении… Наука — вот моя политика». Дескать, революционная деятельность отвлекает российское юношество от научной работы, и что попытки создать новый общественный строй есть «толчение на одном месте». Не «невежественная масса», не общественное мнение, а наука в состоянии обеспечить человечеству нормальный цикл жизни и высшее наслаждение — наслаждение красотой. Если бы люди жили по правилам ортобиоза, то молодые люди, достигшие двадцати одного года, не считались бы зрелыми и способными принимать участие в столь трудных делах, как общественные.
Кому нужен этот биологический оптимизм? Не перекликается ли он с пессимизмом Шопенгауэра, утверждающего, что «здоровье есть величайшее сокровище, перед которым все остальное — ничто». И так — будьте здоровы! А нам пора на виселицу. Кто из нас прав, как говорится, рассудит история. Сегодня палачи совершат то самое… Именно потому и перевели его в отдельную камеру, надели ручные кандалы, как будто мало ножных. Жалкие трусы!.. Он страшен им даже на пороге смерти, они, сами того не желая, поверили в его чудодейственную силу. И если бы он вдруг исчез из камеры, они не удивились бы. Они испытывают трепет и радость оттого, что сегодня ночью все будет закончено. Но он не доставит палачам радости. Его смерть должна испортить им праздник. Он сам ударит себя вот этой петлей, сделанной из простыни. Рано или поздно обстоятельства его смерти станут известны общественности, товарищам, и его самоубийство будет воспринято как протест против заранее состряпанного решения суда. Даже после смерти он будет обвинять, призывать к борьбе за справедливость… Прощай, жизнь!..
…Адвокат Якулов торопился. Он то и дело понукал извозчика, а когда лошаденка остановилась у ворот тюрьмы, бросил извозчику крупную ассигнацию и, отмахнувшись от сдачи, побежал в канцелярию.
— У меня срочное дело к начальнику тюрьмы. Дежурный даже ухом не повел.
— Они сплять.
— Такая чудная ночь, а они сплять?
Якулов знал, как обращаться с подобной публикой. Положил десятку на стол. Дежурный покосился, но продолжал сидеть в прежней позе. Адвокат положил еще красненькую. Дежурный зашевелился.
— Вот, бестия, если Синайский будет через десять минут здесь, получишь еще пятерку.
— Не извольте сомневаться, господин Якулов. Спешное дело?
— Это тебя не касается. Ну, звони…
Синайский явился через двадцать минут. Увидев Якулова, зевнул.
— Что вас привело сюда в столь поздний час, господин защитник угнетенных и обездоленных?
— Командующий Московским военным округом заменил Фрунзе и Гусеву смертный приговор каторгой.
— Опять Фрунзе? Ну, совершенно неистребимый. Ладно, завтра переведем в каторжное.
— Вы что-то, Синайский, совсем обленились. Не завтра, а сейчас же, немедленно! Я пойду с вами. Да шевелитесь же, увалень вы этакий! Или решили ждать, пока ивановские рабочие разнесут тюрьму? По дороге я видел большую группу людей, которая направляется сюда. Живо, живо!..
Синайский побледнел. Рабочих он побаивался, а в губернии опять стали орудовать дружинники. Он знал: Якулов слов на ветер бросать не станет. Творится что-то невероятное: два раза приговаривали Фрунзе к смерти, и оба раза словно чья-то сильная рука заставляла командующего отменять приговор. Такого еще не бывало.
Синайский не замечал, что по коридору они бегут. Распоряжался Якулов.
— Да открывайте же! — закричал он на надзирателя. И надзиратель повиновался, распахнул дверь одиночки.
— Михаил Васильевич! Жив!.. Думал, что не успею. Вместо петли еще шесть лет каторги. И того — десять. Поздравляю! Поздравляю, родней вы мой!
— А Гусев?
— То же самое.
— Вы уж извините, простынку я изорвал, — сказал Фрунзе Синайскому.
— Хотели бежать? Как?
В узких с красноватыми веками глазах поручика вспыхнуло любопытство.
— Вот этого-то я и не скажу. Распорядитесь, чтобы мне в камеру принесли мои книги. И конечно же, учебники английского языка. Как сказал принц датский на английском языке: вопрос решен в пользу пролетариата.
Очутившись в каторжном отделении, он в первый же день замыслил новый побег.
Принесли книги, разрешили вернуться в столярную мастерскую.
— Паня, Наполеон однажды сказал: «В этом мире я не боюсь некого, кроме судебного следователя, обладающего правом ареста». Вот я и думаю, что Наполеон был мужик не храброго десятка. Нас с тобой следователь не испугал, а только насмешил. Нас судили три раза и два раза набрасывали «столыпинский галстук» на шею. Но даже камеры смертников мы не испугались. Так чего еще нам бояться? Я скажу чего: они проиграли и постараются выместить на нас злобу. Они хотят уморить нас, сделать жизнь невыносимой. Нужно бежать! И немедленно, пока есть силы.
Фрунзе скрывал от товарищей, что сильно болен. Появилось кровохарканье. При малейшем физическом напряжении тело покрывалось обильным потом. Он потерял сон, аппетит, быстро утомлялся. Разболелись глаза. Занятия пришлось оставить. В столярной мастерской ему поручили править и раздавать инструмент. Целыми часами он просиживал в кладовой, закатываясь кашлем. Надзиратели не отваживались заглядывать в кладовую, так как боялись заразиться. Они-то сразу догадались, в чем дело. По сути, в кладовой он все время был предоставлен сам себе. Лучшей ситуации для побега трудно было представить.
Нужно вести глубокий подкоп! Железные инструменты под руками. Конечно, им с Павлом Гусевым вдвоем не справиться. Необходимо привлечь других каторжан. Жаль, нет Прозорова. Его в мастерскую не пускают. Зато есть Иван Егоров, есть Мицкевич, литовский большевик, есть моряк Башлыков, есть Скобейников.
И снова началась кропотливая работа. Пол в кладовой был деревянный. Так как в щели сильно дуло, то Фрунзе решил, что доски лежат на толстых бревнах. Следовательно, есть пустоты, куда можно будет укладывать вынутый грунт. Сперва нужно вырыть яму метра два глубиной, а уж потом прокладывать горизонтальный лаз. Копали урывками. Перед закрытием мастерской аккуратно укладывали доски на прежнее место. Даже самый придирчивый глаз не смог бы ничего обнаружить.
Копали месяц, копали два. Копали восемь месяцев. Пока Фрунзе с деланно веселой улыбкой раздавал рубанки и пилы, Башлыков и Егоров, прикрытые досками пола, неслышно прокладывали ход на волю.
Синайский не доверял Фрунзе, и хотя начальнику тюрьмы казалось, что из мастерской бежать невозможно, он все же стал сюда наведываться. Так, для порядка.
Эге! Фрунзе сидит в чулане без присмотра. Непорядок… Когда человек без присмотра, он все может. Синайский давно понял, что оставлять «очень, очень опасного» на одном месте долго нельзя. По отношению к Фрунзе он усвоил иронически дружеский тон. При случае любил щегольнуть французским словечком. Вот и теперь, якобы проявляя участие, он сказал:
— Мон ами, да вы сильно больны! Кожа да кости. Вам нужно в Биарриц, в Ниццу, а вы проводите дни в пыльном чулане. Нет, нет, я больше не потерплю такого нарушения медицинских правил! В Ниццу, разумеется, отпустить не могу, но появляться в мастерской запрещаю! Ваша драгоценная жизнь нужна пролетариату. Кладовщиком будет уголовный Неганов.
Фрунзе почувствовал слабость в ногах и головокружение. Мерзкая гадина!.. Им овладела бессильная ярость, граничащая с безумием, и стоило больших трудов совладать с собой. В горле заклокотало, на губах появилась розовая пена.
— Ну вот, оказывается, я совершенно прав, — подытожил Синайский. — Как говорят французы, сан-дут. Без сомнения…
Уголовник Неганов, прыщеватый тип, осужденный за растление несовершеннолетней, всячески выслуживался перед начальником тюрьмы и его помощниками. Надзиратели его не любили, он знал это и все же заискивал перед каждым. Даже сами уголовные помыкали им, не считая за человека.
— Червяк ты и есть червяк, — брезгливо отмахивался от льстивых словечек Неганова Бабич. — Раздавить бы тебя, да грабки не хочется марать. Не подлизывайся ты ко мне, сука, с души воротит!
Неганов всегда старался выслуживаться. Сделавшись кладовщиком, он возгордился, решил, что наконец-то заслужил милость начальства. Однажды, протирая мокрой тряпкой пол кладовой, он обнаружил, что в одном месте доски как-то странно прогибаются, будто под ними нет опоры. Это его заинтересовало. Он просунул в щель ржавое полотно пилы и убедился, что оно уходит в пустоту. Он попытался поднять доску и поднял ее без труда. Яма! С сияющим лицом Неганов выскочил из кладовки и, увидев в мастерской начальника тюрьмы, заорал:
— Подкоп! Это я обнаружил, я, я…
Синайский, обследовав подкоп, сказал:
— Они были близки к цели. Опять Фрунзе!
Всех надзирателей сменили. Фрунзе снова заковали в кандалы. Тех, кто подозревался в организации побега, подвергли экзекуции и посадили в карцер. Ранним утром один из надзирателей, заглянув в кладовую, обнаружил труп Неганова. Никаких следов насилия экспертизой установлено не было.
В тот же день и в другом месте произошло еще одно событие, не имеющее никакого отношения к делам Владимирского централа: в Киеве эсером Богровым был убит Столыпин.
Главное тюремное управление переслало на имя министра внутренних дел прошение от родственников Фрунзе. Оказывается, у Фрунзе обострился туберкулезный процесс. Требуется перевод на юг. Министр задумался, потом написал на прошении: «Николаевский централ».
ТЮРЕМНАЯ НИЦЦА
Из всех тюрем России самой страшной считалась «Николаевская могила» — так называли каторжане Николаевский централ. Каждый год здесь умирало не меньше сотни заключенных. Тюрьма стояла на излучине, при впадении Ингула в Южный Буг. Во время половодья она оказывалась как бы на острове. Унылые серые стены, сторожевые будки, колючая проволока. Во дворе — бедная деревянная церквушка. На эту церквушку и обратил сразу внимание Фрунзе. Как только его определили в одиночку, он попросил надзирателя Коробку принести из тюремной библиотеки Евангелие, Библию, псалтырь, «Жития святых»… и военные уставы, если таковые окажутся. Надзиратель был сбит с толку. От начальника тюрьмы он знал, что новенький — «очень, очень опасный»: так говорилось в характеристике, присланной сюда Синайским. И вдруг — священные книги! — Ты что же, так твою разэдак, из длинногривых, что ли? — Не кощунствуй, сыне, ибо у Матфея сказано: не то оскверняет человека, что входит в него, а то оскверняет человека, что выходит из него. Почаще осеняй себя крестным знамением, так как есть ты, раб божий Петр, великий грешник. Не печитесь о том, что будете есть и пить, ни о своем теле, чем будете одеты. Война грядет, сыне, губительница всего живого, и по очам твоим вижу, что ждут тебя испытания и муки великие. — Ты что, бородатый черт, каркаешь? Вот огрею шашкой… Ты же соцьялист, сволочь, а вовсе не поп. — Всякий нищий духом войдет в царствие мое. Слушай проповедь нагорную… Коробка присмирел. Он был человек жестокий, но суеверный, невежественный, боялся дурного глаза. Он принес церковные книги, взяв их у пономаря, который также исполнял и должность тюремного библиотекаря, и даже раздобыл военные уставы. Новенький словно в воду глядел: о войне стали поговаривать все чаще и чаще. Что-то заваривалось совсем неподалеку, на Балканах. Но больше всего смущали надзирателя слова новенького: «Не печитесь о том, что будете есть и пить». Что он имел в виду? Не приезд ли ревизии из главного тюремного управления? Тут рыльце у Коробки, у помощников да и у самого начальника тюрьмы подпоручика Колченко было в пуху. Колченко происходил из семьи лавочника. Торгашеская закваска бурлила в нем с самого детства. Немалых средств стоило родителю вывести Колченко «в люди». И теперь, сделавшись начальником каторжной тюрьмы, он решил вернуть родителю долг. Да и самому хотелось пожить на широкую ногу. Отец учил: «Ежели с умом подойти, то всякое дело становится прибыльным. Вот, к примеру, ты начальник каторжной тюрьмы. Сколько каторжной силы пропадает зазря. Тут же — завод, фабрика!» И Колченко превратил централ в промышленное предприятие. День и ночь работали мастерские. Каторжан заставляли трудиться по пятнадцати часов в сутки. Столярная мастерская снабжала весь город мебелью и гробами. В камеры приносили для починки мешки из-под муки. Здесь же в камерах скубили старые морские канаты на паклю. Нечем было дохнуть. Вредная пыль въедалась в легкие, в глаза. На плантациях, принадлежащих централу, выращивали помидоры, капусту, баклажаны. Но овощи шли не на стол заключенным, а на рынок. Денежки Колченко клал себе в карман. Правда, существовал дележ добычи: получали свою долю помощники, надзиратели, вся тюремная администрация. Это была спаянная круговой порукой шайка самых бессовестных воров. Каторжанам за все работы причитались деньги, но еще ни один из них за все время не получил ни полушки. Обуянный жадностью, Колченко пошел дальше: он посадил всех каторжан (а их насчитывалось свыше пятисот) на хлеб и на воду. В ведомостях же помечалось, что заключенные получают и щи, и мясо, и кашу. Сэкономленные таким образом суммы начальник тюрьмы опять же забирал себе, бросая подачки своим сообщникам. Тюрьма приносила ежегодно десятки тысяч рублей чистого дохода. Большую часть денег Колченко присваивал. Он разработал целую систему подавления. За малейший протест подвергали порке, бросали в карцер. Пороли и уголовных и политических. На прогулке, которая длилась всего двадцать минут, шагали по кругу, разговаривать категорически запрещалось. Уголовные и политические помещались в одной камере, куда обязательно подсаживался шпион из уголовных. Среди ночи в камеры врывались надзиратели, раздевали всех догола и производили обыски. Централ был крепостью на замке. Если в тюремную администрацию случайно попадал совестливый человек, пытавшийся протестовать против произвола над заключенными, с таким расправлялись просто: ночью ему набрасывали мешок на голову, волокли в подвал и здесь избивали до полусмерти. Свидания с родными были запрещены. Письма тщательно просматривались самим Колченко. Ни один вздох замученного каторжанина не мог вылететь за пределы стен централа. Прибыль, прибыль, прибыль… Колченко решил экономить на гробах. Тело каторжанина, умершего от туберкулеза, зашивали в рогожу и тайно закапывали. В кругу знакомых, таких же тюремщиков или лабазников, Колченко хвастал: — Из моей тюрьмы еще никто живым не выходил. Раз ты враг престола, то и подыхай, как собака. А то на-придумывали там в главном тюремном управлении разные правила… Опытным взглядом Фрунзе сразу оценил, что тут творится. Если вначале он наметил бежать, то потом, поразмыслив, решил сперва помочь политкаторжанам, с которыми быстро перезнакомился. Все жаловались на невыносимые условия. Одни предлагали убить начальника тюрьмы и его клеврета Коробку («Гоголевскую Коробочку», как называли здесь надзирателя), другие собирались объявить голодовку, хотя и знали, что Колченко только обрадуется: все будет покрыто, а экономия немалая! — Мы должны снять с должности начальника тюрьмы! — сказал Фрунзе. Послышались смешки. Никто даже не мыслил ни о чем подобном. Снять… Попробуй сними!.. Но у Фрунзе, оказывается, был разработан подробный план. — Колченко — вор и окружил себя ворами. Это не администрация, а шайка отпетых бандитов. Мы произведем ревизию, подсчитаем доходы, составим акт, все его подпишем и направим в главное тюремное управление. Там сидят тоже казнокрады, и они не потерпят, что какой-то несчастный подпоручик утаивает от них тысячи. Волчьи законы всюду одинаковы. Они его разденут донага, разжалуют и отправят на каторгу. — А как переправить акт на волю? — Есть у кого-нибудь надежные знакомые в городе? — Есть. Тут много николаевских социал-демократов. — В таком случае все упрощается. Остальное я беру на себя. У Фрунзе всякому серьезному делу всегда предшествовала кропотливая теоретическая подготовка. На этот раз она носила несколько странный характер для агитатора-большевика: он засел за церковные книги. Кое-что он уже знал от Прозорова, который хоть и не верил в бога, но в детстве часто бывал в церкви, помогал отцу-священнику. Основательно проштудировав священное писание, Фрунзе решил, что пора приступать к делу. — Мы организуем хор, будем распевать псалмы в церкви, — сказал он товарищам. — Черт с ними, пусть дерут глотки! — согласился начальник тюрьмы. — В случае, если нагрянет какая-нибудь комиссия, покажем, что даже политических мы заставили петь хвалу господу богу. Регентом назначаю пономаря. Пономарь Рафаил, он же тюремный библиотекарь, скучал без дела и был обрадован, когда узнал, что ему поручено руководить хором. Этот пономарь обладал сильным голосом и мечтал со временем стать дьяконом. Рафаил был натурой артистической и любил поражать всех мощью своего голоса. Когда своды церквушки содрогнулись от его бархатистого баса, Фрунзе воскликнул: — Нечто подобное я слышал в Казанском соборе. Но отцу Сергию все же далеко до вас: он ревет, как белуга. О, человеческое тщеславие, сосуд скудельный!.. Широкое лицо Рафаила расплылось в улыбке. — Уж не вы ли запрашиваете из библиотеки священные книги? — спросил он, вперяя свои круглые навыкате глаза в лицо Фрунзе. — Да, отче. — Откуда в вас тяга к слову божьему? — Долго рассказывать. Был я семинаристом, мечтал стать военным священником, так как дух у меня беспокойный. И не теряю надежды вернуться в лоно свое. — А как на каторгу угодил? — Участвовал в шествии народа к Зимнему дворцу… Рафаил подал знак замолчать. Больше он ни о чем не расспрашивал. Он вообразил, что политкаторжанин как-то причастен к делу попа Гапона. Этого провокатора в рясе служители провинциальной церкви считали чуть ли не великомучеником, пострадавшим за народ. С тех пор пономарь стал поглядывать на Фрунзе с симпатией, иногда заговорщически подмигивал ему. Регента поразило хорошее знание молодым человеком истории музыки. Он, например, рассуждал так: — Бетховен замыслил симфонию, своего рода «Herr Gott, dich loben wir, Halleluja», аллилуйю… Но телесные страдания сломили его. Кстати, знаете, что говорил один из приятелей Бетховена? Он говорил: «Слова закованы в кандалы, но, к счастью, звуки еще свободны». Мы и этого не можем сказать. А что писал Бетховен? «Благотворить, где только можешь, превыше всего любить свободу и даже у монаршего престола от истины не отрекаться». Рассуждал о Гайдне, о Моцарте, о Бахе, о Россини. И все, о чем он рассказывал, было откровением для регента. Высокие слова зачаровывали, приводили в смятение. В них были независимая сила, намек на какую-то иную жизнь, без тюремных стен, без часовых, без грубых окриков и побоев. Рафаилу казалось, что в бедную церквушку залетел поверженный светлый дух, величавый в своих страданиях. Фрунзе обладал приятным тенором лирического тембра и вообще был музыкально одаренным. Знал, что такое фуга и контрапункт. Жалел, что в церкви нельзя играть на гитаре. И вообще создавалось впечатление, что пение, музыка — его сфера. Он показал себя и как великолепный организатор хорового пения. Откуда только у него что бралось? Регент удивлялся и пророчил ему будущность. — С вашим слухом, голосом… Очарователь вы и есть очарователь! В консерваторию вам нужно. Когда поднимаете «многокрылатые архистратиги», меня аж слеза прошибает. Фрунзе охотно вызвался переписать псалмы для всего хора. Ему нужна была чистая бумага, и он ее получил в неограниченном количестве. Здесь же, в церкви, он писал акт обследования Николаевского каторжного централа. Он произвел скрупулезные расчеты, перечислил все хищения, все злоупотребления. И выходило, что за восемь лет Колченко ограбил казну чуть ли не на три миллиона. Когда акт подписали все политкаторжане, Фрунзе сказал пономарю: — Умру я скоро, отче. Увы мне, сыра земля возьми мя к себе… пошто не послушал матери своей! Организм мой ослаблен до крайности, чахотка съела плоть мою. — На то воля божья. — Смиряюсь. Ибо сказано: аз воздам. Об одном жалею: не получит от меня последней весточки девица Ефросинья Талызина, проживающая ныне в Петербурге, с которой мы обручены. Сочиняю я посмертное письмо, но слова любви своей не хочу доверять тюремной почте, так как все просматривается людьми низкими, циничными. И оттого скорбь моя велика. — Принесите письмо и тайно передайте мне. — Оно при мне. Будете в городе, вручите его по указанному адресу. А там перешлют куда надо. Пономарь сунул толстый конверт в Библию. Он сразу догадался, что никакой Ефросиньи Талызиной в природе не существует и в конверте, увы, вовсе не любовное послание, а что-нибудь посерьезнее. Да и политкаторжанин не был похож на умирающего. Правда, он покашливал. Но тут все кашляют от пыли. Рафаилом овладел бес искушения. Оставшись один, он воровато вскрыл конверт и при свете лампад и свечей углубился в чтение. Вскоре он ощутил дрожь во всем теле. Заговор против начальника тюрьмы! Подписались все политкаторжане. Лучше бы уж он не распечатывал этого письма… Но все, что в нем перечислялось, было истинной правдой. Только Рафаилу от всех благ за все годы не перепало ни росинки. Его-то и в расчет не принимали. Пономарь наподобие шута. «А вот возьму и выдам всех их, окаянных безбожников социалистов! Бог простит», — думал пономарь. Его после этого наверняка сделают дьяконом. И не здесь, а в настоящей церкви. Он-то не сомневался, что бог простит наверняка. Раз он прощает Колченко и надзирателям все бесчинства… Но простят ли три сотни политкаторжан, подписавшиеся под актом? Кто-нибудь из них рано или поздно выйдет на волю, разыщет пономаря хоть на краю света и отомстит за предательство. А если взять да уничтожить письмо?.. Не было его — и все! Но у них, по всей видимости, все же есть связь с городом, и очень скоро они узнают, что письмо не передано. Тогда Рафаила придушат прямо в церкви. Опять же за предательство… А этот, отрастивший бородку, чтобы походить на мученика, вкрался незаметно, опутал, вражий дух. Рассказывал про великих столичных и московских певцов. Уста слаще меда… Можно подумать, что он облазил все сорок сороков московских. Если ему верить, знает всех дьяконов и протодьяконов наперечет. А как он, змий лукавый, разглагольствовал о владимирской богоматери, о Дмитриевском соборе, о святом Христофоре, который, боясь соблазна, умолил бога заменить ему его прекрасное лицо собачьей мордой. Да он просто потешался надо мной, глядя на мою бульдожью физиономию, ввергни душу его в геенский огонь! А сейчас, поди, сидит в кругу своих каторжных да про социализм рассказывает… Обвел, обвел… Меня удушат, а письмо новое накатают. Да и с чего это я должен страдать за изверга Колченко? Пропади он совсем! Чем скорее уберут этого хапугу, тем лучше. Небось пономаря и за человека-то не считает, антихрист… Все равно ведь при выходе из тюрьмы не осматривают… При очередной спевке Фрунзе спросил: — Передали письмо, отче? — Вот расписка, — хмуро отвечал пономарь. — Да только я вам больше не слуга. — Прочитали, значит. Тем лучше. Вы слуга господа бога и благое дело совершили. Ведь все равно вам от Колченко ничего не перепадает. Помогли бы нам бежать отсюда. Замучил проклятый. У нас матери, сестры. Бог зачтет вам. — А если Колченко прознает, он из меня душу вытряхнет. — Я вас обучу конспирации. В жизни пригодится. Да вам и делать ничего не надо. Будете связным между нами и городом. Они сами все подготовят. Поможете? — Не искушай. Я человек бедный и держусь за свое место. Вы слишком многого хотите от бога. — Жаль. Ну и на том спасибо. Век не забудем. Больше всех Михаилом Фрунзе восхищался надзиратель Коробка. Норму по скублению канатов заключенный выполнял, мешки латал искусно. И всегда на коленях у него «Жития святых». Рассказывает — заслушаешься. Певческий хор организовал. Как-то надзиратель похвалил заключенного перед начальником тюрьмы. Тот даже подскочил на стуле. — Ну и болван же ты, Коробка! Да его два раза к смертной казни приговаривали. Он вот-вот убежит, а ты уши развесил. Значит, он хор придумал? Хор разогнать, всех перешерстить, Фрунзе перевести в общую камеру. Политические его старостой выбрали. Церковные книги ко мне! Они их используют как тайный шифр. Я думал, что ты его уже уморил, а ты с ним полгода цацкаешься… Коробка места не находил себе от злости. Он стал врываться во все камеры и загонять бывших «певчих» в карцер. Фрунзе он сам спустил с лестницы ударом ноги в спину. С этого дня для Фрунзе начались сплошные мучения. Коробка заставлял его возить по двору бочку с водой или приказывал тащить на пятый этаж кипу полотна весом в шесть пудов и обратно — с пятого этажа вниз. В своем досмотре Коробка был неутомим. Низкорослый, толстенький, с вдавленным посередине носом, он прыгал возле Фрунзе, беспрестанно на него покрикивая, сучил руками. В конце концов Фрунзе надорвался и упал. Напрасно надзиратель пинал его ногами, Фрунзе не поднялся. — Переведи его на плантацию, — приказал Колченко. — Пусть глаза подлечит. Комиссия скачет из Петербурга. А такому рот не зажмешь: он, брат, две смерти пережил. Комиссии наезжали и раньше. И всякий раз все было шито-крыто. Колченко готовил пир для членов комиссии. Ему казалось, что едет очередная ревизия. Ревизоров бояться нечего: им всегда можно подбросить тысчонку-другую. На то и ревизоры, чтобы приезжать с шумом, а уезжать ниже травы, тише воды. Всех и все купить можно. У Фрунзе гноились глаза. Пыль разъедала веки, вот уже несколько месяцев изнуряло слезотечение. Книги, разумеется, пришлось отложить надолго. На огороде он таскал воду, полол, окучивал. Работа изнуряла. Но свежий воздух делал свое дело: глаза подживали. И снова мысль о свободе захватила его. Семь лет тюремной жизни… Они вычеркнуты для борьбы, прошли впустую. Сколько можно было бы сделать за семь лет!.. А конца и не видно. Теплый ветер, голубое небо. Чайки, залетающие сюда, должно быть, с моря. Моря не видно. Оно далеко. Но оно есть… О море он навсегда сохранил нежное и грустное воспоминание. Теперь сами пришли строки, и они были не только тоской по морю:Свобода, свобода! Одно только слово,
Но как оно душу и тело живит!
Ведь там человеком стану я снова,
Снова мой челн по волнам побежит.
Станет он реять и гордо и смело,
Птицей носиться по бурным волнам.
Быть может, погибнет? Какое мне дело —
Смерти ль бояться отважным пловцам!
«Сейчас все время ощущаю в себе прилив энергии… Итак, скоро буду в Сибири. Там, по всей вероятности, ждать долго не буду… Не можете ли позондировать… не могу ли я рассчитывать на поддержку… в случае отъезда из Сибири. Нужен будет паспорт и некоторая сумма денег… Ах, боже мой! Знаете, у меня есть старуха мать, которая ждет не дождется меня, есть брат и три сестры, которые мое предстоящее освобождение тоже связывают с целым рядом проектов, а я… А я, кажется, всех их обману».Батурин ответил, что рад будет приютить у себя «брата Арсения». Когда он очутился в камере Владимирского централа, ему не было и двадцати трех, теперь шел тридцатый год.
ЗА СВОБОДОЙ… В СИБИРЬ
У Фрунзе были штатные «биографы», регистрировавшие каждый его шаг: жандармы, начальники тюрем, надзиратели, тюремные инспектора. В этом отношении ему мог бы «позавидовать» и Цезарь, которому самому приходилось описывать свои деяния. Как известно, Цезарь сознательно преувеличивал собственные подвиги. Таким же пороком страдают воспоминания Наполеона, написанные на острове Св. Елены. Оценка каждого поступка Фрунзе объективна и предельно лаконична, ибо дана она мастерами протокольного жанра: «имеет склонность к побегам», «политические выбрали его старостой», «избран старостой»… В какой бы тюрьме ни оказывался Фрунзе, его неизменно выбирали старостой. Тюремщики давно подметили одну из черт его натуры: приводить все в движение, неизбежно становиться во главе, организовывать, быть защитником всех, не думая о личных выгодах. Обаяние его личности распространялось далеко за пределы тюремных стен: его имя знали политические петербургских, московских, сибирских тюрем, ему присылали письма из Читы, из далекого сибирского села Качуг, из Шуи и Иваново-Вознесенска, из Белоруссии, Петербургского политехнического института и из Московского университета. Он опасен был своим умом, своим почти гипнотическим воздействием на людей. Гипнотизировала его логика, его непреклонность, убежденность. В нем как бы интуитивно сразу угадывали вожака и подчинялись ему. Это было то самое, что некогда профессор Ковалевский назвал крупностью натуры. В апреле 1914 года Фрунзе отправили из Николаевского централа на вечное поселение в Сибирь. Прежде чем попасть в Сибирь, он очутился в Москве, в Бутырках. Тюремные «биографы» отметили в официальных бумагах его новую попытку к побегу, хотя он и был весьма тщательно закупорен в одиночной пересыльной камере. Он пытался бежать из этапного барака Красноярской тюрьмы, из арестантского вагона, из Иркутской тюрьмы. В Александровском централе он объединил вокруг себя большую группу ссыльных, которая и занялась разработкой плана массового побега. Выдвигались самые фантастические проекты. Например: тайный переход в Персию. В Персии закупить оружие и создать школу боевиков, наладить печатание и распространение революционной литературы. Политических разместили вместе с уголовными. В небольшом бараке было больше сотни человек. Лежали вповалку. Донимали клопы. Уголовные извечно враждовали с политическими, теперь, очутившись в тесном бараке и имея численный перевес, задумали диктовать им свою волю. Начальник тюрьмы только радовался. Чем больше распрей между политическими и уголовными, тем лучше. От него пересыльные и узнали о начале мировой войны. — Вам придется остаться здесь до весны будущего года, — заявил он. — Война! Не до вас… — В этом бараке? Весть о войне всех взбудоражила. Политические обступили Фрунзе. — Что делать? Война… — Прежде всего вырваться отсюда. — Как? Если бы вы от имени всех нас поговорили с начальником централа… — Я поговорю. Он вызвал начальника. — Мы поселенцы, а не каторжане. Вы не имеете права держать нас здесь. Мы требуем немедленно перевести всех на поселение! — А если я вас все-таки задержу до весны? Ха! Вам ведь не привыкать кормить тюремных клопов… Я постараюсь запомнить вашу фамилию, господин Фрунзе. — Постарайтесь. Ваша-то фамилия нам хорошо известна. И мы постараемся, чтобы вас вспомнили в Петербурге. — Вы угрожаете? — Да, угрожаю. Даем вам на размышление два часа… — После чего… — После чего мы объявим голодовку. — Глупости. Вы все дышите на ладан. Какая уж тут голодовка! Начальник тюрьмы ушел, насвистывая военный марш. Он-то был твердо уверен, что голодовка невозможна. И вот на следующее утро в канцелярию вбежал растерянный помощник. — Политические объявили голодовку! К ним присоединились уголовные… Они заявили, что признают Фрунзе старостой и над собой. — Уголовные? Вы в своем уме?.. Да, ничего подобного не случалось за всю историю Александровского централа: уголовные объявили голодовку и проголосовали за политического. Это было уж чересчур. «А ведь сообщат, сообщат в главное управление… — подумал начальник тюрьмы. — А время такое, что могут по головке не погладить. Поселенцы — ведь не каторжане. И как ему удалось подбить уголовных?.. Этак и тюрьму разнесут! Во всяком случае, если дело всплывет, вмешаются те самые, из Думы, потребуют наказания для меня. А то, чего доброго, совсем уволят. На фронт шагом марш!..» Он находился в растерянности. Наконец решил телеграфировать иркутскому губернатору. Губернатор ответил: «Немедленно разместить всех в близлежащих волостях». Бой был выигран. Потерпевший поражение начальник тюрьмы написал на Фрунзе пространный донос в департамент полиции. Иркутское жандармское управление взяло беспокойного поселенца под особый надзор. Всем жандармам вдруг стало ясно, что «очень, очень опасного» нужно снова упрятать в каторжную тюрьму. Подполковник Иркутского жандармского управления Карпов пообещал губернатору: — Я закую его в кандалы! Составить обвинение против него очень легко. Поверьте мне. Он не из тех, кто тихо предается меланхолии, очутившись в какой-нибудь Манзурке. Он поднимет всех ссыльных на ноги и, конечно же, постарается убежать. Но от меня он не уйдет. Подполковник Карпов был человеком слова. Помимо гласного надзора в лице полицейских, жандармов и помощника начальника жандармского управления ротмистра Белавина он решил установить за Фрунзе и негласный надзор. Малейший неосмотрительный шаг «очень, очень опасного», и — снова кандалы, каторжная тюрьма. А Фрунзе? Догадывался ли он, какую западню ему готовят? Разумеется. Он-то знал, что за организацию голодовки ему постараются отомстить. Он сидел на бурятской двуколке рядом с другими ссыльными и смотрел во все глаза. Перед ним раскрывалась Сибирь. Та самая Сибирь, какую он знал только по очеркам Короленко. Ямщик, «из семейских», то есть из староверов, едва шевелил вожжами, он был угрюм, неразговорчив. Низкорослые лохматые лошадки шли шагом. Легко было убежать, так как ссыльных никто не охранял. Военный конвой остался в селе Оёк. Всю партию сопровождал единственный представитель власти — сотский, в обязанности которого входило развезти всех по селам. Но о побеге сейчас никто не думал. Нужно сперва отдохнуть, набраться сил, связаться с партийными товарищами из Иркутска, узнать у них, каковы виды на тайный выезд из Сибири, запастись документами, сбросить арестантский халат. Стоял золотой сентябрь. Полгода прошло с тех пор, как Фрунзе отправился в ссылку, а до места все еще не добрался. И теперь он думал о тех местах, где ему придется жить, и о том, как выглядит загадочное село Манзурка — конечный пункт его длительного путешествия. Тайга!.. От самого этого слова веет чем-то необъятным. В тайге нет ярких красок, как на Тянь-Шане. Тона приглушены. Сизо-зеленое, бурое. Когда скрипучая двуколка поднимается на увал, то лиственничная тайга внизу, в падях, кажется верблюжьим пухом. Встречаются сосновые боры. Сосны стоят просторно, как в парке. На хвое дымчато-серебристый налет. На стволах натеки смолы. Под соснами — прозрачный сумрак. И снова — лиственницы. Они взбираются на сопки, опускаются в распадки, где нагромождения темно-серых морщинистых камней, где звенят прозрачные горные ключи. По сторонам тракта — урманы, труднопроходимые пихтовые леса, опутанные косматым пепельно-серым мохом. Тут глухо. Даже буря не в силах всколыхнуть всю эту словно застывшую зеленую массу. Иногда блеснет малиновый огонек — цветок кипрея. Фрунзе соскакивает с подводы, срывает цветок, а потом долго его рассматривает. Еще не умерла тяга к ботанике… Только сейчас он понял, до какой степени истосковался по природе. Взять бы ружьишко — и в тайгу! Бродить, всем существом наслаждаться свободой… Где-то совсем поблизости, вон за той горной грядой, — священный Байкал. Есть тут шустрый соболек, полосатый бурундук, росомаха, косуля, рысь, колонок, красавец сохатый — да всего и не перечесть. Страна, во сне приснившаяся охотнику… Как давно он не охотился! Нет, теперь-то в руки жандармам он не дастся! Отдышится, залечит чахотку — и айда в Москву, в иваново-вознесенские края! Он упивался своей относительной свободой. Ни конвойных, ни надзирателей, ни тюремных стен. Непривычное состояние. Горизонты вдруг раздвинулись до бесконечности. А вон на изволоке и Манзурка, большое сибирское село. Тесно прижавшиеся друг к другу пятистенные рубленые избы с крылечками, с широкими оконными проемами, амбары. В каждом дворе — кедр. Крона такого кедра покрывает целиком весь двор. Горластые петухи на заборах. Молодки с ведрами на коромыслах. Бородачи в плисовых штанах. Ходят, заложив руку под ремень. Сразу видно: крепкое село. По улице тянутся обозы с солью, с чаем и другими товарами для золотых приисков на Лене. На север, на север, туда, в таежное безмолвие… Через Манзурку проходит тракт Иркутск — Качуг — Жигалово. Фрунзе думает об этом Качуге, откуда, в общем-то, и начинается великий водный путь по Лене. Нужно в Качуг, очень нужно… В Манзурке сотский оставил двадцать ссыльных. Пять из них, в том числе Фрунзе, сделались постояльцами высокой, дородной чалдонки Рогалевой. Встретила она их молча и так же молча начала ставить большой самовар. Дочурка хозяйки оказалась куда приветливей. Она вежливо поздоровалась со всеми, прыснула от смеха, когда Фрунзе назвал ее стрекозой, и заявила, что собирается поступать в гимназию, да не знает, как это делается. — Научим, — пообещал он. Все они теперь находились под надзором местной полиции. Отлучаться из села, не поставив урядника или станового писаря в известность, не разрешалось. Но Фрунзе рвался в Качуг. Куда пойдешь в арестантских ботинках-котах и халате? Сразу же схватят. Написал домой:«Из казенного у меня имеется один лишь халат, да и тот никуда не годный. Если вы не выслали мне белья и одежды, то сделайте это немедленно. Тут пока стоит хотя и холодная, но чудная осенняя погода, которая скоро прямо перейдет в зиму, и тогда без теплой одежды хоть пропадай… Какая досада, что у меня нет ружья. Тут прекраснейшая охота, живописная местность. Будь хоть немного средств, я бы живо стал молодцом. Напишите Косте, чтоб он прислал мне на время свое ружье (на зиму). Я бы тут с одним товарищем взялся бы тогда за составление зоологической коллекции, что дало бы порядочный заработок. Сейчас завожу знакомства, хочу попасть как-нибудь в бурятский улус обучать ребятишек. Пока же думаю столярничать, опять же дело в том, что нет денег на инструмент».В октябре он получил деньги, теплое белье и берданку. Сразу же заговорил с урядником об охоте. — Разве здесь охота! Вот на Тянь-Шане охота, это охота! Вы, поди, про кулана и джейрана никогда и не слыхали? У нас на волков с плетью охотятся. Могу показать. Хорошего коня нужно. Плеть сам сделаю. А на перепелов — того проще: есть ястреба-перепелятники. Такому ястребу завязывают глаза конскими волосами, просунутыми в дырочки в веках. Отсюда и пошло: «развяжи глаза». Развяжут глаза ястребу и бросают его на взлетевшего перепела. А знаете, что такое чокпар? Палка с утолщением на конце. На зайца. Охотник-чокпарщик за сезон убивает триста зайцев. Урядник Сивков, природный сибиряк, был заинтересован и задет за живое. — Много вы знаете, да ничего не понимаете. Подайтесь в сторону Качуга — тогда поймете, что такое здешняя охота. Одному далеко ходить не советую, возьмите кого-нибудь из местных. Заплутаетесь. Кулан, чурбан… Да разве это охота — с плетью да с чурбаном? Тьфу! Я вот в прошлом году… Проводника брать не стал. Заблудиться было трудно: все время шел по обочине тракта на север. Потом подсел на попутную подводу. В Качуге без труда разыскал избу Зикеева. Во дворе худощавый сумрачный человек с тяжелыми надбровными дугами колол дрова. В его огромных загрубелых руках топор казался игрушечным. — Бог помощь рабочему министру! Человек выронил топор, уставился на Фрунзе вытаращенными глазами. Смахнул не то каплю пота, не то слезу, кинулся к Фрунзе, облапил, чуть не задушил. — Арсений!.. Да откуда же вы взялись, Арсений? Ведь писали, что направят в Ичерскую волость? — Писал, да все переменилось. Теперь мы соседи. Жиделев (а это был он) радостно засуетился. — Так это же прямо-таки невероятно! В избу, в избу… Хозяйка, самовар — живо! Медку поболее. Родной вы мой, а я все годы только вас и вспоминал без конца. Получал ваши письма из Николаевска. Встреча обоих взволновала. Сидели за самоваром, обжигались чаем, торопились рассказать друг другу о себе, о товарищах по каторге, по ссылке, вспоминали прошлое. — Боялся не застать вас на месте. Бежать думаете? — Думаю, Арсений, ох как думаю! Да с Иркутском все не удается связаться. Наших тут много: в Верхнеудинске — Вагжанов, я его знаю по Думе; на Мысовой — Серов; в Иркутске — Миха Цхакая; в Чите — наша Вера Любимова; есть ссыльные на Тарбагатайских угольных копях, на Петровском металлургическом заводе и в других местах. Надо бы со всеми повидаться, всех объехать. Только за мной особо строгий надзор, шагу не дают ступить. А до Иркутска, почитай, больше двухсот верст. — Адреса есть? — Есть. — На днях махну в Иркутск. Как-нибудь обведу вокруг пальца дурака урядника. Набирайтесь сил. А весной, в крайнем случае — летом, начнем потихоньку выбираться отсюда. Будьте готовы. У нас в Манзурке много народа хорошего осело: врач Петров, сидел в Шлиссельбургской крепости, Гамбург, Кириллов — помогут. Наше с вами место сейчас там, на фронте… И они заговорили о том, что считали самым важным: о войне. Неведомыми путями в Сибирь доходили газеты «Правда» и «Социал-демократ». Из газет они узнали о питерской забастовке, о Бакинской стачке, о тезисах Ленина, посвященных войне, и о манифесте большевиков «Война и российская социал-демократия». В то время как другие партии проповедовали классовое сотрудничество во имя защиты отечества, большевики выдвигали лозунг превращения империалистической войны в гражданскую, в революцию, лозунг поражения царского правительства в войне. Для Фрунзе и Жиделева лозунги были понятны, и другого отношения к войне, чем у Ленина, у них не могло быть. Они-то знали, что царское правительство ведет войну не в интересах рабочих и крестьян, и, если в ходе войны оно ослабеет, тем легче с ним будет бороться. Их интересовал ход самих событий. Кое-что было известно из телеграмм русского телеграфного агентства, из буржуазных газет. Еще до начала войны весь мир раскололся на два враждебных лагеря. Сложились две основные империалистические группировки: Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Тройственное согласие, или Антанта, куда вошли Россия, Франция и Англия. Как бы ни был изолирован Фрунзе от жизни тюремными стенами, он знал о существовании этих двух враждебных лагерей. Он знал, что рано или поздно империалистические хищники затеют передел мира. И теперь — началось! Дорого дал бы он, чтобы знать планы той и другой сторон. Тут в нем заговорило нечто словно бы уже профессиональное: он хотел звать стратегические и тактические пружины войны. Когда германские войска вторглись 4 августа в Бельгию, он догадался, что немецкое наступление — грандиозный фланговый маневр на глубину чуть ли не в пятьсот километров. Немцы задумали обойти левое крыло французской армии, а затем устроить ей своеобразные «Канны». Как только это пришло ему в голову, он раздобыл географическую карту и стал рассчитывать. Что может получиться из подобной затеи? Смогут ли правофланговые армии ударной группировки немцев выдержать темп наступления? Казалось бы, все складывается в пользу Германии: французы, судя по всему, даже не успели развернуть свои силы. Пограничное сражение закончилось тем, что англо-французские войска отступили к Марне. Но вот новое известие: русская армия вторглась в Восточную Пруссию! Германские войска в сражении на Марне потерпели поражение и отошли к реке Эна. Русские войска разбили австрийцев, заняли Галицию и вышли на подступы к Силезии… А как будут развертываться события дальше? Такой войны еще не было, не было! Воюют не просто государства, а коалиции, массовые армии, каких еще не знала военная история. Действуют подводные лодки, авиация, бронеавтомобили, бронепоезда; тяжелая артиллерия стреляет чуть ли не на десять верст. Фронты растянуты на тысячи километров. Только в одной операции на Марне дралось свыше миллиона человек. — Чем все это только кончится? — произнес Жиделев в раздумье. — Мне кажется, что в итоге мы придем к тому, что Маркс определил как пролетарский способ ведения войны. Революция, гражданская война… Я глубоко убежден, что такой конец вполне логичен. Парижская коммуна возникла после поражения Наполеона Третьего, наша революция произошла после поражения царизма в японской войне. Тут улавливается некая закономерность. Во всяком случае, мы должны засучив рукава поработать на будущую революцию и гражданскую войну. Я знаю: мое место там! Воинственный задор скоро схлынет, выплывут на сцену все старые больные вопросы, ибо война их только обострит. Вернувшись из Качуга, Фрунзе решил во что бы то ни стало побывать в Иркутске, связаться с партийными товарищами. «Зеленая неволя» томила. Жизнь в Манзурке была тяжелая. Ведь всех их, политических, правительство сознательно обрекло на верную смерть от голода. Они значились как лишенные всех прав и состояния, им запрещали учительствовать и вообще зарабатывать умственным трудом. На охотничий промысел надежды плохи. Надвигается сибирская зима с пятидесятиградусными морозами. Они организовали коммуну и кассу взаимопомощи при ней. Средства, продукты, добытые тем или иным путем, делились поровну. Петров полулегально занимался врачебной практикой, буряты давали ему масло, молоко, мясо. Все это шло в общую столовую. Фрунзе написал «Устав Манзурской колонии ссыльных». Он мог зарабатывать как перворазрядный столяр. Нашлись еще два ссыльных, которые вызвались помогать. Не было только инструментов. Собрали деньги на инструменты. Но где купить? — Я поеду в Иркутск и куплю все необходимое, — заявил Фрунзе. До Иркутска почти двести верст. Попробуй прошмыгнуть туда и обратно не замеченным полицией! А если задержат — верная каторга, сочтут беглым. И ничего не докажешь, так как за Фрунзе особый досмотр. Если даже очень торопиться, то все равно можно обернуться не меньше чем за пять дней. А если урядник и исправник спохватятся? Придумали массовый выезд на охоту, в котором якобы примет участие и Фрунзе. Урядник поверил. И пока ссыльные гонялись за дикими козами, Фрунзе в тряском тарантасе мчался в Иркутск. Большой провинциальный город, столица Сибири. Это вам не Шуя. Можно затеряться, скрываться от полиции годами. Железнодорожная станция. Поезда, уходящие на запад. Полная свобода… Мало ли тут золотопромышленников, беспаспортных бродяг, стремящихся в обход полиции попасть на прииски, грузчиков, торгового люда, служащих горного управления?.. В горном управлении он нашел нужного человека, передал письмо Жиделева. — На паспорта всегда можете рассчитывать, товарищи, — сказал инженер. — Есть несколько «железок». Фрунзе знал, что «железными», или «железками», назывались искусно сделанные копии чужих паспортов или же просто чужие паспорта. Инженер объяснил также, что выбраться на запад очень трудно: жандармы тщательно проверяют документы в поездах. Потому-то лучше всего иметь на руках «железный» паспорт и подлинный документ из какого-нибудь официального учреждения. Инженер предлагал Фрунзе остаться в Иркутске, обещал подыскать работу, но он не согласился. Он не мог оставить товарищей на зиму глядя. Закупив инструменты, он заторопился в Манзурку. И тут понял, что за ним следят. Ведь у него за долгие годы подпольной работы выработалось особое чутье на шпиков. Он нарочно направился на вокзал, агент шел за ним почти в открытую. На привокзальной площади стояли кареты, крестьянские подводы, брички. Здесь Фрунзе затерялся в толпе. Через полчаса привокзальная площадь была оцеплена. На перрон пропускали после проверки документов. Подошел пассажирский. У дверей каждого вагона поставили полицейского. Подполковник Карпов топал ногами. — Это он, он, Фрунзе! Задумал удрать… Облава длилась два дня. Сделали запрос в Манзурку. Каково же было изумление Карпова, когда он узнал, что Фрунзе в Манзурке и никуда не отлучался. Подпольная коммуна процветала. Через петербургских и московских большевиков Фрунзе установил связь с Красным Крестом. В Манзурку стали приходить значительные суммы. Отсюда они переправлялись не только в села Верхоленского уезда, но и в другие уезды, где, по имевшимся сведениям, ссыльные голодали. Давала доход и столярная мастерская. Фрунзе мастерил табуретки, лавки, столы, ремонтировал ульи. Организовал оркестр, хоровой и драматический кружки, библиотеку. Под видом охоты он теперь часто выезжал в Качуг и в другие села Прибайкалья. Он старался сплотить большевиков, уберечь колеблющихся от шовинистического военного угара. Война была главным событием, мировой трагедией. Она захватывала все новые и новые страны. Тридцать три государства. Полтора миллиарда человек. Воюет весь земной шар. Сперва дрались восемь миллионов человек. Потом их стало двадцать миллионов, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят… Сколько еще будет поставлено под ружье? Он сделался руководителем военного кружка. Все получилось как бы само собой: сперва рассказывал о ходе войны, комментировал сводки и газетные статьи, ставил прогнозы. Прогнозы, как правило, сбывались. Тогда он начал читать тщательно подготовленные лекции по истории военного искусства. И сама собой возникла «военная академия». Лектора стали в шутку называть «наш генерал». Он больше не удивлялся тому, что легко читает великую книгу войны. Может быть, здесь, в заметенной сугробами сибирской избе, он впервые почувствовал, в чем его призвание. Не было больше местного, иркутского времени. Все измерялось тем, что творится на далеких фронтах, на реках Ангерапп, Бобр, в Карпатах. Теперь русский фронт сделался главным, и к нему было приковано внимание всего человечества. Спокойно и вдумчиво анализировал он сложившуюся обстановку — ведь у него времени на это было во много раз больше, чем у штабных генералов. Он видел то, чего они не видели, ибо смотрел на все не в упор, а с дистанции. А кроме того, он обладал своеобразным даром обобщения, какого не было ни у одного из тех генералов. Он пришел к выводу, что основной формой маневра обеих сторон были пресловутые «Канны» и что ни одной из армий так и не удалось осуществить их. Да, пожалуй, и не удастся. В чем тут загадка? Возможно, к ведению войн такого масштаба просто не подготовлена теоретическая мысль, делающая по старинке ставку на одно-единственное сражение, на кратковременность кампании в целом? Он еще не мог дать однозначный ответ на подобный вопрос, хотя и догадывался, что в какой-то мере близок к истине. Он видел, что действия внутри обеих коалиций часто несогласованны и это приводит к большим потерям, к неудачам. Он размышлял. И в такие минуты ему хотелось остаться одному. Он жаловался в письмах:
«В доме у нас вечная толчея, люди приходят и уходят; никогда не остаешься с собой наедине, а в этом порой чувствуется сильная потребность».С наступлением теплых дней он все чаще и чаще уходил в лес и пропадал там сутками. Он не знал, что жандармский подполковник Карпов подослал в Манзурку своих шпионов, которым удалось установить многое: например, то, что существует организациях ссыльных, а также нелегальная касса взаимопомощи. Начальник жандармского управления послал в Манзурку ротмистра Белавина с заданием ликвидировать организацию, которая будто бы носит военный характер и готовит вооруженное восстание. Начальник не сомневался, что при обыске у Фрунзе будут обнаружены изобличающие документы. Но ротмистр оказался недалеким человеком. Он нагрянул в Манзурку, арестовал троих, а Фрунзе отпустил. Карпов побежал к начальнику управления. — Нужно немедленно арестовать Фрунзе! Растяпе Белавину, видите ли, потребовались улики. Голова всему — Фрунзе. Я точно знаю. Их всех, большевиков, должно запрятать в тюрьму. — Пошлем ротмистра Константинова. Пусть возьмет побольше солдат. Всех арестовать, колонию уничтожить! Пишите: «Дело манзурских политических ссыльных поселенцев, ведущих большевистскую пропаганду под видом так называемой кассы взаимной помощи». Фрунзе доставить ко мне. Ротмистр Константинов прибыл в Манзурку под вечер. Ссыльные возвращались из столовой, оживленно переговаривались. Они и не заметили, что находятся в кольце жандармов. Фрунзе схватили, когда он поднимался на крыльцо своей квартиры. Арестовали еще тринадцать человек. А через два дня их погнали по тракту в Иркутскую тюрьму. — Ну вот, господин Фрунзе, поздравляю с возвращением в наши пенаты, — сказал ротмистр. — Погуляли — хватит. Десять лет каторги вам обеспечено. Сомневаетесь?..
ДВОРЯНИН ВАСИЛЕНКО ИЗУЧАЕТ РАБОЧИЙ КЛАСС
Заместитель заведующего статистическим отделом Забайкальского переселенческого управления Соколов вел неторопливую беседу с недавно приехавшим в Читу экономистом Владимиром Василенко. Сидели они в пустынном кабинете. В окна виднелись сопки, поросшие тайгой, кусок синего неба над ними. Соколов ощупывал умными острыми глазами собеседника: холеные усы, бородка, бакенбарды, густые светлые волосы высоким гребнем, рубашка белоснежная, а галстук повязан криво… — Как ни удивительно, а я вас помню по Петербургу, — сказал Соколов. — Максим Максимович всегда вами восхищался. Так и не удалось окончить? — Не удалось. — Да, да. Мне говорили. Как давно не был я в Политехническом! После Петербурга здесь не сладко. Кто бы мог подумать! Тайга, глушь. А я ведь с Байковым переписываюсь… Решим так: для начала устрою вас в статистический отдел, вернее, в «Справочное бюро по рабочему вопросу». Разъездным агентом. А дальше видно будет. Он представил экономиста своему начальнику, заведующему статистическим отделом Монтвиду. — Знакомьтесь, Виктор Эдуардович: дворянин Василенко Владимир Григорьевич из Петербурга. Нам ведь нужен сотрудник? — Да, требуется агент. В «Справочном бюро» остались одни бабы — на место некому выехать. Жалованье семь-десять пять рублей плюс десять рублей командировочных. — Господин Василенко — человек холостой, к дому не привязанный. Для Монтвида рекомендации своего заместителя было достаточно. Про себя, правда, подумал: «Бегут сюда от мобилизации! Да и кому охота на войну… Сбежал, дворянчик. Вот и Чита, оказывается, на что-нибудь да нужна. Рабочим вопросом решил заняться! Нужда заставит калачи есть. Погоняю тебя, братец, по всей Читинской области, лоск быстро слетит…» Монтвид понимал, с кем имеет дело. Дворянчиков недолюбливал. В «Справочном бюро» нужен дока, человек с большим знанием экономических вопросов, не белоручка. «Справочное бюро» поставляет точные сведения о числе и состоянии промышленных предприятий в Забайкалье, об условиях труда, о размерах заработной платы, о причинах конфликтов между рабочими и хозяевами. Да мало ли какие сведения могут потребоваться начальству! Он спросил насмешливо: — И как вы себе представляете этот самый рабочий вопрос? Василенко выпалил, будто на экзаменах: — Еще Адам Смит говорил, что заработная плата рабочих не превышает, как правило, минимума средств существования. Прибыль и рента есть вычеты из продукта труда рабочих. Я полагаю… — Чушь еловая! Чему только вас там учат, в институтах? Вы-то хоть живого рабочего видели в глаза? — Я имел некоторую практику… — Ладно. Все равно. Начнете все сначала. Выберем маршрут, предварительно изучите материалы по каждому предприятию. Софья Алексеевна вам поможет. Софья Алексеевна, подперев круглый подбородок рукой, тряслась от смеха и смотрела на Василенко лукавым взглядом своих черных глаз. Когда Монтвид ушел, она сказала: — Ну что, попало? Вот к чему приводит плохое знание рабочего вопроса. Они переглянулись и расхохотались. Новичок делал поразительные успехи. Он являлся на службу раньше всех, уходил позже всех. Рылся в бумагах, что-то записывал. Потом поражал заведующего доскональным знанием обстановки на рудниках и на заводах. У него была исключительная память на цифры, на имена и названия. Монтвид испытывал даже нечто похожее на ревность. Вот прикатил из столицы дворянчик и за неделю усвоил то, на что Монтвиду потребовалось несколько лет. Посмотрим, посмотрим, что из этого получится… Дворянин не терял даром времени. Наряду с изучением рабочего вопроса он проявлял повышенный интерес к Софье Поповой. Их стали часто видеть вдвоем на берегу реки. Иногда они уходили берегом чуть ли не до Песчанки. О чем они говорили? Читали стихи. У него был хорошо поставленный голос, и иногда по ее просьбе он пел. Однажды он ей сказал: — У Любимовой мне оставаться больше нельзя. — Ты прав. Как это мы упустили из виду, что она под надзором полиции? Есть на примете квартира на Уссурийской. Дом Михновича. — А кто поведет? — Моя подруга Сосина, наш регистратор. — Она знает? — Догадывается. Тебе лучше бы выехать в командировку. Будешь в Верхнеудинске, зайди к моему отцу. Его фамилия Колтановский. Найдешь в железнодорожной конторе. Я напишу ему. — С отъездом пока ничего не выходит: здесь дел много. Придется обождать. — Береги себя. Я страшно боюсь, как бы с тобой чего не случилось. Как я буду теперь без тебя? В тот же день он встретился с Василием Николаевичем Соколовым. Соколов сказал: — Удивляюсь вашей энергии, товарищ Фрунзе! Но будьте все-таки осторожнее. Жандармы начинают к вам приглядываться. Спасибо за то, что поставили на ноги «Забайкальское обозрение». Газету раскупают нарасхват. Ваши статьи по военным вопросам — откровение для многих из нас. Ваши стихи-призывы распевают на улицах, словно песни. — Мне хотелось бы выступать с публичными лекциями о войне. В кооперативной газете ведь всего не скажешь. — Мы обсудим этот вопрос. Думаю, можно рискнуть. Ведь лучшего лектора, чем вы, у нас нет. Они обменялись крепким рукопожатием и разошлись. А Фрунзе-Василенко отправился на общее собрание кооператива «Эконом». Если бы Монтвид мог видеть и слышать его здесь, то, наверное, пришел бы в ужас. «Дворянчик» сидел в президиуме общего собрания, его окружали рабочие. Он говорил о преступной политике самодержавия, втянувшего Россию в войну, о бессмысленных жертвах, о росте цен на продукты, о мерах борьбы с царизмом. И сейчас от его щеголеватого вида не осталось ничего: выступал руководитель, представитель партии большевиков, рабочий вожак, агитатор. Каждое его слово было окрашено классовым гневом. Еще в большее смятение пришел бы Монтвид, если бы знал, что его заместитель Василий Николаевич Соколов — член РСДРП с 1898 года, большевик; что в статистическом отделе прочно обосновались большевики; что сотрудница Софья Попова — дочь народовольца Колтановского, отбывшего срок заключения; что регистратор Сосина тесно связана с большевиками; что дворянин Василенко — вовсе не Василенко, а знаменитый Арсений, не так давно бежавший из Оёкской тюрьмы и разыскиваемый по всем городам Сибири жандармами и полицией; что стихи, то и дело появляющиеся в «Забайкальском обозрении» и подписываемые звучным псевдонимом «Иван Могила», принадлежат перу этого самого Арсения. Монтвид, несомненно, поразился бы бесстрашию этого человека и сразу переменил бы о нем мнение. Но Монтвид, занимаясь рабочим вопросом, никогда не бывал на рабочих собраниях. Он аккуратно покупал «Забайкальское обозрение», восторгался хлесткими статьями о войне, и если бы ему сказали, что статьи пишет его сотрудник Василенко, состоящий одним из редакторов этой газеты, он не поверил бы. Фрунзе вел агитационную работу не только в торгово-промышленном товариществе кооперативов, но и на промышленных предприятиях Читы. Он снова был в своей стихии, среди рабочих, снова приводил массы в движение. Он показывался открыто, словно бы не принимал в расчет то, что за ним охотятся, что начальник Иркутского жандармского управления и подполковник Карпов давно сообщили в Читу приметы бежавшего из тюрьмы Фрунзе. Бежать удалось легко. Ночью их пригнали во двор Оёкской волостной тюрьмы. Устали не только арестанты, но и жандармы. Они сразу же отправились в чайную. — Вам нужно бежать, Михаил Васильевич, — сказал Кириллов. — Будут выкликать на поверке, я отзовусь за вас. Ссыльные понимали, что иркутское жандармское начальство жаждет расправы именно над Фрунзе. Заборы Оёкской тюрьмы были высоки. Ссыльные устроили пирамиду, и Фрунзе бесшумно перемахнул через частокол. Сразу очутился в тайге. Постарался уйти от тракта подальше на восток. Заблудиться не боялся. Боялся, что не сможет раньше партии ссыльных прибыть в Иркутск: вывернулась коленная чашечка. Он спешил. Сперва держался глухих тропинок, в стороне от тракта: опасался погони. Попал в горелую тайгу, блуждал в этом мертвом лесу, выбился из сил. Усталость охватывала тело, чудились долгие тревожные свистки, беспорядочные выстрелы. Хотелось есть. И все-таки он продолжал идти. А когда понял, что может опоздать, смело вышел на тракт, попросился на первую же подводу. Его ни о чем не расспрашивали. И теперь, укрепившись в Чите, он, вместо того чтобы стараться быть подальше от Иркутска, задумал побывать там. Сам наметил план обследовательской командировки: все крупные станции и города вдоль Забайкальской железной дороги на запад вплоть до Иркутска. Обследование решил начать именно с Иркутска. Необходимо встретиться с Михой Цхакая, с Вагжановым, Серовым, установить связь с ссыльными большевиками в Мысовой, Кабанском, Хилке, Заиграево, Верхнеудинске, выступить на Петровском металлургическом заводе, на лесопильном заводе в Онохое, на Тарбагатайских угольных копях. Монтвид маршрут одобрил. Выдал удостоверение. — Обследуйте также частные предприятия в Верхнеудинске. Фрунзе сразу осенило. — А вы уверены, что частные предприниматели и работодатели захотят разговаривать со мной? У них свои секреты, и Переселенческое управление для подобных работодателей не указ. Вот если бы удостоверение подписал военный губернатор… — Ну что ж. В ваших словах есть резон. Попрошусь на прием к губернатору. Военный губернатор удостоверение подписал. Он просил членов всех ведомств оказывать временному агенту «Справочного бюро по рабочему вопросу» Василенко полное законное содействие. Заручившись таким документом, Фрунзе спокойно отправился в путь. За двадцать четыре дня командировки он проделал большую работу: призвал рабочих Петровского завода к антиправительственной демонстрации, посоветовал горнякам Тарбагатайских каменноугольных копей устроить забастовку, объяснил рабочим лесопильного завода в Онохое, в чьих интересах ведется война и что нужно делать, чтобы войну империалистическую превратить в войну гражданскую. Когда официальные чины пытались протестовать против его антиправительственных речей, он совал им под нос бумагу за подписью военного губернатора. — Предприниматели сами озлобляют рабочих, отсюда и беспорядки. На Петровском заводе, например, рабочие голодают. Кто виноват? Почему за все нарушения рабочего законодательства должен отвечать губернатор? И чиновники умолкали. Но в жандармское управление сыпались жалобы на агента «Справочного бюро», который подбивает рабочих к бунту. Он действовал дерзко, словно бы издеваясь и над жандармами, и над чиновниками. Предпринимателей запугивал от имени губернатора, обвинял их в предательстве. А рабочим говорил, что самодержавие находится при издыхании, что «Россия из этой войны никак не может уйти не побитой», что единственный выход из сложившейся обстановки — революция. И она близка. Война приняла затяжной характер. Союзники всю тяжесть ее переложили на русскую армию, которая не обеспечена боеприпасами: не хватает даже винтовок, не говоря уж об артиллерии. Русское командование вынуждено было вывести свои войска из Польши. Обследовав сорок предприятий, он вернулся в Читу. И там, где он побывал, вдруг вспыхнули забастовки, прошли массовые демонстрации голодных. Забастовка на Тарбагатайских копях, «голодный бунт» на Петровском заводе. Монтвид остался доволен отчетом. Агент связался с подрядчиками, производившими работы для Переселенческого управления, представилисчерпывающие сведения о тяжелом экономическом положении рабочих на Петровском заводе и других заводах, о зверской эксплуатации на Тарбагатайских копях, о росте недовольства войной и политикой правительства. — Вы чересчур объективны, — только и заметил заведующий. — В своем служебном рвении вы даже превысили свои полномочия: поступают письменные жалобы от заводчиков. Видите ли, забыл предупредить вас, что агент не имеет права вмешиваться в отношения между предпринимателем и рабочими, он регистрирует — и только. Ну да ничего. Пусть толстобрюхие знают наших! Большие толки в Чите вызвали публичные лекции Василенко о войне. По городу были расклеены афиши, и всякий желающий мог послушать такую лекцию в клубе торгово-промышленного товарищества кооперативов. Лектор слегка прихрамывал, во всем облике его угадывался военный, по-видимому, уже понюхавший пороху и получивший ранение. Судя по тому, как легко он оперировал сугубо специальными терминами, можно было подумать, что у него за плечами военная академия или годы штабной службы. Перед аудиторией он появлялся в гимнастерке без погон, разглаживал усы, брал указку и подходил к карте. Говорил сжато, доказательно. Собственно, он рассказывал об итогах кампании 1915 года. Подкупала объективность, с какой излагал он факты. Он не ругал немцев, не восхищался победами доблестного русского солдата. Он открыто заявлял: никаких побед нет. Прежде всего, война потребовала огромных материальных затрат. Все запасы израсходованы в первые же месяцы военных действий. Немцы перешли к обороне на французском фронте и все основные силы бросили против русской армии. Немцы и австро-венгры хотят окружить и разгромить русскую армию и таким образом вывести Россию из войны. Русские войска не имеют превосходства над противником в силах. Впрочем, обе стороны истощены до крайности. Французским и английским войскам летом так и не удалось прорвать позиционный фронт немцев. Немцы захватили большую территорию, потеряв миллион человек. А сколько потеряли русские? И он перечислял потери: потери не только на фронте, но и в тылу. В Петрограде голод, в Москве голод. Скоро голод охватит всю Россию. Разруха, миллионы беженцев, миллионы убитых и калек. Кто виноват во всех бедствиях? Может быть, немцы? Недалекие люди так и делают: в развязывании войны обвиняют Германию. Им невдомек, что все страны готовились к войне заблаговременно, что это война за передел мира, империалистическая, несправедливая война с обеих сторон. И не так уж важно, кто первый начал. Еще до войны Германия своим проникновением на Ближний Восток затрагивала интересы России в бассейне Черного моря, с подобным положением царское правительство не могло долго мириться. Война была неизбежна хотя бы и потому, что ее жаждало царское правительство так же, как и правительство кайзера. А те, кто выступил против войны, против военных кредитов, где они? Их арестовали, несмотря на депутатскую неприкосновенность, судили и отправили на вечное поселение в Туруханский край. Можно арестовать депутатов Думы. Но нельзя арестовать весь народ. Недавно полиция расстреляла митинг рабочих Иваново-Вознесенска. Убито сто человек. Вот письмо из Иваново-Вознесенска! В июне полиция расстреляла демонстрацию рабочих в Костроме. Вот письма из Костромы! Убито пятьдесят человек. Кто виноват в кровавых злодеяниях? Может быть, рабочие? Рабочие провели только в этом году тысячу стачек протеста против войны. Он, Василенко, всего лишь статистик. У него пристрастие к цифрам. Но чем объяснить массовые братания на русско-австрийском фронте? Чем объяснить, что несколько дней назад восстали матросы линкора «Гангут»? Кому нужна война? Иногда спрашивают, чем все закончится? Статистика показывает, что мы близки к социальной революции. И всякий честный человек скажет: да будет так! Аудитория слушала в оцепенении. Некоторые обыватели не верили собственным ушам. Бунт, открытый призыв к революции! Буржуазные дамочки понуждали мужей немедленно заявить в полицию. Но буржуазные мужья зябко поводили плечами. Они боялись фронта и не хотели выказывать себя патриотами. Патриоты сейчас в большой цене. А их становится все меньше и меньше. Человек в гимнастерке говорил святую правду: крах, крах всему! Он доказал это, оперируя цифрами. Попробуй опровергни, что полиция расстреляла рабочих в Иваново-Вознесенске, когда молва о расстреле прокатилась по всей России. А «голодный бунт» женщин здесь же, поблизости, на Петровском заводе? Так как лекции о войне привлекали сотни людей, полиция и жандармы пришли в движение. Военный губернатор сказал начальнику жандармского управления: — Я хочу послушать вашего Василенко. Все-таки я военный губернатор! И если он в самом деле подстрекает — арестуйте его! — Мы так и сделаем. Есть сведения, что Василенко выехал в неизвестном направлении якобы для оформления документов по предстоящему призыву в армию. — Ага, значит, он и на войне-то не бывал? Тогда арестуйте его немедленно. Вы правы — это большевистский агитатор. Фрунзе в самом деле выехал из Читы. Он находился в Иркутске именно по призывным делам, так как год, указанный в паспорте на имя Василенко, подлежал мобилизации. Фрунзе понимал, что дольше в Чите оставаться нельзя. Его уже выслеживают. Месяц назад он написал Батурину письмо, в котором просил немедленно выслать московский паспорт — «железный». Ответа до сих пор не было. Возможно, Павла Степановича уже нет в Москве. Ведь его тоже могли призвать в армию. Оставался один путь: под фамилией Василенко отправиться на фронт. Но ему пришлось срочно покинуть Иркутск. Пришла телеграмма от Софьи Поповой: «Был Охранкин». Это означало, что на квартире Фрунзе жандармы произвели обыск. Наверняка дознались, кто живет по паспорту Василенко. Вероятно, сообщили обо всем в Иркутское жандармское управление. В Сибири оставаться больше нельзя! Круг сжимается. Он вернулся в Читу. Софья Алексеевна передала ему письмо от Батурина. Павел Степанович сообщал, что задержался с ответом, так как переменил адрес. Теперь он служит репетитором у известного московского промышленника Чернцова, занимает в его доме комнату и с нетерпением ожидает брата Арсения. Достать паспорт быстро не удалось. Потому-то и высылает свой, так как по всему видно, что дело не терпит промедления. Было еще несколько строк, которые вызвали у Фрунзе приступ острой тоски: умер во Владимирской каторжной тюрьме Павел Гусев. Добила чахотка. Он все ждал ссылки в Сибирь, мечтал встретиться, присылал свои стихи. Еще недавно Фрунзе написал ему:«Да, скоро кончится твоя неволя, и скоро, уж скоро ты будешь со мной. Своих литературных опытов не прекращай. Я не думаю, что ошибся в тебе. У тебя несомненный талант. Ты можешь и должен еще в тюрьме создать что-нибудь крупное. Твой брат Арсений».И вот нет Павла Гусева… Нет! И никогда они не встретятся. Мир устроен нелепо, гнусно. Почему живет Пуришкевич? Почему смерть взяла Павла Гусева? Классовое угнетение — не просто социальная категория, оно зримо выступает на каждом шагу то в виде кандалов и каторжных тюрем, то гремит залпами расстрела на Лене, то оборачивается кровавой бойней, затеянной лабазниками лишь для того, чтобы вытеснить Германию со своих рынков. Все светлое, разумное загнано на каторгу. И как трудно угнетенному классу дать своего поэта, своего мыслителя! Чем была наполнена твоя жизнь, Павел Гусев? Тебе было двадцать два года, когда тебя бросили в тюрьму. Ты так и не узнал, что такое любовь. Но зато ты в полную меру ощутил нечто большее, чем любовь: классовую ненависть. Ты жил борьбой, и она озаряла каждый твой шаг. Ты жил не для себя… Дворянин Василенко исчез. Появился репетитор промышленника Чернцова Павел Степанович Батурин. Репетитор попал в Читу не случайно. Он приехал сюда для поправки здоровья (подальше от войны!). Но поправить здоровье не удалось (тихое помешательство), и репетитор потребовал, чтобы его отправили обратно в Москву. — Сопровождать тебя будет моя подруга Сосина, — сказала Софья Алексеевна. — Наденем на нее белый халат. Веди себя, ради бога, как тихий помешанный. А не как буйный… На всех заборах и театральных тумбах появились крупные афиши, извещающие о предстоящей лекции Василенко. Жандармы и полицейские приготовились. 1 марта 1916 года в поезд дальнего следования села скромная медицинская сестра. Она держала под руку тихого молодого человека с гладко выбритым лицом и отсутствующим взглядом. В тот же день на тумбах появились объявления, извещавшие о том, что лекция В. Г. Василенко не состоится ввиду болезни лектора. В Чите свирепствовала эпидемия гриппа. Фрунзе сказал Сосиной: — А знаете, у алжирского бея под самым носом шишка!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВОЙДИ В РАСКРЫТЫЕ ВОРОТА ВОЙНЫ
Самое сложное общественное явление — война. Может быть, потому, что у нее несколько причин, и психологические мотивы (то, что люди недалекие или преднамеренные выдвигают, как правило, на первый план) стоят всегда на самом последнем месте. Произвольно или непроизвольно происходит завышенная оценка частных мотивов, преувеличение их значимости. Так было, когда главной причиной старались выставить пресловутый выстрел в Сараево. Дескать, сербский гимназист-патриот Гаврила Принцип убил эрцгерцога Франца-Фердинанда. В конфликт, вызванный убийством наследника австрийского престола, вступили сперва Австро-Венгрия и Сербия. Германия объявила войну России, рыцарски вступившейся за небольшой славянский народ. Затем Германия объявила войну Франции и, неизвестно почему, Бельгии. Англия объявила войну Германии, Австро-Венгрия — России, Черногория — Австро-Венгрии и вместе с Сербией — Германии, Франция — Австро-Венгрии, Англия — Австро-Венгрии, Япония — Германии, Австро-Венгрия — Японии и Бельгии, Россия — Турции, Франция и Англия — Турции. Потом в войну вступили Италия и Болгария, Румыния и Португалия. Италия долго качалась в нерешимости, к кому ей примкнуть: к немцам или к Антанте. В Риме усердно трудились немецкие агенты. Тут издавались на немецкие деньги три итальянские газеты, основанные чрезвычайным послом князем фон Бюловом. Средства их были огромны, пропаганда велась широко и умело. И все-таки в конце концов Италия примкнула к Антанте. Спрашивается: если страна долго выбирает, на чьей стороне ей драться, то при чем тут выстрел в Сараево? Позже в военную орбиту оказались втянутыми Панама, Бразилия, США, Коста-Рика и Гондурас, Греция, Сиам, Китай, Либерия. И пошла писать губерния!.. Когда у президента Коста-Рики газетчики спросили, кто такой Франц-Фердинанд, президент ответил, что никогда о таком не слыхал. Сиамцы, как оказалось, тоже ничего не знали о выстреле в Сараево. И получалось, что за какого-то никому неведомого наследника австрийского престола пролито крови в тысячи раз больше, чем за царей и императоров всех времен, взятых вместе. — Да стоит ли какой-то несчастный наследник, о существовании которого до его убийства никто и слыхом не слыхал, таких жертв? — спрашивали те самые недалекие люди. — А если мама сиамского короля вдруг прикончит папу римского? Из-за этого, по-видимому, нужно устраивать всеобщую свалку и пускать реки крови? И почему Япония, казалось бы враг России, ни с того ни с сего выступила на стороне России? И какое отношение ко всему этому имеет Панама? Во всяком случае, где, в какой части света находится Либерия? Что это: республика, монархия? Местом битв стали огромные пространства трех материков — Европы, Азии и Африки, морские сражения разыгрываются во всех уголках океанов и морей. Борьба ведется не только на земле, но и под землею: в Альпах противники постоянно взрывают друг друга посредством подземных траншей. Борьба ведется и под водой: взять хотя бы подводную блокаду Англии. Борьба ведется в воздухе. Появились танки, броневые автомобили и бронированные поезда. А газы? Говорят, и в России при Главном артиллерийском управлении образован химический комитет. Создана обширная сеть химических заводов для изготовления отравляющих веществ. Уже добыты десятки тысяч пудов ядовитой жидкости. Производство химических снарядов доведено до пятнадцати тысяч, а химических ручных гранат до ста тысяч в месяц. Во имя чего все?.. Так спрашивали наивные, недалекие люди. В то время как обезумевшие народы стран Entente cordiale («Сердечного согласия») и Тройственного союза истребляли друг друга, в Чите жизнь протекала без особых потрясений: жандармы и полицейские продолжали делать налеты на рабочие кооперативы и ловить беглых каторжан, каторжане продолжали устраивать побеги. Казалось, все идет так, как шло до войны. Военный губернатор Забайкальской области генерал-лейтенант Коляшко больше всего был озабочен, например, тем, удалось ли установить, кто скрывается под фамилией Василенко. — Так точно, — докладывал начальник жандармского управления. — Василенко и большевистский агитатор Михаил Фрунзе, бежавший из Оёкской тюрьмы, — одно и то же лицо. — Меры к аресту приняты? — Меры приняты, да арестовывать некого. Фрунзе умер. — Вы убеждены? Кто его хоронил? — История весьма запутанная. Фрунзе сел на московский поезд. Мы узнали об этом, когда он уже подъезжал к Москве. Сразу сообщили в охранное отделение. И что же? В Москве Фрунзе так и не появился. При обыске одного из членов кооператива «Эконом» мы нашли письмо от московских товарищей Фрунзе. Так вот, товарищи сообщили, что в дороге Фрунзе подцепил сыпной тиф, его сняли на какой-то станции, положили в больницу. Там он и скончался. — Ну а если все это подстроено все тем же Фрунзе, чтобы сбить вас и охранку с толку? — Сомнительно. Ведь не мог же предвидеть член кооператива «Эконом», что мы его арестуем и будем обыскивать? Письмо носит частный характер, написано малограмотным человеком, каким-нибудь рабочим, выполнившим последнюю волю покойного. Думаю, на деле Василенко-Фрунзе стоит поставить крест. — Вам виднее. Известный московский капиталист Чернцов был озабочен делами, так сказать, государственного масштаба. С недавних пор стали возникать земские союзы, которые добровольно взяли на себя благотворительные функции по отношению к фронту: помощь раненым и беженцам. Чернцов был одним из инициаторов создания союзов. Но он считал и всюду доказывал, что главное в деятельности союзов — не раздача иконок и гостинцев; для подобной работы годны и старухи. Главное: контролировать выполнение заводами военных заказов. Чернцов вел оживленную переписку с прифронтовыми комитетами земских союзов, с командующими фронтов и армий. Он искал единомышленников. Впрочем, одного из «единомышленников» он неожиданно обнаружил в собственном доме. Случилось так. Чернцов, занятый делами большой важности, мало обращал внимания на репетитора, натаскивавшего его сыновей-оболтусов по разным наукам. Репетитор жил здесь же, в особняке. И вот приходит репетитор и просит разрешения приютить в своей комнате (на несколько дней, конечно!) приятеля, приехавшего из Петрограда. Фамилия приятеля Михайлов, родители его живут в Петрограде. Сам Михайлов до недавнего времени служил в петроградском переселенческом управлении, но в порыве патриотических чувств службу бросил и теперь вот пробирается на Западный фронт. Кстати, он весьма высоко оценивает идею создания земских союзов. — Вы меня заинтриговали, — сказал Чернцов. — Сейчас родина особенно нуждается в патриотически настроенных молодых людях. Вы слыхали о случаях братания наших солдат с австрийцами на Юго-Западном фронте? Позор… Прошу вас и вашего друга к столу. Михаил Александрович Михайлов понравился Чернцову своей скромностью. Ел он мало, не набрасывался на паюсную икру, от вина совсем отказался. Был он весь какой-то светлый, отрешенный от мелочей жизни. И в прозрачных серо-голубых глазах — все та же отрешенность. Он не колотил себя в грудь, не заявлял открыто патриотом. В нем отсутствовала какая бы то ни было экзальтированность. Просто сказал, что слова высочайшего манифеста навели его на размышления. Он помнил манифест наизусть:«Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской земли дружно и самоотверженно встанут все верные нам подданные. В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага».— Так вот я все время думаю по поводу внутренних распрей и о тесном единении царя с народом, — сказал Михайлов. — Ваши земские союзы пока не проявили себя должным образом именно в этом направлении; деятели союзов больше всего умиляются тем, что удалось организовать питательные пункты Пуришкевича. Какой безответственный негодяй приказал стрелять в рабочих в Иваново-Вознесенске и Костроме? Или он не читал высочайшею манифеста? В то время как даже Государственная дума санкционировала вступление России в войну, находятся изменники в полицейских шинелях, которые снова расстреливают веру народа в царя. Я — экономист и лучше многих других понимаю, что это значит. Я понимаю одно: царю и августейшей семье нужен классовый мир. Мне кажется, что одной из причин развязывания войны и является стремление имущих классов всех стран отвлечь пролетариев от борьбы, притушить (или придушить) внутреннюю и внешнюю революцию. Чернцов со все возраставшим интересом слушал молодого человека. Ведь собеседник высказывал именно то, о чем Чернцов думал не раз, но никогда и ни с кем не делился своими мыслями вслух. — Потому-то его величеству и нужен классовый мир внутри России, — продолжал Михайлов. — За внутренний мир высказывается и председатель Думы Родзянко. Но пока капиталисты стреляют в рабочих, болтать о внутреннем мире — только раздражать рабочих. Вы, как промышленник, объясните мне ради бога: почему после начала войны вдруг оказалось, что большинство русских заводов находилось в зависимости от германского импорта? И вот даже сейчас почти повсюду не хватает какой-нибудь мелкой, но существенной детали, изготовляющейся только в Германии. Что это? Предательство? Или никто из русских дипломатов, живших годами в Германии, так и не заметил, что по всей стране происходит замена деревянных шпал стальными, что уже само по себе должно было навести на мысль о готовящейся войне? Всех предателей — под суд!.. У Чернцова проступила испарина на лбу, он то и дело поправлял пенсне на черной ленте. — Я еще никогда ничего подобного не слышал! Вы — не просто экономист. Вы — человек с государственной головой. Вы мыслите оригинально, смело. Очень смело! Вы — настоящий патриот. Если бы вы согласились остаться… Мне нужен именно такой человек. Я имею в виду Комитет земского союза. Михайлов со смиренным видом, но твердо произнес что-то по-латыни. — Рок истории руководит событиями через людей, — перевел репетитор. — Значит, вы твердо решили ехать на фронт? — Да. Если по состоянию здоровья меня не зачислят в рядовые, буду работать в местном фронтовом комитете земского союза. — Одобряю. Я могу вас рекомендовать. Кроме того, вы сможете передать от меня записку главнокомандующему армиями Западного фронта генерал-адъютанту Эверту. Мы с ним однокашники… Берегите себя, Михаил Александрович. Такие люди, как вы, нужны отечеству. И не со всяким будьте так откровенны, как со мной. Откровенность нынче не в цене. Могут не понять и истолковать превратно. Когда молодые люди остались одни, репетитор расхохотался. — Вы неподражаемы, Михаил. Я слушал и только диву давался: откуда у вас такая невероятная осведомленность? Очаровали Тита Титыча. Этот каналья сразу почувствовал в вас порох. То, чего им всем не хватает. Вы угодили в самую точку: классовый мир! Они спят и видят классовый мир. Вот теперь и я отлично понял, для чего им потребовались земские союзы. Представляю, заявляетесь вы к такому однокашнику в генеральских погонах и говорите: «Алеша, кончай войну! Твой однокашник Титуся уже нагрел руки на поставках, теперь боится, как бы и его сынков не погнали на фронт. Затеял игру в земские союзы. Не кончишь — сами кончим! Пойми, дурачок: классовый мир невозможен». Михайлов был серьезен. — Мне оставаться здесь больше нельзя, — сказал он. — Постарайтесь, Павел Степанович, заполучить рекомендательные письма у вашего капиталиста в полосатых брюках. Пригодятся. У меня будет предлог вырваться на передовые позиции. С «железкой» поторопитесь. С кем конкретно связан МК в комитете Западного фронта Всероссийского земского союза? — Вам придется разыскать Любимова. Да вы его знаете так же хорошо, как и я. Наш, ивановский. — Исидор Евстигнеевич? — Он самый. Заведует хозяйственным отделом в земском союзе. А в общем, в Минске засилие меньшевиков, эсеров и кадетов. Бундовцев тоже хватает. — Партийная организация создана? — По-видимому, вам и придется заняться созданием. Рассматривайте это как задание МК. Я уже говорил с товарищами. С Третьей и Десятой армиями связи у нас нет, хотя там безусловно имеются большевики. С ними нужно связаться. Так что ваша деятельность будет проходить в прямом и переносном смысле на весьма широком фронте. Взорвать к чертовой матери эту адскую машину изнутри! Эх, махнуть бы с вами! Не отпускают. — Имея такую крышу?.. Нет, все разумно. Вы у нас — опорный пункт. Без вашего паспорта я пропал бы ни за понюшку табаку. Трясли всю дорогу. Потому-то и махнул вместо Москвы на Петроград. Догадался, что в Москве охранка готовит мне достойную встречу. Андрей Бубнов велел вам кланяться. Он сейчас в Петрограде. — А мы здесь переволновались. Не знали, что и подумать. На вокзал провожать Михайлова пришли сестры Додоновы, с которыми он познакомился несколько дней назад. Аня работала в городской управе, Маша училась на Высших женских курсах. Со стороны могло показаться: вот молодой человек, по-видимому, уезжает на фронт. Одна из провожающих девиц, должно быть, сестра, другая — невеста. Несчастная молодежь… Сколько трагедий породила война! Здесь же, на перроне, оживленно переговаривались три дамы буржуазного вида. — Кто бы говорил, дорогая, кто бы говорил: ведь она, по крайней мере, на пятнадцать лет старше своего нового шофера! — Но ведь есть разница между мужем и шофером. — Я очень рада, что ты осознаешь это. Конечно, есть разница. Во всяком случае, я всегда думала, что должна быть! — О, она так безумно влюблена в него… А муж решил положить всему этому конец — и отправил бедного мальчика на войну. Коварство и любовь. Михайлов на прощание сказал сестрам: — Батурину, по всей видимости, выехать в Петроград не удастся. Придется вам взять все на себя. Михайловы знают меня хорошо еще по Пишпеку. Я учился с их сыном Мишей в гимназии. А здесь, вернее во Владимире, он был моим свидетелем на суде. Когда я недавно оказался в Петрограде, то сразу же пошел к ним. Они обрадовались. Они всегда меня любили. Но у них большое горе: полгода назад Миша пропал без вести. Так вот: если он не объявился, то постарайтесь уговорить стариков. Понимаю: им будет тяжело. Психологически. Но для меня другого выхода нет. Объясните им это и передайте от меня поклон. — Мы сделаем все, что в наших силах. Ждите «железный» паспорт. — У Мамина-Сибиряка один купец говорит: «Избавьте меня от сидонима». Они расцеловались, как и положено близким людям. Сестры даже всплакнули. Туманная ночь. Тускло мерцают станционные огни, как-то придавленно и угнетенно пыхтит паровоз, точно простудился, — сырость не позволяет ему мощно дышать. Звон колокола. Свисток. В вагоне тесно, душно. С верхних полок торчат ноги в военных штанах, примотанных у щиколоток тесемками. Шерстяные носки. Желто мерцает оплавленная свечка в фонаре. Михайлов притулился к чьей-то спине и постарался заснуть. Но сон не шел. На фронт! С тех пор как узнал о начале войны, тянуло на фронт. Вот так стрелка компаса: как ее ни мотай, как ни болтай, а она знай себе тянется к своему полюсу. Фронт, должно быть, и есть его полюс. Всякие соображения отступают перед страстным желанием видеть все своими глазами, самому быть там, в гуще солдатской массы. Это даже трудно объяснить на словах. Ни угроза смерти, ни бризантные снаряды, ни окопные вши — ничто не может отвратить его. Как для некоторых растений необходима строго определенная среда, чтобы они могли нормально развиваться, так и для него нужна его среда, без которой нет ни жизни, ни дыхания, ни смысла бытия, — массы. Они стимулируют его рост, каждый его шаг. Без масс он начинает увядать, чувствовать свою никчемность. Солдатские массы — все те же народные массы, двигательная сила любого общественного организма и явления, будь то государство или война. Под мерный перестук колес он задремал, и, как в прежние юношеские времена, откуда-то издалека, из глубины веков, прорвался эпически спокойный голос:
На площадь все собралися, толпой многочисленно-шумной
Там окружил их народ. Благородные юноши к бою
Вышли из сонма его: Акроней, Окиал с Элатреем…
МИХАЙЛОВ СТАНОВИТСЯ ЗЕМСКИМ ДЕЯТЕЛЕМ КРУПНОГО МАСШТАБА
Комитеты Земского союза были хитроумной выдумкой буржуазии. Классовый мир во что бы то ни стало! Фрунзе и его товарищей большевиков интересовали не комитеты, а те полтора миллиона солдат, которые были сосредоточены на Западном фронте. Новый сотрудник Земского союза Михайлов делал поразительные успехи. Давно ли он был военным статистиком, мелкой сошкой, штафиркой! Через месяц он стал помощником районного заведующего хозяйством, а еще через месяц — заведующим хозяйством. И вдруг все увидели его в роли заведующего целым хозяйственным отделом Всероссийского земского союза при Десятой армии. Он сделался очень важным лицом. Носил офицерскую форму, шведскую кожанку, разъезжал в автомобиле и принимал в определенные часы. Армия велика, а ему нужно побывать во всех штабах, в полках, на передовых. Иногда он оставляет в полках на несколько дней своих уполномоченных Любимова, Мясникова, Фомина, Кривошеина, Станкевича. Иногда сам надолго застревает на передовых. Не так-то легко увязать все хозяйственные вопросы! Приходится выезжать на промышленные предприятия, в волости. Генералы здороваются с ним за ручку, заискивают перед ним, стараясь выклянчить что-нибудь для своей дивизии или бригады; а он с ними рассуждает о так называемом наполеоновском методе снабжения, когда магазинная система довольствия сочетается с системой довольствия местными средствами. Генералы, малосведущие в вопросах снабжения и тыла, слушают его, развесив уши. А в это время на передовых, на предприятиях и в белорусских селах идет скрытая работа. Начальник жандармского управления доносил по этому поводу минскому губернатору Гирсу: «Здесь образован большевистский областной комитет, коим принята резолюция о призыве к стачке для перехода потом к вооруженному восстанию в тылу и на фронте». Губернатор разослал секретные циркуляры всем начальникам отделений полиции. Он поставил в известность о готовящемся восстании командующего Западным фронтом Эверта, поскольку, по имеющимся сведениям, в работе большевистского комитета принимают активное участие и военнослужащие. А заведующий хозяйственным отделом Михайлов, проявляя завидную энергию, носился в автомобиле вдоль линии фронта, опрашивал солдат, а потом что-то говорил нм, по-видимому разъясняя, что к имуществу нужно относиться бережно, поскольку запасы тыла совсем иссякли. После его отъезда солдаты ходили с заговорщическим видом. Неизвестно откуда в окопах стали появляться прокламации, в которых говорилось не только о мире, но и о земле. Штыки в землю! Участились случаи невыполнения приказов рядовыми. И вообще, солдат сделался смелым, дерзким на язык, будто чувствовал за собой какую-то силу. Начальство всполошилось. Генерал Милков, вернувшись в Москву, продолжал думать о своем дорожном знакомом, назвавшемся Михайловым. — Я его встречал раньше при каких-то весьма щекотливых обстоятельствах! — воскликнул генерал. — «Преступника ведут — кто этот осужденный?» Помнится, смертная казнь. Да не владимирское ли это дело?! Он заторопился в судебный архив. Через неделю отыскал то, что нужно. «Фрунзе! За него я еще получил нахлобучку от командующего Московским округом. «В твоей руке сверкает нож, Рогнеда!» Бог ты мой: два смертных приговора, каторга, вечное поселение! Бежал… «Славное море, священный Байкал…» Нужно запросить Иркутск. Сомнения нет: это он. Фотография скверная, но ничего. Теперь не уйдет. Срочно сообщить Эверту, минскому губернатору и начальнику Минского жандармского управления. Опасная штучка. Он весь фронт развалит, если уже не развалил… И как это он ловко ввинтил мне насчет драгоценностей, Суворова и его потомков. Загипнотизировал. Любовь Аль-санна, Аль-санна Федоровна… А я, старый осел, развесил уши…» Жандармы и полиция по всему Минску старались напасть на след «титулярного советника Михайлова». Их оказалось несколько десятков. И все они внешне походили на ту скверную фотографию, какую генерал Милков выслал из Москвы. Начальник жандармского управления твердил: — Михайлов! Попробуй найди человека с такой выразительной фамилией. А может быть, он давно и не Михайлов вовсе, а Иванов, Петров, Сидоров. Приметы удивительные: «интеллигентного вида, русый, хорошо играет в шахматы, говорит по-французски». Я вот, к примеру, тоже хорошо играю в шахматы, и говорю по-французски, и у меня русые волосы. Минск находился на военном положении. Задерживали бесцеремонно, по малейшему подозрению, документы проверяли придирчиво. Фрунзе испытал большое облегчение, когда получил от Батурина настоящий паспорт на имя Михаила Александровича Михайлова. Видно, сестрам Додоновым удалось выехать в Петроград и уговорить стариков Михайловых. Значит, Миша так и не объявился… Там, в Петрограде, была чужая трагедия: пропал без вести сын, и нужно отдать его документы другому, чья свобода каждую минуту висит на волоске, словно бы добровольно отказаться от последней надежды на возвращение сына; но эта трагедия была и его трагедией, так как он потерял преданного друга, который уже однажды спас ему жизнь. Самым неожиданным образом Фрунзе попал в беду во время поездки в Ивенец. Острый приступ аппендицита. Его направили в госпиталь. Госпиталь был переполнен ранеными. Операция прошла не совсем удачно. Врач сказал: — Придется полежать месяц. Но жандармы, обшарив весь город, добрались и до госпиталя. Они все чаще и чаще стали появляться в палатах, бесцеремонно заглядывая в лица больных. — Я хочу выписаться досрочно, — сказал Фрунзе врачу. — Тяжелораненых много, а я могу потерпеть. Врач, по-видимому, догадавшись, в чем дело, возражать не стал. — Собирайтесь! И немедленно. Они опять пожаловали. Я проведу вас служебным ходом. Повидавшись с Любимовым, он в тот же день выехал в Москву. Чувствовал себя скверно. Решил предупредить Батурина телеграммой. Вышел на какой-то станции, отправил телеграмму и забрел в буфет выпить стакан чаю. Но в дороге ему «везло» на встречи; прямо перед собой он увидел жандармского ротмистра Иванова, который в свое время снимал с него допрос. Иванов кивнул ему, как старому знакомому. А может быть, он кивнул кому-нибудь другому. Когда поезд тронулся, Фрунзе прыгнул в чужой вагон. Ротмистр как будто отстал. Проехал несколько станций, вернулся в свой вагон. Ничего подозрительного. Покружив по Москве, чтобы запутать шпиков, поехал на квартиру Батурина. Павел Степанович встретил радостно, но, выслушав историю с жандармским ротмистром, встревожился. — Черт его знает, что у него на уме. Во всяком случае, здесь оставаться вам рискованно. — Поедем, Михаил Васильевич, со мной в деревню, к моей матушке. Я возьму отпуск. Там и отдохнете, и подлечитесь, — предложила Анна Додонова. — Что ж, свалимся вашей матушке, как снег на голову. Спасибо, Анна Андреевна. Я с радостью… …Рязанщина. Глухой хутор. По ночам лают собаки. Облетевшая березовая аллея, уходящая вдаль. Морозные утра, уютный, теплый дом. У окна — Анна за старинным бюро. На ней длинное платье, освеженное рюшем из старого кружева. Волосы стянуты красивым узлом. Сельская тишина. Как будто и нет войны, окопов, бризантных снарядов. — Постарайтесь понравиться маме, — говорит Анна. — Ей всего не объяснишь. Она у меня строгая, набожная. Вот та противная черная монашка так и трется возле нее. Приживалка… — Беру на себя монашку, — отвечает он, смеясь. Когда за ужином заговорили о войне, Фрунзе поднял глаза к потолку и произнес: — В «Откровении» апостол Иоанн пророчествовал, что некогда народы сойдутся на месте, нарицаемом Армагедонн, и битва будет продолжаться целый день. Свершилось. День — иносказание. Монашка бросила на Фрунзе недоверчивый взгляд: — Вы знаете «Откровение»? — И не только. Он полтора часа подряд сыпал цитатами из Библии, из «Житий святых», из Евангелия и даже из псалтыря. Монахиня была сражена. Мать Анны сказала: — Вот видишь, какой хороший человек Михаил Васильевич, знает Евангелие, а ты, безбожница, сама не веришь и нас смущаешь. Потом, когда старушки ушли, Анна и Фрунзе долго смеялись. — Да вам хоть сейчас на амвон! Вот уж не подозревала. Думала, вы только Маркса, а вы и Матфея, и Луку. — А я и псалмы петь умею. В «Николаевском университете» всему научишься от скуки. Приходится, помимо главного, знать массу всякой чепухи: например, Уголовное уложение, то есть право, которое должно быть уничтожено и будет уничтожено, как мне кажется, очень скоро. В революционной буре погибнет многое из того, что сейчас кажется несокрушимым, вечным. Ограниченность в людях воспитывали веками. Предположим, просыпаетесь вы утром — и ни одного жандарма, ни одного полицейского, ни одного капиталиста и помещика. А вы, Анна Додонова, ведаете просвещением масс в республиканском масштабе. — Такое в самом деле невозможно представить. — А ведь будет. — А какое место отводите вы себе? — У меня есть один крупный недостаток: я не умею мечтать о будущем расплывчато, так сказать, в дымке романтики. Для меня оно всегда выступает в конкретных, материальных формах. Символиста из меня никогда не получилось бы. Когда в стихах современные модные поэты снобируют своим «не» и «ни», меня охватывает злость. Откуда подобное бессилие в молодых людях? Или это просто-напросто поэтический форс?.. О себе? Закончу образование в Политехническом, а там видно будет. Я ведь еще в Манзурке задумал писать «Историю сибирской ссылки». Такая работа потребует много лет. Потомкам для сведения. После революции я непременно создал бы общество политкаторжан и ссыльно-переселенцев. И чтобы каждый написал свои воспоминания. Еще я создал бы Иваново-Вознесенскую губернию, как она мне представляется. Очень грустно, что умер Максим Максимович Ковалевский. Совсем недавно. Когда что-нибудь делаешь вроде бы для себя, то в конечном итоге выходит, что делаешь все-таки для других. К примеру, все мои экономико-статистические задумки или «История сибирской ссылки». Всегда почему-то представлял Ковалевского: как он посмотрит, как отнесется? Выходит, что для себя-то ничего и не нужно. Даже любознательность, желание прочитать как можно больше книг — в конечном итоге опять же не только для себя. Знание — оружие. А если оно не оружие, то зачем оно? Если бы существовал поповский рай, то я там занимался бы столярным делом. — И подбивали бы ангелов к восстанию. — Это само собой. — Вот такой вы и есть: сгусток воли и энергии. — Стоп. Я ведь тоже умею говорить комплименты дамам. — Да какая ж я дама? Тоже скажете… — Большевистская дама. — Дразните? — Просто думаю, что появился новый тип женщины. Причем это массовое явление. Раньше ведь как: требовали эмансипации. Но эмансипация нужна буржуазной даме. А вы требуете равенства. И не только требуете, а боретесь за него, не отъединяя себя от мужчин. Следовательно, равенство, в отличие от эмансипации, — категория классовая. Короче говоря, я восхищаюсь вами, революционерками. Вот манзурские бабы по-своему понимают независимость: там в семье женщины и мужчины имеют свои отдельные кассы. Баба продает холст, масло, а деньги складывает в кубышку. Ну а мужик — все, что выручил за извоз, пропивает. Одеваются тоже каждый на свои капиталы. Ну а что касается воли, энергии, то ведь жизнь — движение; застой — смерть. Вот Гегель, например, утверждает, что процесс жизни состоит в отношении индивида, как субъекта, к окружающим его объектам. А мне этого мало. Ведь какая-нибудь каракатица или амеба тоже по-своему опознает мир. Куда заманчивее считать себя инструментом преобразования мира на разумных началах. У меня иногда появляются странные мысли о переходе эволюционного времени в историческое. У таракана, стрекозы и скорпиона нет истории: за миллионы лет они ничуть не изменились — их находят в геологических пластах самых отдаленных эпох. Время сделалось историческим лишь для человека, для человеческого общества. Вот мы говорим: история человечества — это история борьбы классов. С железной необходимостью отомрет самодержавие, отомрет капитализм. Начнется эра социализма. Теперь скажите: когда отомрут классы и во всем мире утвердится бесклассовое общество, какое содержание обретет история человечества? Мы ведь тогда уже не сможем сказать, что история есть история борьбы классов?.. Он умел ставить вопросы, которые будили мысль. Он думал как-то по-своему, не по-книжному. И казалось бы, давно знакомые вещи вдруг оборачивались своей неожиданной стороной. Думал он с каким-то наслаждением. Когда думал вслух, то как бы спорил сам с собой. Однажды он сказал: — Личное будущее может не состояться. Тюрьмы, ссылки, смерть. Так случилось с моим другом рабочим Павлом Гусевым. А общее будущее обязательно состоится. Эта убежденность и придает мне силы. Ведь у жизни несколько измерений, и длина, как мне кажется, — не главное из них. Фрунзе отдыхал. Время проходило в спорах, в дружеских беседах. Анна Андреевна оказалась начитанной девушкой. Философия, биология, история искусства. Часов в одиннадцать садились за книги по философии, вечерами читали художественную литературу. Анна Андреевна написала сестре в Москву:«И если раньше я знала о нем лишь то, что известно всем нам, то теперь передо мной раскрылась личность исключительная».И все-таки она не знала о Фрунзе все. Он часто в одиночестве бродил по замершей, пустынной березовой аллее. В его ушах снова гремели боевые колесницы всех времен. Он читал работы Клаузевица, «Военную энциклопедию», военные статьи Энгельса, изучал жизнь и деятельность Тюреня, которого высоко ценил, считая великим полководцем. Генрих де-ла-Тур-д’Овернь Тюрень начал военную карьеру простым солдатом с двенадцати лет. В тридцать три года он уже самостоятельно командовал всей французской армией. Он был предшественником Наполеона в области стратегической и в области организации тыла и снабжения. Тюрень был мастером деятельного и искусного маневрирования на театре военных действий. В то время как современные ему полководцы видели единственную цель своих действий в осадах крепостей, Тюрень всегда искал активного боя на театре военных действий. Наполеон говорил о военном искусстве Тюреня: «Оно полно смелости, мудрости и гениальности». Но больше всего занимало то, что происходит на фронте сейчас. За месяцы службы в Земском союзе Фрунзе прошел подлинную военную академию. Он во всех деталях изучил страшный механизм войны, соприкоснулся с плотью и кровью современного боя. Его острый глаз подметил многое, что проходило мимо внимания штабных офицеров и командования в целом. Накапливая факты, он беспрестанно анализировал. Он пришел к выводу, что сущность современной войны заключена в том, что война сейчас втягивает в свой круговорот и подчиняет себе решительно все стороны общественного быта, затрагивает все без исключения государственные и общественные интересы. Театром военных действий, в отличие от прошлой эпохи, являются теперь громадные территории с десятками и сотнями миллионов жителей; технические средства борьбы бесконечно развиваются и усложняются, создавая все новые и новые категории специальностей, родов оружия. В то время как в прежних войнах момент непосредственного руководства вождей отдельными частями боевого организма составлял обычное явление, теперь об этом не может быть и речи. У него в голове постепенно выкристаллизовывалась некая очень важная, очень большая, грандиозная мысль о военной идеологии воюющих армий Германии, Франции, Англии, России. Это было лишь аналитическое ощупывание того, что пока не имело определенного названия — военная идеология или военная доктрина. Он отметил ярко выраженный наступательный дух германской армии, идею активности, искание решения боевых задач путем энергичного, смелого и неуклонно проводимого наступления. Вот эта наступательная идея и определила собой структуру всего германского военного аппарата, а воспитание и обучение всех войск в духе наступательной тактики подготовило военную силу, обладающую высокими боевыми качествами. Но почему германская армия насквозь пропитана наступательным духом? Может быть, у немцев особо даровитые военные деятели, силой своего гения открывшие тайны побед? Глупость, конечно. Основные черты германской военной идеологии — не случайное явление; они целиком и в полной мере — производное от общего строя германского экономического быта и жизни. Правящий в Германии буржуазный, класс всю жизнь страны подчиняет основной государственной цели — победе над конкурентами, кричит о мировом могуществе. Буржуазии удалось развратить и подчинить своему влиянию даже значительные слои германского пролетариата, класса объективно враждебного той хищнической линии поведения, которая проводится буржуазией… Никогда германским генералам не удалось бы создать своего военного учения, своей доктрины, и даже если бы это было сделано, они не сумели бы привить ее всей толще германской армии, если бы этому не благоприятствовали соответствующие условия германской жизни. Франция и Англия также являются представительницами хищнического империализма. Только в спорах с конкурентами из-за добычи французской буржуазии, например, не хватает той откровенной наглости и самоуверенности, которыми отличается германская правящая клика. Французская буржуазия более труслива, оппортунистична, хотя у французской армии богатейшие военные традиции. Что же касается Англии, то ее военная идея вылилась в известную формулу, обязательную для всех английских правительств: иметь флот, равный соединенным флотам двух сильнейших морских держав. Ну а Россия, матушка Русь?.. У нее тоже своя «доктрина»: православие, самодержавие, народность. В атмосфере полицейско-самодержавного строя, с подавлением им всякой общественной и личной инициативы, на фоне общей экономической и политической отсталости, при крайней рутине навыков и взглядов во всех сферах общественной деятельности, разумеется, не может быть и речи о каком-то широком научном творчестве. Все эти уродливости особенно ярко сказываются в постановке военного дела, где беспощадно и в корне пресекается пытливая мысль. Но несмотря на это, русские полководцы по своим индивидуальным дарованиям никогда не уступали германским, французским, английским, а очень часто превосходили их. Еще в госпитале Фрунзе с пристальным вниманием следил за наступательной операцией Юго-Западного фронта. Противостоящая группировка австро-венгров имела превосходство в силах на шесть пехотных и две кавалерийские дивизии. Кроме того, противник построил три оборонительные позиции глубиной свыше десяти километров. Особенно сильной была первая позиция, состоявшая из трех линий оборонительных сооружений. Проволочные заграждения — пятнадцать кольев в глубину, по которым пущен электрический ток, траншеи, блиндажи… Казалось бы, русским войскам никогда не прорвать эти неприступные позиции. Но генерал Брусилов прорвал. За три дня русская армия проникла в глубь обороны «голубых» более чем на тридцать километров, и вот теперь она подошла чуть ли не к Карпатам. У Фрунзе появился интерес к личности Брусилова. Кто он? В то время как немцы под Верденом, а союзники на реке Сомма так и не продвинулись ни на шаг, плохо обеспеченные русские войска совершили тактическое чудо: вышли на стратегический простор. Ум жесткий и предусмотрительный сковал противника на всем фронте и внезапным коротким ударом смял, отбросил его, навязал ему свою волю. То был прорыв на нескольких направлениях фронта — явление доселе невиданное. Раненые офицеры конных полков приказывали нести себя впереди цепей и испускали дух на неприятельских орудиях. Но как и предполагал Фрунзе, все кончилось ничем. Верховное командование не обеспечило Брусилова резервами, вмешалось в ход операции и своими противоречивыми приказами поставило наступающую армию в роль буриданова осла. Командующий Восьмой армией так и не понял, куда ему следует наступать — на Ковель или на Львов. Можно представить себе глухое отчаяние Брусилова. Все его планы, все его успехи были сведены на нет. Еще одно усилие — и Австрия запросила бы мира. Но резервы так и не были подброшены. Декабрь завьюжил с первых дней. Пора было возвращаться в Минск. Фрунзе чувствовал себя окрепшим, отдохнувшим. Оказывается, самое главное — дать отдых нервам. Беспокоило одно: по военному времени трудно было найти подводу до станции Кораблино. — Не нашли сегодня, найдем завтра, — успокаивала Анна Андреевна. Утром, во время завтрака, в дом ввалился урядник. Урядник как все урядники: усатый, краснорожий, с острыми, ощупывающими все и всех глазками. Деловито расстегнул ремни, снял полушубок. Поздоровался. Анна Андреевна сидела за столом ни жива, ни мертва, бросала тревожные взгляды на Фрунзе. А он продолжал невозмутимо студить чай на блюдце. — Милости просим к столу, — пригласила мать Анны. Урядник перекрестился на икону и сел. — А у вас в гостях незнакомое лицо, — сказал он бесцеремонно. — Дальний родственник, батюшка. На поправку здоровья приезжал. А теперь вот — снова на фронт. Ждет подводу. — Ну это другое дело. А то я вот по всему уезду дезертиров и укрывающихся ловлю. Вижу: у Додоновых незнакомое лицо, думаю, проверить надо. Уж не дезертир ли? Хе-хе-хе. Фрунзе поставил блюдце, с ненавистью взглянул на урядника, порылся в кармане и положил на стол документы. Урядник догадался, что допустил бестактность. — А вы не серчайте, молодой человек. Все вы, фронтовые, ух как злющие. Я ведь по службе. Насчет подводы не извольте беспокоиться. Да ее и искать далеко не нужно. Вам, как понимаю, на станцию. Мне тоже до Кораблино. В розвальнях всем места хватит. И вам, и провожающим. Тулупчики с собой возьмите. Фрунзе поразмыслил. Вроде без подвоха. Анна Андреевна вынула из буфета рюмку, графин с водкой, налила уряднику. Выжрав графин водки, урядник стал пунцовым, повеселел. — И э-э-эх, прокачу с ветерком! Мой саврасый, поди, застоялся… Анна Андреевна сообщала сестре Марии: «За все время нашего пребывания было одно нарушение нашего покоя — к нам заехал урядник». Из Минска Фрунзе дал телеграмму в Читу Софье Алексеевне: «Выезжай». Она, не раздумывая, бросила работу в Переселенческом управлении и приехала. Он бежал по перрону. Мимо — стекла вагонов экспресса. Она стоит с чемоданами на ступеньках. Знакомые темные смеющиеся глаза, опушка воротника, высокая меховая шляпка, меховые сапожки. Она не ожидала, что он ее встретит. Робкий поцелуй. Оба сбивчиво рассказывают обо всем сразу; смеются счастливые оттого, что наконец вместе. Приехала, приехала! Одно только слово — а как звенит! Едут в его крохотную комнату над Свислочью. На бледном небе яркое солнце, снег прорезан синими тенями. Потом она устраивает елку. Вынимает изчемодана сахарный пряник. Он уже оббился, по лицу краснощекого Деда Мороза — ломаная ниточка трещины в сахаре. Серебряные звезды. — Все как у людей, — говорит она с усталой и ласковой улыбкой. За синеватыми узорами стекол — сыпучие сугробы. Она сидит, накинув на плечи меховую накидку. В нетопленом Минске сейчас холодней, чем в Чите. И все-таки никогда обоим еще не было так уютно, как сейчас. Он думает о семейном счастье. Все как у людей… — Не хочу учиться, хочу жениться! — говорит он шутливо. — Завтра же… Такого счастья еще не было никогда в моей жизни. Ему казалось, что жандармы, потеряв его след, угомонились. Но приходит посыльный от Любимова. Записка:
«Немедленно переходи на нелегальное. Здесь оформим как отпуск. Есть предписание Эверта и полицмейстера о твоем аресте. Софью Алексеевну на время устроим в отделение Земского союза в Лунинец. Не теряй ни минуты».Он протянул ей записку. Она побледнела. — Встретимся в Лунинце. Иди, Миша, а то я умру от страха за тебя… — Короткое же наше счастье… Гоняют, как соленого зайца. До каких пор?.. Он-то сразу догадался, кто его выдал. И тут случайность сыграла свою роль. Сегодня утром в Комитете земского союза в хозяйственный отдел зашел некто прапорщик Романов. Он говорил с Любимовым о каких-то армейских хозяйственных неурядицах, а сам искоса поглядывал на Фрунзе. Фрунзе-то его сразу узнал. Они ведь были знакомы еще по Шуе. Романов тогда не носил погон, он находился на тайной службе у полиции. Рабочие относились к нему с подозрением, не сомневаясь, что он провокатор. Это был тот самый агент, который в 1907 году сообщил уряднику Перлову о том, что Арсений объявился и выступает на митинге рабочих завода Толчевского. Утром Романов притворился, что не узнал Фрунзе. Но конечно же узнал. И сразу побежал к полицмейстеру. Полицмейстер связался с Гирсом, а тот — с командующим Западным фронтом. Все происходило именно так. Получив предписание Эверта, минский полицмейстер заготовил приказ об аресте Михайлова Михаила Александровича. — Взять его и доставить ко мне! Это большевистский агитатор Фрунзе, бежавший из Сибири…
НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГУБЕРНАТОР
Когда утром у подъезда особняка раздался шум автомобиля, минский губернатор Гирс не придал этому значения. Лежа на диване, он читал газету и прихлебывал из чашки кофе — его обычный завтрак. Сегодня ему почему-то вдруг невероятно захотелось гречневой каши. Простой гречневой каши без всяких приправ. Он уже хотел позвать повара, но раздумал. В конце концов нужно беречь фигуру. Из большого зеркала на Гирса глядел обрюзгший человек средних лет. Вошла жена. Голова ее была обмотана мохнатым полотенцем, как чалмой, и пахло от нее горячей мыльной водой и свежестью. Гирс знал: серное мыло, пятьдесят граммов розовой воды, сто граммов лавандового спирта, сто пятьдесят граммов уксуса — всё это при жирной коже. А чтобы росли ресницы, нужно смачивать их касторовым маслом… «Мне бы твои заботы…» — подумал он. Заученно сказал: — Вы чудная, изумительная женщина! — Не правда ли? Вы такой чуткий! Для всей империи мой муж — чиновник правительства, но для меня — вы всего лишь маленький мальчик, которому нужна мать. Она ушла, и Гирс вздохнул с облегчением. Мысли его вернулись к только что прочитанной газете. Да, всюду неспокойно. Трудно быть губернатором в прифронтовом городе. Начальник жандармского управления недавно жаловался, что врагов правительства развелось так много, что жандармы и полицейские прямо-таки сбиваются с ног. Взять хотя бы массовое выступление солдат на станции Осиповичи и на гомельском распределительном пункте. Тут уж не обошлось без большевистской агитации. А на фронте вообще черт знает что. Эверт — безвольная тряпка. Только вид бравый. Расчесывает крашеную бороду особым гребешком. А лоб вогнутый, и руки тонкие. Провалить все наступательные операции!.. Защитник отечества… Гирс любил эти утренние часы, когда никто не мешает размышлять о политике, о назначениях, повышениях и наградах. Он поморщился и не сразу понял, что произошло, когда дверь распахнулась и на пороге показались вооруженные люди с красными бантами на шапках и фуражках. Вперед выступил плотный человек среднего роста в кожаном пальто. — Именем революции вы, действительный статский советник Гирс, арестованы! — Что, что, кто вы такой?! Почему врываетесь в мой дом без разрешения? — Я начальник народной милиции Михайлов. — Но по какому праву? Фрунзе взглянул на него с презрением. — На основании решения Минского Совета рабочих и солдатских депутатов. Революция! Самодержавие пало. — Но без предписания свыше я никуда не пойду… — Пойдете. — Но это невозможно! — Слишком много «но». Одевайтесь или уведем в халате. Время не ждет. Его под охраной провели к грузовому автомобилю, где сидели, также под конвоем, начальник жандармского управления, полицмейстер и еще несколько высокопоставленных чиновников. Народная милиция? Откуда она взялась? Что знал Гирс о милиции? Знал, что в переводе с латинского это значит — военная служба, ополчение. Милиционная система существовала в древней Греции и древнем Риме. В те времена будущие милиционеры в обязательном порядке изучали философию. А тут врывается толпа каких-то мужиков во главе с этим Михайловым, которого не успели арестовать, и объявляет себя милицией, властью в городе… По какому праву? Впрочем, судя по всему, полицию и жандармерию уже разоружили, и сопротивление бесполезно. Нелепость: его, губернатора, начальника жандармерии и полицмейстера — в тюрьму! — Удастся ли нам бежать из тюрьмы? — спросил он на немецком у начальника жандармского управления. — Я не понимаю по-немецки, — угрюмо отозвался подполковник. — Не удастся! Мы позаботимся, чтобы не удалось. — Это сказал Фрунзе. И Гирс благоразумно умолк. Управление милиции расположилось в здании бывшего полицейского управления. Фрунзе, смеясь, говорил Мясникову и Любимову: — Кто бы мог подумать, что, ненавидя всей душой полицию, я стану во главе народной милиции? Парадокс. Но законы революции совершают всякие чудеса. Начальником милиции его избрали. Все произошло так. Узнав о падении самодержавия, он в поздний час созвал большевистский инициативный центр. Прибыли представители Третьей и Десятой армий. На этом же совещании (а проходило оно в здании Земского союза) был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. Фрунзе, став членом Исполкома единого Минского Совета, обратился с воззванием к гражданам губернии и создал газету «Известия Минского Совета рабочих и солдатских депутатов». Общее собрание рабочих и служащих Земского союза назначило его начальником городской народной милиции. Так как постановление поддержали рабочие и солдаты, то комендант города Самойленко вынужден был утвердить его. Но Фрунзе не ждал всех этих официальных утверждений: разоружив полицию и жандармерию, он с отрядом рабочих освободил политических заключенных из тюрьмы. Его деятельность в эти дни носила лихорадочный характер: он торопился поспеть всюду. Доставал винтовки и револьверы, спешно вооружал рабочих, обучал их. Все было как в 1905 году в Иваново-Вознесенске. Помогали ему революционно настроенные солдаты. По сути, он создал отряды вооруженных передовых рабочих. Сюда принимали по рекомендации фабрично-заводских комитетов. Фрунзе каждый день появлялся на промышленных предприятиях. — Верные слуги старого строя будут делать попытки вернуть для них старый порядок, — говорил он. — Нужно рабочему классу самому следить за ними, быть наготове в любой момент подавить малейшую попытку темных сил. Берите охрану общественной безопасности в свои руки. И получилось так, что реальная власть в Минске да и во всей губернии оказалась в руках милиции. А во главе ее стоял Фрунзе, человек твердый, не идущий ни на какие компромиссы с буржуазией, вообразившей, что настало ее время. Он не только руководил милицией, но и командовал сводным отрядом из разных войсковых частей, прикомандированных к штабу милиции. Это была сила, своего рода революционный полк, вооруженный до зубов. Во всех организациях было засилие эсеров, меньшевиков, кадетов, буржуазных националистов, бундовцев. Из своей среды они выдвинули на пост минского губернского комиссара некоего Авалова, бывшего царского офицера. А окопавшись в думе, решили взять под свой контроль и милицию, сместить Фрунзе. Завязывались новые, небывалые в биографии Арсения конфликты. Все те, в думе, и иже с ними, губернский комиссар, ставленник Временного правительства, буржуазные националисты из Белорусского национального комитета, еще не ощутили в полную меру, кто им противостоит. Для него они были враги заклятые, соглашатели, предатели, провокаторы, выкидыши империализма, буржуазная сволочь, лабазники; и в прошлой жизни и сейчас его неистовая воля неустанно работала против них; он видел их буржуазное нутро, он знал, что пришел наконец день, когда пролетариат оказался лицом к лицу, один на один с буржуазией. В партию эсеров хлынули мелкобуржуазные элементы с их извечной псевдореволюционностью, убогим фрондерством: чиновники, офицеры, мелкие и крупные лавочники, уголовники. К ним примкнула и определенная часть крестьянства, не подозревавшая, что социалисты-революционеры уже давно отказались от собственной аграрной программы. Фрунзе знал, что со всеми этими отбросами революции ему скоро придется столкнуться, сойтись грудь с грудью, и спешил. Действующие лица все те же: Родзянко, Милюков, князь Львов, Гучков, Керенский; председателем Петроградского Совета рабочих депутатов сделался меньшевик Чхеидзе. Открытый заговор буржуазии и ее пособников против рабочего класса. Эсеры и меньшевики добровольно отказались от власти, передали ее в руки буржуазного Временного правительства. Министр земледелия Чернов советует мужикам не захватывать помещичьи земли, так как это, дескать, поведет к обострению вражды. Все та же предательская проповедь классового мира во имя войны, все тот же обман народа… Необычный был в Минске начальник милиции. Вокруг него очень быстро, словно бы непроизвольно, сгруппировались те, кто здесь, в Минской губернии и на Западном фронте, представлял собой подлинные движущие силы революции: рабочие, крестьяне, солдаты. А возможно, он сам действовал именно в этих трех направлениях — город, деревня, фронт, стремясь охватить всю совокупность необычайно сложных проблем, поставленных с первых же дней революцией. Для него эта революция была лишь первой ступенькой. Она была первой ступенькой и для широких народных масс. Буржуазные националисты повторяли истертый афоризм Протопопова: — На продовольствии можно играть всякие аккорды: голодный желудок — диктатор всякой революции. Если создать продовольственные затруднения, то рабочие сделаются смирнее овечек. Вывезти из Минска хлеб, мясо и другие продукты. Лучше зарыть, сгноить в земле или надежно припрятать, чтобы потом взвинтить до невероятных пределов цены… Начальник милиции не располагал данными о продовольственном заговоре: слишком узкий круг людей участвовал в нем. Но начальник милиции довольно хорошо знал буржуазию. Собрав руководящих работников, своих помощников, он сказал: — Каждый день проверять хлебопекарни, продается ли там хлеб. Если не выпекается — начинать расследование. Все обозы с продуктами, идущие из Минска, задерживать. Мы должны блокировать спекулянтов. Не выпускать ни одной подводы с хлебом! Мы им не позволим «играть аккорды» на рабочих желудках. Всю эту сволочь, саботажников-лабазников, скрутить по рукам и ногам рабочим контролем. Он был беспощаден. Он расклеил по городу приказы: хлеб принадлежит народу, за спекуляцию хлебом, за сокрытие продовольственных запасов — суд! Тут же при штабе милиции — камеры с дежурными судьями. Каждый день милиционеры подгоняли к штабу задержанные обозы и отдельные подводы. Допрашивал сам. За короткий срок он нажил себе кучу смертельных врагов. Они решили его уничтожить. Он часто выезжал в окрестные села и в отдаленные волости, иногда углублялся чуть ли не до Борисова. Обычно его сопровождали два-три милиционера. В селах на всей территории Западного фронта его хорошо знали. Ведь он старался всеми силами вовлечь крестьян в политическую жизнь; он быстро овладел белорусским языком, и переводчик не требовался. Он разъяснял, что нечего ждать милостей от Временного правительства, крестьяне должны создать свои комитеты и через них захватывать, конфисковать помещичьи земли, луга, скот, инвентарь. Без всякого выкупа! Захват с оружием в руках. Так говорит Ленин, так говорят большевики. Фрунзе создал «Крестьянскую газету». Она разлеталась тысячами экземпляров по всем западным губерниям, разъясняя аграрную программу большевиков… Они с милиционером Стасюлевичем возвращались из дальнего села, где только что провели митинг. Вот так в каждом селе, в каждой волости создавал Фрунзе крестьянские комитеты. По дороге за ними увязался мужик лет сорока пяти — Ефрем, которому зачем-то нужно было в Минск. — По нынешним временам с милицией-то оно спокойнее, — говорил Ефрем. Был он огромный, лохматый, все время щурил и без того маленькие скифские глаза. Конь под ним был добрый, сытый. Этот конь и навел Фрунзе на размышления. Начало уже смеркаться. Ехали опушкой леса. Когда поравнялись с заброшенной сторожкой, Фрунзе весело сказал: — А не повечерять ли нам? Что-то я проголодался сегодня. Да и не мудрено: с самого утра во рту росинки не было. Стасюлевич был удивлен: они совсем недавно плотно закусили, а начальник милиции не любил тратить время на еду, особенно в дороге. Но промолчал. Привязали коней, уселись возле сторожки на сухое место. Стасюлевич вынул кисет с махоркой, трут с кремнем и огнивом. — А у вас своя домашность есть? — спросил Фрунзе у Ефрема. — Какая-такая домашность? — Ну, какая: изба, скот, птица там и прочее хозяйство. — Нет, я сызмальства в работниках жил. Сирота я. Отец помер, когда я совсем маленький был, а мать опять замуж вышла да меня в услужение отдала. У них, в дому-то, тоже не густо было, чем жить. Так я с девяти годов по работникам и пошел. — А хозяева хорошие были? — Помещик-то? А я и сейчас на него гну спину. Быдто и не было никакой революции. — А чего ж не прогоните? — Да мужиков в селе совсем не осталось. Война. Вот вернутся, и уж тогда мы с ним расквитаемся. У хрестьян хлеб весь выгребли, увезли. Приезжал к нам тут один вроде бы под землемера, лясы точил, что, мол, если к нам посадить еще англичан да французов, то всем вместе тыщу лет еще кормиться можно. Эсер. Ну мы ему надавали по шее. — Правильно поступили. Ну а когда с помещиком расквитаетесь, что делать будете? — Трудно загадывать. Поставлю дом добрецкий, женюсь и заживу, как король бубновый. Нам бы только до землицы добраться. Ну, конечно, не один ставить буду: деньги с неба не свалятся. Кирпич нужен, тес, стекло. Другие помочь должны. Так, сообща. Дом становить, надо дело знать, надо дело любить. Земля — вон она какая, матушка, просторная, да не наша. — А лошадь чья? — А я из помещичьей конюшни прихватил. Видишь ли, в хрестьянском комитете я, так вот к Михайлову послали. Должно, слышали, раз из Минска. Он председатель губисполкома, Михайлов-то. Его недавно, Михайлова Михаила Александровича, мужики делегатом на Первый Всероссийский съезд Советов хрестьянских депутатов выбрали. В Питер поедет. Башковитый мужчина, за нас, за хрестьян. — Я — Михайлов! Мужик оторопел. Но поверил как-то сразу. — Вот так штука! Значит, мне к вам и надо. — А по какому делу? — Дело не простое, — заговорил Ефрем осторожно и мягко, будто взвешивая каждое слово. Кивнул в сторону Стасюлевича: — При нем можно? — Разумеется. Ефрем помедлил. — Ежели вы Михайлов, то можно. Только я наверное должен знать, что вы и есть тот, кем назвались. Время такое. — Понимаю. Фрунзе левой рукой вынул из нагрудного кармана удостоверение, поднес к глазам Ефрема. Потом негромко произнес: — Не шевелитесь! Малейшее движение — и я стреляю. Дуло револьвера уткнулось в бок Ефрема. Удостоверение упало на землю. — Стасюлевич, обыщите его! Осторожнее… — Револьвер и граната Новицкого. Вот так мужичок! Милиционер не мог прийти в себя от изумления. — Пошто, пошто, господин Михайлов?.. Время такое… Гранатку прихватил против бандитов. Пошаливают. — Ну, хватит болтовни. Кто вас подослал? Впрочем, в милиции разберемся. Мнимый Ефрем оказался землемером Ранкевичем. Группа националистов поручила ему заманить Фрунзе в лес, где землемера поджидали сообщники. — Одного не пойму, как вы догадались? — изумлялся Стасюлевич. — Да у какого мужичка видали вы такие аккуратные руки? У него даже черноты под ногтями нет. — И только по рукам? — Да нет же. Я ждал этого. Понимаете? Только не знал, с какой стороны они примутся за дело. Я наперед знаю, как они будут действовать. Двенадцать лет подпольной работы чему-нибудь да научили меня. Вот увидите, вскоре к нам пожалует господин губернский комиссар Авалов. Мог бы меня вызвать, да не станет, сам прикатит: дело спешное. А меня застать на месте трудно. Не успокоятся они до тех пор, пока не уберут меня любой ценой из милиции или вообще. Мы им крепко наступили на хвост. Комиссар явился на следующий день. Его лицо пылало гневом. Тонкие усы воинственно топорщились. Когда комиссар злился, он обычно грыз собственные ногти. Вот и сейчас грыз. — На каком основании вы задержали землемера Ранкевича? — А вам откуда известно? — Это к делу не относится. — Вы так полагаете? — Извольте отвечать за свои противозаконные действия. — Вы, оказывается, законник, господин комиссар. При обыске у Ранкевича найдена граната Новицкого. Я уж не говорю о револьвере. Откуда у него военное имущество? — Чушь! Как это вы ухитрились не обнаружить у него пулемет Максима? — Пулемет обнаружен в имении Друцкого. Сегодня ночью. Заговор против революции. Готовлю письмо Керенскому. Ранкевич послан Друцким с заданием убить меня. Землемер сознался. Кстати, должен заметить, что как Друцкий, так и Ранкевич входят в известный вам Белорусский национальный комитет. Комиссар сразу сбавил тон: — Однако вы проворны, господин Михайлов. — Служу революции. — Нам кажется, вы проявляете излишнее усердие. — Долг народной милиции — охранять общественный порядок. — Так-то оно так, но на вас в думу поступают жалобы. Очень круто берете. Не боитесь, что могут убить из-за угла? — Такова наша служба. А кому это — нам? Комиссар, не найдя формальных возражений, ушел ни с чем. — Угрожает, гадина, — сказал Фрунзе. — Что они выкинут еще? Состряпают какую-нибудь фальшивку. По логике должно быть именно так. Покушаться второй раз на убийство рискованно: рабочих мы предупредили. Да, он знал, что его не оставят в покое. Малейший повод, малейший толчок извне или изнутри — и снова начнется смертельная схватка. Еще в марте, на втором заседании Минского Совета, он поставил вопрос о созыве солдатского съезда, который должен создать фронтовой комитет. На фронте хозяевами должны быть сами солдаты, а не представители Временного правительства, вроде генерала Гурко, которого поставили командующим Западным фронтом вместо Эверта. Большевики занялись подготовкой первого в истории солдатского съезда. Но идею Фрунзе подхватили эсеры и меньшевики. Временное правительство решило взять съезд в свои руки, оттеснив большевиков. И вот в Минск прикатил Родзянко. Не дремали и меньшевики. На съезд пожаловал сам председатель Петербургского Совета Чхеидзе, а с ним — свита: Церетели, Скобелев, Гвоздев. Они по-хозяйски заняли места в президиуме. Инициаторы созыва съезда Фрунзе, Мясников, Алибегов оказались словно бы оттертыми на задний план. Правда, на помощь минским большевикам прислали Бадаева и Ногина. Бадаева, депутата большевистской фракции IV Думы, Фрунзе знал лично. Установки партии, Ленина были ясны обоим: армию необходимо организовать на новых, революционных началах. Солдат, если он хочет свергнуть капиталистов и помещиков, должен стать политиком, интернационалистом, стремиться в своих действиях к единству с рабочими и беднотой, руководствоваться указаниями большевиков. Нужно, чтобы братание не ограничивалось разговорами о мире вообще, а переходило к обсуждению ясной политической программы, к обсуждению вопроса, как кончить войну, как свергнуть иго капиталистов, начавших войну и затягивающих ее ныне. — Самое нелепое, что после всего мне опять придется сидеть за одним столом с этим розовым боровом Родзянко, — сказал с усмешкой Бадаев. — Приковал нас бог к одной тачке — к политике. А тащим мы ее в разные стороны. Чья возьмет? — Чхеидзе в этой упряжке, должно быть, мнит себя лебедем. Он галантен, как француз. Видите, с каким старанием прикалывает Родзянке свежий алый бант? — Эти прохвосты всегда найдут общий язык. Бадаев, или Егорыч, нравился Фрунзе своей какой-то невозмутимой величавостью, мужественной красотой. Это был «рабочий лев», как его называли в шутку. Но в шутке имелась своя соль. При взгляде на могучую фигуру Бадаева, представителя питерского пролетариата, на гриву его волос, на жилетку, под которой неизменно была свежая белая сорочка, возникала мысль о прочности и несокрушимости того дела, во имя которого он в течение ряда лет подставлял себя на думской трибуне под удары оголтелой своры всех врагов рабочего класса. Он был монументален. Царское правительство приговорило его, как и остальных депутатов-большевиков, на вечное поселение в Туруханский край. И вот Бадаев снова на коне… Председательствовал на съезде командующий Западным фронтом генерал Гурко. Первое слово для приветствия предоставил Родзянке. — Генеральский съезд, — шепнул Бадаев Фрунзе. — Ничего, мы сделаем из него солдатский. А погончики с генералов снимем. Родзянко дул в старую дуду. Классовый мир, война до победного конца во имя защиты завоеваний революции, обязательства перед союзниками. Солдатские делегаты слушали хмуро. Когда Бадаев стал излагать ленинские взгляды на войну и революцию, на армию, зал оживился. Родзянко, по-видимому, забыв, что он не на думском заседании, а на солдатском съезде, схватил председательский колокольчик и стал призывать Бадаева к порядку. Создалось комичное положение. Опомнившись, Родзянко бросил колокольчик и принялся разглаживать алый бантик у себя на груди. Бадаев улыбнулся и продолжал речь с еще большим накалом. Зал приветствовал его стоя. А когда Фрунзе начал свою речь, солдаты стали недоуменно переглядываться. Михайлов ли это говорит? А начал он так: — «Долг наш: не щадя ни сил, ни времени, ни средств, безотлагательно приняться за работу. Пусть каждый отдаст свой труд в сокровищницу народной мощи. В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри, да отразит Россия дерзкий натиск врага…» Раздались свистки. Кто-то крикнул: «Долой!» Фрунзе спокойно выдержал бурю протеста. Потом спокойно сказал: — Правильно, товарищи! Я процитировал вам выдержку из речи бывшего председателя царской Думы, сидящего здесь в президиуме господина Родзянко. Как видите, господин Родзянко при любом строе поет одну и ту же воинственно-шовинистическую арию. Зал грохнул. Все поднялись и стали бешено аплодировать. — А вот за столом — бывший депутат Четвертой Государственной думы большевик товарищ Бадаев, которого все тот же господин Родзянко помог царскому правительству упечь в Туруханский край. Вот что такое классовый мир на деле. Родзянко снова схватил председательский колокольчик. — Я протестую! Это оскорбление… Требую привлечь… — Голос у него был зычный. — А вы не делайте ручками так, — сказал Фрунзе. — Война нужна Временному правительству, Гучкову, Родзянке, Керенскому. Рабочим и крестьянам она не нужна. Уж поверьте мне. Мы сейчас решаем вопрос о том, кто должен быть хозяином на фронте. Хозяином должен быть фронтовой комитет, представляющий солдатские массы, а не золотопогонники. Пора отстранить царских офицеров и заменить их выборными командирами. Пора начать братание по всему фронту. Только общими усилиями с немецкими и австрийскими солдатами мы сможем похоронить войну. Да здравствует интернационализм! Генерал Гурко не перебивал агитатора. В записной книжке пометил: «Михайлов. Большевик. Принять меры». Бадаев, Ногин уедут, а Михайлов останется. Солдаты единогласно избрали его во фронтовой комитет. Значит, он будет разъезжать по всему фронту и возмущать солдат к неповиновению. При случае большевистского агитатора нужно тихо, не возбуждая солдатских страстей, убрать… Убрать! — Обо всем, что здесь происходило, я доложу Ильичу, — сказал Бадаев. — Спасибо вам, Арсений… Сделавшись членом фронтового комитета, Фрунзе отправился в штаб фронта и потребовал пропуск на передовые позиции. Бравый поручик с наглыми, навыкате глазами, развалившись в кресле, лениво спросил: — А зачем вам на передовые? — Я член фронтового комитета. — Да неужели! Вы поразили меня в самое сердце. Не велено-с, господин Михайлов. — Кем не велено-с? — Не велено-с. И вообще… — А что — вообще? — Катись-ка ты знаешь куда?.. — Вот теперь понятно, ваше благородие господин поручик Ольденбург. В штаб армии ехать бесполезно. Там повторится то же самое. Генерал Гурко принимает меры. Решил поставить заслон перед каждым членом фронтового комитета. Поразмыслив, Фрунзе сказал Любимову: — Мы должны прорваться на передовые! Вот номер «Правды» со статьей Ленина «Значение братанья». Нужно разъяснить ее смысл солдатам, сидящим в окопах. Родзянко в своей речи проговорился: судя по всему, Временное правительство собирается начать наступление на всех фронтах. И это не одни предположения: Америка долго выжидала, но теперь вот ввязалась в войну на стороне Антанты. Еще в прошлом году Германия сделала предложение о мире, но союзники не заинтересованы в окончании воины: Германия на грани катастрофы, ее коалиция тоже. Теперь посуди сам: в феврале на союзной конференции в Петрограде принят план наступательной операции русской армии; Италия тоже согласна наступать. После провала апрельской операции Нивеля англичане и французы настойчиво требуют от Временного правительства решительного наступления. Если этот фокус им удастся, буржуазная диктатура укрепится как никогда, Советы будут разогнаны. Вот в каком свете рисуется мне сложившаяся ситуация. Необходимо любой ценой сорвать наступление! Во имя революции. Я хочу объехать весь Западный фронт. Ты должен помочь мне: найди чистый бланк удостоверения Петроградского Совета с печатью и заполни его на имя агитатора Михайлова. — А если арестуют? Перед самым отъездом в Петроград… — Не арестуют. Я отправлюсь на автомобиле, возьму с собой Мясникова, парочку вооруженных милиционеров. Эта буржуазная мразь не стесняется глумиться над нами в открытую. Нужно и им кое-что подбросить от большевиков. Вскоре Любимов принес удостоверение. — Железное. — Вижу. Печать, подписи, даже фотография. А кто такой Анисимов? — Заведует отделом агитации исполкома Петроградского Совета. Меньшевик, дрянь. — Восхищен. Минуя штаб Третьей армии, Фрунзе поехал прямо на передовые, в 55-ю дивизию. Командир дивизии встретил его с распростертыми объятьями. — Разболтались солдатики! Офицеров не слушают, воевать не хотят. Все митингуют. Может быть, вы вашим вдохновенным словом… — Я хотел бы побывать в полках. — Милости просим. В двести двадцатый? — Начнем с двести двадцатого. — Готов сопровождать. — Мерси. Это не нужно. Присутствие командира всегда настораживает солдатскую массу. — Золотая правда, — обрадовался командир дивизии. — Вечерком попрошу в штабной блиндаж. Будем счастливы в узком офицерском кругу приветствовать питерского гостя. Разложение достигло крайней степени. Полицейские меры тут бессильны. За три месяца не сделали по противнику ни одного выстрела. И австрийцы молчат. Теперь все надежды на звездный шапокляк. Может быть, дядя Сэм расшевелит всех. Красные флаги, дезертирство… Россию охватило массовое безумие. Как вы думаете, чем все кончится? — Победой. А вот чьей?.. В Питере большевики берут перевес. — Господи помилуй. Фрунзе не случайно избрал 55-ю дивизию: здесь удалось еще во время съезда делегатов армий Западного фронта создать крепкий комитет. Солдаты-комитетчики знали Фрунзе, ждали его. И на этот раз он привез большую кипу агитационной литературы. После короткого митинга, на который пришли все солдаты полка и даже офицеры, решено было начать братание. Прежде всего нужно было договориться с противной стороной. Полк собрался прямо у разорванных проволочных заграждений. Без оружия. На шест укрепили красный флаг. Австрийцы и немцы не подавали признаков жизни. Но никто не сомневался, что они с жадным любопытством наблюдают из окопов за тем, что творится на русской стороне. К ним следовало обратиться с речью, разъяснить смысл интернационализма и всего происходящего в России. Эту нелегкую задачу взял на себя Фрунзе. Он великолепно владел немецким и не сомневался в том, что будет понят. Взяв рупор, он медленно направился в сторону противника. Он знал, что за ним наблюдают тысячи глаз. На той стороне, может быть, какой-нибудь офицер уже взял его на мушку, разгадав затею русских. Поднявшись на горку, Фрунзе остановился, приложил рупор к губам. Над фронтом, над окопами и скрюченными обрывками колючей проволоки повисла тишина, какой здесь никогда не бывало. Он не думал о том, что его могут убить. Он досадовал, что ветер относит слова. Ну а стоять под прицелом он привык: всю жизнь стоит под прицелом. И когда он опустил рупор — это послужило сигналом для обеих сторон. Русские, австрийские, венгерские, немецкие солдаты перемешались. Но это было еще не все. К двести двадцатому присоединился по собственному почину двести восемнадцатый полк. А за 55-й дивизией поднялась 67-я. Фронта больше не существовало. Во всяком случае, в полосе Третьей армии. Недавние враги приглашали друг друга в свои землянки, делились скромными запасами еды и махорки. А когда командир одного из полков 67-й дивизии попытался «навести порядок», с него сорвали погоны и засадили в землянку под ответственность часовых. Арестовали еще нескольких офицеров. Командир 55-й дивизии наконец понял, что допустил оплошность. Он срочно послал в штаб армии курьера в бронированном автомобиле. Он просил, слезно умолял командующего убрать агитатора из дивизии. Генерал Квецинский, получив донесение и опасаясь брать на себя какую бы то ни было ответственность за арест агитатора, связался по телеграфу с командующим фронтом Гурко. Генерал Гурко, в свою очередь, боясь наломать дров, по прямому проводу связался с работником отдела агитации исполкома Петроградского Совета Анисимовым. Анисимов был в растерянности. Нет, агитатора Михайлова Петроградский Совет на фронт не посылал… Должно быть, большевики подослали своего. Генерал Гурко взревел. Так значит, не однофамилец, а тот самый Михайлов. По телеграфу Гурко отдал командующему Третьей армии приказ об аресте агитатора. Генерал Квецинский, получив телеграмму, взревел еще громче и в бронированном автомобиле отправил к командиру 55-й дивизии своего адъютанта с приказом арестовать вышеназванного большевистского агитатора Михайлова. Командир 55-й дивизии не стал реветь, он устало сказал адъютанту: — Агитатор уехал в неизвестном направлении. Он сделал свое дело: дивизия небоеспособна. Кого прикажете арестовать? А Фрунзе в это время был уже в местечке Лунинец. Здесь было его пристанище, убежище в трудные минуты. Здесь он отдыхал. — А знаешь, — сказал он Софье Алексеевне. — Бросай-ка ты всю эту канитель в Земском союзе и переезжай в Минск. Я хочу видеть тебя каждый день. — Вот вернешься из Петрограда — тогда… …Примеру Третьей армии последовали солдаты Десятой. Когда в июне Временное правительство погнало русские войска в наступление, на Западном фронте десять дивизий из пятнадцати отказались выйти на исходные позиции. Наступление провалилось.В ИНТЕРЕСАХ РЕВОЛЮЦИИ МОЖНО РАБОТАТЬ В МИНСКЕ И В ШУЕ ОДНОВРЕМЕННО
…Где бы он ни был — в каторжной тюрьме, в камере смертников, в далекой сибирской ссылке, он всегда думал о Ленине. Под завывание пурги, усевшись вокруг сияющего самовара, ссыльные перелистывали «Материализм и эмпириокритицизм», горячо спорили. Так как большинство из них в общем-то были интеллигентами, то каждый считал себя причастным к философии и естествознанию. Ленин писал для них. Ведь лишь они могли самые сложные идеи донести до масс. Бесспорно одно: Ленин всегда имел их в виду. И на каждом этапе жизни появлялись все новые и новые работы Ленина, и они определяли эту жизнь, наполняли ее большим смыслом, формировали сознание миллионов людей, помогали Фрунзе всякий раз находить закономерности любого процесса, устанавливать движущие силы, внутренние причины и внешние стимулы, помогали подниматься от эмпиризма к высоким обобщениям. Трудно, почти невозможно было представить партию без Ленина. Другие партии казались безголовыми. Кто-то гениально организовывает звуки — и получаются симфонии, марши, кто-то бросает на холст краски, организуя цветовое пространство, скульптор организует инертную природу глыбы мрамора в определенные образы — и так до бесконечности. Творчество по сути и есть организация той или иной стихии. Но каким даром нужно обладать, чтобы организовать миллионные массы, направить их энергию по определенному руслу, — и все это не с помощью какого-то чиновничьего аппарата, не с помощью правительственного принуждения, а лишь силой убеждения! И какой силой убеждения нужно обладать для подобной работы!.. Творение Ленина — революция — самое великое творение за всю историю человеческого общества. Учение Ленина — это стратегия и тактика пролетарской борьбы, учение о руководстве борьбой рабочего класса, учение о том, как рабочий класс должен действовать, чтобы обеспечить свою победу. Чем больше вдумывался Фрунзе в каждую ленинскую работу, тем четче становились для него контуры великого учения. Само собой возникало понятие связи между двумя областями: политической и военной. Раскрывая ту или иную книгу Ленина, он всякий раз испытывал радость открытия. Становилось понятным, что политическая стратегия базируется на учете основных моментов движения масс, на учете борющихся классовых сил. То же самое в области военной: тут основными элементами, которыми оперирует стратегия, тоже являются масса, пространство и время. Задача военной стратегии — дать общую оценку обстановки, определить удельный вес основных факторов, участвующих в деле, и наметить на основании этого учета основные линии поведения (операции). На примере Ленина он уяснил одну очень важную истину: для того чтобы быть хорошим стратегом, одинаково как в области чистой политики, так и в военном деле, необходимы особые, специфические качества. Самым важным из них является так называемая интуиция — глубокое научное предвидение, способность руководителя понять определяющие закономерности событий и быстро принять смелые решения, обеспечивающие успех. Этой способностью интуиции в величайшей степени одарен Ленин. Он занят накоплением революционных сил, формирует кадры будущей пролетарской армии, готовит ее к борьбе. Вот почему он на всех этапах придает огромное значение организационному вопросу. Он всегда выставляет такие организационные принципы, которые должны сплотить действительно боевую революционную партию, извлечь из недр рабочего класса все то активное, твердое и выдержанное в революционной борьбе, что там имеется, и из этой лучшей, отборной части рабочего класса создать авангард пролетарского движения. Иногда Фрунзе ловил себя на мысли, что встречи с Лениным в Стокгольме лишь пригрезились ему. Но ведь они были, были!.. Целый месяц каждый день — общение с Лениным, разговоры с ним, совместные прогулки по Стокгольму, посещение библиотек. И Ленину — всего тридцать шесть лет!.. А Михаилу Фрунзе тогда было двадцать с небольшим… И вот снова перед ним — Владимир Ильич. Как в те давние времена. Кладет руку на плечо. Ласковый прищур глаз. Гений смотрит в лицо Фрунзе! С чем сравнить это ощущение? Вы живете, делаете свое дело, может быть, очень важное дело. Вы в этой жизни, как тростник на ветру. Все бури гнут, раскачивают вас то в одну, то в другую сторону, стремясь выдернуть с корнем. Но где-то есть человек, который все поймет и все оценит. Он единственный во всем мире. Он больше, чем отец и мать. Потому что он — Ленин. Через него каждый миг твоего бытия говорит с вечностью. А внешне все очень буднично. Питер, Первый Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. Засилие эсеров и меньшевиков. Фрунзе в президиуме. Он клеймит буржуазное правительство, говорит о переходе всей государственной власти в руки Советов, о конфискации и национализации земель, о праве наций на самоопределение, о войне и мире. И вдруг в зале — он… Прошел, стараясь не обращать на себя внимания, сел на свободное место и вот уже что-то пишет, чуть склонив набок лобастую голову. Фрунзе поднимается, говорит громко, чтобы слышали все: — Товарищи! На съезде присутствует Владимир Ильич Ленин!.. Попросим товарища Ленина выступить… Долгое кипение рукоплесканий. Ленин на трибуне. Он отвечает на самый главный, на самый наболевший вопрос: — Не ждать созыва Учредительного собрания, а немедленно и организованно захватывать помещичьи земли! А в перерыве Ленин кладет руку на плечо Фрунзе. — Мне рассказывали о ваших делах, товарищ Арсений… Организация крестьянского движения, фронт, рабочий контроль, милиция — все очень важно, очень важно. Введение рабочей милиции имеет гигантское, решающее значение, как практическое, так и принципиальное… Не забыли Стокгольм? «Университет» на Талке… Я хорошо запомнил, как иваново-вознесенцы с первых же дней стачки закрыли все винные лавки… Характерный ленинский смешок. А взгляд пристальный, взгляд человека, мысль которого продолжает напряженно работать даже тогда, когда он разговаривает с вами. На съезд съехались делегаты со всех концов страны. Фрунзе старался разыскать иваново-вознесенских, шуйских, владимирских. Ему повезло. Он познакомился с молодым солдатом Борисовым из Шуи. — Кто: эсер, меньшевик, большевик? — Большевик, товарищ Михайлов. А вы, судя по выступлениям, тоже большевик. — Угадали. Что делается в Шуе, в Иванове? Жиделев вернулся из ссылки? — Вы знаете Николая Андреевича? — Очень даже хорошо. Где Варенцова Ольга Афанасьевна, где Федор Никитич Самойлов, Алексей Семенович Киселев, Василий Петрович Кузнецов? — Да вы, оказывается, всех наших знаете! — Ваши-наши, — рассмеялся Фрунзе. — Рассказывайте. Да все по порядку, не скупитесь на слова. Солдат рассказал, что в Иваново-Вознесенске, в Тейкове, Кохме, Родниках и в других промышленных центрах Советы почти полностью в руках большевиков. А вот в Шуе чувствуется влияние эсеров. — Опять эсеры! Выплыли. Да что же вы их не разгоните? — Сил не хватает. В Шуе нас всего двадцать пять большевиков. Борисов уехал. Фрунзе остался в Петрограде редактировать резолюции съезда. Такое дело нельзя было доверить эсерам. И неожиданно пришла телеграмма из Шуи:«Если вы наш шуйский Арсений, то рабочие Шуи просят вас приехать».Фрунзе с невероятной силой потянуло в Шую. Он ответил: «Я тот самый Арсений. Приеду». Но пришлось вернуться в Минск: надо отчитаться перед крестьянами, выбравшими его делегатом, рассказать о выступлении Владимира Ильича. Это было какое-то особое время для Фрунзе. В Минске он, как в дни Иваново-Вознесенской стачки, организовал «социалистический университет» — курсы для подготовки агитационно-пропагандистских работников Минского комитета РСДРП(б), читал им лекции, рассылал агитаторов в волости, на заводы, на фронт, устанавливал связи с парторганизациями Западного фронта. В тот день, когда Временное правительство погнало русские войска в наступление, он провел в Минске грандиозную антивоенную демонстрацию, редактировал «Крестьянскую газету», принимал участие в конфискации помещичьих земель. В Минске стояла Кавказская кавалерийская дивизия. Фрунзе не замедлил связаться с председателем одного из полковых комитетов, который был также заместителем председателя дивизионного комитета, Семеном Михайловичем Буденным. Бравый, усатый кавалерист пока не причислял себя ни к одной из партий. Фрунзе и Мясников решили сделать из него большевика. Они стали приглашать его на заседания Совета рабочих и солдатских депутатов, связали с Минским горкомом партии. И словно бы само собой получилось, что Буденный стал считать себя большевиком, а вся деятельность солдатского комитета дивизии проходила теперь под руководством горкома партии и лично Фрунзе. Вскоре, однако, дивизию перебросили в Гомель. Но Фрунзе продолжал поддерживать связь с Буденным через надежных людей. Состоялся Второй съезд крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний. Председателем этого съезда делегаты избрали Фрунзе. Его на руках внесли в президиум. Это был триумф большевистской политики по крестьянскому вопросу. Фрунзе встал во главе крестьянского движения. Он сделался самой ненавистной фигурой для белорусской буржуазии. Обстановка вокруг него накалилась до предела. Тут же, на крестьянском съезде, к нему подошел губернский комиссар Авалов. Он был раздражен, грыз ногти. Сунул Фрунзе под нос буржуазный листок. — Вот читайте, что пишут именитые граждане Минска. Доигрались!.. Они считают вас врагом белорусского народа и требуют вашей высылки из пределов Белоруссии. Знаете, кто вы, по их мнению? Племянник германского кайзера Вильгельма, засланный для присоединения Белоруссии к Германии. Ведь вы противозаконно общались с германскими солдатами и разговаривали с ними по-немецки… Мы вынуждены отстранить вас и поставить начальником милиции другого человека. Фрунзе рассмеялся, легонько взял губернского комиссара за локоть. — Как относятся ко мне белорусские крестьяне,вы имели случай видеть сами. Ну а что касается клеветона в желтой газетенке, то я знаю авторов: они все из того же национального комитета. Это они через вас посылают телеграммы Временному правительству, требуя присылки карательных экспедиций для подавления крестьян. Карательные экспедиции против народа!.. А где же революционность Временного правительства? Знаю, кого вы прочите на должность начальника милиции: эсера Нестерова. Но опять же вы имели возможность убедиться, что Нестеров не пользуется авторитетом у народа: ведь вы предложили избрать Нестерова председателем съезда, а крестьяне его забаллотировали. Губернский комиссар должен прислушиваться к гласу народному. А вот что думает народ по поводу того, являюсь ли я племянником кайзера и кумом Джолитти. Уж «Минский голос» вы не можете заподозрить в симпатиях ко мне. Авалов скользнул взглядом по странице развернутой газеты. — «Мы знаем, что человек, в течение двенадцати лет боровшийся за свободу народа в рядах социал-демократической партии, два раза приговоренный к смертной казни и отбывший шесть лет тяжелой каторги, не был и не может быть врагом народа…» И на этот раз губернский комиссар вынужден был отступить. — Значит, вы не принимаете отставку, господин Михайлов? — Я не министр. Вот если Керенский уйдет в отставку, тогда и я сложу с себя полномочия начальника милиции. Обещаю. — И как это нужно понимать? Приверженность или наоборот? — А тут уж сами догадайтесь. «Формально он неуязвим. Но его нужно сместить! Он плюет и на думу, и на меня, издевается над Керенским и вообще над Временным правительством. Вот и напишу донесение прямо на имя Авксентьева или самому премьер-министру. Пусть официально прикажут арестовать за противозаконные действия по отношению к крупным землевладельцам…» В том, что начальник милиции — большевик, Авалов не сомневался. Михайлов входил в городской комитет большевистской партии. А по сути, этот городской комитет охватывал своим влиянием всю Белоруссию и весь Западный фронт. После расстрела Временным правительством 4 июля демонстрации рабочих и солдат в Петрограде обстановка по всей стране резко изменилась. Двоевластие кончилось. Началось преследование большевиков. Но Фрунзе наперекор всему выступил против разгула контрреволюции: он стал издавать газету «Звезда». Не успел Авалов 10 июля закрыть «Крестьянскую газету», как 27 июля вышел первый номер «Звезды». И что это была за газета! Редактировали ее Фрунзе и Мясников, но за ними, конечно, стоял ЦК большевистской партии. На первой же странице Фрунзе заявлял: «Мы сумеем отразить натиск на революцию, откуда бы он ни исходил!» Решительное заявление. И вот на всех тумбах и заборах появились большевистские листовки и «Звезда». Авалов разослал своих агентов с приказом: сорвать, заклеить! Милиционеры хватали «лиц, замеченных в заклейке воззваний». Фрунзе опубликовал в газете «Новое Варшавское утро» приказ: «Все, замеченные в срыве или заклейке воззваний, будут привлекаться к ответственности». Авалов обратился в Петроград, к Керенскому. Керенский распорядился: «Звезду» закрыть! В это же самое время главковерх генерал Корнилов («человек с надутыми щеками») принял в ставке, которая находилась в Могилеве, представителей Америки, Англии и Франции. Корнилов был начитанный генерал, хорошо знал историю. Он был честолюбив, считал, что на определенных этапах история повторяется. Любимым героем Корнилова был Наполеон. Наследник революции Бонапарт, когда пришло его время, надел императорский мундир и объявил себя единовластным диктатором. Ситуация сходная. За короткое время казак Лавр Корнилов достиг того, о чем не смел и мечтать: в сорок семь лет стал главнокомандующим всеми вооруженными силами республики. Революция возвысила его, наделила огромной властью. Он с саркастической улыбкой наблюдал за «кувырканиями» новоявленного диктатора Керенского, этого убогого выскочки, комедианта, собственными руками подрубившего тот сук, на котором он мог бы еще держаться какое-то время: Керенский отказался от Советов, полез в премьер-министры Временного правительства, создал коалиционное правительство, то есть, вместо того чтобы опираться на народ, залез под крылышко крупной буржуазии, которой он, в общем-то, не нужен. Корнилов видел всю беспомощность, никчемность новоявленного премьера, обладающего «храбростью женщины в момент, когда она рожает» (так, кажется, говорил Талейран о Людовике XVI). Вся эта шваль, объявившая себя коалиционным Временным правительством, не пользуется ничьей поддержкой. После расстрела июльской демонстрации, после того как Временное правительство подавило вооруженной силой двадцать два восстания крестьян, оно перестало представлять какие бы то ни было народные слои. Эсеры и меньшевики, заседавшие в Советах, своим сговором с Керенским также поставили себя вне масс, сделали Советы придатком Временного правительства. Дорвавшись до власти, Керенский не придумал ничего умнее, как ввести на фронте смертную казнь. Корнилов только потирал руки от удовольствия. Приказы Керенского открыли невиданные возможности для расправы с революционно настроенными частями на фронте. Расстрелять, задушить, обезглавить!.. Никаких комитетов! Теперь, когда в ставке собрались представители держав «Сердечного согласия» и Америки, генерал Корнилов поставил вопрос прямо: или революция или монархия? Представители единодушно высказались за монархию, за твердую власть, способную обуздать чернь и повести наступление на фронте, за диктатора. Были кое-какие разногласия между французами-республиканцами и англичанами-монархистами, но они носили частный характер, не затрагивающий существа вопроса. Как говорят дипломаты: хороший повар способствует примирению. Обильный обед примирил спорщиков. Корнилову обещали поддержку. Выпроводив гостей, Корнилов вызвал в ставку командующего Западным фронтом Гурко. Задумав поднять мятеж против революции, генерал Корнилов, собственно, рассчитывал на поддержку войск этого фронта, а также на специальные воинские части, сосредоточенные в Могилеве. — Вы знаете, что творится в Петрограде? — спросил Корнилов у Гурко. — Наш долг — обуздать разбушевавшуюся чернь. Игра в Советы и комитеты кончилась. Доложите о так называемом фронтовом комитете. Кто в него входит, почему он до сих пор не разогнан, почему эти молодчики в солдатских шинелях, явные большевики, имеют власть бо́льшую, чем вы, и как вы намерены призвать их к порядку? Корнилов не считал нужным посвящать Гурко в свои замыслы. Мятеж против революции следовало изобразить как необходимую карательную меру — только и всего. Но Гурко о многом догадывался. Он еще не знал, как относятся к планам главковерха Керенский, Авксентьев и другие, сидящие «там». Вообще-то, Керенского можно было в расчет не брать. Но министр внутренних дел Авксентьев отличался исключительной энергией, его-то и следовало опасаться. А что, если Корнилов не согласовал свои планы с Временным правительством? И, словно угадывая мысли командующего фронтом, Корнилов сказал: — По этому вопросу у меня существует полная договоренность с ними. Я только что из Петрограда. Кровопускание необходимо. Так как же фронтовой комитет? Кто в нем верховодит? — Некий Михайлов. Большевик. Готовит вооруженное восстание. — Почему не арестован? — Он даже не солдат. Начальник минской милиции. Это самая крупная политическая фигура в Белоруссии. Человек, близкий к Ленину. Любимец крестьян и рабочих. Ну и солдат, разумеется. — Удивляюсь. Генерал Половцев создал специальный отряд для поисков Ленина, приказал расстрелять его на месте. А вы не можете взять какого-то Михайлова, который готовит вооруженное восстание. Арестовать — и без промедления! Бросьте батальон, полк, уничтожьте, если потребуется, милицию. С нами бог! Об этом разговоре Гурко поставил в известность губернского комиссара Авалова. Комиссар обрадовался: — Не надо полков и батальонов. Мы заманим его в думу и арестуем. Я вызову его по какому-нибудь незначительному делу. Авалов позвонил в милицию и попросил к телефону Михайлова. Дежурный ответил, что начальник милиции еще третьего дня взял отпуск. — А кто за него остался? — Станкевич. — Так вот передайте Станкевичу, что назначен новый начальник милиции Нестеров. Через час он будет на месте. — Передайте господину Нестерову, пусть только попробует толкнуться сюда — мы его наладим куда следует. — Да как вы смеете, хам? Кто говорит? — А вот будешь совать свой длинный нос в милицейские дела, узнаешь, кто говорит. — Я вызову солдат! — У нас есть свои солдаты: целых два батальона. Гляди, как бы они в тебя, часом, не пульнули. Авалов в бессильной ярости повесил трубку. «Бунт! Самый настоящий бунт. И никакой управы…» А Фрунзе в это время был уже в Москве. Проездом в Шую. Павел Степанович Батурин сказал: — Тебя хочет видеть один товарищ. — А кто он? — Один правдист, член Московского областного бюро. — Я его знаю? Батурин усмехнулся. — А вот и он сам! Перед Фрунзе стоял человек интеллигентного вида. Тонкие «музыкальные» пальцы, гладко выбритое удлиненное лицо. Что-то по-юношески мягкое в выражении губ и глаз. Да он ничуть не изменился! — «Студент»! Андрюша Бубнов. Андрей Сергеевич… — Он самый. — Ну ладно, не буду вам мешать, — сказал Батурин и вышел. А они мгновенно сбросили по десять лет, вернулись в те дни, когда приходилось бегать от полицейских и жандармов. Они припомнили, как весной 1907 года Иваново-Вознесенский комитет партии послал Бубнова в Шую предупредить Арсения о возможном аресте. Как они перелезали через заборы, проходили через овраги. Бубнов битый час уговаривал тогда Арсения покинуть Шую, а тот доказывал ему, что сделать этого не может… — Я почему-то очень хорошо запомнил, как в тюрьме ты штудировал фошовское «Введение в войну», — сказал Бубнов. — А я запомнил, как шестого мая пятого года разыскивал тебя в Иваново-Вознесенске. Думал, встречу солидного мужчину, а увидел такого же, как сам, двадцатидвухлетнего мальчишку. Воспоминания могли бы затянуться надолго, но оба торопились. Бубнов сказал: — Знаю о твоей работе на фронте. Но обстановка складывается так, что придется тебе вернуться в Москву и взять свою долю партийных обязанностей. Сейчас очень важно укрепить нашими кадрами Москву и Московскую область. Таково решение Шестого съезда. Речь идет, как ты, должно быть, догадываешься, о подготовке вооруженного восстания. — Решение партии для меня закон. Только я должен еще побывать в Иваново-Вознесенске и в Шуе. Сам понимаешь. Вот прислали приглашение. — Разумеется. Терять связи с рабочими Иваново-Вознесенского района нельзя. Меня тоже все время туда тянет. Кстати, передай Любимову, что решение касается и его. Пусть сдает свои дела в Минске и едет сюда. Кого еще оттуда можно взять? — Станкевича. Дельный мужчина. — Пусть приезжает Станкевич. Найдем работу и ему. В Шую Фрунзе прибыл одиннадцатого августа. Сопровождал его Николай Андреевич Жиделев, председатель Иваново-Вознесенского Совета. — Как видите, роли наши поменялись: сперва вы повсюду показывали меня народу как депутата, теперь я вас буду показывать, — шутил Жиделев. — Вроде национального героя Шуйской республики. Фрунзе был сосредоточен, волновался. Десять лет не был в Шуе… — Я бы хотел сразу на какую-нибудь фабрику или на завод Толчевского, — сказал он Жиделеву. — Наверное, там меня кое-кто еще помнит. Николай Андреевич спрятал улыбку в усы. — Нет уж, сдам вас Шуйскому Совету, а там разъезжайте себе хоть по всем предприятиям. И главное — свободно! Ни одного полицейского. — Хорошо. А где Совет размещается? — В гостинице. — От вокзала пойдем пешком. — Там видно будет. Когда поезд остановился, Фрунзе спросил: — Что у вас тут происходит? Митинг вроде бы: красные флаги, весь перрон люди запрудили… Солдаты… — А вот послушайте… Грянул оркестр. К самому небу взвилась «Марсельеза». — Арсений!.. Да здравствует товарищ Арсений!.. Ура Арсению!.. К оркестру присоединились фабричные и заводские гудки. Это была единая трудовая симфония. Фрунзе знал каждый гудок: тоненький — Небурчиловская, с хрипотцой — Терентьевская… Каждая фабрика была словно бы живым существом, старым другом. — Я готов разреветься, — сказал он Жиделеву, смущенно смахивая слезы. — Да как же я выступать буду, когда в горле вроде бы что-то оборвалось?.. От вокзала до Ильинской площади все улицы были заполнены народом. Из окрестных деревень приехали крестьяне, вышли из казарм солдаты. Все предприятия остановились, пустовали учреждения. Его помнили, его любили. — Арсений вернулся! Митинги, каждый день митинги. Старые испытанные боевые товарищи. Выступают Жиделев, Самойлов, Волков, Заботин. Но Фрунзе не из тех, кто живет на капиталы от былой славы. Он приехал работать, так как никто не освобождал его от обязанностей окружного организатора. — Мы должны встать на путь открытой и беспощадной борьбы с Временным правительством! — заявил он рабочим… — Мы за советскую форму организации… На второй же день после приезда в Шую он побывал на всех фабриках и призвал рабочих начать забастовку протеста: в Москве открылось Государственное совещание, инспирированное Временным правительством. В Москве забастовало полмиллиона рабочих. Фабрики Шуи остановились. Он созвал общегородское собрание фабрично-заводских комитетов, которое обсудило меры борьбы с капиталистами. В Шуе было расквартировано двадцать тысяч солдат. Он направился в казармы и провел здесь несколько митингов. Объяснил местным большевикам, что нужно вытеснить эсеров и меньшевиков из всех организаций, в том числе и из городской думы. Показал пример и согласился баллотироваться в гласные думы по списку большевиков. И если в былые годы Арсений повсюду сопровождал депутата Государственной думы Жиделева, то теперь Николай Андреевич представлял избирателям Арсения, неотлучно находился при нем. — Вот видите, сейчас вы здесь куда нужней, чем в Москве. Здесь вас знают все, — говорил Жиделев. — Я бы с радостью остался в Шуе, но партийная дисциплина… — А почему в Шуе, а не в Иваново? — В Шуе много эсеров. Вот и хотелось бы выкурить отсюда эту нечисть. Ведь в свое время мне удалось это. А теперь снова окопались тут: и в Совете крестьянских депутатов, и в исполкоме, и в городском Совете. А в Иваново-Вознесенске полный порядок. И в Тейкове, и в Кохме, и в Родниках, да во всем районе, кроме Шуи. — Что ж, Шуя так Шуя. — А как с дисциплиной? — Было заседание Иваново-Вознесенского окружного комитета партии. Послали письмо в Московское областное бюро. Требуем, чтобы вас направили сюда. — И как? Ответ есть? — Пока нет. Но мы не отступимся, так и знайте. Вот выберем председателем думы, московским товарищам волей-неволей придется считаться с этим фактом. — Ну и ну! Тончайшая сеть интриг, как сказано в каком-то романе о мексиканской императрице Карлотте, дочери бельгийского короля Леопольда Первого, который я читал в Николаевском централе. У меня еще рубцы от кандалов на ногах видны, а вы меня в председатели думы… — У меня все наоборот: сперва депутат думы, а потом кандалы. Фрунзе избрали председателем городской думы. Председателем городской управы стал Волков. — Вот так постепенно и заберем всю власть во Владимирской губернии, — сказал Волков. — Виданное ли дело! Вот я потомственный рабочий, прошли мы с тобой и тюрьмы и ссылку. И вдруг, как в сказке, — городской голова Шуи! А Микола Жиделев — глава всему Иваново-Вознесенску! Чудеса. А помнишь, как полицейские привели тебя на чембуре в Ямскую арестантскую? Набросить бы такой чембур на шею Керенскому! — Набросим, набросим, Игнатий Парфенович. — Тебе сколько, Михаил Васильевич? — Тридцать два. — А мне сорок пять. Но всегда почему-то казалось, что ты чуть старше. Вот уж не подозревал, что ты так молод. — Раз духом не стареешь, — значит, долго проживешь, городской голова. Дума, управа — все это буржуазные костыли. Классовая борьба не разрешается избирательными бюллетенями. Гляди дальше — еще не то будет, когда повсюду установим советскую форму организации. И лишь за нее мы будем драться всерьез. Ничего другого не должно быть. Арсений часто появлялся в казармах. Он был человеком с фронта, и безусые новобранцы слушали его с большим вниманием. Он рассказывал о съезде делегатов армий, о фронтовом комитете, о братании, о том, как двадцать полков открыто высказались против наступления и как оно провалилось. И о том, как Временное правительство все-таки послало войска Юго-Западного фронта в наступление. А что из этого вышло? Только за десять дней войска потеряли шестьдесят тысяч человек! И все-таки армия отступила. Солдат не хочет проливать свою кровь за капиталистов и помещиков. Говорил о введении смертной казни, о разгуле контрреволюции. В Шуе был свой комиссар Временного правительства — кадет Невский. Его, собственно, знали не по делам, а по высоким сапогам исключительно элегантного фасона. В эти сапоги можно было глядеться, как в зеркало. И когда Невский шагал по улицам Шуи, со всех околотков сбегались мальчишки. Существовал полный альянс между уездным комиссаром и начальником шуйской милиции; они немедленно объединились против Фрунзе. — А почему бы вам не арестовать его, придравшись хотя бы к тому, что он устраивает беспорядки на фабриках, призывает рабочих и солдат выступить против фабрикантов, то есть устроить всеобщий погром? — говорил Невский начальнику уездной милиции. Начальник милиции зябко поводил плечами. — В том-то и дело, что к погрому он не призывает, и я обязан задерживать распространителей злостной клеветы на любимца рабочих. Милиция-то вся тоже из рабочих. Что я могу один? — Боитесь? — Боюсь. И не имею прав. Они нас в порошок сотрут. Считайте, что с приездом Фрунзе-Михайлова наша власть в Шуе кончилась. Он здесь свой с самого начала, так же как Жиделев, Волков, Самойлов. Они все тут — пальцы одного огромного кулака. Здесь Советы не то что в Питере: они в руках большевиков целиком. А мы люди пришлые, назначенные. Они нас пока терпят, но очень, очень скоро прогонят… За них все солдаты и, как ни удивительно, даже офицеры. Не могу я его арестовать. С ним даже начальник гарнизона боится связываться. Разгуливает Арсений беспрепятственно по казармам, учит солдатишек большевистскому уму-разуму. А за ним — полковые комитеты, большевики из солдат. Такой могут мятеж поднять, что не возрадуешься. Я обязан охранять неприкосновенность председателя думы. И вот к облегчению уездного комиссара, начальника гарнизона, начальника милиции да и всех фабрикантов Арсений как-то неожиданно уехал из Шуи. Побыл всего десять дней, а привел в движение весь рабочий край. Уехал в Минск. По срочному вызову фронтового комитета. Ведь он значился там, был членом исполкома Минского Совета рабочих и солдатских депутатов, председателем Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, членом фронтового комитета армий Западного фронта, начальником милиции и командиром сводного военного отряда. «Авось не вернется!» — радовался кадет Невский. В Минске, на перроне, Фрунзе встречали делегации рабочих, крестьян и солдат. Здесь он узнал, что по предложению Минского комитета РСДРП(б) фронтовой комитет Западного фронта назначил его начальником штаба, а вернее, командующим революционными войсками Минского района. Был грандиозный митинг, были речи, но Фрунзе не терпелось приступить к исполнению своих новых обязанностей. Предательски сдав немцам Ригу, Корнилов 25 августа поднял контрреволюционный мятеж, снял с фронта Третий конный корпус и двинул его на Петроград. Это было главной новостью дня. Среди встречающих Фрунзе, к своему удивлению, увидел губернского комиссара Авалова. — Товарищ Михайлов, я рад приветствовать вас от лица всех, сохранивших верность Временному правительству! Думские депутаты ждут у автомобиля. Мы должны обсудить ряд вопросов, не терпящих отлагательства. — С каких это пор я стал вашим товарищем, господин губернский комиссар? Запомните одно: если вы будете потворствовать мятежникам, я прикажу вас арестовать как изменника родины! Авалов отшатнулся. Таким Михайлова он еще не видел: отчужденно-холодное, какое-то тугое лицо, властность в голосе и во взгляде. Этот человек уже не был просто начальником милиции, он распоряжался революционными силами, ему незачем было выслушивать какого-то Авалова, который сейчас, по сути, никого не представлял. Буржуазия радовалась выступлению Корнилова. Но вслух больше говорили о разводе Керенского с женой, и что он, вместо того чтобы защищать Петроград, занят своей женитьбой на некой артистке. — Керенский венчался с ней в Царском Селе в Романовском соборе! Какой пассаж… Встав во главе Временного военно-революционного комитета Западного фронта и штаба революционных войск Минского района, Фрунзе в спешном порядке занялся формированием и вооружением рабочих дружин. В эти тревожные дни в полную меру проявилось его военное дарование. Он знал, что в Петрограде по призыву партии рабочие взялись за оружие. Они не пустят в столицу Корнилова. Но если не изолировать ставку в Могилеве, то борьба может стать кровопролитной. Сейчас главное: приостановить передвижку войск Западного фронта в сторону Петрограда, и в частности казачьи части, кавказский «дивизион смерти» и так называемую «дикую», или горскую, дивизию. Прежде всего на всех важнейших железнодорожных узлах и станциях большевики из Минска оживили работу революционных комитетов железнодорожников, привели их в боевую готовность. В Гомель, Бобруйск, Витебск Фрунзе бросил революционные части Минского гарнизона, организовал заслоны из красногвардейцев и милиции, а сам поспешно выехал в Могилев для встречи с руководством солдатского комитета Кавказской кавалерийской дивизии. В Могилев только что прибыла из Гомеля кавалерийская бригада. Фрунзе в одном из вагонов нашел Буденного и объяснил ему задачу: солдаты бригады должны выехать в Оршу и там разоружить «дикую» дивизию, которой в планах Корнилова отводится особая роль — трудно, мол, распропагандировать горцев, не знающих русского языка! Командование бригады было заупрямилось: нет указаний свыше, при разоружении горцев может произойти кровопролитие. Но Буденный был непреклонен: так как есть решение военно-революционного комитета… солдаты выполнят его любой ценой. Командование, опасаясь восстания, пошло на уступки. В «дикую» дивизию послали агитаторов. Два эшелона этой дивизии, прибывшие в Оршу, были разоружены и пешим порядком отправлены сперва в Могилев, а потом в Быхов. А на Западном фронте начались аресты офицеров-мятежников и смещение их. Был арестован и сам Лавр Корнилов. Мятеж не продержался и недели. В отличие от знаменитого корсиканца, у которого после поражения были еще «сто дней» и Эльба, мятежного генерала ждала скорая смерть. И он знал это. Тому, кто изменил революции, пощады быть не может… Фрунзе занялся чисткой командного состава фронта. Потом было совещание большевиков фронта и области, созванное Мясниковым, на котором Фрунзе призвал большевиков Белоруссии готовить массы к вооруженному восстанию. В суматохе дел он позабыл, что является председателем шуйской городской думы. Но вот пришла телеграмма от Жиделева: выезжайте срочно! В Москве от Додоновой узнал — ходатайство Иваново-Вознесенского комитета РСДРП(б) удовлетворено: Фрунзе направляется в Иваново-Вознесенский район. Снова Шуя. На первом же собрании его избрали делегатом на демократическое совещание, которое должно проходить в Петрограде. А из Минска телеграмма: «Избрали вас делегатом на демократическое совещание». Значит, придется представлять на совещании Шую и Минск! Собственно, демократическое совещание было еще одной уловкой обанкротившихся эсеров и меньшевиков, попыткой перевести нарастающую революционность масс на рельсы буржуазного парламентаризма. Все это понимал Фрунзе. Он решил дать бой своим врагам на этом совещании, развенчать идею предпарламента. И он отправился в Петроград. Из Петрограда — в Шую. Из Шуи — в Минск. В Минском Совете, как и в Петроградском и в Московском, большинство принадлежало ленинцам. Теперь можно было спокойно распрощаться с Белоруссией. И только когда на вокзал пришли рабочие-дружинники с красными флагами, крестьяне из ближних деревень, солдаты, милиционеры, он почувствовал, как тяжело уезжать отсюда. — Не думал, что будет так трудно… — сказал он Софье Алексеевне. — Казалось бы, прошло всего полтора года, а прирос я к здешнему народу накрепко. Вместе с Фрунзе из Минска уезжали Любимов и Станкевич.
МОЖНО ЛИ ОПЕРЕДИТЬ ХОД ИСТОРИИ?
Кто он, Фрунзе? Его военная эрудиция, энергия, его организаторские способности, умение почти мгновенно постигать сущность любого факта, гибкость ума, а главное, особый талант приводить в движение массы — все это словно бы лишь задатки, которые при благоприятных условиях могут вдруг развернуться во что-то грандиозное, небывалое. Он слишком мало думал о себе, чтобы ставить какие бы то ни было вопросы о личном назначении. Да и может ли человек сознательно определить свое, какое-то особое назначение в жизни? Чаще всего диктуют обстоятельства, при которых прощупывается некая общая линия поведения. Назначение — это ведь не профессия. Вы можете идти наперекор обстоятельствам или подчиняться им. Общая линия поведения в конечном счете определяется сугубо общественным назначением человека, как некоего элемента единой системы, именуемой человеческим обществом. Своим творчеством — будь то хлебопашество, труд на заводе и в мастерской или же высшие сферы умственной деятельности — человек старается установить гармонию, понизить беспорядок. Это извечная борьба. С переменным успехом. Всеобщая гармония всегда была вещью довольно-таки относительной, расплывчатой. Иногда история напоминает морской канат. Начинается старая игра: кто кого перетянет. На одном конце сосредоточиваются все представители векового зла: реакция, темные силы; на другом — те, кому самим ходом времени предопределена конечная победа. Но иногда на противоположном конце груз бывает слишком велик, и кажется, что хаос начинает торжествовать. Осознанно стремясь понизить этот беспорядок в обществе и в природе, мы занимаемся всем, что нам кажется самым важным для настоящего момента, а нечто подспудное, которое в силу обстоятельств может и не прорваться наружу, беспрестанно шевелится в нас, зовет в какие-то иные сферы. Но случается, выпадают на нашу долю и такие дела, когда человек внезапно как бы «узнаёт» себя. Своим призванием Фрунзе, как и большинство его товарищей, считал партийную работу. Но партийная работа — понятие очень широкое. Каким бы делом он ни занимался, он всегда руководствовался неким «критерием полезности» с проекцией его на будущее и даже на отдаленное будущее. Этот критерий распространялся на отдельный город, на губернию, на государство, на человечество в целом. Он считал, что бесполезных дел, бесполезных людей не должно быть, и умел заставить каждого включиться в общий процесс. Он был государственным деятелем крупного масштаба, хотя и не подозревал об этом. Он даже не искал специально, к чему приложить силы: дела сами приходили к нему. Он был продуктом революции, рожденным ею и для нее. Ведь каждая эпоха порождает свой, особенный тип людей, предельно выражающих своим творчеством ее дух, ее устремления. Они живут среди нас, эти цветы истории, внешне они неотличимы от нас; разница лишь в том, что развороченная, взрытая бурями почва кажется нам не очень удобной для произрастания, а они расцветают на ней всеми цветами радуги. Это их глина, из которой они лепят будущее для всех. Но они не сверхчеловеки. Просто человечность нашла в них свои законченные формы. Они человечны талантливо — только и всего. Если бы Фрунзе не сделал больше ничего, все равно его имя осталось бы навсегда вписанным в историю революционной борьбы Иваново-Вознесенского промышленного района и Белоруссии. Ему тридцать два года. И у него в запасе всего каких-нибудь восемь лет жизни. Никто не знает об этом и не может знать. Мало, очень мало. Ведь главные дела, которые прославят его навсегда, еще впереди. Никто не догадывается, какие возможности заложены в этом невысоком, плотном человеке. Ему суждено испробовать себя почти во всех сферах общественной деятельности: и в административно-хозяйственной, и в экономической, и в военной, и в дипломатической, и в литературной, и в научной. И все это еще впереди. Голодная Шуя. Домик на Соборной улице, где квартируют два представителя власти: председатель городской думы и уездной земской управы Фрунзе с женой и городской голова Игнатий Волков. В комнате Фрунзе никакого убранства, если не считать воткнутого чьей-то рукой за зеркало пучка курчавых желтых, синих и зеленых перьев. Полка с книгами, несколько старых венских стульев, большой, накрытый кружевной скатертью стол. Лампа с молочным абажуром. Софья Алексеевна штопает прохудившиеся носки мужа. Он в шлепанцах прохаживается из угла в угол. — Ну вот, наконец мы и причалили, — говорит он. — Все, как в сказке: можно спокойно читать, можно спать, закрыв оба глаза. И даже имею возможность быть дома с женой, не опасаясь, что меня каждую минуту могут скрутить. Как говорят англичане: мой дом — моя крепость. — Тебе в самом деле повезло, — отзывается она с веселой иронией. — Светишься изнутри, будто алебастровая лампа. Правда, возможность бывать дома ты используешь плохо. Кем тебя еще выбрали? Когда я работала в Лунинце, мы виделись все-таки чаще. Иногда мне кажется, что у тебя природная склонность взваливать все на себя: председатель Совета, председатель исполкома, председатель парткома, уездный комиссар юстиции и прочая, и прочая. Ну а если говорить о собственном доме, то никогда его у нас с тобой не будет: не умеем мы долго сидеть на месте. Собственный дом!.. Наверное, странное ощущение — иметь собственный дом? Мои родители никогда не имели своего дома. Чужие квартиры. И у нас всегда будут чужие квартиры. Мы ведь с тобой бродяжки. Он прячет улыбку в усы. — А ведь ссадили мы этого козла — уездного комиссара Невского! Догадываешься, кого назначили? Нет, нет, не меня. Станкевича. Начальника милиции тоже сместили. Скажи: можно ли опередить ход истории? — Ты все можешь. — То-то и оно. Не во мне дело. И не думай, что мой вопрос носит риторический характер. Возьмем наш район в целом. Кто в Советах? Большевики. Земские и городские самоуправления в наших руках. Двадцать тысяч солдат гарнизона на нашей стороне. Кто хозяин фабрик, складов, контор, телефонных станций? Стачечные комитеты. Фабриканта Калмазина посадили под замок, заведующего Терентьевской фабрикой уволили, заведующего суконной фабрикой накрыли мешком и вывезли на тачке за фабричные ворота. Постановление Иваново-Вознесенского Совета знаешь? «Считать отныне все Советы Владимирской губернии на положении открытой и беспощадной борьбы с Временным правительством!» Как это называется? Диктатура пролетариата, советская форма организации. Михаил Васильевич не преувеличивал. Рабочие Петрограда, Москвы и других городов еще только готовились к последней схватке с Временным правительством. А здесь, во Владимирской губернии, сложилась ситуация, какой не было нигде: к середине сентября 1917 года вся власть оказалась в руках большевистских Советов. Без единого выстрела. Факт невиданный. Никто не знал, что они опередили историю почти на два месяца. Все ждали лозунга из Петрограда или из Москвы. Но лозунга все не было и не было. Министерство продовольствия Временного правительства на телеграмму Фрунзе выслать немедленно маршрутные поезда в голодающий Иваново-Вознесенский район не откликнулось. Два дня назад на Ильинской площади Фрунзе устроил смотр революционных сил: вышли отряды Красной гвардии, полковые комитеты, возглавляемые большевиками, вывели из казарм почти все двадцать тысяч солдат с полной боевой выкладкой. Впереди рот шагали офицеры. Все последние дни Михаил Васильевич находился в крайне возбужденном состоянии. — Живем, как на острове, — говорил он Софье Алексеевне. — Что сейчас в Питере? Ну а если там восстание задержится на неопределенное время? Сколько мы сможем стоять? На окружной конференции во Владимире все высказались за немедленное выступление… И если еще в пятом году здесь впервые появились Советы, то теперь они также впервые в истории взяли в руки всю полноту власти. Владимирская губерния существовала как самостоятельная советская республика. Фабрики продолжали действовать, и они будут действовать до тех пор, пока не иссякнут запасы хлопка. А дальше?.. Власть Советов здесь, без победы социалистической революции в Петрограде и Москве, не может долго удержаться. Нужно быть готовым и к тому, что придется оказать помощь войсками и отрядами Москве, Питеру… Как будто не было долгих лет реакции, тюрьмы, ссылки — этого безвременья; разорванная лента единого исторического процесса соединилась; и Фрунзе чувствовал себя таким же молодым, как в пятом году. Было другое: теперь личная ответственность за все происходящее возросла во сто крат. Прежний опыт не пропал даром. И не только для него. Для всего рабочего края. Машинисты революции вернулись из тюрем и ссылок на свои места. Они были изначальными хозяевами положения и потому легко оттеснили от рабочих эсеров, меньшевиков, кадетов, анархистов. Ночь с 25 октября на 26-е. Шуя придавлена к земле темнотой и дождем. Без стука в комнату вбегает секретарь Шуйского Совета Александр Зайцев. Лицо белое, дергается щека. Разжимает ладонь и смотрит молча на измятую телеграмму. Фрунзе, ничего не спрашивая, проворно надевает носки и сапоги. Берет телеграмму. — «Временное правительство низложено!» Так что же ты молчишь, как воды в рот набрал?! — Горло перехватило, — сипит Зайцев. — Айда в Совет! Вот так просто: «низложено». Трудно поверить. Фрунзе вызывает Иваново. — Городского голову Любимова! Исидор Евстигнеевич? Значит, правда?.. А кто первый узнал?.. Дмитрий Фурманов? Знаю: в Ивановском Совете, журналист и поэт. У вас заседание?.. «Интернационал» поют? А как связь с Москвой? Не могу дозвониться… Почтово-телеграфные работники саботируют? Да что это вы их там распустили?.. Дайте пинка самому главному саботажнику. Фурманова послали?.. Связи с Москвой нет. Но и без директив ясно, что нужно делать. Михаил Васильевич вызывает из казарм членов Совета Ушакова и Капустянского: немедленно выставить посты у банка и казначейства, у почты, телеграфа и телефонной станции, взять под охрану вокзал! Все происходит, будто во сне. Чрезвычайное заседание Совета. Это только так говорится — заседание. Собралась чуть ли не вся Шуя: фабрично-заводские комитеты, солдатские комитеты, крестьянские комитеты. Образован Революционный комитет из пяти человек. Председатель Фрунзе. Члены Революционного комитета в сопровождении целой армии рабочих направляются в казармы. В самом большом зале торжественно. Оркестр. Длинный стол, застланный кумачом. Текст присяги, составленный Фрунзе. На собрание пришло больше трехсот офицеров. Все до единого человека. Поднимается Фрунзе. В выцветшей гимнастерке. Это сам Арсений. Знакомые всем черты лица спокойны и серьезны, вернее, дружески-приветливы. Внимательный, пристальный взгляд. Шум стихает. И тут происходит то, чего никто не ожидал. Густой голос Фрунзе: — Именем рабоче-крестьянского правительства во главе с товарищем Лениным предлагаю вам принять присягу Советской власти! Все, кто не хочет присягать, может немедленно подать в отставку. Революционный комитет гарантирует неприкосновенность. Обсудите все деловито и трезво… Гром оркестра. Офицеры вскакивают, что-то кричат друг другу. В общем-то, все знали, что рано или поздно этим кончится. И все-таки предложение было неожиданным. Зал бурлит. В короткие мгновения каждый заглянул в собственную душу: с кем он?.. Тугие, литые скулы Фрунзе. Он ждет. Сейчас все должно решиться. Здесь были посеяны зерна, но дали ли они ростки?.. Первым к столу подходит поручик Стриевский, всеобщий любимец. Белобрысый, всегда аккуратно выбритый, подобранный, грудастый, как борец. Он высок ростом, и ему приходится на всех поглядывать сверху вниз. В нем некая уравновешенность, внешняя и внутренняя крепость. Повторяет за Фрунзе басом: — Клянусь… Командир полка Моргунов. Какой-то расслабленный, смотрит хмуро, исподлобья. Рывком передергивает плачами. — Вот моя отставка. В полной тишине он покидает зал. И эта настороженная тишина давит на всех. Что-то случается, что-то должно случиться. Но лицо Фрунзе не теряет своего дружески-приветливого выражения. Что, собственно, произошло? Старый царский полкаш отказался присягать рабочим и крестьянам? Этого следовало ожидать. Теперь к столу подходят группами. — Клянусь!.. Пять часов длится жестокий поединок за каждого офицера. Ушли еще трое. Когда они уходили, неожиданно грянул оркестр. Что-то разухабистое. Торжественность момента нарушилась. Смех, улюлюканье. Триста офицеров поклялись в верности Советскому правительству. Потом по всему гарнизону начинаются перевыборы командного состава. Михаил Васильевич поздравляет поручика Стриевского, выбранного командиром полка: — Теперь вы — красный офицер, товарищ Стриевский! С честью носите это звание. А в это время в Иванове двадцатишестилетний Дмитрий Фурманов воюет с почтово-телеграфными работниками. Действует он от имени Штаба революционных организаций. — Изменники народа! Всех в кутузку. На телефонную станцию — рабочих! Не умеют? Научатся. Фурманов звонит в центральную: нужно связаться с Москвой. — Эй, кто там? — Я, Ванюха… А это кто спрашивает, ты, что ли, Дмитрий Андреевич? — Да поскорее вы, черти… Чего вы там копаетесь!.. — Эка, копаетесь, тебя бы посадить сюда… Так и не удается выяснить, что же происходит в Москве. Перехвачена телеграмма командующего Московским военным округом эсера Рябцева. Категорический приказ полкам Шуйского гарнизона двигаться на Москву «для подавления большевистских беспорядков». Значит, восстание в Москве началось. Идут ожесточенные бои. И конечно же, рабочим нужна помощь. Фрунзе как председатель ревкома распоряжается всеми вооруженными силами Шуи: гарнизоном, красногвардейцами. По соглашению с Иваново-Вознесенском решено послать в Москву отряд. — Товарищ Стриевский, ревком назначает вас командиром отряда. На формирование сутки. Я выезжаю в Москву для выяснения обстановки. Полу́чите от меня телеграмму, выступайте немедленно. Москва. Баррикады. И это знакомо!.. Ревком разыскал без труда. Его секретарем — Анна Андреевна Додонова. Бубнов в Питере. Он теперь член ЦК, член Петроградского военно-революционного комитета, руководил вооруженным восстанием, входя в Военно-революционный центр. Отряд Батурина спешит к гостинице «Метрополь», где засели юнкера. Переговариваться приходится на бегу: — Подмога нужна позарез! Мы к вам в Шую послали Обоймова, члена областного Совета. Известий от него почему-то нет. Может быть, схватили? — Обстановку уяснил сразу и прямо с вокзала отправил телеграмму, чтобы не мешкали. — А если телеграмма не дойдет? — Все может быть. В таком случае с вечерним выезжаю в Шую. На Театральной площади по «Метрополю» садят трехдюймовки. Под пулеметным огнем отряд пробивается к гостинице. С револьверами и гранатами дружинники перебегают с одной лестничной площадки на другую, с этажа на этаж. Выстрелы. Звон разбитого стекла. Фрунзе прижал биллиардным столом к стене юнкера. Тот корчится, упирается руками в зеленое сукно. Катается по столу граната. — Сдаешься или как? — Сдаюсь. …Отряд в девятьсот бойцов двигался через Владимир. По дороге присоединялись части других гарнизонов. Везли пушки, пулеметы, лошадей, провиант. Постепенно численность отряда возросла до двух тысяч человек. Когда командующему округом доложили о выгрузке солдат на Нижегородском вокзале в Москве, Рябцев возликовал: теперь можно держаться! Мгновенно распространился слух: Керенский прислал подкрепление.
Но после того как солдаты оцепили правительственные здания, Кремль, вокзалы, заняли мосты и ударили по засевшим повсюду юнкерам, Рябцев понял: игра кончена.
Заняв Кремль вместе с другими рабочими отрядами, ивановцы и шуйцы стали нести здесь караульную службу.
Мгновенно распространился слух: Керенский прислал подкрепление.
Но после того как солдаты оцепили правительственные здания, Кремль, вокзалы, заняли мосты и ударили по засевшим повсюду юнкерам, Рябцев понял: игра кончена.
Заняв Кремль вместе с другими рабочими отрядами, ивановцы и шуйцы стали нести здесь караульную службу.
ПРИЛОЖЕНИЕ СИЛ
Теперь, когда Советская власть утвердилась и в Питере, и в Москве, и в других городах республики, самое время приложить силы к делам хозяйственным, административным, воплотить свою давнюю мечту о создании «Красной губернии» — Иваново-Вознесенской. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Приходится решать все вопросы сразу. Недобитые еще кадеты, меньшевики, эсеры продолжают настаивать на Учредительном собрании. Он отрывается от дела и как делегат едет в Питер. Слава богу, «учредилка» разогнана. Фрунзе теперь — председатель губернского исполкома. Губернского! И председатель Иваново-Вознесенского окружного комитета партии. Дмитрий Фурманов влюблен в Михаила Васильевича. Записывает в дневнике:«Фрунзе, любимый Фрунзе, которому я много верю… Это удивительный человек. Я проникнут к нему глубочайшей симпатией. Большой ум… Взгляд неизменно умен: даже во время улыбки веселье сменяется умом. Все слова просты, точны и ясны; речи коротки, нужны и содержательны; мысли понятны, глубоки и продуманны; решения смелы и сильны; доказательства убедительны и тверды. С ним легко. Когда Фрунзе за председательским столом, значит, что-нибудь будет сделано большое и хорошее».Фрунзе пока присматривается к Фурманову. Ему симпатичен этот молодой человек с высоким белым лбом мыслителя и безгрешными, мягкими, горячими глазами. Такой врать не станет: не умеет. Весь на виду. Ни капельки лукавства. Но за этим высоким и широким лбом — мешанина из большевизма и анархизма. Продолжает состоять в группе анархистов. Михаил Васильевич сплохо скрываемым раздражением говорит Самойлову: — Вот был человек на войне. С самого начала. Братом милосердия. То есть видел все: и смерть, и кровь, и раны. И стихи недурные пишет. Газету «Русский Манчестер» прихлопнул. Молодец! И на фабриках пропадает целыми днями. Дельные вещи говорит: я слушал. Предан революции. Рабочие в нем души не чают. «Наш Митяй!» А Митяй — анархист, в комитете анархистов состоит. А в стихах: «И люди увидят великого бога на иглах терновых венца». — Так это же метафора. — Мы с тобой, Федор Никитич, каторгу и ссылку прошли и знаем, что метафоры разные бывают: слюнявые, поповские, как у символистов, и нашенские, бьющие по врагам революции. У Демьяна Бедного вон тоже метафоры. А как сказано: «Жена кормильца мужа ждет, прижав к груди малюток деток. Не жди, не жди, он не придет — удар предательский был меток!» Это о Ленском расстреле. Даже слеза прошибает. А тут: «Чертоги вселенской любви». — Да я ж, как тебе ведомо, в поэзии не шибко… — Нужно парню помочь, оторвать его от анархистов. Талантливый человек. И в статьях, и в стихах порох есть. Наш человек. Вот выберу время, займусь им специально. Признаюсь, поэтические вывихи Фурманова меня не так уж и беспокоят — ищет человек. А вот почему мы терпим под боком группку анархистов, в толк не возьму. Разогнать их нужно. А пока не вырвем у них Фурманова, разогнать трудно: они на его авторитете у рабочих держатся. Задурили они ему голову своей мелкобуржуазной идеологией. Фразы-то какие: «Мы за рабочий народ!» А то, что в это понятие включают и частника-кустаря, и деклассированные элементы общества, и даже кулака, — не всякий сразу разберется. Но время выбрать трудно. Нет его, времени. На Первом же съезде Советов, в феврале, поставил вопрос о создании Иваново-Вознесенской губернии. И разумеется, пришлось возглавить это дело. Перебрались с Софьей Алексеевной в Иваново. Поселились в доме № 14 по Напалковской улице, в гостинице. Потом — поездка в Москву во главе делегации для официального оформления новой губернии в Народном Комиссариате. Иваново-Вознесенскую губернию утвердили. Итак, мечта осуществилась! Вернувшись в Иваново, поздно ночью вызвал Фурманова. — Ведь для вас вопрос ясен, товарищ Фурманов. Вся ваша работа говорит за то, что вы, не состоя членом большевистской партии, все время проводили ее линию. Что вас еще смущает? — Михаил Васильевич, я ведь всю революцию работал в Совете, пережил все этапы развития Советской власти, эта работа стала мне родной и близкой. — Знаю, ну а теперь, когда тянуть больше нельзя, как решаете вы? Может быть, бросить работу в Совете? — Бросить работу в Совете сейчас, в такую трагическую минуту? Нет, Михаил Васильевич. Я всегда с вами. — А ведь я был в этом уверен. Недаром я все время следил за вами, за вашей работой, а поэтому с легким сердцем рекомендую вас в нашу партию. Через два дня Фурманов опубликовал в газете «Рабочий край» заявление о своем выходе из состава комитета анархистов и о вступлении в партию большевиков. В дневнике он записал:
«Только теперь начинается моя сознательная работа, определенно классовая, твердая, уверенная, нещадная борьба с классовым врагом».По рекомендации Фрунзе Дмитрия Фурманова избрали секретарем окружного комитета партии. Как только образовалась новая губерния, Михаил Васильевич стал председателем губкома партии, а Фурманов — секретарем. Организаторов не хватало. Фрунзе пришлось взвалить на себя и военный отдел. Каждый день засиживались допоздна. Открыли губернский клуб имени Ленина, где стали проводить семинары партийно-советских работников, организовали курсы для работников комбедов, курсы по рабочему контролю. Разруха, саботаж. На фабриках нет хлопка, топлива. В новой губернии жесточайший голод. Вот она, «Красная губерния», вся как на ладони. Здесь проживает почти полтора миллиона человек. С тех пор как Михаила Васильевича поставили во главе губернского совнархоза, товарищи в шутку называют его «красным губернатором». По решению правительства он должен провести национализацию крупной промышленности в Иваново-Вознесенской губернии, установить государственное управление промышленным производством. Нет, ничем подобным ему еще не приходилось заниматься. Промышленность в губернии на грани развала. Фабриканты и заводчики объединились в общество, чинят всякие пакости. Позвонила из Москвы Анна Андреевна Додонова, Она теперь заведующая культотделом Моссовета. — Чем заняты, Михаил Васильевич? — Национализацией крупной промышленности. — А я думала, пишете «Историю сибирской ссылки». Заканчивать образование в Политехническом не думаете? Шутит, конечно. А ему не до шуток. Считал себя экономистом, развивал красивые теории. Вот и берись за все со знанием дела! Что? Ни в одном учебнике нет о государственном управлении промышленным производством? В самом деле, прискорбно. Революция, брат! Сперва организуй это государственное управление, а уж потом напишут учебники… Все только рождается из хаоса, только начинает обретать административные и экономические формы. Образовать губернию куда легче, чем управлять ею! Общество фабрикантов и заводчиков разогнали «ввиду фактического перевода фабрик и заводов в управление рабочих и полного устранения частновладельческого почина». Никакого почина! Хватит. Он расхаживает по своему кабинету, заложив руки под солдатский ремень. Глаза воспаленные. — Производительные силы губернии… — говорит он Фурманову. — Вы знаете, что это такое? — В общих чертах. — А я даже в общих чертах не знаю. Три года зубрил политэкономию. Перед нами явление невиданное — социализм. Мы и есть первые создатели практики социализма, его экономики. И начинать вынуждены почти на голом месте. Вот мне самому приходится распределять запасы хлопка между фабриками. В каком это учебнике написано? Вы что кончали? — Был учеником торговой школы. Ну, реальное училище в Кинешме. В университете — на юридическом, на филологическом. Фунт черного на весь день. Не окончил. Война… Санитарные курсы. Санитарный поезд Земсоюза. — Будем учиться вместе заново. А главная проблема — накормить рабочих. Вы соприкасались с торговым делом. Я знаком с читинскими кооперативами. Вот и подумаем, как раздобыть хлеб. — За деньги? — За деньги и за мануфактуру. Натуральный обмен. А не послать ли нам по другим хлебным губерниям своих агентов? Скажем, в Вятскую, в Казанскую, в Саратовскую, в Уфимскую… Думаю, правительство разрешит. Это была крайняя мера, и она не решала продовольственного вопроса. Правда, удалось открыть бесплатные столовые для рабочих. Фрунзе поехал в Москву, в Совет Народных Комиссаров. Москва тоже голодала. Вернулся ни с чем. Но только так показалось. Ленин помнил Арсения, знал, в каких трудных условиях ему приходится работать, знал о создании «Красной губернии». Нежданно-негаданно в Иваново-Вознесенск прибыл эшелон с пшеницей, тридцать шесть вагонов крупного рогатого скота, два вагона растительного масла. Из Царицына. По личному распоряжению Ленина! Для рабочих столовых. А потом вагоны с хлебом и мясом стали приходить регулярно. Фрунзе подсчитал: почти три миллиона пудов хлеба, около полумиллиона пудов мяса, масла и рыбы. Это была забота правительства о «Красной губернии». Хотелось плакать. И вот телеграмма от Ильича: организуйте продотряды! Поход против кулачества. Фрунзе направил вооруженные отряды рабочих в деревни. Опустели фабрики. Гудки не будили ивановцев по утрам. После Москвы и Питера по количеству созданных продотрядов Иваново-Вознесенская губерния вышла на первое место. Фрунзе сам повел их в деревню. После декрета о комбедах в Иваново-Вознесенской губернии появилось почти три с половиной тысячи комитетов бедноты, которые помогали продотрядам. — Ну, кажется, выкарабкались, — сказал Фрунзе Фурманову. — Нет топлива для фабрик? Организуем добычу торфа. Деньги дадут. Я уже звонил в Москву. Дел по горло. И все-таки он находил время и для статистико-экономических исследований. Написал и опубликовал обширную работу, посвященную только что родившейся новой губернии: «Иваново-Вознесенская губерния в сельскохозяйственном отношении». В годы разрухи и голода это была первая работа, ставящая и разрешающая конкретные вопросы: как поднять сельское хозяйство, как накормить население, используя местные ресурсы? Здесь глубокий анализ истинного положения губернии, очень много цифр. На учет взято все: и хозяйства, занятые промышленностью и земледелием, наличие мужчин в рабочем возрасте, и ежегодная недостача хлеба в уездах начиная с 1893 года, пустующие и заброшенные пашни, сокращение площади пашни из года в год за сто лет (только по Шуйскому уезду такое сокращение за последние сто лет составило сорок тысяч десятин), стоимость удобренной и неудобренной десятины. Зоркий, аналитический взгляд экономиста проникает во все сферы: сенокос, пашни, леса, прочие угодья, нормы надельной земли, техника обработки полей, форма найма, производительность, потребность в привозном хлебе (а она составляет для каждого года три миллиона пудов). Какие же выводы делает Фрунзе-экономист: сможет ли губерния возместить нехватку хлеба за счет своего собственного производства? Да! Губернский исполком во главе с Фрунзе провел ассигновку в размере трехсот тысяч рублей на покупку минеральных удобрений, разработал смету по созданию большого губернского сельскохозяйственного оклада орудий, машин и семян, отпустил крупные средства на посылку в Москву на сельскохозяйственные курсы несколько десятков человек. Фрунзе разрабатывает вопрос о создании сети сельскохозяйственных школ, намечает открыть сельскохозяйственный факультет, создать свой агрономический научный центр. Фрунзе умеет хозяйствовать, умеет широко мыслить. Наконец-то представилась возможность воплотить все свои заветные экономические мечты, приложить силы на реальном объекте, имеющем огромную территорию, большое население. О чем еще мечтать ученому-экономисту? Это его стихия, его!.. Постепенно «Красная губерния» наливалась жизненными соками. Появился хлеб, появился торф — топливо для фабрик и заводов. Рабочие вернулись к станкам. И не верилось, что всего месяц назад дети получали хлеба по сто граммов на день, а взрослым вообще ничего не давали. Он обладал какой-то незримой властью над людьми, притягательной силой, особым даром превращать всех, с кем сталкивался, в своих единомышленников. Может быть, потому, что не любил расставаться с тем, с кем сошелся убеждениями, или с тем, кого хотел перебороть. Казалось, появился в Иваново-Вознесенске совсем недавно, а вокруг него уже прочная когорта старых, испытанных друзей. Перебрался сюда Павел Степанович Батурин, взял в свои руки губернский отдел народного хозяйства. Рядом — Любимов, Жиделев, Андреев, Волков, Калашников, Шорохов, председатель губчека Валерьян Наумов, Петров, Балашов, Жугин, Мякишев, Мухин — гвардия, воспитанная Фрунзе, опора во всех делах. Их, конечно, гораздо больше: тысячи. У него отличная память на людей. Дмитрий Фурманов изо дня в день наблюдает, как проявляется волевое начало этого человека. Рядом с Фрунзе находится писатель с острым, наблюдательным глазом. И писатель отчетливо сознает, кто перед ним.
«И в какой бы области ни взялся он за работу, у него всегда находилась какая-то цепкость, какое-то особенное понимание, особенные способности ориентироваться, разбираться сразу в обстановке и брать, что называется, быка за рога. Он хозяйственник — и он в этом деле проявляет достоинства. Он военный работник — и он в этом деле выявляет талант. Он берется за какую-нибудь культурную работу — и здесь он на своем месте».У Фрунзе появился настоящий биограф. Он фиксирует в своем сознании каждый его шаг, всматривается в его лицо, бывает у него на квартире, где Софья Алексеевна угощает гостей чаем с сахаром и леденцами, присланными из Читы. Софья Алексеевна, как истая сибирячка, гостеприимна: отпустить человека, не накормив его, кажется ей прямо-таки святотатством. Было бы побольше угощения… Фурманов — натура возвышенная и восторженная. Он видел людские страдания и кровь, теперь с прежним стоицизмом воспринимает все, что выпало на его долю, на долю миллионов людей: синий оскал голода, мертвые депо, застуженные корпуса фабрик. Рядом с Фрунзе все это обретает эпические черты, складывается в некую героическую ораторию. Из обломков империи и буржуазной республики рождается новый мир… Эпическое время — всегда голодное время. На сытый желудок легче совершать подвиги. Написал «Легенду об Унглах» и опубликовал ее в местной газете. Но то, что воспринималось умом, на бумаге получилось выспренним, чересчур аллегоричным. — Пишите, как думаете, — посоветовал Михаил Васильевич. — А думаете вы красиво, но естественно, без ходуль. Обыкновенная проза, если в ней без прикрас отражено время, отстоявшись, превращается в поэзию. Сколько, например, поэзии в записках Плутарха! А ведь это проза. Грубая, лаконичная проза. И как помпезны, напыщенны записки Цезаря и Наполеона! Такие книги не могут быть вечными, они лишены естественности, человеческой простоты. Они лживы. А время обмануть нельзя. Давно отмечено, что людей интересует только одно: правда, истина. И эту извечную тягу к правде невозможно заглушить никакими метафорами и аллегориями. Мне, например, когда читаю исторические книги или мемуары, всегда до боли хочется знать: а как было на самом деле? Со всей требухой… Текстильная губерния поглощала все время Михаила Васильевича. Ну а как же культурная работа, о которой упоминает Фурманов? К решению этой проблемы председатель губсовдепа подошел тоже своеобразно: нужно свое высшее учебное заведение, свой политехнический институт! Иваново-Вознесенский политехнический институт, который готовил бы специалистов для текстильной промышленности… — Народ нам не простит, если мы не примем меры к тому, чтобы дети и молодежь учились, несмотря на тяжелую обстановку в стране! В Москву не так давно эвакуирован Рижский политехникум. Фрунзе посылает телеграмму ректору:
«Предлагаем перевести политехникум в Иваново-Вознесенск — центр большого промышленного района. Город и район окажут широкое содействие. Помещение для размещения института имеется площадью 16 тысяч квадратных аршин. Седьмого выезжает в Москву делегация для личных переговоров».Фрунзе снова в Москве. Его предложение поддержали Владимир Ильич и Луначарский. Профессора и студенты согласились переехать в «Красную губернию». Ленин подписал декрет о создании Иваново-Вознесенского политехнического института. А Фрунзе уже занят организацией другого института — педагогического. Он спешит: в губернии открываются одна за другой школы (за год почти восемьсот школ), библиотеки, кинотеатры, избы-читальни, народные театры, клубы. И Дмитрий Фурманов молча дивится этой неисчерпаемой энергии. Ведь если только перечислить все дела Фрунзе за очень короткий промежуток времени, получилась бы увесистая тетрадь. А за каждым его деянием — отдача всего себя без остатка; он с таким же упорством создает неприметную школу второй ступени, с каким вытряхивает хлеб из кулаков или убеждает несговорчивых профессоров-рижан переехать в Иваново. Борьба, беспрестанная и даже кропотливая борьба с неподатливой человеческой природой, с безразличием или мелкими соображениями личного порядка. И когда Фрунзе с трибуны заявляет: «Интересы партии — превыше всего!», то это понятно Фурманову, понятно рабочим, но непонятно рижскому профессору, который считает себя человеком, далеким от политики. А сколько потребовалось сил и бессонных ночей, чтобы раздобыть деньги для политехнического института! Все предприятия города обложили налогом, открыли в банке специальный счет для добровольных пожертвований. И поставил-таки институт на ноги. Да, Фрунзе торопился. Торопила тревожная обстановка. Он знал, что передышка скоро кончится. Опять в ушах гремели боевые колесницы. Белогвардейский чехословацкий корпус отрезал центральную Россию от источников продовольствия и хлопка, в Мурманске высадились англо-французские и американские войска, во Владивостоке — японцы, немецкие империалисты предъявили грабительские условия мира. Зашевелилась внутренняя контрреволюция. Не мог он спокойно заниматься мирной работой. Еще в марте он обратился к пленуму губисполкома с предложением послать его, Фрунзе, на фронт. — Надо во что бы то ни стало нам самим стать во главе отрядов и уйти вместе с ними. Это поднимет настроение масс. На фронт его не отпустили, а сделали военкомом губернии. На каком бы собрании он ни появлялся, его неизменно выбирают председателем. И конечно же, когда в Москве открылась конференция военных отрядов, его посадили на председательское место. У него тяга к военной стороне жизни, военная жилка. И она проявляется даже в мелочах: положено разъезжать на автомобиле, а он сам чистит, холит коня, седлает его; на автомобиле разъезжают другие. Настойчиво учится рубить шашкой. Собрав в кабинете товарищей, подходит к карте, расчерченной красными и синими стрелами, говорит, оживляясь все более и более: — Слышали сказку о джине в кувшине? Так вот, наша губерния и есть такой джин. Пока не откупорим кувшин — не подняться во весь рост. Нам бы вот теперь эту пробку откупорить, что под Оренбургом, — там прямая дорога к туркестанскому хлопку… Он пишет несколько статей, призывающих к скорейшему созданию Красной рабоче-крестьянской армии. — Надо сделать нашей очередной задачей организацию вооруженных сил. Пусть народ весь изморен, разорен и устал, пусть эта задача кажется не под силу при данных условиях… Мы ее должны разрешить, если вообще хотим жить и развиваться. В этом, и только в этом — спасение нашей страны и революции от всяких поползновений мировых хищников. Летом 1918 года Фрунзе находился в Москве на Пятом съезде Советов. В это время левые эсеры подняли мятеж. Захватили телеграф, Курский вокзал, арестовали Дзержинского и других видных работников партии. Штаб повстанцев находился в Покровских казармах. Михаил Васильевич прямо со съезда направился на Чистые Пруды в расположение Первых московских военных курсов и сформировал здесь Интернациональный отряд. Оценив обстановку, он повел отряд к Покровским казармам. К вечеру штаб мятежников прекратил борьбу. Вернувшись на съезд, Фрунзе узнал, что в Ярославле тоже мятеж. Возглавил его эсер Борис Савинков. Ярославль… Сто километров от Иваново-Вознесенска. Михаил Васильевич заволновался. Троцкий, обволакивая делегатов словами, пытался изобразить дело так, будто бы мятеж почти ликвидирован и нет оснований для беспокойства. Но Фрунзе не поверил. Он вообще Троцкому никогда не верил, почти интуитивно угадывая в нем заклятого врага Советской власти. «Иудушка-Троцкий» — это ленинская характеристика глубоко запала в сознание Фрунзе. И теперь он заторопился в Иваново. Что происходит в Ярославле? Даже отсюда слышен орудийный гул. Разведчики донесли: положение серьезное, город разрушен, белогвардейцы занимают все ключевые позиции. В Ростове-Ярославском тоже эсеровское восстание. Значит, Троцкий обманул. Так почему же бездействует командующий Московским военным округом Муралов, которому поручено подавить мятеж, почему отсиживается в Москве? Ведь ясно, что убийство немецкого посла Мирбаха и мятежи эсеров — звенья одной цепи. Сюда следует приплюсовать и меньшевистский заговор против Советов в Кинешме. Фрунзе вне себя от гнева. И вот, казалось бы, еще один курьез: не состоящий на воинской службе Фрунзе пишет командующему Муралову:
«1. Послать хороших руководителей. 2. Два или три броневика. 3. Человек 500 хорошего войска. Состав окружного штаба в лице Аркадьева по-прежнему очень слаб… Словом, имейте в виду, что без немедленной солидной помощи от Вас — дело грозит затянуться».Тут чувствуется твердый голос и твердая рука. Да он и не намерен ждать, пока Муралов раскачается. Для Фрунзе существует лишь один критерий: «Интересы партий — превыше всего!» А интересы партии в данном случае: как можно скорее ликвидировать мятеж. Все коммунисты «Красной губернии» встали под ружье. Здесь объявлено военное положение. Фрунзе формировал отряды и отправлял их в Ярославль. Один из отрядов сформировал Фурманов. Через полмесяца мятеж в Ярославле и Ростове был подавлен. Усилия Фрунзе при ликвидации мятежа не остались незамеченными. Он получил еще одно назначение: военком Ярославского военного округа! Воистину сказано: судьбы ведут того, кто хочет, и тащат того, кто не хочет. Софья Алексеевна потеряла счет всем должностям и назначениям: председатель губисполкома, председатель губсовнархоза, губвоенком. Теперь вот назначен военным комиссаром Ярославского военного округа. Значит, снова придется куда-то переезжать… Переезжать не пришлось. Просто управление Ярославского военного округа перевели из Ярославля к Фрунзе, в Иваново-Вознесенск. Ведь никто не освобождал его от других, сугубо губернских обязанностей. Да и от партийных тоже. Он по-прежнему председатель губернского комитета партии. Ярославский военный округ велик: он охватывает восемь губерний, вплоть до Архангельской. Территория нескольких европейских государств. Фрунзе сидит в своем кабинете в штабе округа, обхватив руками голову. Перед ним карта. Советская власть свергнута на большей части республики: у белых почти вся Сибирь, Урал, казачьи области. Белочехи и белогвардейцы подступают к горлу: они в Самаре и вот тут — в Казани. В Уфе собрались представители самозваных «правительств» — сибирского, уральского, башкирского, самарского, восьми казачьих, представители всех контрреволюционных партий. Вся эта шваль во главе с ближайшим помощником Керенского, бывшим министром внутренних дел Авксентьевым, создала новое временное правительство, которое пригласило на пост военного министра адмирала Колчака. Но шваль остается швалью. Прицыкнув на весь этот сброд, Колчак объявил себя верховным правителем России. Подобную авантюру учинил на севере, в Архангельске, престарелый национал-социалист Николай Чайковский — создал свое правительство. Но и тут нашелся свой «Колчак» — царский генерал Миллер. …Если как следует вдуматься, большое место в партийной работе Фрунзе, начиная с 1905 года, занимало то, что можно выразить одним словом: «формирование». Он беспрестанно «формировал»: формировал боевые дружины, формировал сознание тысяч рабочих, формировал милицейские части, формировал революционные силы для подавления корниловского мятежа, формировал солдатские, крестьянские, рабочие комитеты, как военком губернии формировал воинские отряды для отправки на фронт. И теперь он должен был формировать воинские части. Дело знакомое. Только возрос масштаб. Формировать — значит всякий раз преодолевать инертность и даже сопротивление, непонимание, ибо всякому материалу, а тем более человеческому, присуща изначальная инертность. Фрунзе хорошо знал психологию масс, и это знание шло не из учебников психологии, а от повседневной практики, которая в конечном счете развивает своеобразную интуицию. Он читал труды модных буржуазных психологов, но они не давали ответа на вопрос: что же такое психология масс? Те психологи принадлежат к правящим классам, воспитанным в духе презрения к «толпе», к массам. И в своих наукообразных сочинениях они сознательно подменяют понятие «массы» понятием «толпа». Так, Густав ле Бон в своей книге «Психология толпы» пишет:
«Одним тем, что человек является составной частью организованной толпы, он спускается на несколько ступеней по лестнице культурности. В изолированном состояния он, быть может, был достаточно цивилизован; в толпе же он стал варваром, способным лишь следовать диким инстинктам».Но как быть Фрунзе, который и считал себя составной частью вот этих самых масс, никогда не отделялся от них даже мысленно? Каждый человек имеет право на индивидуальность, потому что он человек, а не машина; но член общества не имеет права на индивидуализм. Индивидуализм — проявление буржуазности, какую бы сферу вы ни взяли: то ли искусство, то ли общественную и государственную деятельность. Мелкобуржуазная революционность всегда индивидуалистична, и скольких наполеончиков выдвинула она за последнее время! А если брать более узко — индивидуалист всегда анархичен, не любит подчиняться воле большинства, презирает дисциплину, во всех своих поступках он в какой-то мере зоологичен или даже биологичен. Вот с этим тяготением человеческой натуры к неорганизованности и столкнулся Михаил Васильевич в первые же дни, приступив к обязанностям военкома округа. Вологодским губернским военным комиссаром значился некто Авксентьевский. Он был человеком, преданным революции, работал в губисполкоме. Его ценили. Но у него имелся крупный недостаток: анархическая нелюбовь к какому бы то ни было начальству. В молодости так случается, а губвоенкому не было и тридцати. Красивый, самоуверенный, считающий «революционный нажим» основным методом работы, он глубоко презирал всех тех, «что в штабах». Он, конечно, делал много полезного, но в то же самое время вызывал и недовольство у населения. Нужно было ввести эту стихию в партийные рамки. Михаил Васильевич вызвал Авксентьевского в штаб. Губвоенком не отозвался. На повторный вызов ответил дерзким письмом, что-де «не намерен ездить на поклон к начальству, а начальство, если интересуется делом, может само приехать». Фрунзе был заинтересован. Он знал эту ершистую породу. — Прямо анархист какой-то, — сказал он военруку округа Федору Федоровичу Новицкому. — Не намерен ездить — и проваливайте к чертям! Видно, большой революционер, если нас и за начальство признавать не хочет. Новицкий блеснул огромными круглыми очками. — Из подпоручиков. Я хорошо его знаю. Резковат, но деловые качества высокие. — А это не вы придумали гранату Новицкого? — Нет, пороха я не изобретал. Генерал-лейтенант Новицкий Федор Федорович во время мировой войны командовал дивизией. Он приветствовал Февральскую революцию, но скоро разочаровался во Временном правительстве. А когда произошла Октябрьская революция, одним из первых присягнул Советской власти. Он был опытным специалистом, и его назначили военным руководителем Ярославского военного округа. Он не вдавался в тонкости политики, считал, что служит народу вообще. Его окружали молодые, горячие люди. И неопытные. Он старался помочь, вразумить, но его не всегда слушали: ведь он — бывший генерал, к тому же беспартийный. И постепенно он замкнулся. У него всегда был непроницаемый вид, как у человека, который наблюдает жизнь, не принимая в ней участия. Он сохранял холодное достоинство. Генерал оживился только тогда, когда в штабе округа появился Фрунзе. Поглаживая седоватую острую бородку, Новицкий с любопытством наблюдал за Фрунзе и недоумевал: вот человек без военного образования, никогда не носил даже офицерских погонов, а его назначили руководителем всей административной работы, по сути, главным военным начальником, по нынешним временам — командующим войсками округа. Самоуверенная молодежь… Что делать, революция молода… Удастся ли ему справиться со своенравным Авксентьевским? Да и другие губернские и уездные военкомы действуют сами по себе, игнорируют распоряжения штаба. В самом штабе тоже беспорядок, анархия, волокита, бюрократизм. Ибо, как сказал еще Клаузевиц, нет машины более бюрократической, чем машина военная… Все эти неурядицы нагоняли на генерала сплин. Очень быстро сплину и всеобщей разболтанности Фрунзе положил конец. Неожиданно для всех он оказался человеком крутым. Действовал со спокойной уверенностью в себе. И что больше всего поразило генерала — не терпел экстремизма, в чем бы он ни проявлялся. Принимая суровые меры, не терял доброжелательности к людям и тонкого юмора. Вологодского военкома вызвал по боевой тревоге, и тот явился в штаб небритый, заросший, в рваной шинели и расхудившихся сапогах. В кабинет к Фрунзе вошел сумрачный, взъерошенный. — Я Авксентьевский. Звали? — Вызвал. Михаил Васильевич поднялся из-за стола и указал военкому на свой стул. — Садитесь. На лице Авксентьевского отразилось недоумение. — На ваше место? — Будем считать, что на мое. Губвоенком, все еще ничего не понимая, тяжело опустился на стул. Фрунзе, гладко причесанный, в начищенных сапогах и аккуратно заправленной гимнастерке, стал напротив и вытянулся. — Несколько дней назад я был военкомом Иваново-Вознесенской губернии, — сказал он. — Занимался тем же, чем сейчас вы. Являлся в штаб округа по вызовам и без вызова. Просил, требовал, настаивал. Представьте себе на этом стуле человека, который за трудами и хлопотами не успевает даже привести себя в опрятный вид. Он убежден, что своим беспрестанным бдением и горением жертвует собой во имя революции, и вместо того, чтобы воспитывать людей, подтягивать их до политического понимания обстановки, кричит на них, стучит кулаками, угрожает им, не разобравшись в сути вопроса, прибегает к крайним административным мерам. И все это он творит, как он убежден, во имя революции. Но постепенно начинает замечать, что дела идут все хуже и хуже. Ему и невдомек, что революция требует от нас не жертвенности, а жесточайшей самодисциплины. Если бы не было этой самодисциплины у рабочего класса, Советская власть не продержалась бы и месяца. Ну а что касается военной дисциплины, то мне кажется, что между современным пониманием дисциплины и тем, что имело место в старой армии, лежит целая пропасть. Дисциплина в нашей армии должна базироваться не на страхе наказания и голом принуждении, а на добровольном сознательном исполнении каждым своего служебного долга, и первый пример такой дисциплины должен дать командный состав. То есть мы с вами. Авксентьевский резко поднялся. Губы его вздрагивали. — Простите меня, товарищ Фрунзе. Больше этого никогда не повторится… — Я убежден в этом. А теперь доложите обстановку. В письменных жалобах на вас есть много справедливого… Когда Авксентьевский уехал, Михаил Васильевич сказал Новицкому: — Он в самом деле толковый работник. Просто перерос свою должность, масштабы ему малы. Занудился. Ничто так не сковывает человека, как тесная одежка. Нужно выдвигать. Новицкий наблюдал и удивлялся. В новом военкоме он открыл бездну ума и такта. А главное: тонкое знание сугубо военных вопросов. Тут и не пахло дилетантством. Тактика, стратегия, понимание оперативных задач, хозяйственно-административная сфера… Чаще всего они обсуждали положение на фронтах. И здесь Михаил Васильевич проявлял в полную меру свою способность к аналитическому военному мышлению. Иногда генерал посматривал на него даже с каким-то суеверным страхом. Все тот же вопрос: откуда в человеке?.. Лаконизм, отточенные предельно формулировки, специальный язык профессора военной академии. Нельзя же, в самом деле, поверить в интуитивное постижение? Вот он, разгоряченный, увлекшийся, сбросив кожаную куртку, которая стесняет, ползает по полу по расстеленной карте. Беспрестанно меняющаяся обстановка на фронте, казалось бы, должна порождать в каждом мозгу зыбкость представлений, необязательность тех или иных действий противника и наших войск. Да и сама Красная Армия пока еще в становлении, ищет свои организационные формы: сперва были отряды, теперь вот появились батальоны, полки, бригады, дивизии; но до сих пор отсутствует единая структура частей и соединений, что затрудняет управление ими. Но Фрунзе и в этом хаосе уверенно нащупывает железную закономерность, общую тенденцию. И только теперь Федор Федорович начинает в полную меру осознавать, что перед ним личность незаурядная; о таких в старое время говорили — «талант милостью божьей». Но он — не «милостью божьей». Он диалектик всем своим существом, не преднамеренный диалектик, а в силу склада своего ума, ибо сама жизнь — диалектика, а в мозгу Фрунзе беспрестанно регистрируются в окончательном виде, с большим отбором все процессы. Он ученый, мыслитель, теоретик, человек очень высокого интеллектуального потенциала… А обстановка на фронтах, в самом деле, была сложной. Фрунзе, предугадывая последующий ход гражданской войны, говорил Новицкому, что рассчитывать на быструю победу могут лишь оптимисты с бараньими глазами. Ведь речь идет не просто о победах, а о том, быть или не быть новому, невиданному в истории человеческого общества строю — социалистическому. Империалисты всех стран не посчитаются ни с чем, чтобы задушить молодое Советское государство. Оценивая тактику и стратегию наших войск, Фрунзе сказал: — Они маневренны, но пока в малой степени. Победа принадлежит армиям маневренным, то есть наиболее обученным. С каждым днем она увеличивает требования знаний от всех. — Очень глубокая мысль! — восхитился Федор Федорович. Фрунзе рассмеялся. — Согласен. Принадлежит она не мне, а Фошу. Но хорошие мысли остаются хорошими мыслями, кто бы их ни высказал. Михаил Васильевич перевел на руководящую работу в комиссариат округа Фурманова, Батурина и еще несколько человек. Как-то без рывков, без дерганья и суматохи за короткое время все вошло в деловую колею. Военком беспрестанно разъезжал по губерниям, налаживал всеобщее военное обучение населения на фабриках, в волостях, в селах, формировал из обученных резервные роты, батальоны, полки. За полгода только из «Красной губернии» он отправил на фронт почти семьдесят тысяч человек. Дмитрий Фурманов записывал:
«Движения Фрунзе были удивительно легки, просты, естественны — у него и жестикуляция, и взгляд, и положение тела как-то органически соответствовали тому, что он говорил в эту минуту: говорит спокойно — и движенья ровны, плавны, и взгляд покоен, все существо успокаивает слушателей; в раж войдет, разволнуется — и вспыхнут огнями серые глаза; выскочит на лбу поперечная строгая морщинка, сжимаются нервно тугие короткие пальцы, весь корпус быстро переметывается на стуле, голос напрягается в страстных высоких нотах, и видно, как держит себя Фрунзе на узде, как не дает сорваться норову, как обуздывает кипучий порыв… Фрунзе своими огненными словами укрепил во мне правильность моих взглядов и стремлений».Посылая рабочие отряды на фронт, Фрунзе говорит: — Больно, до бесконечности больно следить за медленной агонией трудовых масс в захватываемых врагом областях. Стыдно, мучительно стыдно оттого, что не все, что можно и должно делать, делается… Не стыдно ли нам заботиться о себе, когда на карте стоит все, что так бесконечно дорого, без чего и сама жизнь не в жизнь? Однажды после отправки одного из отрядов на фронт Михаил Васильевич с потемневшими глазами сказал Новицкому: — Не могу больше. Колчак Пермь взял. Мое место там, в бою… Получить бы конный полчишко — и гайда, чтобы только ветер свистел в ушах! — Поверьте генералу: вам не полком, а армией командовать! Вон как округ взяли в руки, только диву даюсь. Фрунзе нахмурился. — Хватили через край, Федор Федорович. Вот уж не представляю себя в роли командарма! Тактика, стратегия. Не по плечу. Тут уж без кокетства. Одно дело Фоша да Клаузевица цитировать, другое дело судьбами фронта распоряжаться. — Вы прирожденный полководец. Ну а на фронт я и сам рвусь. Руки чешутся… — Удерем? — Удерем! Бывший генерал-лейтенант никогда еще не чувствовал себя так уютно, как с Фрунзе. И если вначале Новицкий считал, что самое великое благо — служить народу, то теперь, соприкоснувшись с душевной чистотой Фрунзе, уяснив его идеалы, он понял, что единственной партией, способной удержать власть и преобразовать страну, являются большевики. Когда некто, недавно носивший полковничьи погоны и, по-видимому, кем-то подосланный, словно бы шутя заметил, что царский генерал перешел в большевистскую веру, Новицкий резко оборвал его: — Лучше подумайте, какую веру исповедуете вы, молодой человек! Я всегда старался служить народу, а вот быть на побегушках у Колчака не хочу. Что же касается большевиков, то у них стоит поучиться многому… Колчака Новицкий знал. И отчетливо представлял, с кем приходится иметь дело молодой, неокрепшей армии республики. Вице-адмирал Колчак был умный, а следовательно, опасный враг, фанатик. Сын морского артиллерийского офицера, Александр Колчак считал себя потомственным моряком, стражем морских рубежей России. Честолюбивый, энергичный, он вынашивал грандиозные планы захвата проливов, ведущих из Черного моря в Средиземное, очень быстро выдвинулся на пост командующего Черноморским флотом. Командовал он и при Временном правительстве. А когда летом 1917 года на Черноморском флоте произошло восстание, Временное правительство командировало его в США во главе военно-морской миссии. Теперь он вернулся и, сплотив при поддержке иностранного капитала трехсоттысячную армию, оснастив ее артиллерией, пулеметами, авиацией, начал наступление. Это была грозная волна. Она то откатывалась, то, набрав силу, снова ползла, разрушая все на своем пути. И хотя Красной Армии удалось вернуть Казань, Симбирск, Уфу и Самару и тем самым нанести первое крупное поражение объединенным силам белогвардейцев и интервентов, Фрунзе торопился на фронт. Торопился и торопил Новицкого. Федор Федорович поехал в Москву с ходатайством. Председатель Реввоенсовета Республики Троцкий встретил его ласково: — Боевой конь рвется в бой! Понимаю, понимаю… Вы приехали прямо-таки вовремя: ищем человека на должность командующего Четвертой армией Восточного фронта. Новицкий похолодел. Он смотрел в темные, без выражения глаза Троцкого, но ничего не мог прочесть в них. Что это: доверие или подвох? Хотят поставить во главе армии, той самой армии… Ответственности Новицкий не боялся. Он страшился другого: не оправдать надежду Советского правительства. В случае провала его могут заподозрить в измене, судить или казнить на месте. Но и это еще полбеды. О собственной жизни он пекся меньше всего. Он не был уверен, что сумеет подчинить себе недавно сформированную, разношерстную, плохо дисциплинированную армию, где царит партизанщина, где отдельные полки захвачены анархистской и эсеровской антисоветской агитацией. Доходили слухи о мятеже в Орлово-Куриловском полку этой армии, где озверевшие кулацкие сынки убили командира и комиссара полка. К мятежникам присоединился Туркестанский полк. В такой армии командующим должен быть человек с большим партийным авторитетом, человек, которого никто не посмел бы попрекнуть прошлым. Лишь Фрунзе, в любой момент чувствующий, что он служит революции, в силах организовать всю эту аморфную массу, сделать из нее боеспособную армию. — Я приехал хлопотать не только за себя, но и за Фрунзе. Как военный специалист рекомендую на должность командующего Четвертой армией Фрунзе. Именно такой человек сейчас там нужен. Троцкий поморщился. Поэт Блок, обладавший исключительным, почти сверхъестественным чутьем на людей, увидев впервые Троцкого, занес в дневник: «У Иуды — лоб, нос и перья бороды, как у Троцкого». Такую же ассоциацию вызывали облик Троцкого, его манера поведения, его затаенность, невольно проявляющаяся в едва приметных мелочах, у всякого, кто сталкивался с Троцким. Это был человек с «двойным дном». Ко всякому большому социальному движению обычно пристает целая свора носителей идеологии мелких хозяйчиков, мелкобуржуазного фрондерства, опирающегося, как правило, на различные формы субъективного идеализма, политических авантюристов. Таким политическим авантюристом был Лев Давыдович Бронштейн, или Троцкий, фигура изначально зловещая, фразер, экстремист и максималист. Максимализм служил ему своеобразной защитной окраской, маскирующей его мелкобуржуазное нутро. Политическую борьбу он воспринимал как борьбу за личную власть, за руководство. Он хотел править, диктовать свою волю, подчинить своим интересам рабочее движение. Но так как на пути к осуществлению всех его замыслов стояли ленинцы, Троцкий делал все возможное, чтобы вытеснить их отовсюду. Он действовал по определенному, хорошо разработанному плану, смысл которого сводился к тому, что Троцкий и его сторонники не смогут овладеть всей полнотой власти до тех пор, пока в правительстве, в ЦК, в армии находятся ленинцы. Менее всего желательно укрепление Советского государства, Красной Армии. Нужно повсюду сеять анархию, разброд и тем самым, взваливая всю ответственность за голод, разруху, за поражения на фронте на ленинцев, скомпрометировать их в глазах масс, восстановить против них массы. И когда страна будет доведена до катастрофы, спасителями России выступят ставленники Троцкого в качестве некой третьей силы. Стремясь отколоть рабочий класс от партии, он выдвинул провокационный лозунг «рабочего самоуправления социализированной промышленностью»; дескать, профсоюзы должны стать средством милитаризации труда, органами, которые после завоевания власти превращаются в проводников революционной репрессии. Но единомышленник Троцкого, некто Гольцман, невольно выболтал, что кроется за всеми этими архиреволюционными фразами: он потребовал в качестве мер воздействия «беспощадной палочной дисциплины по отношению к рабочим массам», «применять тюрьмы, ссылку, каторгу по отношению к людям, которые не способны понять наши тенденции». А тенденция заключалась в политике «завинчивания гаек», в превращении деревни в колонию, рабочих в покорных рабов троцкистской элиты — «верхов», «руководящего персонала», в создании буржуазной республики, в которой процветало бы свободное предпринимательство. И каждый думал: окажись полнота власти в руках такого, как Троцкий, он конечно же введет для рабочего класса палочную дисциплину, загонит всех, «не способных понять», в тюрьмы. В своем заговоре против Советской власти Троцкий хотел опираться на реальную военную силу: на военспецов, офицеров и генералов старой армии, перешедших во время Октября на сторону народа. Ставка была на то, что военспецы, люди, не искушенные в тонкостях внутрипартийной борьбы и знающие доброе отношение к ним Троцкого, пойдут именно за Троцким, поддержат его. Военспецами он хотел постепенно и незаметновытеснить из армии командиров, выходцев из рабочих и крестьян, таких, как Котовский, Блюхер, Чапаев, Вострецов, Пархоменко, Ворошилов, Буденный. Лазо, Кутяков, и тысячи других, беззаветно преданных ленинской партии, Ленину. Потому-то так ласков был Троцкий с каждым военспецом. Он не стеснялся повторять вслух, что только военспецы, имеющие опыт ведения боя, знающие тактику и стратегию, смогут выиграть гражданскую войну, и с нескрываемым презрением относился к «самородкам», «доморощенным» стратегам от плуга и сохи, стремясь посеять антагонизм между теми и другими, внести дух недоверия и подозрительности. Разумеется, военспецов Троцкий не посвящал в свои далеко идущие устремления. А военспецы искренне принимали его за представителя правящей партии. Революционный военный совет Республики был высшим коллективным органом управления Красной Армией и Флотом, ему принадлежала вся полнота военной власти, а Троцкий сумел пролезть сюда, занял руководящий пост. Не мог же Троцкий сказать тому же Новицкому, что, мол, вы должны служить не Советской власти, не народу, а мне и моим приспешникам; а Фрунзе, дескать, испытанный ленинец, и лучше было бы, если бы его совсем не было… Но сейчас Троцкий был раздражен. Ох, уж этот Фрунзе! Всюду сует свой нос. Еще не хватало, чтобы он командовал армией! Нет, Троцкий не будет подсаживать «самородка» еще на одну ступеньку… И это нечто, глубоко скрытое в темных глазах Троцкого, сумел уловить Новицкий. — Мы знаем, какой человек там нужен! — сказал Троцкий резко. — Мы оказываем вам доверие, а вы стараетесь подсунуть нам этого Фрунзе. Кто он такой? С какой стати мы должны доверить ему командование целой армией? Чего стоит в данном случае ваша рекомендация? Фрунзе никогда ничем не командовал, на него сыплются жалобы от военкомов губерний. Пусть будет благодарен за то, что ему доверили округ и до сих пор терпим его проделки. Не знаю, как это ему удалось так быстро опутать вас, опытного военспеца? Или, может быть, должность кажется вам маленькой? Не хотите на командную — назначу начальником штаба Южного фронта! Новицкий был оскорблен. — Если бы не Колчак, я немедленно подал бы в отставку, — сказал он. — Я готов идти на фронт хоть рядовым. Если мои рекомендации ничего для вас не значат, я оставляю за собой право обращаться в другие инстанции. От командования армией решительно отказываюсь! И Новицкий направился в другую инстанцию, где никогда не бывал: в Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, председателем которого был Владимир Ильич Ленин. В тот же день Фрунзе назначили командующим Четвертой армией, а Новицкого — начальником штаба этой же армии. — Подтянули до своего генеральского уровня, — сказал Новицкому смущенный Михаил Васильевич. — Ну что ж, выбирать не из чего. Да и некогда. Будем готовиться к поездке на фронт. Подготовка носила своеобразный характер. Так как Фрунзе не любил расставаться с людьми, а его друзьями были все рабочие, то он и решил взять многих из них на фронт. Не с пустыми руками явится он в Четвертую армию. Бюро Иваново-Вознесенского губкома партии постановило: в связи с отъездом на фронт председателя губкома товарища Фрунзе организовать отряд Особого назначения из рабочих иваново-вознесенского текстильного края и отослать его в район действия Четвертой армии. Появилось обращение губкома:
«Записывайтесь в добровольческий коммунистический отряд товарища Фрунзе».— Там пробьем дорогу в Туркестан, к хлопку, пустим снова наши стынущие в безработице корпуса, — говорил он ткачам. — Надо в спешнейшем порядке сделать армии вспрыскивание живой рабочей силы. С Арсением на фронт отправлялись Фурманов, Батурин, Шарапов, Валериан Наумов, Игнатий Волков, Калашников, Шорохов, Андреев, короче говоря, все, с ком его спаяли годы работы. Фрунзе вызвал из Вологды в штаб округа Авксентьевского. На этот раз военком явился выбритым до синего блеска. Михаил Васильевич указал ему на свой стул. — Садитесь! — На ваше место? — На свое место. Вот приказ о вашем назначении на должность военного комиссара Ярославского округа. — А вы? — На фронт… — Возьмите меня с собой, Михаил Васильевич! Я ротой могу!.. А если нужно, то и батальоном… Офицер я!.. А меня — в штаб, в штаб… Я вам за табаком бегать буду… — Не курю. На роту не возьму. И на батальон тоже. Проявите себя здесь — в командармы вас двинем! — Я позабочусь, чтобы ваша семья ни в чем не испытывала недостатка. — Спасибо, Софья Алексеевна едет со мной.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
НА ОПЕРАТИВНОМ ПРОСТОРЕ
Буран чисто вылизывает степь, пригибает к земле прошлогоднюю траву. Мечется, бунтует бурлящая снежная заметь, свищет черный ветер в телеграфных проводах. Белесые призраки вьюги налетают на столбы, взмахивают руками и отпрыгивают. Борясь с ветром и метелью, бредет по степи отбившийся от стаи волк. Степь. Ни конца, ни границ. Кажется, что и сами названия здешних сел и городков порождены степью и вьюгой: Бугульма, Белебей, Бугуруслан, Бузулук, Бугульчан, Урбах. Вот из метели медленно выдвигается бронепоезд. Ему трудно, он тяжело дышит. Дрожат, позванивают промерзшие насквозь рельсы. Простучали одетые в сталь вагоны — и опять нет ничего, кроме ветра, летящего снега и надрывного воя телеграфных проводов… В этой белой вьюжной степи произошло злодейское убийство. Эсеры и кулаки, поднявшие мятеж в Орлово-Куриловском полку, застрелили командира и комиссара полка. Когда прибыл новый комиссар, двадцатилетний Чистяков, герой октябрьского штурма в Петрограде, кулацко-эсеровские главари изрубили его шашками. К мятежникам присоединилась команда бронепоезда. Мятежники, сделав вылазку, захватили вагон, где находились член ВЦИКа Майоров, старый рабочий печатник Мяги и член Реввоенсовета армии Линдов. Прицепив вагон к бронепоезду, мятежники двинулись в расположение Орлово-Куриловского полка. Линдов, Майоров и Мяги на ходу выпрыгнули из вагона в снег. Их расстреляли из пулеметов. Вслед за Орлово-Куриловским восстал Туркестанский полк. А так как полки находились на важном направлении, создалась угрожающая обстановка для всей Четвертой армии Восточного фронта. В штабе армии царила полная растерянность. Никто не знал, как действовать дальше. Мятежники могли вступить в связь с уральскими белоказаками, их поддерживало кулацкое население Ново-Узенского уезда. Узнав еще в Москве о восстании в двух полках, Фрунзе и Новицкий выехали немедленно в Самару. Иваново-Вознесенский коммунистический отряд продолжал формироваться, Фрунзе наказал Волкову, Батурину и Фурманову поторопиться с отправкой. Новицкому сказал: — Наше положение хуже губернаторского. Помню, глядел на губернатора Сазонова и не мог понять, откуда такая пословица. А теперь, побыв «красным губернатором», начинаю понимать. И тут эсеры подняли голову! Ведь как мечталось: разработка операций, деловая атмосфера, подготовка наступления… А начинать приходится с подавления мятежа. Становлюсь спецом по эсерам да анархистам. — А почему они все-таки восстали? — Причина, как мне кажется, сугубо классового характера: при укомплектовании не соблюдали классовый принцип — в армию просочилось много кулаков и других враждебных нам элементов. Мало коммунистов, а следовательно, слаба политическая работа. — А мне ведь казалось, что все дело в снабжении и обмундировании. — Другие части снабжаются не лучше. Впрочем, хлеба там вдоволь. Фрунзе умел скрывать свои чувства. Федор Федорович так и не догадался, что новый командарм захвачен тревожными, невеселыми мыслями. Мысли были просты, предельно просты: справлюсь ли, сумею ли найти точку опоры? Ведь до этого приходилось опираться, в общем-то, на людей, которых он знал и которые знали его и доверяли ему. Он готовил их годами, и вся его жизнь была у них на виду. Но на фронте не будет такого обилия времени для воспитания. Тут придется сразу же принимать решения, командовать очень разветвленным аппаратом, куда входит не только штаб. Вопросы воспитания, дисциплины, снабжения, боевой подготовки, разработка оперативных планов, ежедневные бои, связь с населением — и всего не перечесть. Как он знал, положение Четвертой армии, находящейся на правом фланге Восточного фронта, было весьма непрочным. Численность ее не превышала семнадцати тысяч человек, а фронт растянулся почти на триста пятьдесят километров. Да и можно ли применить понятие фронт к участку приуральской степи, где нет ни окопов, ни траншей, ни проволочных заграждений, ни других укреплений? Линия этого фронта беспрестанно меняется. Села, хутора каждый день переходят из рук в руки. Белоказачьи конные отряды бесчинствуют в степи, делают смелые налеты на расположение красных войск, у которых почти нет своей конницы, нет и резервов. Армия без резервов… Разве это армия? О, великий македонянин, создатель основ кавалерийской тактики, один из лучших, по словам Энгельса, кавалерийских начальников всех времен, создатель резерва!.. О, гениальный Генрих де-ла-Тур-д’Овернь Тюрень, искусно сочетавший на войне магазинную систему довольствия с системой довольствия местными средствами! Великие полководцы всех времен, Ганнибалы, Цезари, Помпеи и Наполеоны! Не было еще таких войн, как эта. И не могло быть. Клаузевицы и Фоши, привыкшие к пунктуальности, развели бы бессильно руками, если бы узнали, что нужно воевать не только без резервов, но и без пушек, и без патронов и что бойцы разуты, раздеты. А у противника больше половины состава войск — конница, у них и английские пушки, и английское обмундирование, и французские аэропланы, и американские доллары, и английские фунты стерлингов, и валенки, и полушубки, и фураж, и продовольствие — все, чем богата Антанта. Но главное зло — слабая дисциплина в частях и соединениях Четвертой армии. Организовалась она совсем недавно из красногвардейских и партизанских отрядов. Здесь еще силен дух партизанщины. Неподчинение приказам сверху — обычное явление. Придется объявить жесточайшую войну этой вольнице, столкнуться с командирами, потворствующими расхлябанности, так сказать, с любимцами разболтанных масс… Не слишком ли большую смелость взял на себя недавний каторжанин, никогда не командовавший не только армией, но и полком? Ведь оттого, что ему доверили армию, он не перестал быть самим собой… Трясется, поскрипывает старый, продуваемый со всех сторон ветром салон-вагон, ныряет в густую снежную мглу. Дремлет адъютант Фрунзе Сергей Сиротинский. Михаил Васильевич и Новицкий играют в шахматы, переговариваются. Скоро ли там Самара?.. А тревога растет и растет. В Самаре на вокзале встретили работники штаба военспецы — бывшие офицеры старой армии. Наперебой стали рассказывать о всяких ужасах в Уральске: там-де между штабами Николаевской и 25-й дивизий ведется настоящая война. А Николаевская дивизия — та самая, полки которой подняли мятеж. Положение крайне опасное. Сложилась такая обстановка, что штаб армии оказался оторванным от войск. Бывший командующий армией в войсках ни разу не бывал, пытался управлять письменными приказами и телеграммами. Практически армия штабу больше не подчиняется. Вся эта кучка людей, называющая себя штабом, выглядела сиротливо, неприкаянно. — Ради бога, только не вздумайте ехать в Уральск! — предупреждали военспецы. — Убьют… Положение там непрочное, в любой час город может перейти к белоказакам. Оказавшись в каком-либо городе, Фрунзе прежде всего стремился установить связь с партийной организацией, с людьми, олицетворяющими Советскую власть. Еще в Москве Бубнов сказал Михаилу Васильевичу: «В Самаре сразу же свяжитесь с Куйбышевым. Я его хорошо знаю. Поможет». Председатель губернского исполкома Валериан Куйбышев — человек лет тридцати, высокий, могучего сложения. Большая кудрявая голова, ямочка на подбородке. Породистое приметное лицо. Таких запоминают с первого взгляда на всю жизнь. Да и нельзя не запомнить этот мощный выпуклый лоб с залысинами, резко изломанную правую бровь, крупный правильный нос. Все в нем крупно, рельефно. И улыбка — широкая, добродушная, обаятельная улыбка извечного хозяина жизни. В нем сила: и физическая, и духовная. И это — не затаенное где-то в глубинах, а тут же, сразу, на виду. Он — поэт. И не в переносном смысле, а самый настоящий поэт, стихотворец. В анкете пишет: «Занимался журналистикой. Немного поэт, публицист». Выступает со стихами на вечерах перед рабочими и красноармейцами. После этого пишут в «Приволжской правде»: «Следует особо отметить выступление тов. Куйбышева, артистически продекламировавшего свое стихотворение «Море жизни». Может быть, отсюда какая-то дымка в больших глазах и мягкость манер, в общем-то, присущая всем поэтам. Люди большого интеллектуального потенциала быстро узнают друг друга и быстро сближаются. Они как-то сразу нашли нужный тон. — А не тот ли вы Фрунзе, что отбывал ссылку в Верхоленском уезде? — Тот самый. — Почему я спрашиваю: фамилия редкая, да к тому же дело ваше в связи с созданием вами организации политических ссыльных Манзурской волости сильно нашумело тогда. Я ведь тоже отбывал ссылку в Верхоленском уезде. В Тутурах. — Я в Тутурах бывал. — Вы бежали в августе пятнадцатого, а меня в Тутуры водворили только в конце сентября. Разминулись на месяц. Бежал я четыре месяца спустя. Через Качуг, где еще застал Жиделева. — Так вы с ним знакомы? — Немного. Он помог мне устроиться на подводу до Иркутска. Ну а в Тутурах мы действовали по вашему «Уставу»: создали подпольную кассу взаимопомощи, столовую, клуб. Даже выпускали рукописный литературно-политический журнал. Помещал и свое… — Вы — прозаик, поэт? — Всего понемногу. В основном стихи. Даже кое-что на память помню. Написал в Томской тюрьме.О свободе, о жизни замолкли рыданья,
Ни оковы, ни стены, ни годы страданья
Не заставят позорной пощады просить.
Не сломить мою гордую стену молчанья.
Не сломить!
 В Уральске, в тех заснеженных краях, завязался тугой, кровавый узел. Чем больше вникал Фрунзе в обстановку, тем скорее хотелось ему выехать туда, на место событий. Как развязать, разрубить узел? Можно потерять голову и ничего не сделать…
Разное случалось в жизни, разное, но такого еще не бывало: он, хозяин целой армии, не может управлять этой армией. Скорее бы прибыл коммунистический отряд… Двинуть отряд прямо на Уральск… А может быть, и не надо. Опереться можно на бойцов 25-й дивизии. Прославленная дивизия. Недавно бригада Кутякова этой дивизии отличилась при взятии Уральска. Но вся беда в том, что Реввоенсовет фронта передал две бригады этой дивизии соседней Первой армии, в Уральске осталась лишь бригада Кутякова. Кутяков еще не оправился от тяжелого ранения, и бригадой командует некто Плясунков. Уральск, таким образом, занят ненадежной Николаевской дивизией.
В штабе армии тепло, уютно. Роскошный особняк за высокой каменной оградой. Шестьдесят комнат. Мраморная лестница ведет на второй этаж, где находится кабинет командарма. А за окнами — мороз, от которого стынет вода в кожухе пулемета.
…Как все-таки быть с мятежными полками? После долгих раздумий Фрунзе послал в штаб Николаевской стрелковой дивизии приказ: «Преступление перед Советской властью смыть своей кровью». Только в этом случае виновники мятежа не понесут наказания. Сами обстоятельства всегда заставляли его быть тонким психологом. Ему казалось, что существует не только психология масс, но и умонастроение масс, вызванное той или иной конкретной обстановкой. Всегда он бил наверняка. И теперь, все взвесив, мог уверенно сказать, что выйдет победителем. Тех, кто поднял мятеж, обманули. И обманутые это очень скоро поняли, но просто не знают, как вести себя дальше. Он дал им возможность искупить свою вину, и они, конечно, с радостью ухватились за эту возможность.
Вызвал Новицкого, адъютанта.
— Едем в Уральск!
Уселись в розвальни, укрыли ноги козловыми одеялами и покатили по белому метельному простору в неизвестное. От Самары до Уральска напрямую по заметенному санному пути — почти триста верст, а на деле — все четыреста. Собственно, Уральск — это уже передовая. На станции Шипово, до которой рукой подать, засели белоказаки. Тут, в снежной кутерьме, ненароком можно заехать в село, занятое беляками. Ведь четкой линии фронта нет. В тылу красных войск пошаливают бандиты. А командарм отправился в дорогу без всякого конвоя. Сел — и поехал. В штабе армии заблаговременно зачислили его в покойники.
Степной городок Уральск, утонувший в сугробах, встретил командарма стрельбой из всех видов оружия. Палили просто так, для острастки, боялись налета белоказаков. Новицкий возмутился.
— За сутки больше двух миллионов патронов ухлопают!
— Не все сразу. Научим беречь патроны.
Фрунзе направился прямо в штаб Николаевской дивизии. Вошел маленький, неприметный, вроде бы и не начальник вовсе, отодрал лед со смерзшихся усов, представился дежурному. Дежурный принялся бешено крутить ручку телефона. Забегали люди. Выскочил начальник дивизии. Руки и губы у него тряслись. Неожиданность была слишком велика. Ведь со дня сформирования армии еще ни один из больших начальников не появлялся на фронте. Правда, прикатил как-то Троцкий, но с такой сильной охраной — до батальона, что красноармейцы и командиры говорили: «Боится нас, как бандитов». А тут — просто так. Никакой охраны. Сел у печки, погрелся, выпил стакан чаю. Сказал, что остановится в гостинице. Временный штаб здесь. И ни слова о недавних трагических событиях. Завтра проведет смотр войскам гарнизона. Командовать парадом будет начальник Николаевской дивизии Дементьев.
Начальник дивизии воспрянул духом. Ничего устрашающего в облике и в словах командарма не было. Даже доверил командовать парадом.
Но начдив доверие командарма истолковал по-своему: пусть не задирает нос комбриг Плясунков! Они — боевые, они — герои! А командарм предпочел им все-таки Николаевскую. Давно хотелось Дементьеву свести счеты с Плясунковым. Кажется, представляется удобный случай унизить этого задаваку.
Враг не дремал: по Уральску поползли слухи один нелепее другого. Дескать, Фрунзе — немец, царский генерал, собирается ввести в войсках муштру, скрутить всех народных командиров и комиссаров.
Слухи взбудоражили гарнизон Уральска. Слухам верили. Во-первых, почему командарм поручил командовать парадом мятежникам? Во-вторых, почему он отправился сразу в Николаевскую, которая не участвовала во взятии Уральска, а не в прославленную Первую бригаду Кутякова? Парад решил провести, муштровать! Особенно бесновался Плясунков, временно исполняющий должность командира Первой бригады.
— Проучить царского генерала надо, проучить! Чтобы он и носа сюда боялся сунуть.
Фрунзе не подозревал, что все складывается против него. Началось во время смотра. Решив во что бы то ни стало унизить Первую бригаду 25-й дивизии, командующий парадом Дементьев поставил ее за обозами своих войск. Это вызвало взрыв гнева. Плясунков скомандовал своей бригаде, не дожидаясь окончания смотра:
— По зимним квартирам марш!
Бойцы разбрелись кто куда.
Открытое неповиновение.
Фрунзе видел: войска разболтаны, никто не занимается боевой подготовкой, дисциплина носит условный характер: хочу — подчиняюсь, хочу — нет. Разложение зашло далеко. На совещании он показал командирам и комиссарам их истинное неприглядное лицо. С вольницей пора кончать!
С совещания расходились хмурые, раздосадованные и обиженные. Особенно был зол Плясунков. Какой-то немчик, царский генералишка, посмел делать замечания боевым красным командирам, ему, Плясункову, воспитаннику Василия Ивановича Чапаева! Разве не он, Плясунков, сам, без подсказки, создал в прошлом году красногвардейский отряд из крестьян Самарской губернии? У Чапаева командовал полком. Взял Уральск. Дважды тяжело ранен. А тут приезжают всякие…
И Плясунков стал подговаривать командиров устроить суд над командармом. Вызвать в штаб Первой бригады — а там видно будет. Если явится с охраной, поднять дежурные части, арестовать Фрунзе.
С конным ординарцем Плясунков прислал командарму письменный ультиматум: «Предлагаю вам прибыть в 6 часов вечера на собрание командиров и комиссаров для объяснения по поводу ваших выговоров нам за парад». Михаил Васильевич был возмущен анархистской выходкой Плясункова и не счел нужным отвечать ему. Имелись дела поважнее, чем вступать в перепалку с разболтанным командиром: следовало провести инспекцию интернациональных батальонов, состоящих в основном из венгров. Венгры отличались хорошей дисциплиной и первоклассной подготовкой. Их можно было поставить в пример таким, как Плясунков, использовать на более уязвимых участках. Но Плясунков не унимался. Он вообразил, что Фрунзе струсил, и послал нового конного ординарца с повторным ультиматумом: «Предлагаем дать немедленный ответ, будете ли вы на собрании или нет».
— У него поэтическое дарование, — сказал Михаил Васильевич начдиву. — Все время говорит и пишет в рифму. Придется ехать. С поэтами я умею разговаривать.
Начдив радовался, что удалось поссорить командующего со своими соперниками, но все-таки побаивался, как бы с ним чего не случилось. Стал отговаривать:
— Не советую ехать. Пусть перебесятся. Голову сложить можно. Кто он, этот Плясунков? Мальчишка! Двадцать два года. Остался на три дня за Кутякова и вообразил себя комбригом. Одним словом, любимчик Чапаева. Прежний командующий вынужден был этого Чапаева от греха подальше в Москву отправить.
— А чем же не понравился ему Чапаев?
— Строптив, необуздан. Все помнят, как начдив Захаров вынужден был снять его с бригады. И что, вы думаете, сделал Чапаев? Он велел Плясункову и Кутякову не выполнять приказы Захарова, а выполнять его, Чапаева, приказы. Вот отсюда и идет анархия.
Фрунзе слушал с интересом. Чапаев! Если Плясунков у него был любимчиком, то чего ждать от других?
— Я еду к Плясункову.
— Возьмите для охраны хотя бы роту.
— Обойдемся!
Фрунзе был возбужден, почти задыхался от ярости. Пока ехали до штаба бригады, старался овладеть собой. Знал себя: в гневе он был страшен, хотя такое случалось с ним очень редко. Но сейчас он был в состоянии пристрелить этого Плясункова. Но знал: случись такое — все рухнет! Выдержка, и только выдержка. Он был облечен слишком большими полномочиями, чтобы бояться чего-нибудь или кого-нибудь. Он должен раз и навсегда сломить железной рукой все проявления анархизма — иначе ему здесь нечего делать, придется сдать армию другому. Въехали в какой-то двор. С потемневшими от гнева глазами и сжатыми челюстями вошел он в накуренную комнату, где собрались командиры бригады. Никто не встал, не поднялся ему навстречу.
Плясунков, взлохмаченный, с расстегнутым воротом гимнастерки, сидел с хозяйским видом за столом. Перед ним лежал револьвер в кобуре. Фрунзе взглянул на красное, словно распаренное, лицо Плясункова с курносым веснушчатым носом и невольно улыбнулся. Он уже овладел собой. Поздоровался, присел на лавку. «Да они же все мальчишки! Все никак не почувствуют себя взрослыми, играют в войну. Интересно: сколько их любимцу Чапаеву?»
И это чувство собственного превосходства сразу все поставило на свои места.
Он и не догадывался, что здесь устроили суд над «царским генералом». Вскоре, однако, все прояснилось.
Безусый, в сбитой набекрень кубанке, вскочил на табуретку, выхватил из ножен саблю и заорал:
— Мы кровь проливаем, а тут приезжают к нам, заслуженным командирам, всякие немецкие генералы, объявляют выговоры, учат маршировать, устраивают генеральские парады. Мало мы вас учили… Забыли Линдова и Майорова? Долой царских генералов!
Фрунзе невозмутимо выслушивал все угрозы по своему адресу. Когда страсти достигли высшего накала, он поднялся и сказал:
— Ораторы из вас хоть куда. Направить бы эту энергию на здравое дело. Прежде всего заявляю вам, что я здесь не командующий армией. Командующий армией на таком собрании присутствовать не может и не должен. Я здесь — член Коммунистической партии. И вот от имени той партии, которая послала меня работать в армию, я подтверждаю вновь все свои замечания по поводу отмеченных мною недостатков в частях, командирами и комиссарами которых вы являетесь и ответственность за которые, следовательно, вы несете перед Республикой. Ваши угрозы смешны, и они не испугали меня. Кто вы: красные командиры, сыны Красной России или сукины сыны? Вы размахивали у меня тут перед носом револьверами и саблями. Храбрецы! А где вы были, когда кулачье растерзало двадцатилетнего мальчика Чистякова? Не заслуживаете ли вы после этого презрения всякого честного человека? Так кого вы задумали испугать? Большевика? Меня тут называли генералом. Да, я генерал. От каторги, от революции. И хочу твердо заявить: что в случае повторения подобных безобразий буду карать самым беспощадным образом, вплоть до расстрела. Всякую контрреволюционную сволочь и анархию, как вшу, давить буду!
Он видел, как побледнел Плясунков. Все встали и вытянулись во фронт.
Фрунзе направился к порогу, кто-то услужливо распахнул дверь. Плясунков, на ходу застегивая гимнастерку и поправляя ремень, выскочил во двор, чтобы подсадить командарма на коня, поддержать стремя. Командарм-то хромает…
Всю дорогу он хохотал. Злость будто ветром сдуло. Мальчишки и есть мальчишки. А Плясунков прямо-таки великолепен!
— Бесстрашный, черт, — сказал он Сиротинскому. — Эту молодую энергию нужно ввести в разумное русло. Кажется, поняли друг друга.
Плясунковым заинтересовался не на шутку. Он, несомненно, обладал исключительными волевыми качествами, его слушались беспрекословно.
На второй день Иван Плясунков без вызова приехал прямо в гостиницу, протянул Фрунзе шашку. Был он угрюм, стыдливо прятал глаза.
— Не достоин я командовать. Революционную честь нарушил…
Фрунзе уже успел расспросить о Плясункове многих. Командовал батальоном, командовал полком. Когда в бою убили брата, сказал белякам:
— Вы убили моего брата, но мы уничтожим вас всех!
Будучи раненным, повел свой полк в контратаку и выбил противника из села. Имеет несколько благодарностей от командования. К советам Плясункова прислушивался даже начальник 25-й дивизии Гаспар Восканов. Так, Плясунков посоветовал Восканову начать атаку Уральска не двадцать пятого января, как было указано в приказе по армии, а двадцать четвертого. Восканов согласился, и Уральск был взят.
Теперь Фрунзе сказал:
— Шашку оставьте себе. Ваша бригада пока будет находиться в моем резерве. Готовьтесь к решительным боям за Лбищенск и Сломихинскую.
Фрунзе знал, что самое страшное на фронте — застой. Необходимо готовить наступление…
Бой за форпост Щапов не решал судеб фронта, главные силы белоказаков группировались в районе форпостов Чаганский и Владимирский. Но сейчас важно было вывести Николаевскую дивизию из состояния апатии, выяснить, на что пригоден ее начальник Дементьев. Кроме того, в случае удачи успех можно будет развить и выбить противника из станицы Сломихинской.
Он отправился в передовые части. Напрасно Дементьев отговаривал, доказывал, что командарм не имеет права рисковать собой. Собрав командиров, Фрунзе объяснил свой замысел: в наступление перейти ночью. У противника тройное превосходство в артиллерии. Взять форпост в лоб не удастся. Только мощный фланговый удар в обход справа может обеспечить успех.
— Мы этим академическим штукам не обучены, — сказал Дементьев. — Идти в обход — значит потонуть в сугробах и людям, и коням, и пушкам.
Фрунзе строго взглянул на него.
— Я оценил местность. Не утонем. Кто боится утонуть, пусть учится плавать.
Появление командарма на передовой было в диковинку и красноармейцам и командирам. А он преследовал свои цели: хотел видеть бойцов в деле, своим присутствием воодушевить их, положить начало перелому во всей армии. Хорошо зная человеческую природу, он полагал, что командующий не должен быть невидимкой для мелких подразделений, которые, в общем-то, и являются движущей силой боя, его горючим материалом. Ведь известно, что новую тактику изобретают солдаты, а не офицеры. Он успел заметить, что после мятежа в двух полках образовался разрыв между штабами и теми, кто находится непосредственно на передовой. Штабники стали бояться выезжать на передовую. Такому ненормальному положению необходимо было положить конец. Зачинщики мятежа, разумеется, скрылись, и, если сейчас не проявить доверия к той массе, которая поддалась на провокацию, разложение в полках приостановить не удастся.
Дементьев оказался плохим, нерасторопным командиром. В наступление перешли только утром. Поднялась метель, снег забивал глаза. Момент был упущен. Фрунзе находился среди атакующих, и молва об этом обошла всю бригаду. Тут уж нельзя было ударить в грязь лицом. Когда это было видано, чтобы сам командарм шел с винтовкой в руках, как обыкновенный красноармеец?!.
Удар со стороны голой заснеженной равнины, где все просматривалось на десятки верст, случись он ночью, оказался бы для белоказаков полной неожиданностью. Ведь они считали себя полными хозяевами этих мест, а если ждали наступления, то только вдоль дороги. Ведь бои все время велись лишь вдоль дорог, в лоб. Фланги белоказачьего отряда не были прикрыты, да и разведка в стороны не велась: считалось, что через забитые рыхлым снегом ерики и овраги ни проехать, ни пройти.
Но тот самый Орловско-Куриловский полк, где недавно был мятеж, разворачивался лениво, дал обнаружить себя. Белоказаки быстро опомнились и отбросили Николаевскую дивизию на исходные позиции.
Полная неудача. Она свидетельствовала о многом. О том, что Николаевская дивизия деморализована, о том, что ее начальник Дементьев неспособен командовать дивизией. Оказывается, выводить из апатии нужно не бойцов Николаевской, а самого начальника! Вот он стоит, внешне представительный, этакий сопун с неторопливыми жестами, умеет вытягиваться, щелкнуть каблуком, бросить глубокомысленное замечание. И его солидный вид обманывает всех: на этого, мол, можно положиться — нетороплив, спокоен, горячку пороть не станет. А он спокоен и нетороплив потому, что ленив, нерасторопен, не горит революционным энтузиазмом, как тот же Плясунков. Никакой неудачи нет. Наоборот: за короткий срок удалось вскрыть все язвы, разъедающие армию. Теперь будем лечить…
Фрунзе приказал начдиву срочно укрепить правый фланг войск, но Дементьев и не подумал, забыл. Белые выбили его дивизию из хуторов Железнов Второй и Чернухин, перерезали железную дорогу Деркул — Шипово. Тем самым противнику удалось захватить важнейшую фронтовую магистраль армии; именно по ней шло людское пополнение, шли эшелоны с хлебом и обмундированием из Урбаха, Покровска, Ершова, Красного Кута и Александров-Гая.
— Кто назначил этого недотепу начальником дивизии?! — возмущался Фрунзе. — Он в подметки не годится Плясункову!
Дементьева от командования отстранил. Плясункова назначил начальником всей Уральской группы войск; теперь ему подчинялась и Николаевская дивизия.
Плясунков собрал командиров, коротко сказал:
— Товарищ Фрунзе похлестче нашего Чапая будет — стратег! А революционную дисциплину среди вас я сам наведу — вы меня знаете. Командарм призывает идти на Лбищенск. И мы по первому его приказу пойдем хоть до Каспийского моря!
В это время прямо на передовую к Плясункову приехала жена.
— Тю! Эк тебя принесло не ко времени. Баба на передовой — хуже Пермской катастрофы. Сейчас же отправляйся обратно!
— Сюда еще добралась, а отсюда совсем не выбраться.
— Это я тебе устрою.
Плясунков взял листок бумаги и написал:
В Уральске, в тех заснеженных краях, завязался тугой, кровавый узел. Чем больше вникал Фрунзе в обстановку, тем скорее хотелось ему выехать туда, на место событий. Как развязать, разрубить узел? Можно потерять голову и ничего не сделать…
Разное случалось в жизни, разное, но такого еще не бывало: он, хозяин целой армии, не может управлять этой армией. Скорее бы прибыл коммунистический отряд… Двинуть отряд прямо на Уральск… А может быть, и не надо. Опереться можно на бойцов 25-й дивизии. Прославленная дивизия. Недавно бригада Кутякова этой дивизии отличилась при взятии Уральска. Но вся беда в том, что Реввоенсовет фронта передал две бригады этой дивизии соседней Первой армии, в Уральске осталась лишь бригада Кутякова. Кутяков еще не оправился от тяжелого ранения, и бригадой командует некто Плясунков. Уральск, таким образом, занят ненадежной Николаевской дивизией.
В штабе армии тепло, уютно. Роскошный особняк за высокой каменной оградой. Шестьдесят комнат. Мраморная лестница ведет на второй этаж, где находится кабинет командарма. А за окнами — мороз, от которого стынет вода в кожухе пулемета.
…Как все-таки быть с мятежными полками? После долгих раздумий Фрунзе послал в штаб Николаевской стрелковой дивизии приказ: «Преступление перед Советской властью смыть своей кровью». Только в этом случае виновники мятежа не понесут наказания. Сами обстоятельства всегда заставляли его быть тонким психологом. Ему казалось, что существует не только психология масс, но и умонастроение масс, вызванное той или иной конкретной обстановкой. Всегда он бил наверняка. И теперь, все взвесив, мог уверенно сказать, что выйдет победителем. Тех, кто поднял мятеж, обманули. И обманутые это очень скоро поняли, но просто не знают, как вести себя дальше. Он дал им возможность искупить свою вину, и они, конечно, с радостью ухватились за эту возможность.
Вызвал Новицкого, адъютанта.
— Едем в Уральск!
Уселись в розвальни, укрыли ноги козловыми одеялами и покатили по белому метельному простору в неизвестное. От Самары до Уральска напрямую по заметенному санному пути — почти триста верст, а на деле — все четыреста. Собственно, Уральск — это уже передовая. На станции Шипово, до которой рукой подать, засели белоказаки. Тут, в снежной кутерьме, ненароком можно заехать в село, занятое беляками. Ведь четкой линии фронта нет. В тылу красных войск пошаливают бандиты. А командарм отправился в дорогу без всякого конвоя. Сел — и поехал. В штабе армии заблаговременно зачислили его в покойники.
Степной городок Уральск, утонувший в сугробах, встретил командарма стрельбой из всех видов оружия. Палили просто так, для острастки, боялись налета белоказаков. Новицкий возмутился.
— За сутки больше двух миллионов патронов ухлопают!
— Не все сразу. Научим беречь патроны.
Фрунзе направился прямо в штаб Николаевской дивизии. Вошел маленький, неприметный, вроде бы и не начальник вовсе, отодрал лед со смерзшихся усов, представился дежурному. Дежурный принялся бешено крутить ручку телефона. Забегали люди. Выскочил начальник дивизии. Руки и губы у него тряслись. Неожиданность была слишком велика. Ведь со дня сформирования армии еще ни один из больших начальников не появлялся на фронте. Правда, прикатил как-то Троцкий, но с такой сильной охраной — до батальона, что красноармейцы и командиры говорили: «Боится нас, как бандитов». А тут — просто так. Никакой охраны. Сел у печки, погрелся, выпил стакан чаю. Сказал, что остановится в гостинице. Временный штаб здесь. И ни слова о недавних трагических событиях. Завтра проведет смотр войскам гарнизона. Командовать парадом будет начальник Николаевской дивизии Дементьев.
Начальник дивизии воспрянул духом. Ничего устрашающего в облике и в словах командарма не было. Даже доверил командовать парадом.
Но начдив доверие командарма истолковал по-своему: пусть не задирает нос комбриг Плясунков! Они — боевые, они — герои! А командарм предпочел им все-таки Николаевскую. Давно хотелось Дементьеву свести счеты с Плясунковым. Кажется, представляется удобный случай унизить этого задаваку.
Враг не дремал: по Уральску поползли слухи один нелепее другого. Дескать, Фрунзе — немец, царский генерал, собирается ввести в войсках муштру, скрутить всех народных командиров и комиссаров.
Слухи взбудоражили гарнизон Уральска. Слухам верили. Во-первых, почему командарм поручил командовать парадом мятежникам? Во-вторых, почему он отправился сразу в Николаевскую, которая не участвовала во взятии Уральска, а не в прославленную Первую бригаду Кутякова? Парад решил провести, муштровать! Особенно бесновался Плясунков, временно исполняющий должность командира Первой бригады.
— Проучить царского генерала надо, проучить! Чтобы он и носа сюда боялся сунуть.
Фрунзе не подозревал, что все складывается против него. Началось во время смотра. Решив во что бы то ни стало унизить Первую бригаду 25-й дивизии, командующий парадом Дементьев поставил ее за обозами своих войск. Это вызвало взрыв гнева. Плясунков скомандовал своей бригаде, не дожидаясь окончания смотра:
— По зимним квартирам марш!
Бойцы разбрелись кто куда.
Открытое неповиновение.
Фрунзе видел: войска разболтаны, никто не занимается боевой подготовкой, дисциплина носит условный характер: хочу — подчиняюсь, хочу — нет. Разложение зашло далеко. На совещании он показал командирам и комиссарам их истинное неприглядное лицо. С вольницей пора кончать!
С совещания расходились хмурые, раздосадованные и обиженные. Особенно был зол Плясунков. Какой-то немчик, царский генералишка, посмел делать замечания боевым красным командирам, ему, Плясункову, воспитаннику Василия Ивановича Чапаева! Разве не он, Плясунков, сам, без подсказки, создал в прошлом году красногвардейский отряд из крестьян Самарской губернии? У Чапаева командовал полком. Взял Уральск. Дважды тяжело ранен. А тут приезжают всякие…
И Плясунков стал подговаривать командиров устроить суд над командармом. Вызвать в штаб Первой бригады — а там видно будет. Если явится с охраной, поднять дежурные части, арестовать Фрунзе.
С конным ординарцем Плясунков прислал командарму письменный ультиматум: «Предлагаю вам прибыть в 6 часов вечера на собрание командиров и комиссаров для объяснения по поводу ваших выговоров нам за парад». Михаил Васильевич был возмущен анархистской выходкой Плясункова и не счел нужным отвечать ему. Имелись дела поважнее, чем вступать в перепалку с разболтанным командиром: следовало провести инспекцию интернациональных батальонов, состоящих в основном из венгров. Венгры отличались хорошей дисциплиной и первоклассной подготовкой. Их можно было поставить в пример таким, как Плясунков, использовать на более уязвимых участках. Но Плясунков не унимался. Он вообразил, что Фрунзе струсил, и послал нового конного ординарца с повторным ультиматумом: «Предлагаем дать немедленный ответ, будете ли вы на собрании или нет».
— У него поэтическое дарование, — сказал Михаил Васильевич начдиву. — Все время говорит и пишет в рифму. Придется ехать. С поэтами я умею разговаривать.
Начдив радовался, что удалось поссорить командующего со своими соперниками, но все-таки побаивался, как бы с ним чего не случилось. Стал отговаривать:
— Не советую ехать. Пусть перебесятся. Голову сложить можно. Кто он, этот Плясунков? Мальчишка! Двадцать два года. Остался на три дня за Кутякова и вообразил себя комбригом. Одним словом, любимчик Чапаева. Прежний командующий вынужден был этого Чапаева от греха подальше в Москву отправить.
— А чем же не понравился ему Чапаев?
— Строптив, необуздан. Все помнят, как начдив Захаров вынужден был снять его с бригады. И что, вы думаете, сделал Чапаев? Он велел Плясункову и Кутякову не выполнять приказы Захарова, а выполнять его, Чапаева, приказы. Вот отсюда и идет анархия.
Фрунзе слушал с интересом. Чапаев! Если Плясунков у него был любимчиком, то чего ждать от других?
— Я еду к Плясункову.
— Возьмите для охраны хотя бы роту.
— Обойдемся!
Фрунзе был возбужден, почти задыхался от ярости. Пока ехали до штаба бригады, старался овладеть собой. Знал себя: в гневе он был страшен, хотя такое случалось с ним очень редко. Но сейчас он был в состоянии пристрелить этого Плясункова. Но знал: случись такое — все рухнет! Выдержка, и только выдержка. Он был облечен слишком большими полномочиями, чтобы бояться чего-нибудь или кого-нибудь. Он должен раз и навсегда сломить железной рукой все проявления анархизма — иначе ему здесь нечего делать, придется сдать армию другому. Въехали в какой-то двор. С потемневшими от гнева глазами и сжатыми челюстями вошел он в накуренную комнату, где собрались командиры бригады. Никто не встал, не поднялся ему навстречу.
Плясунков, взлохмаченный, с расстегнутым воротом гимнастерки, сидел с хозяйским видом за столом. Перед ним лежал револьвер в кобуре. Фрунзе взглянул на красное, словно распаренное, лицо Плясункова с курносым веснушчатым носом и невольно улыбнулся. Он уже овладел собой. Поздоровался, присел на лавку. «Да они же все мальчишки! Все никак не почувствуют себя взрослыми, играют в войну. Интересно: сколько их любимцу Чапаеву?»
И это чувство собственного превосходства сразу все поставило на свои места.
Он и не догадывался, что здесь устроили суд над «царским генералом». Вскоре, однако, все прояснилось.
Безусый, в сбитой набекрень кубанке, вскочил на табуретку, выхватил из ножен саблю и заорал:
— Мы кровь проливаем, а тут приезжают к нам, заслуженным командирам, всякие немецкие генералы, объявляют выговоры, учат маршировать, устраивают генеральские парады. Мало мы вас учили… Забыли Линдова и Майорова? Долой царских генералов!
Фрунзе невозмутимо выслушивал все угрозы по своему адресу. Когда страсти достигли высшего накала, он поднялся и сказал:
— Ораторы из вас хоть куда. Направить бы эту энергию на здравое дело. Прежде всего заявляю вам, что я здесь не командующий армией. Командующий армией на таком собрании присутствовать не может и не должен. Я здесь — член Коммунистической партии. И вот от имени той партии, которая послала меня работать в армию, я подтверждаю вновь все свои замечания по поводу отмеченных мною недостатков в частях, командирами и комиссарами которых вы являетесь и ответственность за которые, следовательно, вы несете перед Республикой. Ваши угрозы смешны, и они не испугали меня. Кто вы: красные командиры, сыны Красной России или сукины сыны? Вы размахивали у меня тут перед носом револьверами и саблями. Храбрецы! А где вы были, когда кулачье растерзало двадцатилетнего мальчика Чистякова? Не заслуживаете ли вы после этого презрения всякого честного человека? Так кого вы задумали испугать? Большевика? Меня тут называли генералом. Да, я генерал. От каторги, от революции. И хочу твердо заявить: что в случае повторения подобных безобразий буду карать самым беспощадным образом, вплоть до расстрела. Всякую контрреволюционную сволочь и анархию, как вшу, давить буду!
Он видел, как побледнел Плясунков. Все встали и вытянулись во фронт.
Фрунзе направился к порогу, кто-то услужливо распахнул дверь. Плясунков, на ходу застегивая гимнастерку и поправляя ремень, выскочил во двор, чтобы подсадить командарма на коня, поддержать стремя. Командарм-то хромает…
Всю дорогу он хохотал. Злость будто ветром сдуло. Мальчишки и есть мальчишки. А Плясунков прямо-таки великолепен!
— Бесстрашный, черт, — сказал он Сиротинскому. — Эту молодую энергию нужно ввести в разумное русло. Кажется, поняли друг друга.
Плясунковым заинтересовался не на шутку. Он, несомненно, обладал исключительными волевыми качествами, его слушались беспрекословно.
На второй день Иван Плясунков без вызова приехал прямо в гостиницу, протянул Фрунзе шашку. Был он угрюм, стыдливо прятал глаза.
— Не достоин я командовать. Революционную честь нарушил…
Фрунзе уже успел расспросить о Плясункове многих. Командовал батальоном, командовал полком. Когда в бою убили брата, сказал белякам:
— Вы убили моего брата, но мы уничтожим вас всех!
Будучи раненным, повел свой полк в контратаку и выбил противника из села. Имеет несколько благодарностей от командования. К советам Плясункова прислушивался даже начальник 25-й дивизии Гаспар Восканов. Так, Плясунков посоветовал Восканову начать атаку Уральска не двадцать пятого января, как было указано в приказе по армии, а двадцать четвертого. Восканов согласился, и Уральск был взят.
Теперь Фрунзе сказал:
— Шашку оставьте себе. Ваша бригада пока будет находиться в моем резерве. Готовьтесь к решительным боям за Лбищенск и Сломихинскую.
Фрунзе знал, что самое страшное на фронте — застой. Необходимо готовить наступление…
Бой за форпост Щапов не решал судеб фронта, главные силы белоказаков группировались в районе форпостов Чаганский и Владимирский. Но сейчас важно было вывести Николаевскую дивизию из состояния апатии, выяснить, на что пригоден ее начальник Дементьев. Кроме того, в случае удачи успех можно будет развить и выбить противника из станицы Сломихинской.
Он отправился в передовые части. Напрасно Дементьев отговаривал, доказывал, что командарм не имеет права рисковать собой. Собрав командиров, Фрунзе объяснил свой замысел: в наступление перейти ночью. У противника тройное превосходство в артиллерии. Взять форпост в лоб не удастся. Только мощный фланговый удар в обход справа может обеспечить успех.
— Мы этим академическим штукам не обучены, — сказал Дементьев. — Идти в обход — значит потонуть в сугробах и людям, и коням, и пушкам.
Фрунзе строго взглянул на него.
— Я оценил местность. Не утонем. Кто боится утонуть, пусть учится плавать.
Появление командарма на передовой было в диковинку и красноармейцам и командирам. А он преследовал свои цели: хотел видеть бойцов в деле, своим присутствием воодушевить их, положить начало перелому во всей армии. Хорошо зная человеческую природу, он полагал, что командующий не должен быть невидимкой для мелких подразделений, которые, в общем-то, и являются движущей силой боя, его горючим материалом. Ведь известно, что новую тактику изобретают солдаты, а не офицеры. Он успел заметить, что после мятежа в двух полках образовался разрыв между штабами и теми, кто находится непосредственно на передовой. Штабники стали бояться выезжать на передовую. Такому ненормальному положению необходимо было положить конец. Зачинщики мятежа, разумеется, скрылись, и, если сейчас не проявить доверия к той массе, которая поддалась на провокацию, разложение в полках приостановить не удастся.
Дементьев оказался плохим, нерасторопным командиром. В наступление перешли только утром. Поднялась метель, снег забивал глаза. Момент был упущен. Фрунзе находился среди атакующих, и молва об этом обошла всю бригаду. Тут уж нельзя было ударить в грязь лицом. Когда это было видано, чтобы сам командарм шел с винтовкой в руках, как обыкновенный красноармеец?!.
Удар со стороны голой заснеженной равнины, где все просматривалось на десятки верст, случись он ночью, оказался бы для белоказаков полной неожиданностью. Ведь они считали себя полными хозяевами этих мест, а если ждали наступления, то только вдоль дороги. Ведь бои все время велись лишь вдоль дорог, в лоб. Фланги белоказачьего отряда не были прикрыты, да и разведка в стороны не велась: считалось, что через забитые рыхлым снегом ерики и овраги ни проехать, ни пройти.
Но тот самый Орловско-Куриловский полк, где недавно был мятеж, разворачивался лениво, дал обнаружить себя. Белоказаки быстро опомнились и отбросили Николаевскую дивизию на исходные позиции.
Полная неудача. Она свидетельствовала о многом. О том, что Николаевская дивизия деморализована, о том, что ее начальник Дементьев неспособен командовать дивизией. Оказывается, выводить из апатии нужно не бойцов Николаевской, а самого начальника! Вот он стоит, внешне представительный, этакий сопун с неторопливыми жестами, умеет вытягиваться, щелкнуть каблуком, бросить глубокомысленное замечание. И его солидный вид обманывает всех: на этого, мол, можно положиться — нетороплив, спокоен, горячку пороть не станет. А он спокоен и нетороплив потому, что ленив, нерасторопен, не горит революционным энтузиазмом, как тот же Плясунков. Никакой неудачи нет. Наоборот: за короткий срок удалось вскрыть все язвы, разъедающие армию. Теперь будем лечить…
Фрунзе приказал начдиву срочно укрепить правый фланг войск, но Дементьев и не подумал, забыл. Белые выбили его дивизию из хуторов Железнов Второй и Чернухин, перерезали железную дорогу Деркул — Шипово. Тем самым противнику удалось захватить важнейшую фронтовую магистраль армии; именно по ней шло людское пополнение, шли эшелоны с хлебом и обмундированием из Урбаха, Покровска, Ершова, Красного Кута и Александров-Гая.
— Кто назначил этого недотепу начальником дивизии?! — возмущался Фрунзе. — Он в подметки не годится Плясункову!
Дементьева от командования отстранил. Плясункова назначил начальником всей Уральской группы войск; теперь ему подчинялась и Николаевская дивизия.
Плясунков собрал командиров, коротко сказал:
— Товарищ Фрунзе похлестче нашего Чапая будет — стратег! А революционную дисциплину среди вас я сам наведу — вы меня знаете. Командарм призывает идти на Лбищенск. И мы по первому его приказу пойдем хоть до Каспийского моря!
В это время прямо на передовую к Плясункову приехала жена.
— Тю! Эк тебя принесло не ко времени. Баба на передовой — хуже Пермской катастрофы. Сейчас же отправляйся обратно!
— Сюда еще добралась, а отсюда совсем не выбраться.
— Это я тебе устрою.
Плясунков взял листок бумаги и написал:
«Дорогой тов. Фрунзе! Так как красному командиру иметь при себе жену нецелесообразно, прошу вас взять ее с собой и доставить в Самару».— Вот получай. Командующий в Уральск уехал. Найдешь его в штабе или в гостинице. Он тебя с собой возьмет. Очень отзывчивый, душевный человек. Из нашенских. Все так и предполагали: поглядел командарм на передовую — и укатил в штаб, в Самару. «Нецелесообразную» жену Плясункова, восемнадцатилетнюю девчонку, он отправил с первой же подводой. А сам и не собирался уезжать из Уральска. При нем был его штаб — Федор Федорович Новицкий и адъютант. Михаил Васильевич связался с Самарой. Прибыл Иваново-Вознесенский рабочий отряд! Командарм вызвал в Уральск Фурманова, Игнатия Волкова, Андреева и Шарапова. Куйбышев сообщил, что Самарский полк сформирован и через два дня будет отправлен в Уральск. …Фрунзе в спешном порядке занялся формированием и переформированием частей. В Москву в ЦК отправил телеграмму:
«Требуются большие персональные изменения. Необходимо тщательное расследование всей деятельности не только мятежных частей, но и всего руководящего персонала армии».Из Иваново-Вознесенского отряда Фрунзе сформировал 220-й полк, который влился в 25-ю стрелковую дивизию. Комиссаром Иваново-Вознесенского полка был назначен Дмитрий Фурманов. Фурманов отправился на фронт всей семьей: жена Анна, сестра Софья, брат Сергей. Да и другие приехали целыми семьями: братья, сестры, старые ткачихи с сыновьями. Игнатий Волков стал комиссаром бригады и председателем военного трибунала в Уральске. По рекомендации Куйбышева политотдел армии возглавил большевик Тронин Владимир Аркадьевич, недавний комиссар просвещения в Самаре. Иван Ильич Андреев, который во время эсеровского мятежа в Ярославле был правой рукой Фрунзе, находился в чрезвычайном штабе, теперь был утвержден комиссаром 22-й дивизии; старый подпольщик Иван Яковлевич Мякишев сделался комиссаром прославленного Пугачевского полка. Каждое назначение проходит со скрипом. До сих пор не удалось перетащить на фронт Авксентьевского. Михаил Васильевич слал в центр запросы, просил, требовал. С должностью комиссара Ярославского военного округа Авксентьевский справляется великолепно. Сейчас такие спецы нужны здесь, в армии. Авксентьевский шлет из Иванова слезные письма, просится. Кто-то там, в Москве, сопротивляется каждому начинанию Фрунзе. По телеграфу грозные окрики Троцкого: «Что это вы там затеяли? Центр не разрешает!» И все-таки вопреки всему дело постепенно налаживается. На каждом шагу Михаил Васильевич слышал имя Чапаева. О нем говорили как о каком-то былинном богатыре. Впрочем, всякое говорили. Крестьянский сын из чувашской деревни. Во время первой мировой войны дослужился до фельдфебеля, ходил в разведку. Среди крестьян Самарской губернии сперва был известен как хороший большевистский агитатор. 28 сентября 1917 года вступил в партию большевиков, возглавлял уездный комитет. После Октября назначили начальником Николаевского гарнизона, здесь же, в Самарской губернии, выбрали командиром 138-го запасного пехотного полка. Так как полк состоял в основном из кулацких сынков, Чапаев предложил разогнать его и создать отряд Красной гвардии. Когда эсеры, меньшевики и белые офицеры, вернувшиеся с фронта, решили поднять в Николаевске восстание против Советской власти, Чапаев силами своего отряда подавил мятеж. И где бы ни вспыхивали кулацко-эсеровские мятежи — Чапаев тут как тут. Отбирает у кулаков хлеб, одежду, накладывает на них денежную контрибуцию — все отправляет в голодающие губернии, в Питер, в Москву. Из красногвардейских отрядов он сформировал бригаду, куда вошли полки имени Пугачева и имени Стеньки Разина. Комбригом выбрали Василия Ивановича. Эта бригада влилась в Четвертую армию Восточного фронта. Именно Чапаев спас от разгрома эту армию, когда она оказалась отрезанной от своих баз снабжения белоказаками: он вывел армию из боя почти без потерь. Потом было всякое: бои с белочехами, с армией самарской «учредилки». Назначили начальником 2-й Николаевской дивизии. Дивизию бросили против белоказаков и белочехов, имеющих десятикратное превосходство в силах. А когда дивизия оказалась в окружении, никто не пришел на помощь Чапаеву. Напрасно слал он телефонограммы в штаб армии, главкому, в Реввоенсовет Республики. Это походило на предательство. Но Чапаев сумел прорвать окружение и даже потеснить противника. Теперь Чапаева услали в академию, в Москву… Из отрывочных рассказов возникал облик бесстрашного, волевого командира, обладающего оперативным мышлением. В штабных бумагах на имя председателя Реввоенсовета армии Линдова Михаил Васильевич обнаружил письмо Чапаева:
«Прошу вас покорно отозвать меня в штаб 4-й армии на какую-нибудь должность — командиром или комиссаром в любой полк… Я хочу работать, а не лежать… Так будьте любезны, выведите меня из этих каменных стен. Томиться понапрасну в стенах не согласен. Это мне, как тюрьма. А если не отзовете, пойду к доктору, который меня освободит».Но Линдов убит. И никто не отозвал Чапаева из Москвы. — Его нужно отозвать, — сказал Фрунзе Новицкому. — Я изучал бои и операции, проведенные им. Это талантливый полководец, самородок. В академию пошлем, когда отвоюемся. Тут земля горит под ногами, а его будто специально отправили. Характер, видите ли, не понравился. Отзывать не пришлось С быстротой молнии распространился слух: — Чапаев вернулся! Сбежал из академии… Дежурный по штабу доложил командарму: — Чапаев просит принять его. Михаил Васильевич и Новицкий переглянулись. — Легок на помине. Сейчас начнет нас костерить да размахивать саблей, наподобие своего воспитанника Плясункова. Пусть войдет! В кабинет медленно и как-то даже застенчиво вошел худощавый человек среднего роста, выбритый, гладко причесанный, одетый в новенький френч, в сапоги-бурки мехом наружу. Да Чапаев ли это?! Может быть, дежурный что-нибудь напутал? Но когда вошедший вытянулся и по всей форме доложил о прибытии, сомнения рассеялись. Так вот он какой, Чапаев!.. — Здравствуйте, Василий Иванович! Присаживайтесь. Откомандировали? — Сбежал, товарищ командарм. Тут кровь льется, а я в тылу сижу, книжечки про войну почитываю. Муторно стало… Голос у него был глухой, тихий. Только нервно подрагивающий ус да сурово сдвинутые брови, временами ломающиеся, выдавали его волнение. В нем сразу же угадывался характер сильный, непреклонный. — А ведь я знаю, почему вы тогда отменили приказ начдива Захарова и сами, будучи устраненным, взяли на себякомандование! — сказал Фрунзе. Чапаев насупился, стал закручивать ус. Но не произнес ни слова. Слушал. — Сердце у вас не выдержало, так я полагаю. Приказ начдива, в самом деле, был ошибочный. Вы это видели и решили: семь бед — один ответ. И выиграли бой! Ну а если бы не выиграли, не освободили Николаевск? Вы знали, что вас ждет? Глаза Чапаева блеснули. И тут Фрунзе понял, сколько в этом сухощавом маленьком человеке огня. — Знал. Но ведь нужно было взять Николаевск! Захаров приказал Кутякову идти в лобовую атаку, а Плясункову отходить на Давыдовку. Извините за выражение, но это был непродуманный приказ. Всех людей положили бы и город не взяли. Я приказал разинцам зайти в тыл чехам. Ну а с пугачевцами отвлекли огонь артиллерии противника на себя. Вот тогда разинцы ударили с тыла, я и повел пугачевцев в лобовую… Не могли мы не взять Николаевск, не имели права! — Блестящая операция! Я знаком с ней по документам и по рассказам товарища Плясункова. Скованность Чапаева пропала. Они заговорили о проведенных боях, о победах и неудачах, о перестройке армии. Впервые Василий Иванович встретил такого внимательного и понимающего все командарма. А Фрунзе незаметно наблюдал за ним, изучал. И снова была радость открытия. Нет, не такой Чапаев, каким пытаются изобразить его все те, кто привык судить о человеке не по его делам, а по словам. Кому приятно слышать в свой адрес резкое, изобличающее слово? Чапаев лишен лицемерного, подхалимского лукавства. Не за чинами пришел он в революцию. Он служит революции, а не начальству. И если кто-то, возомнивший себя высоким начальником, непререкаемым авторитетом, отдает заведомо вредные приказы, Чапаев сперва пытается доказать, а если от него небрежно отмахиваются, взрывается. Он дисциплинирован, в высшей степени дисциплинирован. Но орудием чужой злой воли не будет никогда. В нем слишком развито классовое чутье, и это иногда приводит его к прямолинейным конфликтам с теми, кто, по его мнению, плохо служит революции. Лень, апатия, разболтанность ему ненавистны. Он прошел жестокую школу империалистической войны, видел много бессмысленных жертв, тех, кто загублен равнодушием, офицерским или генеральским чванством и «всезнайством». В армию он впервые попал еще в 1908 году. А позже дрался на Немане, трижды был ранен. Получил высшую солдатскую награду — полный георгиевский бант: четыре креста и медаль. Начитан, хорошо знает походы Гарибальди, которыми не устает восхищаться, его любимые герои — Степан Разин и Емельян Пугачев, крестьянские вожди. Самородок-то самородок, но имеет великолепную тактическую подготовку. И что такое — самородок? Другому в училищах да академиях вдалбливают азы военной науки, да проку мало. Ведь в конечном итоге главное — не формальное усвоение каких-то истин, а умение самостоятельно думать, находить единственно правильное решение. Именно как военному разведчику на фронте Чапаеву всякий раз приходилось думать самостоятельно, изощренно. Его ум уже тогда был обострен до предела. Приходилось знать не только тактическую, но и стратегическую обстановку, подмечать, накапливать факты. Ведь давно известно, что голова роты — не офицер, а фельдфебель, самый умный, самый трезвый человек в подразделении. У Чапаева, как и у Фрунзе, военная струнка изначально, ее исток — в здравом, практическом рассуждении: чтобы разбить, уничтожить врага, нужно уметь воевать, а идеология у нас в крови испокон — смерть паразитам, смерть наемникам капитала, смерть державным венценосцам, смерть изменникам, трусам, малодушным! Дело труда восторжествует! Утвердите его победу всей мощью наших штыков! Чтобы жизнь для всех приобрела большой, настоящей смысл, кто-то за это должен заплатить своей кровью. Весь мир раскололся на красных и белых. Есть еще розовенькие, пытающиеся прибрать все к рукам. Но с ними разговор особый… Розовый лишай на красном теле революции не сразу разглядишь. Сейчас Чапаева изумляло одно: его понимают! Ему сочувствуют. И не ради самого сочувствия, а именно в силу понимания самого затаенного в его душе. Командарм высказывал те самые мысли, которые беспрестанно одолевали Василия Ивановича, произносил те самые слова, которые рвались с его губ. Никаких недомолвок: все прямо, чисто, по-партийному, по-пролетарски. — Я рад был с вами познакомиться, Василий Иванович, — сказал Фрунзе. — Можете вступать в командование Александров-Гайской группой. Это, правда, меньше, чем дивизия, но зато больше, чем бригада. А комиссара мы вам подберем. Есть у меня один на примете — Дмитрий Фурманов. — Это человек! — сказал Чапаев Плясункову. — В душу мне заглянул. Революционный разум. — Стратег! — отозвался Плясунков. — Поверьте моему слову, не станет он вас долго на группе держать. Дивизию даст. Эк шерстит армию!..
«СОВЕРШЕННО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ТАЛАНТ»
Вот уже третий месяц, как Фрунзе на фронте. Но у всех такое впечатление, будто он был всегда. Врос, вжился, стал головой огромного армейского организма. Кажется, нет такой части, такого подразделения, где бы не успел побывать. С ним всегда рядом начальник штаба Федор Новицкий и неизменный адъютант Сергей Сиротинский. Официально штаб командарма — в Самаре. А на деле — вагон, автомобиль, беспрестанно мечущийся по сугробам, по бездорожью. У Фрунзе есть квартира: комната в самарской гостинице. Но Софья Алексеевна видит мужа редко. Забежит на час — и снова в штаб или на поезд. Из всех штабов, со всех командных должностей Фрунзе вытеснил эсеров, меньшевиков, заменил испытанными коммунистами. Тут приходилось опираться на командующего Восточным фронтом Сергея Сергеевича Каменева. Полковник старой армии, генштабист, Каменев оказался человеком, беззаветно преданным Советской власти. Это ему пришлось создавать Восточный фронт как первый советский регулярный фронт за счет местных сил и средств. Но когда местные силы и средства были исчерпаны, а фронт так и не получил нужной прочности, Сергей Сергеевич не знал, что предпринять еще. И тут появился Фрунзе. Его энергия стала распространяться на все новые и новые города: не только в Самаре, но и в Саратове, в Покровске, в Александров-Гае, в Вольске, в Сызрани и даже в Пензе начали по указанию Фрунзе формироваться полки из рабочих и бедноты. Создал боевой штаб, вселил дух уверенности в военспецов. Наладил сбор боевого имущества, подвоз вооружения и снаряжения. Ну а самое важное; начал организовывать в своей армии кавалерийские части. — Без конницы пропадем! У Колчака превосходство именно в коннице. Нынешняя война — война маневренная. Каменев видел, как вокруг Фрунзе начинают смыкаться те самые силы, из которых командарм упорно и методично создает мощный кулак для удара по Колчаку. А самому Фрунзе казалось, что он занят все тем же делом, каким привык заниматься в Иваново-Вознесенске, в Шуе, в Минске, в Ярославском военном округе: формированием, мобилизацией, приданием организационной четкости массам, выработкой тактики и стратегии поднявшихся масс. Ведь люди остаются людьми, меняется лишь обстановка, в которой им приходится проявлять свои возможности, нравственные и физические. И всегда самое главное — воспитание людей, подтягивание самых широких масс до уровня задач, выдвигаемых каждым этапом революции. Поэтому-то он сразу же обратил внимание на политико-воспитательную работу в частях, старался увеличить в каждой части число коммунистов, политбойцов. Среди важных дел и забот было еще одно: кропотливое изучение обстановки на фронте. Что такое фронт? Это не нечто раз навсегда данное. Восточный фронт — полоса шириной в две с лишним тысячи километров, великое пространство от Печоры, загадочной Чердыни, Перми до Актюбинска, до Аральского моря. Это все, что на востоке России. Триста пятьдесят километров из двух тысяч принадлежат Четвертой армии. Самый южный участок, правый фланг. Штаб фронта в Симбирске, там Каменев. Фрунзе знает, что на всем фронте сосредоточено сто одиннадцать тысяч красных бойцов. Всего сто одиннадцать тысяч! Известно также, что Восточный фронт располагает триста семьюдесятью четырьмя орудиями. Ни больше, ни меньше. И что очень мало снарядов и неоткуда их взять. Вся надежда на пулеметы. Хотя патронов тоже мало. А у Колчака, по данным разведки, двойное количественное превосходство в коннице, не говоря уже о боеприпасах. Превосходство в живой силе… Редкий час ночного одиночества. Михаил Васильевич ходит по кабинету. Можно спокойно думать, просто думать. И не обязательно об армии. Как бы ни был занят человек делом, он думает и еще о чем-то. Фрунзе думает об обстоятельствах своей жизни, о новых людях, которые встречаются на каждом шагу. Взять хотя бы отношения с военспецами. Встретили прохладно. Перешептывались: «Союз коня и всадника» — намек на крепкий союз Фрунзе и Новицкого; дескать, как всегда, тащить воз будет военспец, а командующему остается лишь подписывать приказы… А он учился командовать и делал это в открытую, не стеснялся обращаться к военспецам по, казалось бы, самым элементарным вопросам: соотношение сил, форма маневра, планирование сроков. Не «всадником», а учеником считал он себя. Но после беседы с ним военспецы выходили из его кабинета несколько смущенными: «ученик» вовсе не был школяром, мыслил широко, а главное, грамотно в военном отношении, и не на все его вопросы военспецы могли дать ответ. Каждый из этих людей после встреч с Фрунзе начинал испытывать радостное возбуждение: так бывает, когда сталкиваешься с новым видом мышления, которое, как это угадывалось, принадлежит не одному человеку, Фрунзе, а всему новому человечеству, выразителями которого в данный момент являются такие, как Фрунзе. Он учился, учился. И постепенно они прониклись к нему глубоким уважением, ибо все, что он узнавал от них, было не самоцелью, а лишь недостающим звеном, необходимым инструментом, базой для самостоятельных обобщений и выводов. Они подчинились, стали прислушиваться к каждому его слову. А он с виноватой улыбкой говорил Новицкому: — Замучил я вас, Федор Федорович. О таких, как вы, киргизы говорят: и большим пальцем лечит, и указательным исцеляет. И еще: сильными руками можно победить одного, сильным умом побеждают вражеские полки… Спать, спать!.. Среди забот и беспрестанных треволнений он не утратил способность философски мыслить. Советская власть держится вот уже год и четыре месяца. Она живет и существует во вражеском кольце. На востоке — Колчак с армиями Белова, Ханжина, Каппеля, Гайды; на юге — Деникин; на западе — панская Польша; на северо-западе — Юденич; на севере — Миллер, англо-американские, французские и белофинские интервенты. Интервенты на Каспийском море, на Черном, на Белом. И вся Красная Россия — географический пятачок. И все-таки держится! Будет держаться… Никому и в голову не приходит, что могут вернуться старые порядки. Уже сложился своеобразный быт Красной Республики. «Красная губерния» живет советской жизнью. Недавно пришла телеграмма от делегатов Иваново-Вознесенского губернского съезда Советов: «Высказываем надежду вновь увидеть вас в первых рядах строителей и руководителей «Красной губернии». Почти каждый день Михаил Васильевич получает письма от рабочих, от Жиделева, от председателя губисполкома Любимова, который просится на фронт, но его не отпускают, от Зайцева, от ветерана революционного движения Ольги Афанасьевны Варенцовой, которая сейчас секретарь Иваново-Вознесенского губкома партии. На фабриках с хлопком по-прежнему плохо. Когда пойдете на Туркестан?.. О походе в Туркестан мечтает и Михаил Васильевич. Там создана своя Красная Армия. Но она тоже в кольце. Оттуда прорвалось несколько полков. Из них Михаил Васильевич предложил создать Туркестанскую армию. Совсем недавно эту армию подчинили ему, он стал командующим Южной группой. Эта группа должна закончить ликвидацию белоказачьей армии, очистить полностью Уральскую и Оренбургскую области и двинуться на Туркестан. Фрунзе очень часто думал о своей матери, Мавре Ефимовне, которая находится там, в Туркестане. Там и сестры. Бедная, бедная мама… С тех пор как пятнадцать лет назад он уехал из Верного в Петербург, они так и не виделись. Тогда было всего девятнадцать, а сейчас — тридцать четыре! Старик. Седые волосы появились… Не виделись, не встречались… Уж очень было спрессовано время. Три революции, тюрьма, каторга, ссылка, побег, фронт — и ни одной минуты передышки. Все пятнадцать лет в каком-то дьявольском колесе… Прости, мама. Прости сыну. Жизнь была слишком жестокой… Но сколько бы ни прошло лет, у каждого только одна мать, и это всегда несешь в себе, где бы ты ни был, в кандалах или под свинцовым дождем. Он отправил в Туркестанский Центральный исполнительный комитет радиограмму:«Волей Рабоче-Крестьянского правительства Российской Республики я назначен командующим армиями Южной группы Восточного фронта, включающими и туркестанские войска. В ближайшем будущем войска прибудут на помощь героям-бойцам Туркестана, доселе не опустившим Красного флага и отбившим все яростные нападки врагов. Я приветствую в вашем лице трудящиеся массы всех народностей Туркестана. Прошу передать мой особый привет трудовому населению моей родины — Семиречья и моего родного города Пишпека. Как уроженец Туркестана, приложу все усилия к тому, чтобы желанная помощь пришла к вам как можно скорее. С социалистическим приветом! Фрунзе».Мечта казалась легко осуществимой. Он тщательно разработал план наступления, командующий фронтом план одобрил. Большие надежды возлагал Михаил Васильевич на Чапаева. Фрунзе бросил Южную группу в наступление. На Туркестан! Отдохнувшие, хорошо отмобилизованные войска хлынули в уральские и оренбургские степи, смяли, обратили в бегство противника. За несколько дней враг был отброшен на сто двадцать километров к югу от Уральска. Чапаев взял станцию Сломихинскую. Огромные трофеи, пушки и пулеметы, захваченные у врага… Это был шквал, это был смерч. Наконец взят Лбищенск, штаб белоказачьей армии. Фрунзе всегда в авангарде. Его воля движет всю эту людскую массу, эскадроны, полки, пушки, застревающие в мокром снегу и непролазной грязи. Каменев телеграфировал:
«Работа вашей армии превзошла все ожидания — единственная светлая страница нынешних дней фронта».И выслал ордена Красного Знамени для наград отличившихся. Фрунзе сам прикрепил к груди Плясункова орден. А через несколько дней командующий фронтом вызвал Фрунзе к прямому проводу: — Наступление приостановить. Немедленно явиться в штаб фронта! Михаил Васильевич знал, что случилось: еще в начале марта Колчак всеми своими армиями перешел в наступление. Сибирская армия генерала Гайды потеснила на севере наши Третью и Пятую армии. Они отступают к Вятке. Неужели дела так плохи? Почему нужно приостанавливать наступление здесь, на правом фланге фронта? Михаил Васильевич выехал в Симбирск, к Каменеву. …В одном из этих деревянных домов Симбирска родился Ленин. В каком?.. Фрунзе показали двухэтажный в пять окон с фасада дом на Стрелецкой улице. Обыкновенный дом под железной крышей. Флигелек… Михаил Васильевич стоял на Венце. Обрыв над Волгой. Бой часов Васильевской церкви. А за рекой — степи в весеннем мареве. Отсюда начался жизненный путь Ильича. Отсюда начинается что-то необыкновенное, огромное в жизни Михаила Фрунзе… Как ни привык он к поворотам судьбы, то, что произошло полчаса назад в штабе фронта, ошеломило его. Сергей Сергеевич Каменев. Пожелтевший от бессонных ночей, глаза воспалены, рыжие усы опущены. Беспрестанно вбегали работники штаба, военспецы, телеграфисты. На столе — гора сводок, телеграмм. Каменев устало сказал: — Все ваши ходатайства удовлетворены: Куйбышев назначен членом реввоенсовета Южной группы. Авксентьевский и Любимов отозваны сюда из Иваново-Вознесенска. Обстановку знаете? — Знаю. Пятая сдала Уфу. Я до сих пор так и не могу взять в толк, изменилась ли оперативная задача Южной группы? Куда нам базироваться: на Туркестан или на Волгу? — А вы как думаете? — Мне кажется, что вы уже решили этот вопрос, приостановив своим приказом наступление. Южная группа должна действовать против главной группировки колчаковских войск, обязана помочь Пятой армии. — Да, Колчак нащупал слабое место. Пятая армия в исключительно тяжелом положении. В исключительно тяжелом! Уфа, Стерлитамак, Белебей, Бугульма — все отдали! Да и не мудрено: у генерала Ханжина пятьдесят тысяч штыков и сабель, и наши десять тысяч не устояли… Ханжин рвется в Самару. Троцкий разработал план, согласно которому, в целях сохранения живой силы, нужно отвести войска нашего фронта за Волгу. Михаил Васильевич не поверил собственным ушам. — Сдать Самару, Оренбург, Казань? Отдать хлеб, самую крупную водную рокадную линию сообщения? — Выходит, так. — Это же предательство, прямое предательство! Самару мы не можем отдать, не имеем права. Колчак потеснил нас. Что из того? Почему мы должны бежать без оглядки? Поступать так — значит подыгрывать Колчаку. Выход Колчака на рубеж Средней Волги будет означать стратегический прорыв Восточного фронта. Противник получит выгодное исходное положение для вторжения в глубь Республики по семи железнодорожным магистралям. Или Троцкий хочет, чтобы мы собственными руками открыли Колчаку ворота в Москву? Ничего не могу сказать о других армиях, но Южная группа готова не только к обороне, но и к наступлению. — Я это знаю. И согласен с вами. Но какие аргументы, помимо названных вами, мы можем выдвинуть против плана Троцкого? Он жмет на Вацетиса, и Вацетис вынужден был с ним согласиться. Так я предполагаю. Таким образом, против нас — председатель Реввоенсовета Республики и главнокомандующий вооруженными силами РСФСР. Михаил Васильевич пристально посмотрел на Каменева и спросил: — Скажите откровенно, Сергей Сергеевич, вы доверяете Троцкому? Каменев пожал плечами. — Я знаю одно: Троцкий меня не любит. Да и за что любить ему меня? Он всякий раз напоминает мне, что я полковник царской армии и не должен влезать в политику. От вас, мол, требуется одно: командовать. Но ведь Вацетис — тоже офицер старой армии, а ему доверили все вооруженные силы Республики, то есть, находясь на столь высоком посту, он воленс-ноленс обязан заниматься политикой. И как я могу отмахиваться от политических вопросов, когда они неразрывно связаны с каждым шагом на фронте? Ведь я не нанимался к Советской власти, а поклялся служить ей верой и правдой. Меня ведь тот же Колчак с радостью вздернул бы на первой осине. И не за то, что я командую фронтом, а за то, что я служу Советской власти; я сам стал частью этой власти. Вот вы старый большевик. Объясните, как я должен действовать в подобных случаях? Одно скажу: Троцкому я не доверяю. Никакими соображениями нельзя оправдать отвод войск за Волгу. Я ведь — военный человек и кое в чем разбираюсь… — Я ждал такого ответа. Сегодня же дам телеграмму на имя Владимира Ильича, обрисую обстановку. Уверен: Ленин запретит отступать за Волгу. Не аргументы, а свой, тщательно продуманный план должны мы противопоставить пораженческому плану Троцкого. У меня уже есть кое-какие наметки. Хорош ли, плох наш план, но за Волгу мы не отступим! Фрунзе подошел к карте. — Вот нас пугают распутицей. Но ведь она — не только для нас, но и для того же Ханжина. Его армия, двигаясь вдоль единственной железной дороги, неминуемо растянется в глубину. А это как раз нам и нужно: мы сможем бить его по частям. Я прикидывал и так и эдак и вот к чему пришел: Колчак не сможет все время держать свои силы в кулаке, взаимодействие его частей неизбежно нарушится. Мы уже видим, что левый фланг армии Ханжина отстал от главной группировки. И если бы нам удалось создать сильную ударную группу… Обстановка подсказывает, что такую группу можно создать лишь на правом фланге фронта. Здесь наши войска образовали выступ в сторону войск Колчака, здесь мы угрожаем его основным силам, идущим на Самару… Понимаю: создать группу будет нелегко. Но иного выхода нет. Мощный кулак. Энергичным наступлением во фланг и тыл главной группировки белых разгромить ее и отрезать от путей отхода на восток! На оренбургском и уральском направлениях можно продолжать ограниченными силами оборонительные действия. Главный удар, как опять же подсказывает обстановка, лучше всего нанести из района Бузулука на север по флангу и тылу… Это, разумеется, предварительные соображения. Он замолчал. Молчал и Каменев. Несколько минут он находился в глубокой задумчивости, потом поднялся, быстрыми шагами подошел к Михаилу Васильевичу. — А знаете, тут что-то есть!.. Разделить фронт на две оперативные группы… Из района Бузулука — на север по флангу и тылу главной группировки Западной армии… Гм. По всему было видно, что его мысль работает с удесятеренной быстротой. Нужен был лишь толчок, импульс. Наконец он произнес таким тоном, словно убеждая самого себя: — Теперь и я вижу, что Колчак бьет растопыренными пальцами. Он так и не определил точно направление главного удара. Я, кажется, разгадал его замысел: наступлением Сибирской армии на Вятку, Вологду он стремится соединиться с Миллером и интервентами на севере; Западную армию хочет вывести на Среднюю Волгу для соединения с Деникиным. Так сказать, желание усесться сразу на два стула. Вот где самое уязвимое место плана Колчака! Мы должны помешать ему встретиться с Деникиным. — Мы его просто уничтожим! Сергей Сергеевич сощурился. — Да, конечно, мы должны его уничтожить. И ваши предварительные соображения, если хотите знать, очень смелы. Да, очень смелы. Гениально просто и смело. Мне даже сдается, что по смелости замысла ваш план контрнаступления не имеет себе равных! Вернее, зерно плана. Но вот удастся ли нам создать в короткие сроки ту самую мощную группу, о которой вы говорили? Я уже предвижу все возражения Троцкого. — И я предвижу. Но не сомневаюсь, что ударную группу создать удастся. — Хорошо. Обсудим все на заседании реввоенсовета. На заседании оппозиции не было: идею плана контрнаступления одобрили. Ведь все это считалось как бы предварительным. А вот утвердит ли Москва? Во всяком случае, Каменев должен ехать в Москву, в ЦК. Там придется противостоять Троцкому, доказывать. А время не терпит… Ну а группа, ударная группа? Ее нужно создавать сейчас, немедленно. И создавать ее будет Фрунзе! Возможно, в нее войдут все армии, кроме Второй и Третьей. — Берите на себя все полномочия и все обязанности по подготовке контрнаступления, — сказал Каменев. — Я потребую, чтобы вас утвердили командующим этой оперативной группой. Все было слишком неожиданно. Ведь Фрунзе высказал только то, что ему казалось само собой разумеющимся. Не с неба же они упали, его «предварительные соображения»! Изучая обстановку изо дня в день, прямо-таки невозможно прийти к другому выводу. Да, Колчак перешел в генеральное наступление, он добился серьезного успеха. И разве может его задержать даже такой могучий водный рубеж, как Волга? Лишь живая сила… И вот из шести армий фронта Каменев готов, если потребуется, отдать в распоряжение Фрунзе четыре, то есть вверить ему судьбу всего фронта, если учесть, что Вторая и Третья армии откатились чуть ли не до Вятки и Камы, чуть ли не до Казани. То чувство, которое испытал при этом Михаил Васильевич, нельзя было назвать ни страхом, ни растерянностью. То было знакомое чувство: чувство личной ответственности. И оно самое гнетущее. Взять в свои руки фронт, который стал за несколько дней главным, основным. Взять его в самый тяжелый момент. Кто-то не подготовил армии, кто-то не разгадал заранее замыслов противника, кто-то прошляпил, дал застать себя врасплох, а Фрунзе в этот критический момент должен взять все просчеты других на себя. Здесь будет решаться судьба Советского государства: быть ему или не быть? Фрунзе, сам того не желая, выдвинулся на первое место. И он знал: план утвердят, не могут не утвердить. И вся основная тяжесть ляжет на его плечи, многое будет зависеть от его оперативности, от подвижности его мысли, военной мысли. Та задача, которую он выполнял до сих пор: не допускать белоказаков к Волге на участке Саратов — Сызрань, показалась ему сейчас мизерной. Он их не только не допустил, но и отогнал, раздавил. …Он стоял на краю обрыва, и ветер раздувал полы его шинели. Да, на заседании реввоенсовета он согласился. Ведь другого выхода все равно нет: он высказал идею плана, он и должен воплотить ее в жизнь. Кто лучше него понимает идею этого плана, его частности, кто, кроме него, сможет во всех деталях разработать план? Фрунзе поставил жесткое условие: никто не должен связывать ему руки. Подготовка контрнаступления проводится в строжайшей тайне. Он требует полного доверия!.. Вторым членом реввоенсовета Южной группы будет Новицкий. Сейчас же нужно назначить начальником 25-й дивизии Чапаева. Комиссаром к нему — Фурманова. Все его предложения приняли. После заседания Сергей Сергеевич сказал: — Троцкий прислал еще одного своего соглядатая: некий Авалов. Рекомендует на должность командующего Четвертой армией. Хочу вас познакомить. Каменев вызвал адъютанта. — Авалова ко мне! Авалов, Авалов… Михаил Васильевич рылся в памяти. Неужели тот самый?.. Губернский комиссар Керенского в Минске?.. Мало ли однофамильцев!.. Но это был тот самый Авалов. Он сразу узнал Фрунзе, но не побледнел, не стал грызть ногти, как с ним случалось в минуты волнения. Это был уверенный в себе человек, посланный сюда председателем Реввоенсовета. — Знакомьтесь, — сказал Каменев. — Что нужно здесь этому человеку? — спросил Фрунзе. — Я прибыл сюда с рекомендациями от руководства Реввоенсовета, от Троцкого. Лично от вас мне ничего не нужно. А прислали меня сюда на должность командующего армией. Фрунзе переглянулся с Каменевым, развел руками. — В Южной группе все укомплектовано. На Четвертую армию вызван Авксентьевский. У меня высоких должностей нет! — Я согласен на дивизию. — На дивизию утвержден Чапаев. — Но бригада-то у вас есть, надеюсь? — Назначение на должность — дело сложное. Будем совещаться. Когда командующий фронтом отпустил Авалова, Фрунзе сказал: — Вы правы: Троцкий подсунул нам соглядатая. Я его очень хорошо знаю по Минску. И будь моя воля, дал бы ему здоровенного пинка. — А как быть? Я не могу отменить распоряжение руководства Реввоенсовета. — На Четвертую армию нужно немедленно провести Авксентьевского! А этого девайте, куда хотите. Не хотел бы иметь его в Южной группе. Это же явный предатель. Очень уж он рвется заполучить хоть что-нибудь. — Хорошо. Я еще посовещаюсь с членами Реввоенсовета и в Москве тоже. Михаил Васильевич понимал, что все его доводы против Авалова не убедительны. Как скажешь Каменеву: Авалов бывший офицер царской армии, служил Временному правительству, эсер? Но ведь и Новицкий, и Каменев, и сам главком Вацетис служили в старой армии. Но им доверяют! Авалов может заявить: да, служил, но изменил убеждения, перешел на сторону народа и так далее. И эта гадина вползает в армию, претендует на высокую должность, и ничего с ним нельзя поделать… Можно скрипеть зубами от бессильной ярости. А тронь негодяя, сразу завопит: Фрунзе сводит счеты за прошлое! С таким же успехом Троцкий мог прислать со своей рекомендацией генерала юстиции Милкова: перевоспитался, мол, раскаялся, осознал свои ошибки, рабочих и большевиков вешать отныне не будет, прошу любить и жаловать! И Милков стал бы искать повода, чтобы снова осудить Фрунзе и того же Чапаева. И хотя на заседании Реввоенсовета твердо решили Самару не эвакуировать, нашлись люди, которые еще до заседания передали в Самару: эвакуируйте! Узнав об этом, Михаил Васильевич вызвал к прямому проводу Куйбышева. Валериан Владимирович успокоил: — Эвакуация? И не подумаем! Презрение паникерам! Вот с военным инженером Карбышевым продолжаем возводить Самарский укрепленный район. Фрунзе занялся разработкой плана контрнаступления. В Москве в это время за план дрались Каменев и член Реввоенсовета фронта Сергей Иванович Гусев. Старый большевик Гусев много слышал об Арсении еще в 1906 году, они встречались на IV съезде РСДРП в Стокгольме. Наклонность к военному делу у Сергея Ивановича появилась давно, еще тогда, когда он работал в издательстве Сытина, где вычитывал «Военную энциклопедию». Оригинальность оперативного замысла Фрунзе поразила Сергея Ивановича. Все это было прямо-таки непостижимо: Арсений, тот самый Арсений… Сергей Иванович, закованный в глухую кожанку, методично доказывал, что план Фрунзе — творение очень зрелой, может быть, даже гениальной военной мысли. В истории военного искусства аналогов нет. Фрунзе как стратег и мастер оперативного мышления еще только разворачивается. Его нужно поддержать. Круглое, без бороды и усов лицо Гусева было строго. Он то и дело демонстративно снимал и надевал пенсне, стараясь привлечь к себе внимание. Ему казалось, что его слушают недостаточно внимательно, и он нервничал. Он боялся, что из-за этой вот невнимательности могут не уловить всего своеобразия и глубины мысли Фрунзе и, чего доброго, примут какое-нибудь срединное решение. Но его слушали. И гораздо заинтересованнее, чем он предполагал. Всем был хорошо известен несколько тяжеловатый и суховатый характер Гусева, человека очень больного уже много лет; но под этим внешним льдом всегда кипели, бурлили страсти, одной из которых была ненависть к Троцкому, подчас плохо скрываемая. Еще будучи студентом технологического института, Гусев в 1896 году вступил в Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», вместе с Лениным создавал партию, и люди, наподобие Троцкого, лживое нутро которых он угадывал безошибочно с первого соприкосновения, вызывали у него гнев, чувство гадливости. Он не стеснялся в глаза называть Троцкого «квазиреволюционером», отчего последний приходил в бешенство. Основными оппонентами были Троцкий и работники штаба главкома. В зале заседаний висела карта во всю стену. Перед этой картой прыгал Троцкий, потрясая указкой. Он был весь — темперамент, перья бороды задорно топорщились, плечи судорожно вздергивались. — Авантюризм чистейшей воды! Появился еще один доморощенный стратег. Сейчас, когда установилась весенняя распутица, а резервы не подброшены и еще не скоро могут быть подброшены, этот самоуверенный Фрунзе предлагает перейти в контрнаступление! Я взываю к здравому смыслу. Наши армии откатываются, они разбиты, деморализованы. Единственная возможность удержаться — закрепиться за Волгой, да, да, оставить Самару, Казань. Планомерный отход. Мы не позволим малограмотному в военном отношении человеку бросать Красную Армию на растерзание Колчаку! Как говорят немцы: бог всегда сопутствует большим батальонам. А у нас нет этих батальонов… Оратор совсем вошел в роль стратега, этакого спасителя России. Он знал цену красноречию. Кроме того, он успел изучить Фрунзе. Фрунзе опасен своей неукротимостью, своим бесстрашием. И все это было результатом его образа мышления, которое не имело ни одной точки соприкосновения с мышлением Троцкого. Для планов Троцкого такой человек опасен уже тем, что он существует на свете. Даже находясь в Самаре или еще на более отдаленном от столицы фронте, он может оказывать гораздо большее воздействие на всю политику, нежели Троцкий и его друзья в Москве. Фрунзе надо развенчать, принизить, уничтожить иронией и пренебрежением. Троцкий неоднократно выступал в роли военного теоретика. Были у него и свои твердые посылки. Например: марксизм к военной науке не применим. Да и вообще, военной науки нет и не было. Война не есть наука. Война есть ремесло для тех, которые правильно изучают военное дело. Фрунзе не изучал военное дело, его марксизм к «теории войны, то есть практическому руководству», никакого отношения не имеет. Фрунзе — выскочка. Военному специалисту нужно исходить из «внутренних факторов военного дела». Марксизму там нечего делать. — Одна из основных философских марксистских предпосылок гласит, что истина всегда конкретна. Это значит, что нельзя военное дело и его вопросы растворять в социальных и политических категориях. Может ли марксизм научить плести лапти? Военное дело есть военное дело, и марксист, который хочет о нем судить, должен помнить, что и военная истина конкретна. Я не знаю, какой марксист Фрунзе, но в практическом военном деле для меня он — нуль. Можно подумать, что у нас нет опытных военспецов! Такого военспеца, бывшего генерала царской армии Самойло, Троцкий выпустил к карте. Генерал выглядел внушительно: Сципион Африканский! Бугристое лицо с резкими складками, голый шишковатый череп, огромные уши, узкий рот, будто щелка, прорезанная ножом. Генерал подошел к карте. План контрнаступления Фрунзе оценил как предложение, не имеющее под собой никакой реальной основы. Нет, он не унижал Фрунзе всякими пренебрежительными словечками. Фрунзе для него вообще не существовал. Генерал скупо выдавливал из себя каждое слово. Он был подобен изрекающему оракулу. План неприемлем хотя бы потому, что мощный удар на чрезвычайно растянутом фронте практически невозможен. Если Колчаку удастся захватить Самару, что вполне вероятно (ведь захватил же он Уфу!), то Южная группа окажется в мешке, то есть отрезанной от баз питания и снабжения. Многим доводы Самойло показались убедительными. Да и сам генерал был убежден в непогрешимости своего оперативного мышления. Меньше всего считал он себя врагом Советской власти, ни в каком заговоре совокупно с Троцким не состоял. Просто он мыслил старыми шаблонами. И Троцкого это вполне устраивало… Владимир Ильич сидел в деревянном кресле, чуть склонив голову, что-то писал, и трудно было понять, слушает он Самойло или нет. Но именно Ленину, как предсовнаркома и председателю Совета Обороны, принадлежало здесь решающее слово. Вот он вскинул голову, погладил рыжеватую бородку и заговорил. Ильич не спорил, не доказывал. Он читал «Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта». И всем сразу стало ясно: план Фрунзе принят. Об отступлении за Волгу не может быть и речи. Ильич лучше и быстрее всех военспецов разгадал замысел Колчака. Разделив силы на Северную и Южную оперативные группы, Колчак преследует вполне определенную цель: захват Москвы. Это именно план похода на Москву. Колчаку диктовали свою волю две силы: представитель английского империализма генерал Нокс и представитель французского империализма генерал Жанен. Нокс тянул Колчака на север, к Вологде, где находились английские и американские интервенты; Жанен — на юг, к Самаре, на соединение со ставленником французов Деникиным. Когда произойдет соединение, северная группировка повернет через Ярославль на Москву, а южная в то же самое время повернет на Москву через Саратов. Это был очень широкий план. Но уязвимый. И Фрунзе совершенно прав, предлагая нанести контрудар сосредоточенными силами армий правого фланга Восточного фронта по растянувшемуся левому флангу противника с последующим выходом в его тыл. План Фрунзе верен хотя бы потому, что он учитывает не какие-то оперативные и тактические частности, а сложившуюся обстановку в целом: с переходом Колчака в наступление зашевелился на юге Деникин, готовит поход на Москву, он уже выдвинулся в пределы Донбасса; на западе оживились белополяки и латвийские националисты, захватили Вильнюс, Барановичи и нацелились на Минск; Юденич наваливается на Петроград. Троцкий пугает жертвами. Да, без жертв не обойтись. Но что эти жертвы в сравнении с теми жертвами, которые придется принести народу, если Колчак захватит Москву, раздавит революцию и вернет прежний социальный строй? Вот что учитывает Фрунзе. Он, по-видимому, даже не задумывается о чисто оперативных достоинствах своего замысла. Он предлагает свое решение, единственно правильное, по его мнению, для данного момента. Его план рожден не отвлеченными умствованиями, а жестокой необходимостью. Ильич сказал: — Надо напрячь все силы, развернуть революционную энергию, и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал, Сибирь могут и должны быть защищены и отвоеваны. Реввоенсовет Республики немедленно выехал в Симбирск и здесь на заседании утвердил Фрунзе командующим Южной группой большого состава. Членами реввоенсовета группы стали Куйбышев и Новицкий. Фрунзе познакомился с недавно прибывшим Тухачевским, который стал во главе Пятой армии. О Тухачевском Михаиле Николаевиче знал и до этого. Офицер старой армии, Тухачевский служил в Семеновском полку, воевал в империалистическую, был в плену у немцев, бежал. Через Швейцарию, Францию и Англию вернулся домой. Солдаты избрали его командиром роты; вступил в партию большевиков, работал в Военном отделе ВЦИК. В прошлом году находился на Восточном фронте, командовал Первой армией, где комиссарами были Куйбышев и Калинин. Послали на Южный фронт. Теперь перевели сюда. От Куйбышева Михаил Васильевич не раз слышал о личной храбрости Тухачевского. — Вместе с ним брали Симбирск и Самару… Сейчас на Фрунзе смотрели большие синие глаза командарма. Он молод, очень молод. Ему всего двадцать шесть. Прекрасен, как античный бог. Куйбышев говорил о том, что Тухачевский — отличный музыкант, сам мастерит скрипки. Отец — разорившийся дворянин, мать — из бедных крестьян Смоленской губернии. И снова — ощущение интеллектуального родства… В общем-то, Тухачевский сделался командующим Пятой армией по предложению Фрунзе. Эта армия находилась в очень тяжелом положении. Ведь именно против нее Колчак бросил основные силы. Она стояла в центре фронта, на уфимском направлении, то есть на главном. Здесь нужен был человек оперативный, хладнокровный и, конечно же, грамотный в военном отношении. Тухачевский обладал всеми этими качествами. Михаил Васильевич, обычно осторожный в оценке людей, как-то сразу поверил в него. Вернувшись в Самару, Фрунзе вызвал Чапаева и Фурманова. Пригласил на квартиру. Софья Алексеевна накормила обедом. Оба выглядели бодро. Искренне обрадовались, когда узнали, что Василий Иванович теперь будет начальником Двадцать пятой, а Фурманов — комиссаром у него. Командир и комиссар успели сдружиться. Сперва Василий Иванович был несколько шокирован: к Фурманову в часть приехала жена Анна Никитична. (Комиссар да еще со своей «бабой»! Плясунков вон куда сознательней: турнул свою кралю на исходные позиции…) Но когда узнал, что Аня — замечательная наездница, разбирается в медицине не хуже фельдшера и приехала не просто к мужу, а по командировке, заведовать политпросветом, успокоился. Девчонка из рабочей семьи, драндулетов для нее не потребуется. А с Митяем познакомилась на фронте, еще в империалистическую, где Аня Стешенко была сестрой милосердия. — Принимайте дивизию, — сказал Фрунзе. — В нее войдет также ваша Александров-Гайская группа, но и, конечно, Иваново-Вознесенский полк. Ваш штаб в Бузулуке. Южная группа расширенного состава официально была образована 10 апреля. По плану Фрунзе наступление должно было начаться через три недели. За эти три недели предстояло проделать огромную работу. Во-первых, необходимо осмыслить все детали предполагаемого контрудара. Ведь тут, в самом деле, могут быть всякие неожиданности: а что, если Ханжину все-таки удастся захватить Самару? А что, если армии, отступающие на левом фланге, увлекут за собой и Южную оперативную группу? Таких «если» было слишком много. Конечно же, трудно рассчитывать на быстрый подход из тыла крупных резервов. Они, разумеется, будут подброшены. Но когда? Удастся ли сохранить в тайне от противника оперативный план и сосредоточение войск? Во-вторых, нужно укомплектовать части, очистить их от буржуазно-кулацких элементов, сведя последние в тыловое ополчение, распределить партийных работников, произвести перегруппировку сил и создать на решающем направлении ударную группу. И наконец, укрепить фортификационными сооружениями населенные пункты, подбросить продовольствие и вооружение. Фрунзе, Куйбышев и Новицкий сбивались с ног. И тут Михаил Васильевич, в который уж раз, столкнулся с человеческой инертностью. И не только с инертностью… Давно замечено, что всякое большое дело вызывает яростное противодействие всех инакомыслящих. Таким инакомыслящим вдруг оказался человек, которым Фрунзе восхищался и в которого верил: командующий Первой армией Гая Дмитриевич Бжишкянц, или просто Гай. Именно Гай летом прошлого года сформировал Симбирскую дивизию, получившую за необыкновенную стойкость наименование Двадцать четвертой Железной. Теперь Гай командовал Первой армией, оборонявшей Оренбург. Гай был уязвлен тем, что командование Южной группой большого состава доверили не ему, а Фрунзе. Но не скажешь об этом вслух! Сперва все складывалось будто бы в пользу Гая: главное командование, оказавшееся вынужденным принять план Фрунзе, решило внести в этот план свои коррективы. А именно: нанести фланговый удар по противнику не группой войск, а силами одной лишь Первой армии. Гай, не поняв подоплеки всего, вообразил, что его наконец-то оценили по достоинству и делают главной фигурой. Фрунзе отмел все поправки. Вот тогда-то Гай решил драться за себя. Он неожиданно заявил, что из плана Фрунзе ничего не выйдет. Надо отступать за Волгу, сдать Оренбург. Вызвав Фрунзе к прямому проводу, он сказал: — Оренбург окружен с трех сторон. Я нахожу нужным спасти армию отступлением. Каждую минуту меня зовут начдивы с просьбой разрешения об отступлении. Я иного выхода не нахожу и снимаю с себя всякую ответственность за могущий произойти разгром армии. Вот что я вам скажу: при столь быстром отходе Пятой армии никакие маневры с нашей стороны помочь делу не могут, моя армия потеряла боеспособность и через неделю в панике разбежится. Верьте мне! Такого разговора с Гаем Фрунзе не ожидал. Чего он кричит, чего бросается в панику? Испугался атамана Дутова? Ведь в Оренбурге девять с половиной тысяч штыков, бронепоезд, семь орудий, до сотни пулеметов, люди не намотаны, сыты. Какая армия сейчас может похвастаться тем, что у нее почти десять тысяч человек? Может быть, Пятая, где нет и половины того, что есть у Гая?.. А именно на Пятую возложена самая ответственная задача: пока идет подготовка к контрнаступлению, сдерживать противника, и не только сдерживать, но и стягивать ударный кулак. О чем-то догадываясь, Михаил Васильевич сказал: — Стыдитесь, Гая Дмитриевич. Паническоенастроение и поведение руководителей обороны Оренбурга считаю не только непонятным, но и преступным. Приказываю вам раз и навсегда прекратить разговоры о сдаче Оренбурга и принять меры к его защите! Ожидаю от ваших войск исполнения долга и приказа. Я верю в вас, в ваше личное мужество! Гая поддержал Троцкий, приехавший в Симбирск. Кроме того, Гай, убежденный в своей правоте, решил обратиться с жалобой на Фрунзе непосредственно к Владимиру Ильичу. Ленин вынужден был в это горячее время делать запрос о положении в Оренбурге. Фрунзе ответил телеграммой:
«Считаю, что поток оренбургских слезниц по бесчисленным адресам в значительной степени объясняется собственным неумением правильно использовать силы и средства, бывшие в распоряжении Оренбурга».Фрунзе мог бы снять Гая и заменить его другим. Но не снял. Он верил в этого незаурядного человека, верил, что в самое короткое время он выправится. Ведь Гай служит не Михаилу Фрунзе, а революции, Советской власти! В первую мировую войну он был произведен в офицеры за храбрость. Что с ним делать?.. Просто во главе основной ударной группы войск поставил не Гая, как намечал, а командующего Туркестанской армией Зиновьева, бывшего председателя ревкома Сибирского корпуса. Возле Фрунзе все время вертелся Авалов. По настоянию Троцкого Авалову пришлось-таки дать большую должность: командира бригады. Фрунзе не верил Авалову и очень внимательно следил за каждым его шагом. Этот человек представлял большую опасность именно сейчас, в период подготовки. Потому-то Михаил Васильевич решил не посылать его ни в Оренбург, ни в Бузулук, на в Уральск, а оставил в Самаре, назначив командиром расквартированной здесь 74-й бригады. Авалов, казалось, остался доволен таким решением. Он любил отираться в штабе Южной группы, что-то высматривал, вынюхивал. О подготовке контрнаступления он знал. Да и не мог не знать. Очень часто к нему приезжали какие-то люди из Симбирска и даже из Москвы. Авалов уединялся с ними и о чем-то толковал. Как-то в штаб бригады пожаловал мужичок в тулупе, в подшитых валенках, борода веником. Мужичок требовал пустить его «до командира Советской власти», так как-де красноармейцы украли коня. А если не пустят, то он напишет самому Ленину. Мужичок оказался на редкость скандальным и неугомонным. Доложили Авалову. Он небрежно бросил: — Пропустите. И оставьте нас наедине. Я объясню ему доходчиво, что сознательные красные бойцы не воруют, а производят мобилизацию средств. Когда они остались вдвоем, «мужичок» сказал: — Пришлось разыграть эту интермедию. Через фронт пробраться было нетрудно, а в Самаре — намного сложнее: по малейшему подозрению могут сцапать. Поклон вам от наших. На какое число назначено наступление? — Этого я пока не знаю. Да и никто из начальников ее знает. Фрунзе все держит в секрете. Не удалось даже выяснить, где и что конкретно сосредоточивается. Он, по-видимому, тщательно наблюдает за мной. Из Самары не выпускает. Официально моя бригада входит в резерв Южной группы. Вот копия приказа войскам армий Южной группы от десятого апреля. Здесь много ценного для понимания общего замысла. Но обстановка меняется с невероятной быстротой, и Фрунзе, учитывая ее, совершенствует свой план. Так я понимаю. Как видите, успехи мои скромны. Все время чувствую себя под прицелом. — Мужайтесь. Вам присвоено звание полковника. От души поздравляю. Если удастся похитить оперативный план — обещают генеральские погоны. — А если не удастся? — Тогда прибегните к старому испытанному средству (ведь вы — эсер!): убейте Фрунзе. — Вы — оптимист, поручик. Ну а если мне не удастся убить Фрунзе? — Вы — пессимист, полковник. Нам нужен хотя бы приказ на наступление. Добудьте его любой ценой. Если не сумеете переправить с Кобяковым, сами прорывайтесь на нашу сторону. Будем ждать. А почему вам все-таки не прикончить Фрунзе?.. Тогда все отпадает само собой. Командующий, занятый неотложными делами, постоянными разъездами со своей подвижной группой штаба, иногда накрепко забывал о существовании Авалова. Подвижная группа размещалась в поезде. Даже находясь в Самаре, Фрунзе каждый день наведывался сюда. Здесь, в железных ящиках, хранились важные оперативные документы. Здесь хорошо работалось под вздохи паровозов и лязг буферов. Погруженный в размышления, Михаил Васильевич не слышал выстрела. Просто в сознание ворвался какой-то непривычный звук: что-то хрустнуло, звякнуло. Он оторвал глаза от карты, взглянул на окно и увидел выше шторки аккуратное пулевое отверстие, окаймленное густыми трещинками. Поняв, что произошло, он метнулся в сторону, выхватил маузер. Но в окно больше не стреляли. Чтобы не сеять панику среди работников подвижной группы, Михаил Васильевич никому о покушении не рассказал, но принял меры: создал специальный отряд для охраны подвижной группы, куда вошел взвод венгров. После этого случая он стал осмотрительнее. Оказывается, враг не брезгует и такими способами… Не только за линией фронта, но и тут, в тылу, врагов было хоть отбавляй. Совсем недавно, когда Колчак перешел в наступление, кулачье подняло мятежи в Самарском, Сызранском, Сенгилеевском, Ставропольском и Мелекесском уездах. В ночь с десятого на одиннадцатое марта произошел мятеж в самой Самаре, но Фрунзе и Куйбышев быстро подавили его. То были враги скрытые. И как ни странно, бороться с ними все же легче, чем с врагами открытыми. Открытый враг был Троцкий. Он притащил с собой «Сципиона Африканского» — генерала Самойло. Троцкий прилагал невероятные усилия, чтобы сорвать контрнаступление. Он назойливо лез со своими советами, распекал Фрунзе за каждое распоряжение. Старался оказать давление на командующего фронтом Каменева. Почему-то не подбрасывают из тыла пополнение. Приходится оголять Оренбург и Уральск. А так как Гай продолжает требовать подкрепления, в Оренбург едут Куйбышев и Фрунзе, и тут совместно с Реввоенсоветом армии создают большой гарнизон из местных рабочих Оренбург держится и будет держаться. Да, обстановка быстро менялась, и требовался очень гибкий ум, способный все учесть. Штаб и реввоенсовет группы трудились с предельной нагрузкой. Текучая вода событий… Никогда еще мозг Фрунзе не был обострен до такой степени. Это было творчество. Все то, что годами копилось подспудно, прорвалось, вылилось в конкретные оперативные формы. Именно неустойчивое положение на фронте заставляло Фрунзе находить все новые и новые решения, отыскивать слабые места у противника, комбинировать. Есть люди, которые словно бы рождены с особым умением взвешивать зыбкие, эфемерные моменты, разгадывать диалектику самых сложных обстоятельств. Все зыбкое, неустойчивое, текучее — их стихия… С самого начала пребывания на фронте он старался создать умелую умную разведку. И теперь это принесло свои плоды. Разведчики Чапаева захватили трех ординарцев из колчаковских войск. При них оказались приказы по уральским корпусам. Все это представляло определенную ценность. Но Фрунзе, тщательно проанализировав документы, нашел то, чего не заметили штабники: между Третьим и Шестым уральскими корпусами нет тактической связи! Они оторваны друг от друга почти на пятьдесят километров. Все это в корне меняло дело. Ударом в разрез между корпусами можно еще больше разобщить их, отрезать выдвинувшийся вперед корпус и разгромить его. Белые вынуждены будут вести бой с перевернутым фронтом. Необходимо создать не одну, а три ударные группы: основную, как и намечалось, — в районе Бузулука, вспомогательную — справа от основной, севернее Бузулука поставить дивизию Чапаева. Жертвуя второстепенными участками, Фрунзе сосредоточил на направлении главного удара Бузулук — Заглядино почти пятьдесят тысяч человек и полторы сотни орудий. На остальные семьсот километров фронта он оставил всего двадцать три тысячи штыков и сабель. Все готово было к контрнаступлению. Оставалось только доложить оперативный план командующему фронтом. И тут Михаил Васильевич неожиданно наткнулся на сопротивление. Каменев заявил, что главный удар следует нанести севернее, на бугульминском и мензелинском направлениях. Да и нечего торопиться с наступлением. Распутица. — Я слышу не ваш голос, Сергей Сергеевич, а металлический глас генерала Самойло. Немедленно выезжаю в Симбирск. Как и предполагал Фрунзе, на Каменева оказывали давление Троцкий и Самойло. — Если эти двое не перестанут вмешиваться, я вынужден буду обратиться к правительству, к Ильичу, чтобы меня освободили от опеки Троцкого. Мы не имеем права медлить. Несмотря на то что белые беспрестанно атакуют наши войска, обстановка сложилась в нашу пользу. Направление главного удара определено именно с учетом обстановки. Ну а распутица… Так она и для Колчака распутица. Фрунзе поддержал Гусев. Каменев поднял руки. — Сдаюсь. Убедили. Действуйте! А мы здесь с Сергеем Ивановичем будем давать отпор. Трудно его давать Троцкому, но будем… Вернувшись в свой штаб, Фрунзе отдал приказ на наступление. Оно должно было начаться 2 мая. Одно, казалось бы, незначительное событие заставило командующего перейти в общее наступление на четыре дня раньше намеченного срока: сбежал Авалов. 74-ю бригаду пришлось спешно перебросить к Бузулуку. Здесь Авалов был под присмотром Чапаева и Фурманова. Но Авалов бежал. Унес с собой приказ и другие важные документы. Если изменнику удастся перебраться на ту сторону, будет утерян самый важный козырь: внезапность. 28 апреля войска Южной группы перешли в наступление. Весенняя распутица. Раскисшие дороги, грязь по колено. Ручьи и ручейки, синий вздувшийся лед на речках, в ериках рыхлый, источенный солнцем снег. Ни пройти, ни проехать ни пешему, ни конному. Особенно трудно с артиллерией. Даже пулеметы приходится переправлять в разобранном виде. И то, что было не так давно, показалось всем детской игрой. Когда на тебе сапоги, то еще терпимо; а если изо дня в день месишь холодную, вязкую, как смола, грязь лаптями… Тут — сплошная низина, что ни шаг — речка; а от Бузулука до Бугуруслана, почитай, полтораста верст. Да где его найдешь сейчас, сухое место? Застрял броневик. Его пытаются вытащить сперва верблюдами, потом быками. — Ну, вы, иропланы, цоб цобе! — подгоняет быков хворостиной красноармеец. — Разве это бугаи? Вот у меня были бугаи: паровоз тащили, ей-бо! Бои завязались у речки Боровки. Чапаевская дивизия вырвалась на восемьдесят километров вперед, разбила 11-ю дивизию 6-го корпуса, части 3-го корпуса; войска ударной группы обошли Бугуруслан. Противник под напором 26-й стрелковой дивизии оставил город. Шестой корпус белых был уничтожен. Открылась дорога на Белебей. Под Бугульмой Чапаев уничтожил Ижевскую, Оренбургскую казачьи бригады, 4-ю дивизию, взял в плен полторы тысячи солдат и офицеров. И в это самое время, когда наступление развивалось столь стремительно и успешно, Троцкий предпринял чудовищный маневр: снял Каменева с поста командующего фронтом и уволил его в шестинедельный отпуск. Вместо Каменева поставил «Сципиона Африканского» — генерала Самойло. — Нужно раздавить выскочку! — сказал Троцкий. — Скомпрометировать, спутать ему карты, расформировать Южную группу. Если он выиграет сражение, нас просто вышвырнут! — Я его обуздаю. В своем самомнении он погубит всю армию. И я этого не допущу! Фрунзе со своим штабом находился на передовой, в чапаевской дивизии. Адъютант принес телеграмму. — Вас срочно отзывают в Симбирск. — Хотят уволить в отпуск? Соедините с командующим фронтом. Самойло теперь был убежден, что особенно церемониться нечего: он издал директиву о выводе Пятой армии из состава Южной группы, так как он, Самойло, решил направление главного удара перенести на север от Камы, на левое крыло фронта. Все это не укладывалось ни в какие рамки. В то время как Южная группа готовится к окружению и разгрому корпуса Каппеля, сосредоточенного в районе Белебея, поступает приказ приостановить наступление. Что это?.. Явное, ничем не прикрытое намерение сорвать оперативный план. Самойло свирепствует: — Я изымаю у вас Пятую армию, Вторую и Двадцать пятую дивизии!.. Так как Фрунзе и не подумал приостановить наступление, Самойло стал посылать приказы дивизиям и бригадам через голову командующего. Пятая армия за десять дней получила пять директив, в которых менялось направление ее удара. Путаница, неразбериха. И все же Южная группа безостановочно продвигалась вперед. Чапаев, повернув из района Бугульмы на Белебей, разбил части отборного корпуса Каппеля. 17 мая концентрированными ударами Белебей был взят полками 31-й дивизии, генерал Каппель побежал на восток. Все понимали: Бугурусланская и Белебеевская операции сорвали весеннее наступление Колчака. Разгромлены Шестой и Четвертый корпуса, Второй и Третий сильно потрепаны. Белогвардейцы отброшены в восточном направлении на сто пятьдесят верст. Успех! Победа… И снова вмешался Самойло. На второй день после взятия Белебея приказал: — Прекратить! Остановиться! Не сметь!.. Через голову Фрунзе он приостановил наступление чапаевской дивизии на рубеже реки Усеня. Фурманов, который теперь стал также биографом и Чапаева, записал:
«Чапаев бранился, все время бранился и выражал неудовольство, преступной считал эту стоянку на Усене… — Я не устал, не устал! — гремел он, стуча кулаком по столу. — Когда попрошу, тогда и давай, а теперь вперед надо… Враг бежит, «следовано» на плечах у него сидеть, а не отдыхать над речкой…»Троцкий на этот раз вмешался самым решительным образом. Он выдвинул новый «стратегический» план: наступление на Восточном фронте приостановить, наиболее боеспособные дивизии его срочно перебросить на Южный против Деникина. Хватит, дескать, воевать с Колчаком, пора переключаться на Деникина. Знают ли о плане Троцкого в ЦК? Знает ли Ильич? Ведь какой бы план Троцкий ни выдвинул, он не может обойти Председателя Совета Обороны. Да, конечно, в Центральном Комитете и в Совете Обороны должны знать. Не могут не знать. Но Троцкий хитер, изворотлив. Обстановка на фронте беспрестанно меняется, и она, дескать, вносит свои коррективы в первоначальные замыслы. Бугурусланская и Белебеевская операции сорвали наступление Колчака, противник отброшен в восточном направлении. И пока мы вытаскивали нос, увяз хвост: Деникин остановил наступление войск Южного фронта, захватил Донецкую область, Донбасс, почти всю Левобережную Украину, вышел в районе Царицына к Волге. Красная Армия откатывается на север. Вот где сейчас главная опасность! Все это звучало весьма убедительно, и требовалось время, чтобы скрупулезно разобраться в сложившейся обстановке. Есть еще Южный фронт, есть Западный, Украинский, на севере дерется Шестая армия; и у каждого фронта свои самые неотложные вопросы, свои заботы. Никто не мог обвинить Троцкого в преднамеренности. Самойло был честным военспецом, и не его вина, а его беда, что он не обладал дальновидностью Фрунзе. Просто он побаивался ответственности, и именно на это уязвимое место в характере, в общем-то, неглупого, знающего генерала бил Троцкий. И как человек честный, Самойло считал нужным поступить так, как, по его мнению, подсказывает обстановка. Но он мешал Фрунзе довести контрнаступление до конца, вносил путаницу. …Троцкий всегда пытается запугать, делает страшные глаза. Нужно разоблачить его по пунктам. Успехи на Восточном фронте могут быть сведены к нулю, если не добить Колчака. Конечно же, Центральный Комитет не утвердит план Троцкого. И все-таки голоса с мест значат многое. Важны детали. Ведь Троцкий и впредь будет ставить палки в колеса, запугивать и в верхах, и в низах. — Мы проявили огромную выдержку. Пора их брать за жабры — и на песок! Будем писать Ильичу. Гусев советует то же, — сказал Куйбышев. Они написали в ЦК протест. Уберите хотя бы Самойло! Возвратите Каменева. В свою очередь Гусев в пространной реляции изложил свое мнение о методах командования Самойло, стремящегося всеми путями ликвидировать Южную группу. Сергей Иванович, возмущаясь поведением Самойло, грудью прикрывал своею любимца:
«В лице тов. Фрунзе мы нашли совершенно исключительный военный талант, товарища с редкими стратегическими способностями, к которым присоединяются выдающийся организационный талант и крепчайшая большевистская и практическая закалка».План Троцкого отвергли. Самойло сняли. Каменев вернулся. Фрунзе и Куйбышев облегченно вздохнули. — Конфликты на фронте, к счастью, не носят затяжного характера. Иначе нельзя было бы воевать, — сказал Михаил Васильевич. Фурманов записал:
«Около — Куйбышев, чуть крепит бессонные темные глаза, встряхивает лохматую шевелюру; они советуются с Фрунзе на лету, они в минуты принимают исторические решения, гонят по фронту, по тылу, в Москву — гонят тучи запросов, приказов, советов».К концу мая войска Южной группы освободили Стерлитамак. Нетерпеливый Чапаев раньше намеченного срока овладел станцией Чишмы. Колчак отошел за реку Белую. Впереди была Уфа. Уфа… Сейчас она сделалась цитаделью белых. Сюда адмирал стянул все лучшее, что осталось от его войск. Все мосты и переправы были взорваны. Мост через Белую Колчак приказал заминировать. На восточном берегу возводились укрепления. Теперь речь шла не о походе на Москву, а о собственном спасении. Северная группа Восточного фронта командарма Шорина потеснила Сибирскую армию генерала Гайды, форсировала Вятку. Все действия Северной и Южной групп были согласованы. Согласование шло мимо и вопреки Троцкому. Троцкий, однако, не унимался. Он предпринял еще один маневр: нужно отвлечь внимание от Уфы и привлечь его к Оренбург-Уральскому району. Положение здесь в самом деле сложилось тяжелое. Уральск оказался в блокаде. Оборонявшая его дивизия стояла насмерть, приковывая к себе целую армию белоказаков. Это была та самая Николаевская, где в свое время вспыхнул мятеж… Белоказаки рвались к Волге, в тыл Южной группы. — Мы предупреждали! Нас не послушались!.. — ликовал Троцкий. Но, оказывается, и эта возможность была учтена Фрунзе. Куйбышев объявил мобилизацию всех мужчин Самарского уезда, занялся формированием боевых частей и добровольческих отрядов, вооружил их. Уральский гарнизон больше подмоги не просил, поклялся биться до последнего. Связь с ним держали по радио. — Вы знаете, какую атаку приходится выдерживать мне, и совершенно незаслуженно, со стороны Троцкого по части обеспечения Оренбург-Уральского района, — жаловался Михаил Васильевич командующему фронтом. — Ряд телеграмм Троцкого только нервирует и лишает возможности спокойно и основательно подготовить и провести операцию. В самый ответственный момент опять поддержал Ильич. Фрунзе получил телеграмму:
«Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все силы».Троцкого отстранили от руководства операциями на Восточном фронте. Он уехал в Москву. Значит, судьба революции по-прежнему зависит от того, что происходит сейчас здесь… Пока адмирал Колчак отсиживался за Белой, Фрунзе разрабатывал план Уфимской операции. Весна была на исходе. На сыртах прыгали желтогрудые овсянки, белые «барашки» на вербах сделались золотистыми, вокруг них роились шмели, зацвел красный паслен. Красноармейцы втыкали в петельки гимнастерок пахучие ветки черемухи. Времена года для Фрунзе как бы перестали существовать сами по себе. Бесконечно усталый, вымотанный, он воспринимал их сейчас опять же только с оперативной и тактической точки зрения. Кончилась распутица, — значит, легче будет с продвижением. Ну а шмели… Когда на человека возложена ответственность за судьбу республики, он не думает о шмелях: его мозг беспрестанно напрягается, мечется в поисках единственно правильного решения. Такой человек не может принадлежать природе, черемухе, звону жаворонков. Всего этого вроде как бы и не существует вовсе. Павел Батурин, встретившись с Фрунзе, не узнал его: на заостренном, почерневшем и бородатом лице лежала тень жесткого вдохновения, и это вдохновение преображало Михаила Васильевича всего. Нет, он не стал более черствым, не глядел поверх головы старого друга; он был по-всегдашнему ласков, оживленно разговаривал, расспрашивал. Но какой-то стороной ума он был там, во власти оперативных раздумий и планов; разговаривая, ворочал в голове дивизиями и полками, строил переправы через Белую — и то было главное. Он сам, Батурин, сотни ивановцев, Чапаев, Фурманов, бригады, армии, пушки, конница — все это лишь кровь и плоть, тот гранит и мрамор, который необходим для воплощения идеи. Собственно, как личность Фрунзе для самого себя не имел никакого значения; сейчас он хотел жить не ради самой жизни, а ради вот этой идеи. Когда Колчак будет разбит наголову, тогда уж неважно будет, жив ты или убит. И Павел Степанович понял, не стал докучать. Сейчас он не имел права претендовать на какое-то особое внимание. Вокруг командующего беспрестанно толпились люди. И не только начальники и командиры. Башкирские и татарские крестьяне, русские поселенцы. Все они добивались разговора с «самым главным», несли свои обиды на кулаков, засевших в Советах. Башкиры и татары допытывались, наказывают ли большевики за мусульманскую веру. Всех этих делегатов можно было бы направить в другие инстанции. Но он не направлял, так как понимал: дело не в самом вопросе, подчас ничтожном, а в том, что Дутов или Каппель приказывают пороть за малейшее непослушание или протест, а Фрунзе говорит с обыкновенным мужичком, как с равным. Конечно, этим простым людям и невдомек, что он задыхается от недостатка времени. Он со всеми ровен и внешне нетороплив. Приезжают даже «оттуда», из-за линии фронта. Посоветоваться. Как-то адъютант доложил, что аудиенции у командующего просит член «войскового Дутовского правительства» некто Богданов, с ним делегация. Михаил Васильевич был слегка озадачен, однако распорядился накрыть стол. Тут уж не просто политика, а дипломатические переговоры. Делегаты оказались седобородыми бабаями, в «правительство» их выбрали оренбургские казаки-татары. Они же направили к «Пурунзо и Койбаши» узнать про Советскую власть, выяснить, можно ли будет при Советской власти молиться по-старому, своим богам и пророкам, и что нужно делать, чтобы скорее прогнать Дутова, солдаты которого грабят и насилуют. Михаил Васильевич два часа рассказывал бабаям о политике Советской власти, а потом повез их в татарскую бригаду. В Москве за каждым оперативным шагом Фрунзе следит Ленин. Он не сомневается, что в самом скором времени Уфа будет взята. В руках Ильича — маленький красный флажок на булавке. Это — штаб Фрунзе, это как бы сам Фрунзе. Вот Фрунзе в Бугуруслане, вот он уже в Бугульме, затем в Белебее, сейчас красные войска скатились с Бугульминско-Белебеевской возвышенности в долину реки Белой. Шагает упрямый флажок по ленинской карте. На всей карте этот красный флажок сейчас самый главный. О том, что Уфу нужно взять без промедления, думает и Фрунзе. Колчак поклялся взять Москву; Фрунзе поклялся взять Уфу. Но он знает, как это невероятно трудно. Сперва под огнем противника нужно форсировать Белую, а переправочных средств нет, и взять их неоткуда, нет опыта преодоления таких крупных водных преград. Есть, правда, хороший план: сразу после форсирования охватить уфимскую группировку противника с юга и с севера, а конницей отрезать ей путь отступления. Адмирал Колчак… Фрунзе никогда не встречался с ним. И странное дело: к личности Колчака никакого интереса не было. Как-то разведчики принесли листовку с портретом «правителя». Фрунзе бросил рассеянный взгляд на листовку и через минуту забыл о ней. Один из разведчиков сказал: — Сухой, как борзая, — никакой представительности, морду будто через рубель пропустили. А еще в царьки лезет. Поглядим, какой ты в деле. — Ему што, — отозвался другой. — А у нас што?.. — Што, што, а то, што приперли его, вот што. А ежели увидел што, то держи язык за зубами, не распускай панику. Хвалилась синица море зажечь. Так и твой адмирал… По уточненным данным разведки, выходило, что на уфимском направлении у противника сорок тысяч штыков и сабель и сто сорок орудий. У Фрунзе было всего сто орудий. Зато он смог стянуть под Уфу почти пятьдесят тысяч войска. И если бы не река Белая… Сто пятьдесят — триста метров. Что такое — триста метров? В мирное время — почти ничего. На войне — очень много. А если это водная преграда под артиллерийским обстрелом — то очень, очень много. Он отдал приказ войскам Туркестанской армии:
«Бросая вас нынче вновь в наступление, я хочу напомнить о том, что вы им решаете окончательный спор труда с капиталом, черной кости с костью белой… Наш первый этап — Уфа; последний — Сибирь, освобожденная от Колчака».Человек в канцелярии большого начальства и человек в своей стихии, при исполнении своего дела, которое для него составляет смысл жизни, — это, по сути, два разных человека. Михаил Васильевич хорошо запомнил тот день, когда Чапаев, утративший веру в штабы и в высокое армейское начальство, робко попросил принять его. Теперь перед ним был совсем другой Чапаев. Чапаев на коне. Чапаев, воодушевленный победами, смуглый, обветренный, весело и зло сверкающий синими глазами, сухощавый и ловкий, как черкес. Молодой, полный нерастраченных сил Чапаев. Василию Ивановичу тридцать два. В нем как бы воплощена стремительность переживаемого времени. У него удивительная способность выходить на первое место, захватывать инициативу; если чапаевская дивизия выполняет даже второстепенную задачу на второстепенном направлении, в итоге оказывается: Чапаев продвинулся дальше и быстрее всех, и направление, на котором он действовал, таким образом, стало главным, решающим. В нем безбрежная удаль, бешеное самолюбие и гордость. Он сродни ветру, гуляющему по степи. Но это только одна сторона его личности. Ему доверен сложный армейский организм — дивизия. Что из себя представляет чапаевская дивизия? Это не просто ватага лихих парней, которая врывается в села и уральские городки и рубит беляков. В подчинении у Василия Ивановича три бригады (в одну из них входит Иваново-Вознесенский стрелковый полк), авиаотряд, отряд броневиков, инженерный батальон и отдельная саперная рота, отдельный горный артиллерийский дивизион, батальон связи, два кавалерийских дивизиона, артиллерия. Вполне самостоятельная единица. Командуя дивизией, ошибаться нельзя — оперативное время для дивизии предельно ограничено, исход всего решает время тактическое, самое скоротечное время. Во главе дивизии — Чапаев на своем месте. Фрунзе пытается представить Чапаева во главе армии. Не заскучает ли? Не заскучает. Пора, пора выдвигать Василия Ивановича… Если кажется, что человек на своем месте, это еще не значит, что его возможности ограничены определенными рамками. Возможности ведь проявляются в деле, они не даны раз навсегда в готовом виде. Чапаевская дивизия находилась на самом берегу Белой в селе Красный Яр, в двадцати пяти верстах севернее Уфы. Сюда прибыл Фрунзе. Сперва он замышлял главный удар нанести правым флангом Туркестанской армии в обход Уфы с юга. Но когда убедился, что правый фланг успеха не имеет, а Чапаев, как всегда, опередил всех и успел занять плацдарм на том берегу, выбив противника и даже захватив у него два парохода, все надежды перенес на левый фланг, на Чапая. Хитроватый Василий Иванович, играющий иногда в этакого простачка, сделал вид, что страшно удивлен приездом командующего, и все допытывался: а как там, на правом фланге, Уфу, наверное, уже обошли, и нужно торопиться тут с форсированием, а то, чего доброго, опоздаешь… Михаил Васильевич посмотрел на него и рассмеялся. Сказал: — Ну кто может тягаться с Чапаевым в быстроте и натиске? Нет таких. Один Кутяков у вас чего стоит! Я думаю так: нечего нам тут прохлаждаться у речки. Составим ударную группу во главе с Кутяковым, введем в нее иваново-вознесенцев, разинцев и пугачевцев, дадим кавполк, всю авиацию и все броневики — и ударим по Уфе! Чапаев расцвел в улыбке: такого приказа он и ждал все последние дни. — Буду в Уфе через двадцать четыре часа! Может быть, он несколько переоценивал возможности своей дивизии, но перед боем лучше переоценить, чем недооценить.
 Переправа через Белую началась ночью. Неясно проступал из темноты противоположный крутой берег. Там чапаевцы занимали ничтожный пятачок, а дальше над ними дыбились кручи, где были окопы и проволочные заграждения противника. Бесшумно погрузился на пароходики Иваново-Вознесенский полк. За ним грузились пугачевцы.
Переправой руководили Фрунзе и Чапаев. Все обошлось без единого выстрела. С рассветом Михаил Васильевич приказал открыть артиллерийский огонь. После артподготовки ивановцы пошли в штыковую атаку на деревню Новые Турбаслы, пугачевцы — в обход с юга.
Михаил Васильевич не мог больше оставаться на место: пустил коня вплавь через реку. Выбравшись с Кутяковым на берег, они сразу оказались в гуще боя. Противнику удалось потеснить ивановцев, у которых вышли все патроны. Полк откатывался к реке.
Фрунзе спрыгнул с коня, взял у ординарца винтовку и бросился вперед.
— Ивановцы, за мной, в атаку!
Его узнали: «В цепи Арсений!» Он всегда был с ними, и всегда впереди. И сейчас он был с ними, вот тут. То, что случилось потом, явилось полной неожиданностью для противника: ивановцы, как по команде, остановились, повернули и с криками «Ура Арсению!» пошли в штыковую атаку. Это была не просто атака, это была исступленная драка штыком, прикладом, голыми руками. Противник не выдержал, выскочил на шоссе и побежал на Уфу.
На переправу Михаил Васильевич вернулся с двумя винтовками.
— Вот взял трофеи.
Иван Кутяков, однако, в восторг не пришел. За свои двадцать два года Кутяков повидал немало, его любили за удаль и за сметку, за то, что лихо играл со смертью, бросая свою бригаду в лоб на противника; он ценил личную храбрость в других; но сейчас Кутяков про себя осуждал поступок Михаила Васильевича. Командующий не должен поддаваться порыву, сломя голову бросаться наподобие рядового в атаку. Это прямо-таки никуда не годится! Командующий обязан быть смелым в своих оперативных и тактических замыслах. Здесь-то в смелости Фрунзе упрекнуть нельзя. Но зачем подставлять голову под пулю? Даже трудно передать в словах, что пережил Кутяков за те полчаса, пока командующий с винтовкой наперевес гонялся за беляками! Кутяков, конечно, не имеет права выговаривать командующему. Все, что он мог сделать, это послал своих лучших ординарцев с наказом: если ранен или убит, немедленно доставить на переправу.
У Ивана Кутякова была личная привязанность к Михаилу Васильевичу. У Фрунзе Кутяков перенял одну военную истину, которая всякий раз на практике давала поразительный эффект: при всех операциях, особенно против конных частей неприятеля, не дробить полков; при наступлении действовать сосредоточение, имея сильные резервы. Если разобраться, совет простой. Но почему подобная мысль никому до сих пор не приходила в голову? А Фрунзе понял, возвел правило в силу тактического закона. Совсем недавно Фрунзе наградил Ивана золотыми часами. Как ни радовался Кутяков такой бесценной награде, во сто крат обрадовало другое: мимо зоркого глаза командующего не проходит ничего. Разбила бригада Кутякова Ижевскую бригаду Колчака — сразу на место событий приехал Фрунзе, в торжественной обстановке вручил красноармейцам и командирам награды, ордена. Ивану сказал:
— Комбриг без часов — почти не командир. Вот вам от Реввоенсовета фронта!
И все это было хорошо и красиво, на виду у всех. Но зачем все же Фрунзе пошел в атаку?..
Патронов и гранат подбросили. Бой развивался успешно. Сейчас самым уязвимым местом, пожалуй, была переправа — тонкая ниточка, соединяющая оба берега. Кто на пароходах, кто на плотах и лодках, кто вплавь на лошади — перебирались красноармейцы на плацдарм, который беспрестанно расширялся. На том, нашем, берегу, руководить переправой Фрунзе оставил Чапаева. Фрунзе должен был находиться на плацдарме, чтобы непосредственно руководить бригадами и полками, прикрывать конницей и артиллерией слабые участки. Много возни было с броневиками: их чуть ли не на руках переносили на шоссе.
Благодаря распорядительности Василия Ивановича, форсирование шло успешно. Противник, спохватившись, бросил на Красный Яр авиацию. Самолеты шли низко, швыряли бомбы, обстреливали переправу из пулеметов. В них палили из винтовок.
Собственно, все действия Фрунзе объяснялись его нетерпением, желанием любой ценой создать перелом здесь, под Уфой, выбить из города противника в возможно короткие сроки. Потому-то, выделив четыре дивизии и взяв их под свое личное руководство, он решил сам вести операцию за овладение Уфой. И не только стремление к победе во что бы то ни стало подгоняло его. Он думал об Уральске, который, будучи отрезанным от баз снабжения, доживал последние дни. Месяц назад Фрунзе послал радиограмму защитникам Уральска:
Переправа через Белую началась ночью. Неясно проступал из темноты противоположный крутой берег. Там чапаевцы занимали ничтожный пятачок, а дальше над ними дыбились кручи, где были окопы и проволочные заграждения противника. Бесшумно погрузился на пароходики Иваново-Вознесенский полк. За ним грузились пугачевцы.
Переправой руководили Фрунзе и Чапаев. Все обошлось без единого выстрела. С рассветом Михаил Васильевич приказал открыть артиллерийский огонь. После артподготовки ивановцы пошли в штыковую атаку на деревню Новые Турбаслы, пугачевцы — в обход с юга.
Михаил Васильевич не мог больше оставаться на место: пустил коня вплавь через реку. Выбравшись с Кутяковым на берег, они сразу оказались в гуще боя. Противнику удалось потеснить ивановцев, у которых вышли все патроны. Полк откатывался к реке.
Фрунзе спрыгнул с коня, взял у ординарца винтовку и бросился вперед.
— Ивановцы, за мной, в атаку!
Его узнали: «В цепи Арсений!» Он всегда был с ними, и всегда впереди. И сейчас он был с ними, вот тут. То, что случилось потом, явилось полной неожиданностью для противника: ивановцы, как по команде, остановились, повернули и с криками «Ура Арсению!» пошли в штыковую атаку. Это была не просто атака, это была исступленная драка штыком, прикладом, голыми руками. Противник не выдержал, выскочил на шоссе и побежал на Уфу.
На переправу Михаил Васильевич вернулся с двумя винтовками.
— Вот взял трофеи.
Иван Кутяков, однако, в восторг не пришел. За свои двадцать два года Кутяков повидал немало, его любили за удаль и за сметку, за то, что лихо играл со смертью, бросая свою бригаду в лоб на противника; он ценил личную храбрость в других; но сейчас Кутяков про себя осуждал поступок Михаила Васильевича. Командующий не должен поддаваться порыву, сломя голову бросаться наподобие рядового в атаку. Это прямо-таки никуда не годится! Командующий обязан быть смелым в своих оперативных и тактических замыслах. Здесь-то в смелости Фрунзе упрекнуть нельзя. Но зачем подставлять голову под пулю? Даже трудно передать в словах, что пережил Кутяков за те полчаса, пока командующий с винтовкой наперевес гонялся за беляками! Кутяков, конечно, не имеет права выговаривать командующему. Все, что он мог сделать, это послал своих лучших ординарцев с наказом: если ранен или убит, немедленно доставить на переправу.
У Ивана Кутякова была личная привязанность к Михаилу Васильевичу. У Фрунзе Кутяков перенял одну военную истину, которая всякий раз на практике давала поразительный эффект: при всех операциях, особенно против конных частей неприятеля, не дробить полков; при наступлении действовать сосредоточение, имея сильные резервы. Если разобраться, совет простой. Но почему подобная мысль никому до сих пор не приходила в голову? А Фрунзе понял, возвел правило в силу тактического закона. Совсем недавно Фрунзе наградил Ивана золотыми часами. Как ни радовался Кутяков такой бесценной награде, во сто крат обрадовало другое: мимо зоркого глаза командующего не проходит ничего. Разбила бригада Кутякова Ижевскую бригаду Колчака — сразу на место событий приехал Фрунзе, в торжественной обстановке вручил красноармейцам и командирам награды, ордена. Ивану сказал:
— Комбриг без часов — почти не командир. Вот вам от Реввоенсовета фронта!
И все это было хорошо и красиво, на виду у всех. Но зачем все же Фрунзе пошел в атаку?..
Патронов и гранат подбросили. Бой развивался успешно. Сейчас самым уязвимым местом, пожалуй, была переправа — тонкая ниточка, соединяющая оба берега. Кто на пароходах, кто на плотах и лодках, кто вплавь на лошади — перебирались красноармейцы на плацдарм, который беспрестанно расширялся. На том, нашем, берегу, руководить переправой Фрунзе оставил Чапаева. Фрунзе должен был находиться на плацдарме, чтобы непосредственно руководить бригадами и полками, прикрывать конницей и артиллерией слабые участки. Много возни было с броневиками: их чуть ли не на руках переносили на шоссе.
Благодаря распорядительности Василия Ивановича, форсирование шло успешно. Противник, спохватившись, бросил на Красный Яр авиацию. Самолеты шли низко, швыряли бомбы, обстреливали переправу из пулеметов. В них палили из винтовок.
Собственно, все действия Фрунзе объяснялись его нетерпением, желанием любой ценой создать перелом здесь, под Уфой, выбить из города противника в возможно короткие сроки. Потому-то, выделив четыре дивизии и взяв их под свое личное руководство, он решил сам вести операцию за овладение Уфой. И не только стремление к победе во что бы то ни стало подгоняло его. Он думал об Уральске, который, будучи отрезанным от баз снабжения, доживал последние дни. Месяц назад Фрунзе послал радиограмму защитникам Уральска:
«Помощь вам идет… В ближайшие недели уральской контрреволюции будет нанесен последний, сокрушающий удар».На помощь осажденному городу он послал отряд Плясункова, кавалерийскую дивизию и стрелковую бригаду. Но это не решит судьбу Уральска. Да, после успешного завершения Уфимской операции чапаевскую дивизию надо перебросить на Уральский фронт… Чапай все может! Что ни день, Каменев шлет телеграммы: когда займетесь Уральском? Приходится успокаивать: подождите, мол, пошлем туда чапаевскую дивизию. Каменев недоумевает: а что это даст? Почему такая исключительная вера в Чапаева? Авксентьевского с его Четвертой армией окружили, а что в таком случае может сделать Чапаев? И Фрунзе отвечает, разозлившись вконец, что его отвлекают от главного: «Чапай все может!» После этого Сергей Сергеевич умолкает. Пользуясь званием члена ВЦИК, Фрунзе отправил телеграмму Владимиру Ильичу, в которой просил поддержать дух гарнизона осажденного Уральска:
«Полагал бы целесообразным посылку приветственной телеграммы лично Вами. Телеграмму можно прислать на штаб Южгруппы, который передаст по радио».Фрунзе знает: получив приветствие Ильича, уральцы будут драться до последнего дыхания. Командующий даже в то время, когда он руководит ходом операции, думает о многих вещах, казалось бы, не имеющих прямого отношения к делу. Например, об авиации. В авиачастях Южной группы почти нет горючего, потому и невозможно вести воздушную разведку. В Москве снабжением горючим ведает Склянский. Фрунзе засыпал Склянского телеграммами: требуется всего тысяча пудов авиасмеси или хотя бы сто пудов эфира. Сто пудов эфира… Звучит смешно. Но когда аэропланы не могут взлететь, а их приходится повсюду таскать за собой, вовсе не смешно. Авиаотрядами придется заняться особо, сделать их чисто боевыми единицами, освобожденными от всяких хозяйственных забот. То же самое предлагает начальник авиации Южной группы опытный летчик Никольский… Полгода фронтовой жизни — это целое новое мировоззрение. Лишь на войне человек освобождается от огромной массы иллюзий и предрассудков, сковывающих разум. На войне оппортунизм невозможен — за него пришлось бы слишком дорого расплачиваться. Факты здесь ясные, как день, властные, как море, убедительные до последней степени, отношения представлены в чистом виде, в их ничем не прикрытой классовой сущности… …Воздушной волной Фрунзе вышибло из седла. Сноп зеленых брызг ударил в глаза, земля раскололась. Он потерял сознание, не видел, что его гнедого дончака разорвало авиабомбой на куски. Пришел в себя уже в Красном Яру. Голову ломило, весь в бинтах. — Где Чапаев? Кто-то из ординарцев доложил: — Товарищ Чапаев ранен с аэроплана пулей в голову. — Жив? — Жив. Пуля застряла в кости. Шесть раз вынимали, все не могут вынуть. Увезли в Авдонь. — Передайте Кутякову: пусть вступает в командование дивизией. Встретимся завтра в Уфе. Через полчаса буду на своем командном пункте. …И они в самом деле на другой день встретились в Уфе. Все: Фрунзе, Чапаев, Кутяков, Фурманов. Кутяков рассказывал о психической атаке каппелевцев. В бою полегло более трех тысяч белогвардейцев. Главные силы Западной армии белых были разгромлены. Политотдельцы успели выпустить листовку. Там были помещены хорошо известные стихи, только переделанные на новый лад:
Был враг Колчак — и где колчаки?..
Был англичанин — и француз.
Был сей, был тот — их нет, а Русь…
Всяк знай, мотай себе на ус.
«Из двух клятв, что скрестились на уфимских холмах, сбылась одна: ворота к Сибири распахнуты настежь».Фрунзе сказал: — Вертится!.. Чапаев подмигнул Кутякову, тот исчез на несколько минут и вернулся, держа под уздцы танцующего жеребца с длинным туловищем, сухой головой и умными фиолетовыми глазами. Конь Чапаева. Предмет давней тайной зависти Фрунзе. Василий Иванович сказал: — Вашу лошадку убило. Возьмите. Не по службе, а потому, что так надо. Михаил Васильевич порывисто вскочил на ноги. — Никогда! Это же ваш боевой друг. — То-то и оно, что друг. Да не ворогу ж я его отдаю. Я, может, души в нем не чаю, души не жалею, а его, стервеца, жалею. Он мне вроде дитяти малого. Сберечь хочется. А как его сбережешь, если себя не бережешь? У вас-то он целее будет. Богом прошу, не отказывайтесь. Но Фрунзе наотрез отказался. Два дня спустя после того, как чапаевская дивизия двинулась на выручку осажденного Уральска, Михаил Васильевич получил от Чапая короткую записку: «Вверяю Вам своего любимца». Ординарец, доставивший записку, примчался на чапаевском жеребце. Фрунзе хотел отослать ординарца с конем обратно, но ординарец взмолился: — У меня направление в госпиталь — перебита нога. Еле добрался. Да и не угнаться теперь за Чапаевым. Коня пришлось оставить.
К ЗВЕЗДАМ ТУРКЕСТАНА
Ум и воля Фрунзе выиграли небывалую в истории военного искусства битву. Величие ее определяется не размахом (хотя был и размах), а значением для судеб неокрепшего Советского государства. И результатами. Это была окончательная победа на главном из фронтов, который после трехмесячного наступления перестал быть главным. Взяты Златоуст, Екатеринбург, Челябинск, Ирбит, Троицк, Тюмень… Весь Урал! После этого частям Восточного фронта оставалось только гнать Колчака до Иркутска, где «верховный правитель» был арестован восставшими рабочими и казнен. Но это было потом, в начале двадцатого года. А сразу после завершения Уфимской операции Фрунзе неожиданно вызвали в штаб фронта. Михаил Васильевич был несколько раздосадован: в самое горячее время отзывают, чтобы прочитать очередную нотацию по поводу Уральска… Удивило выражение лица Сергея Сергеевича Каменева: торжественно-кислое, несколько даже недоуменное, расстроенное и в то же время именно торжественное. Бывает такое выражение. — Что случилось, Сергей Сергеевич? — Все очень хорошо. Даже больше чем хорошо. А когда чересчур хорошо, то это уж совсем плохо. Поздравляю вас, а вы соответственно поздравьте меня. Во-первых, позвольте поздравить вас с высокой наградой: орденом Красного Знамени. Поздравьте от моего имени Василия Ивановича Чапаева: по вашему ходатайству все его полки награждены Красными знаменами ВЦИК, сам Чапай — орденом Красного Знамени. А во-вторых, во-вторых… принимайте Восточный фронт. Вот постановление Совета Рабоче-Крестьянской Обороны за подписью Ильича. — А вы? — Я? Страшно сказать: назначили главкомом всеми вооруженными силами. — Так это же прекрасно! Поздравляю от всей души. — Вот видите, как былинные богатыри: растем не по дням, а по часам. Чего бы вы лично хотели от нового главкома? Как в сказке. Просите, требуйте, пока не забюрократился. Фрунзе прищурился. — Обещаете? — Торжественно клянусь. — Сто пудов эфира. — А что это такое: что-нибудь наподобие птичьего молока? — Приедете в Москву, позовите некоего Склянского и прикажите: для Фрунзе сто пудов эфира! — Хоть двести! — Э-э, на радостях вы чего угодно наобещаете. Сто — и ни грамма больше. Они шутили, смеялись, хотя обоим было не до шуток. Тепло простившись, разъехались: Каменев — в Москву, Фрунзе — в полевой штаб. Хозяин целого фронта… Теперь уже официально. И если всего полгода назад имя Фрунзе как полководца никому не было известно, то теперь о нем заговорили как о военной величине первого ранга. Радовало ли это его самого? Он был человек несуетный и трезво оценивал свои успехи. Он знал: успехи были бы невозможны, если бы он не начал воспитывать свою рабочую армию еще с пятого года, если бы эту огромную армию не воспитывал десятилетиями Ленин. Действующие лица оставались все те же: пролетариат и капитал. Пролетариат вместе со своими союзниками одерживал сейчас победу за победой. И это закономерно. Да и не может быть по-другому. Что изменилось от того, что Фрунзе стал командующим фронтом? Рядом по-прежнему старая гвардия: иваново-вознесенцы, Волков, Любимов, Батурин, Фурманов. Рядом Новицкий, Авксентьевский, Сиротинский. Рядом Куйбышев, Гусев, Чапаев, Тухачевский. Успех тысяч людей нельзя приписывать одному. Ценность лавровых венков ему всегда казалась сомнительной. И когда в политотдельской газете прочитал о себе и о Чапаеве: «Красные герои», вызвал редактора и мягко сказал: — Обо мне так писать не следует. Выходит, что вы собственное начальство нахваливаете. Редактор смутился. Он был молод, и Фрунзе представлялся ему самым большим героем. Радовала относительная независимость. Теперь легче будет осуществлять свои оперативные замыслы. Разбитые части Колчака отступали по двум направлениям: те, кто уже не мог оказывать сопротивления, — вдоль Сибирской железной дороги, на Иркутск; сохранившая боеспособность южная группа генерала Белова — на юго-восток, на Туркестан. Таким образом, Восточный фронт как бы лопнул, разорвался и грозил растянуться на тысячи и тысячи верст. Когда 9 августа была взята Тюмень, находящаяся далеко за Уральским хребтом, а генерал Белов откатился в Орско-Актюбинский район, Фрунзепочувствовал себя в роли охотника, бегущего за двумя зайцами сразу. На Урале и в Оренбуржье закрепилась белоказачья армия генерала Толстова. Эти две группы блокировали дорогу на Туркестан. Сейчас они были главным противником. Они могли захватить Туркестан, могли соединиться с Деникиным, начавшим поход на Москву. Фрунзе неоднократно предлагал организовать самостоятельный Туркестанский фронт, выделив его хотя бы из Восточного. Ездил с обоснованием своего проекта в Москву. И теперь, когда Восточный фронт утратил былое значение, Фрунзе пошли навстречу. Ровно через месяц после отъезда Каменева пришла телеграмма: назначаетесь командующим Туркестанским фронтом! И все встало на свое место. Появилось туркестанское направление. Какими силами располагал теперь Фрунзе? Практически двумя армиями: Четвертой и Первой. С Тухачевским пришлось проститься. — В старые времена хан, умирая, завещал детям, какие стороны света они должны завоевать, — сказал Михаил Васильевич Куйбышеву. — Мы с вами в положении таких наследников: нам подчиняется все то, что в самом Туркестане, отрезанном Беловым, и еще Астраханская группа войск. Кстати, некто Тимур, или Тамерлан, мой земляк, в 1391 году около Самары разбил войско Тохтамыша, чем объективно способствовал освобождению русских княжеств от татарского ига. А нам придется освобождать родину Тимура от ига царских адмиралов и генералов, претендентов на престол. Вот вам исторический парадокс. Валериан Владимирович теперь был членом Реввоенсовета нового фронта. Их штаб по-прежнему находился в Самаре. Фурманова перевели в политуправление фронта. Вместо него к Чапаеву направили комиссаром Павла Степановича Батурина. На Исидора Любимова возложили обязанность снабжать армии всем необходимым. Федор Федорович Новицкий исполнял обязанности начальника штаба. Авксентьевский — заместителя командующего фронтом. Да, все были на своих местах. Бодрое настроение не покидало Фрунзе. Он снова был воодушевлен, захвачен неслыханными по изощренности оперативной мысли планами. Встречаясь с иваново-вознесенцами, он испытывал к ним родственное чувство, это была его самая прочная опора — островок «Красной губернии», потому-то и посылал их на самые трудные дела, продолжал пестовать. Когда все закончится, он вместе со всем полком, с Фурмановым, Любимовым, Батуриным, Волковым, а может быть, и с десятками других, с теми же Чапаевым, Кутяковым и Плясунковым, вернется в «Красную губернию», и, раз навсегда упрочив великий хлопковый путь из Туркестана, они с такой же страстью и энергией будут одевать в ситцы раздетую республику. А может, Чапая, Кутякова, Плясункова придется все же послать в военную академию. Степные орлы, получив военное образование, станут вожаками невиданных по организации и оснащению техникой армий, которым придется столкнуться с капиталом в грядущих последних боях… А пока он поведет иваново-вознесенцев в страну хлопка, зноя и песков. Туркфронт… Ковыльные, безводные пространства, овеянные ветрами. Прыгают, мечутся по равнинам и сыртам колючие шары перекати-поле. Туркфронт — это не нечто конкретное, резко очерченное. Туркфронт — дело фантазии, стремление объять необъятное. От берегов Каспия до китайской границы. На юге Туркестан граничит с Персией, Афганистаном. Это вся Средняя Азия. Туркфронт — это вообще. На практике существует Туркфронт Фрунзе — от Астрахани до Оренбурга, до беспрестанно меняющегося правого фланга Восточного фронта. Разрабатывая новые оперативные планы, он опять же исходил из обстановки, которая властно требовала: не допустить соединения южной армии колчаковца Белова с Деникиным, оказать помощь Южному фронту Красной Армии. Против генерала Белова Фрунзе бросил Первую армию Зиновьева. Удар был неожиданным — Белов стал отходить на Актюбинск. Но Туркфронт располагал также войсками, находящимися на территории Средней Азии. Вот этим войскам, которыми командовал Астраханцев, Фрунзе приказал идти наперерез Белову. Белов оказался зажатым с двух сторон. Политработники, бесстрашно проникшие в тыл врага, подняли восстание колчаковских солдат в Актюбинске. Фрунзе обратился к уральскому и оренбургскому казачеству с предложением сложить оружие. Началось массовое дезертирство из белой армии. Пятьдесят пять тысяч человек сложили оружие. После того как Башкирская кавбригада вместе со своим командиром Муртазиным и Оренбургская стрелковая дивизия перешли на сторону Фрунзе и вступили в бой против белых, были взяты Орск и Актюбинск. Генерал Белов скрылся в неизвестном направлении. Туркестанская республика соединилась с РСФСР. Вся операция заняла ровно месяц. Быстрый стремительный маневр на окружение в сочетании с политической работой принес быстрый успех. О победе Фрунзе доложил Ленину. Путь на Туркестан расчищен! Великий хлопковый путь… Оставалось открыть сквозное железнодорожное движение Оренбург — Ташкент. Оставалось еще кое-что: разбить уральскую белоказачью армию Толстова, насчитывающую десять тысяч конницы и почти столько же пехоты. Это была предельно маневренная армия. Она применяла партизанские методы войны, неожиданно нападая и рассеиваясь в степи. Ей Фрунзе мог противопоставить Четвертую армию, в составе которой значилась лишь одна кавдивизия. Но в этой армии теперь были Чапаев, иваново-вознесенцы, Батурин! Недавно Фурманов написал Чапаеву:«Здравствуй, дорогой Чапаев. Ты едва ли поверишь тому, как я скучаю по дивизии. Усадили меня помощником заведующего политодом Туркестанского фронта — ну, сижу и работаю… Бывало, летаем с тобой по фронту, как птицы, — дух занимает, жить хочется, хочется думать живее, работать отчаянней, кипеть, кипеть и не умолкать».После взятия Уфы Фрунзе послал Чапаева на выручку осажденного Уральска. Разбив конный корпус генерала Савельева, Двадцать пятая ворвалась в Уральск, защитники которого держались до последнего. Почти трехмесячная блокада кончилась. Чапаевцы стали героями дня. Жители окрестных сел ходили за Василием Ивановичем толпами, просили: — Хоть одно словечко скажи: будут еще казаки идти, или ты, голубчик, прогнал их вовсе? Чапаев получил приказ взять город Лбищенск. В это время командующим Четвертой армией стал другой человек; Авксентьевского Фрунзе назначил своим заместителем. Из Лбищенска казаков чапаевцы выбили, но преследовать их не смогли: далеко отстала соседняя дивизия, которая обеспечивала правый фланг Двадцать пятой, кончились боеприпасы. Чапаев докладывал новому командующему: «Держаться на занимаемых позициях нельзя без патронов, можно погубить всю дивизию». Вместо патронов пришел приказ: наступать на Сахарную и Калмыковск. Три группы войск, которые создал Чапаев, оказались разбросанными почти на двести верст друг от друга, это крайне затрудняло управление ими. Кроме того, работники штаба армии стали отдавать приказы группам через голову начдива. С некоторых пор чапаевскую дивизию стали преследовать неудачи. Не знал Василий Иванович, что самый опасный враг притаился внутри дивизии, и это был человек, которому Чапаев очень доверял, — командир Второй бригады Зубарев, которого Василий Иванович сделал начальником правофланговой группы. От действий этой основной группы зависело во многом успешное продвижение дивизии. Кулацкий сынок Зубарев давно снюхался с белоказаками и теперь делал все возможное, чтобы погубить дивизию. Именно Зубареву Чапаев поставил задачу ударом с фланга и тыла занять Сахарную. Группа Зубарева действовала медленно, нерешительно. Она поставила под удар приданную Первую бригаду Пятидесятой дивизии, где находились Чапаев и комиссар Батурин. Василию Ивановичу и комиссару пришлось драться как рядовым, с винтовками в руках. Бригада понесла значительный урон, белые захватили весь обоз и второй эшелон политотдела Иваново-Вознесенского полка, политработников изрубили шашками. Чапаев был взбешен. Он послал Зубареву приказ наступать правым флангом на Каршинский, чтобы помочь Первой бригаде. Но Зубарев только усмехнулся: «Попался, Чапай, в ловушку!..» С большими потерями Первая бригада взяла Сахарную. В атаку ее вели Чапаев и Павел Батурин. Василий Иванович пока не догадывался, в чем дело. Но Зубарева снял. Правую группу передал Ивану Кутякову. Зубарев притих, смешался с красноармейской массой. Он стал терпеливо ждать своего часа. Дивизия наступала с открытыми флангами. Шли по безводной степи в тридцатиградусную жару. Начались эпидемии тифа и желтухи. Резервов у Чапаева не было, и он не мог прикрыть тыл дивизии. Связи между собой группы по-прежнему не имели. Чапаев со своим штабом находился в Лбищенске. Василий Иванович понимал, что оказался оторванным от своих основных сил, стал требовать от штаба армии свести дивизию воедино. Но в штабе слишком были увлечены видимым успехом. — Пусть группы преследуют отступающего врага! — Но их разобьют поодиночке! — Не разобьют. Зачем пускаться в панику. Выполняйте приказ. Вы — красный герой, а красному герою не к лицу проявлять трусость накануне великих побед. Деникин вон к Курску подошел. Нужно проявить небывалый героизм. Чапаев решил обратиться прямо к Фрунзе. К прямому проводу подошел Куйбышев. Михаил Васильевич в это время был занят разгромом остатков южной армии Белова. Только что взяли Актюбинск. — Моя дивизия до сих пор не разбита лишь из-за нерасторопности врага, — передал Чапаев. — Раньше я ждал катастрофы со дня на день, теперь я жду ее с часу на час. — Почему так поздно обратились? Хорошо, я разберусь, товарищ Чапаев. Валериан Владимирович накануне вернулся из Астрахани, где вместе с Сергеем Мироновичем Кировым проводил реорганизацию Астраханской группы в Одиннадцатую армию. Членом Реввоенсовета новой армии должен был стать Киров. Куйбышеву Фрунзе предложил взять хотя бы временно командование армией на себя. Перед Одиннадцатой стояла важная задача: отвлечь часть сил Деникина и тем оказать помощь Южному фронту. — Немедленно возвращайтесь в Астрахань, — сказал Фрунзе Валериану Владимировичу, — а я приеду к вам в первых числах сентября. Пора переходить в наступление и на царицынском направлении. И как ни был занят Куйбышев астраханскими делами, он сразу же связался со штабом Четвертой армии. Его заверили, что меры будут приняты в срочном порядке. За Чапаева нечего беспокоиться… Но было уже поздно. Случилось именно то, чего так опасался Василий Иванович. В Лбищенске в распоряжении штаба находилось триста курсантов дивизионной школы — вот и все. Необученная молодежь. Чутьем старого разведчика угадывая, что катастрофа близка, Василий Иванович посылал во все стороны разъезды и даже самолеты. Но вроде бы больших скоплений противника нигде поблизости обнаружено не было. До фронта — восемьдесят километров. Иногда появлялись разъезды белоказаков, но это было в порядке вещей. На них просто не обращали внимания. С одним из таких разъездов ночью повстречался Зубарев. Он сообщил, что охрану Лбищенска несет дивизионная школа Чекова — отдельными малочисленными заставами, удаленными друг от друга. Телефонной связи между ними нет. Штаб имеет телеграфную связь лишь с группой Кутякова. К городу лучше всего подойти пересохшим руслом Кушума, укрыться можно в камышовых зарослях урочища Кузда-Гора. Днем 4 сентября Чапаев вместе с Батуриным выехали на автомобиле в расположение Первой бригады. Как оказалось, красноармейцы-здесь три дня не получали хлеба. Возникло недовольство. Погасив конфликт в самом зародыше, сильно усталые, Василий Иванович и комиссар за полночь вернулись в Лбищенск. Здесь все было спокойно. Но какое-то неясное предчувствие томило Батурина: он посоветовал Василию Ивановичу усилить караулы. Белоказаки ворвались в город в половине второго. Их было много, очень много — пять тысяч, а может быть, и больше. Конные отряды. До рассвета дрались курсанты. Погиб начальник дивизионной школы Чеков, погиб его сын-красноармеец, пуля сразила комиссара штаба Крайнюкова. Сам Чапаев, раненный в голову, в живот и руку, руководил боем на Соборной площади. Батурину удалось отбить у противника два пулемета. Павел Степанович решил спасти истекающего кровью начдива. Приказал переправить его через Урал. И пока Чапаева несли к реке, Батурин отбивался. Целый конный отряд налетел на комиссара. Его расстреливали в упор, рубили шашками. В горло и в живот воткнули шашки и штыки. Потом ухватили за ноги, били головой о стену, рвали, резали одежду, изрубили на куски. Красноармейцы внесли на руках Чапаева в холодные воды Урала. Порученец Петр Исаев сдерживал огнем наседающих казаков. Василий Иванович пытался плыть. Он плыл. Его поддерживали два красноармейца. До заросшего осокой противоположного берега оставалось совсем немного… Никто не верил в гибель Чапаева. В первую минуту не поверил и Фрунзе. Известие застало его в Астрахани. Не поверил и в смерть Батурина. Утраты были слишком велики. Со смертью Павла Степановича оборвалась одна из светлых нитей, связывавших Фрунзе с прошлым. Он вдруг словно бы очнулся. За вечной гонкой, за оперативными сводками и планами, совещаниями, митингами и беспрестанными боями, за чувством великой ответственности порой расплывались лица друзей. Было лишь удовлетворение, что они здесь, рядом, и что в трудную минуту на них всегда можно опереться. Нечеловеческий ритм войны заглушает на время простоту отношений, делает тебя скупое в проявлении чувств, строже. Все это зависит даже не от тебя. Ты идешь все вперед и вперед, увлекая за собой других, и взгляд твой направлен в даль времени. И всегда кажется: для всего остального еще будут долгие годы. Вот закончим, порешим… и вот уж тогда… Но под жизнью Батурина подведена черта. Для него не будет всего того, что после войны. Он жил и умер достойно. «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые…» Погиб Иван Ильич Андреев, погиб Заботин, изрубили шашками Ивана Яковлевича Мякишева… Много полегло ивановских ткачей под Чишмой, под Уфой, под Уральском… Говорят, у Чапаева остался сын Александр. Сын Чапаева… Семья Чапаева. Жена, дочь Клавдия, братья…
«Пусть не смущает вас ничтожный успех врага, сумевшего налетом кавалерии расстроить тыл славной 25-й дивизии и вынудить ее части отойти несколько к северу. Пусть не смущает вас известие о смерти доблестного вождя 25-и дивизии тов. Чапаева и ее военного комиссара тов. Батурина. Они пали смертью храбрых, до последней капли крови и до последней возможности отстаивая дело родного народа… В увековечение славной памяти героя 25-й дивизии тов. Чапаева Реввоенсовет Туркфронта постановил: 1. Присвоить 25-й дивизии наименование «Дивизия имени Чапаева». 2. Переименовать родину начдива Чапаева гор. Балаково в гор. Чапаев. Вечная слава погибшим борцам! Мщение и смерть врагам трудового народа!Он назначил расследование. Те, что в штабе армии, страшась ответственности, пытались доказать, что Чапаев «притупил бдительность». Фрунзе смотрел на них с презрением. Начальником чапаевской дивизии стал Иван Семенович Кутяков. В Астрахани Валериан Владимирович представил Фрунзе Кирова. Что знал Михаил Васильевич о Кирове? Знал, что Сергей Миронович создавал Северо-Кавказскую армию, потом ему поручили организовать оборону Астрахани. Недавно Киров подавил крупный белогвардейский мятеж в Астрахани. Сдержанный, суховатый, Киров коротко доложил обстановку. Астрахань — важнейший стратегический пункт. Англичане почти ежедневно бомбят город с воздуха. Захват Астрахани Деникин возложил на врангелевскую группировку своих войск. Если Врангелю удастся соединиться с уральскими и астраханскими белоказаками, он начнет наступление вверх по Волге. Человек раскрывается не сразу. За десять дней общения с Кировым Михаил Васильевич сумел по достоинству оценить этого человека. У каждого есть некая ведущая черта характера. У Кирова такой чертой было хладнокровие. Здесь он мог соперничать с Фрунзе. Одиннадцатая армия, потрепанная в августовских боях, по сути, была небоеспособной. На нее наседали со всех сторон, много умерло от тифа и голода. Большая часть ее находилась в окружении в районе Черного Яра и подвергалась беспрестанным бомбардировкам. У защитников Черного Яра не было патронов и продовольствия. Астрахань держалась чудом. Как относился ко всему этому Киров? — Обстоятельства против нас. Мы здесь затем, чтобы изменить обстоятельства. Речь идет не о том, чтобы удержать Астрахань — мы ее удержим, — а о том, чтобы перейти в наступление на царицынском участке. Пока держится Черный Яр, противник на левый берег не пройдет. Простонародное лицо, маленькие сощуренные глаза. Когда улыбается, у рта выступают резкие складки. В своей кепчонке, надвинутой на уши, он был похож на рабочего, на мастерового, на нефтяника. В лице его что-то давно знакомое и в то же время неуловимое. Лишь один раз юмор прорвался наружу: когда Фрунзе предложил стать командующим армией. Киров сказал: — Это голубой воздух идеализма. Полководцы, по-моему, делятся на две категории: настоящие полководцы могут терпеть поражения, но в конечном итоге они становятся победителями в битвах; другие — непобедимы в войне, но зато никогда не бывают победителями в битвах. Вторая категория — полководцы не по призванию, а по приказу сверху, потому что должен же кто-то руководить войсками; вот они и выкручиваются, избегают боя. Оба долго смеялись, а Фрунзе, задыхаясь от хохота, все допытывался, к какой категории Сергей Миронович причисляет его… Кирову приходилось работать в очень сложной обстановке. Несколько дней назад против него организовали провокацию. На первый взгляд, все выглядело, как в дурном анекдоте: некая Рахиль Вассерман, как оказалось, засланная англо-деникинской контрразведкой, пролезла в партию и сделалась председателем полковой ячейки. Решив расправиться с Кировым, она стала украдкой показывать большевикам портрет иеромонаха Илиодора, известного черносотенца. Один из видных большевиков-астраханцев воскликнул: — Да это же Киров! Сходство было разительное. — Киров — вовсе не Киров, а пробравшийся в партию иеромонах, — заявила Вассерман. — Его нужно арестовать, разоблачить и расстрелять. Но Кирова арестовать не удалось. Большевики вовремя спохватились и арестовали Вассерман и ее сообщника, одного из секретарей губисполкома. Обоих судили и приговорили к расстрелу. Части Одиннадцатой армии перешли в наступление, чем создали ощутимую угрозу деникинскому тылу; а 23 сентября восточнее Царицына соединились с частями Десятой армии. После ходатайства Куйбышева и Фрунзе Одиннадцатая армия была передана в состав Юго-Восточного фронта. Михаил Васильевич простился с Кировым. Он знал — будут еще встречи. Он ведь не любил расставаться с людьми, а к Сергею Мироновичу проникся сильнейшей симпатией. Всего десять дней общения… На фронте — это целая жизнь. Фрунзе рвался в Туркестан. Но белоказачий «аппендикс» не поддавался никакому ножу. Два конных корпуса Толстова носились по степным просторам, их нельзя было обойти, окружить, применить к ним известные способы борьбы. Они совершали налеты и никогда не сосредоточивались надолго в каком-то определенном месте. Можно было прийти в отчаяние. Против белоказаков действовала одна лишь Четвертая армия. Две дивизии Первой армии пришлось послать на Южный фронт против Деникина, остальные части этой армии обеспечивали сообщение между РСФСР и Туркестаном. Изворотливый ум Фрунзе и здесь нашел единственно правильное решение: нужно отрезать противника от станиц, хуторов и других баз снабжения, вытеснить его в голую степь на зиму глядя. Партизанским методам белоказаков противопоставить свои партизанские методы: организовать конные партизанские отряды, которые не подпускали бы врага к населенным пунктам. Но каким бы совершенством ни отличались оперативные планы, для Фрунзе они, без учета политической стороны дела, значили очень мало. Он несколько раз выезжал в Москву, встречался с Владимиром Ильичом. В результате появилось постановление Совета Народных Комиссаров за подписью Ленина. Суть его сводилась к тому, что разоренной области будет оказана материальная помощь, а казаки, воюющие на стороне белых, получат прощение прежней вины при условии немедленного изъявления ими покорности Советской власти. Одновременно Четвертая армия перешла в наступление. Все эти меры дали поразительный результат. Казаки сложили оружие. В начале января 1920 года Четвертая армия Восканова освободила Гурьев и заняла побережье Каспийского моря. Генерал Толстов бежал в Персию. Уральский фронт был ликвидирован! В штабах подсчитывали трофеи за год: сто пятьдесят орудий, миллионы снарядов, шестьсот пулеметов, сто тысяч винтовок, шесть аэропланов, легковые и грузовые автомобили, бронепоезда, радиостанции. Ну и сто пятьдесят тысяч пленных!.. Теперь можно отправляться в Туркестан. Туда еще в октябре выехали Куйбышев, Новицкий и руководящие работники Комиссии по делам Туркестана. Михаил Васильевич тоже состоит в этой комиссии, облеченной самыми широкими полномочиями ЦК, ВЦИК и Совнаркома. Из Ташкента поступают настойчивые требования о немедленном выезде Фрунзе туда для решения всех запутанных вопросов военного, политического и дипломатического характера. В Туркестан, в Туркестан!.. Туркестан, как мираж: он поднялся перед взором Фрунзе всеми своими заснеженными пиками, красными горами, уютными синими долинами, яблоневыми садами, такырами и барханами и растаял… От Владимира Ильича пришла телеграмма:Командующий Туркфронтом — Фрунзе».
«Прошу товарища Фрунзе в соответствии с указаниями Реввоенсовета Республики развить революционную энергию для максимального ускорения постройки дороги и вывоза нефти».О какой дороге речь? Откуда взялась нефть? Когда был освобожден Эмбинский нефтяной район, Михаил Васильевич обнаружил на промыслах возле Ракушечьей пристани двенадцать миллионов пудов нефти. Отступая, беляки подожгли промыслы, но пожар удалось потушить. Республике требуется нефть. Но как ее вывезти в кратчайшие сроки? Построить железную дорогу от северного побережья Каспия до Александров-Гая, перешить на широкую колею линию Александров-Гай — Красный Кут: шестьсот верст по безлюдной, безводной степи. Январские морозы и бураны. По линии проектируемой постройки нет топлива, нет жилищ для рабочих. Да и самих рабочих нет. Нет шпал, нет рельсов. Были бы хотя бы железнодорожные дивизионы, но и их нет. Фрунзе отвечает Владимиру Ильичу:
«Армия свой революционный долг выполнит».Гуляют студеные ветры по степи. Сковало льдом прибрежные воды Каспия, и лишь у горизонта в свинцовых судорогах перекатываются волны. Фрунзе и его заместитель Авксентьевский идут вдоль берега. Фрунзе сосредоточен. У него упрямый, строгий подбородок, глаза отливают металлическим блеском. Спрашивает: — Железную дорогу умеете строить? — Не умею. — Какое удивительное совпадение: я тоже не умею. Помнится, раньше вы утверждали, что не сможете командовать армией. Хорошо, что я не поверил. Оказывается, вы все можете: даже быть заместителем командующего фронтом. Дорога-то пустяк — всего шестьсот верст! — Это фантастика. Все равно что проложить дорогу через всю Англию. — Нет, не все равно. В Англии топлива хоть отбавляй, а у нас его нет. У них инженеры, техники, рельсы, шпалы. У нас всего этого нет. У них нет таких зверских холодов, как у нас, и нет безводных пустынь. Сравнили! А знаете, чем мы тут все время были заняты? Подводили реальный фундамент под фантастику. И подвели. Теперь все — фантастика. Мы с вами командуем фронтом, каких не знала история, — разве это не фантастика? Короче говоря, будем строить дорогу. Вытребуем инженера, подчиним реввоенсовету все местные военные и гражданские организации, нужные для выполнения приказа Ильича, заставим работать военкомов. Нужно будет обеспечить воинской охраной строительные участки, взять под охрану все нефтяные вышки и нефтепроводы. Сегодня же приступить к постройке полевого телеграфа и телефона вдоль всей линии Эмба — Алгай. Мобилизуйте всех рабочих, сведите их в воинские части. Примите меры по санитарному обслуживанию строителей, нужно их одеть, обуть. Изыщите пятьдесят грузовых и двадцать легковых автомобилей. Эмбинская железная дорога имеет исключительное значение для Советской республики. А вам лично нужно преодолеть некий психологический барьер. И в который уж раз Авксентьевский ощутил вот этот железный напор, цепкость логики Фрунзе, умение заставить поверить в невозможное. Всякий раз Авксентьевский оглядывался на пройденный путь со сладким ужасом. Кем он был до встречи с Фрунзе? До германской учительствовал, преподавал математику. Стал подпоручиком, мечтал после войны вернуться к любимой математике. Потом революция. Избрали секретарем губисполкома в Вологде. Стал комиссаром. А потом — Фрунзе. Какая-то могучая волна подняла Авксентьевского на свой гребень. Этот человек привязал его к себе накрепко, раз навсегда. Авксентьевский по ходатайству Фрунзе — комиссар Ярославского военного округа; Авксентьевский — командующий армией; Авксентьевский — заместитель командующего фронтом. И вот Фрунзе собирается в Туркестан, чтобы политическими, дипломатическими и военными мерами навести там революционный порядок, а ему, Авксентьевскому, вручается судьба необъятного степного края от Каспия до Самары, до Актюбинска. А Фрунзе продолжает зачаровывать, гипнотизировать самыми будничными, трезвыми словами. И рядом с ним начинает казаться, что большая часть человечества просто не умеет думать. — С наступлением весны засеять максимальную площадь земли. Тут она плодородна, накормим всех. Помогите населению восстановить разрушенные хозяйства. Организуйте сбор кожи, шерсти и другого сырья для дальнейшей обработки. Не забудьте про погрузку и засыпку хлеба… Кожа, шерсть… Авксентьевский с удивлением и восхищением смотрит на Михаила Васильевича: где все только умещается? Бог ты мой, у этого человека голова, должно быть, сделана из особого материала!.. Конечно же, дорога будет построена…
СЫН СЕМИРЕЧЬЯ
Простуженный, с жестокой головной болью, Авалов лежал в повозке. Минутами от жара и усталости он терял сознание. Маленький белый отряд с нечеловеческой настойчивостью пробирался в Семиречье, где, по слухам, в городке Копале укрылся колчаковский эмиссар атаман Анненков. Степь казалась безграничной пустыней, холодный ветер и дождь со снегом лишали мужества. Иногда Авалову чудилось, что его хотят бросить в степи одного, и он сквозь бред кричал с трагической твердостью: — Я стрелять буду! Я везу важные сообщения атаману, вы не имеете права… Шли вдоль реки Аягуза, поднимались на отроги Семиреченского Алатау с его вечными снегами. Отсюда до китайской границы рукой подать: стоит лишь перевалить хребет. Когда показалась деревянная церковь Копала, Авалов перекрестился и впал в тяжелое забытье. Только через неделю он встретился с атаманом Анненковым, вернувшимся из Лепсинска. Штаб атамана помещался в доме начальника копальского казачьего округа. В этих дебрях Средней Азии Анненков чувствовал себя полновластным хозяином. Его конные отряды контролировали огромную территорию от границы до Верного. В провианте и снаряжении атаман не нуждался. Все необходимое охотно поставляли зажиточные казачьи хутора и поселения так называемых чолоказаков — беглых каторжников — узбеков и русских, женатых на киргизках. Анненков не заигрывал с местным населением. Он требовал, приказывал. Делал вид, что Советская власть — явление временное. Нужно только собраться с силами, установить связь с эмиром бухарским и главарями басмаческих отрядов. Перед казаками и таранчинами атаман всегда появлялся в парадном мундире с золотыми эполетами лапшой, с крестами и медалями. Никто не знал, за какие воинские доблести получены кресты и медали. Для атамана некий Авалов был фигурой ничтожной. Но сейчас всякий человек имел цену, потому-то Анненков принял беглеца, вырядившись в парадный мундир, навесив все кресты. Атаман сидел под образами, поглаживал эспаньолку и внимательно слушал. Его круглые навыкате глаза в припухлых веках были неподвижны, как у статуи. — Я командовал бригадой у Фрунзе, — рассказывал Авалов. — В скором времени Фрунзе прибудет в Ташкент, и тогда начнутся дела. Прежде всего он, конечно, постарается очистить Семиречье. — Почему вы так думаете? — Фрунзе родом из Семиречья. У него здесь мать. Да, да. Не то в Верном, не то в Пишпеке. Атаман заинтересовался: — Очень ценные сведения. Что вы предлагаете? — Нам нужны заложники. Разослать агентов и разыскать мать Фрунзе. Тогда условия диктовать будем мы. Анненков поморщился, задумался. Наконец сказал: — Такие вещи должны делаться бесшумно. В нашем положении ничем нельзя брезговать. Хорошие сведения. Теперь я понимаю, почему вы, эсеры, потерпели крах: вы авантюристичны. — А вы? Анненков снова задумался, погладил эспаньолку, усмехнулся. — Господин Авалов, у вас острый ум. Старуху постараемся найти. Но охотой займутся другие. Командовать сотнями будут тоже другие. Вы нужны мне для дел политических, вернее, дипломатических. Завтра отправитесь для переговоров с эмиром бухарским. Что такое Советская власть в Туркестане? Она утвердилась только в больших городах. Это оазисы Советской власти. Она слаба, в ее органах сидят верные нам люди. Если эмир бухарский пойдет на союз с нами, мы выиграем. Проявите все свое искусство. Не торопитесь. На Востоке не любят торопливых людей. Склоняйтесь по этикету, но не теряйте чувства собственного достоинства. Напомните эмиру, как бы мимоходом, чем все кончилось для хивинского хана, отклонившего наш союз. От успеха вашей миссии многое будет зависеть. Подробные инструкции находятся в этой шкатулке. Письмо эмиру я написал. С богом! Атаман подробно обрисовал обстановку, чтобы вселить в Авалова уверенность. Получалось, будто Советская власть в Туркестане доживает последние дни. С ташкентским советским правительством ведет борьбу Фергана, база главаря басмачей Мадамин-бека, поддерживаемого муллами. Его лозунги: «Защита святой религии, попираемой большевиками», «Создание независимого мусульманского государства». Басмачи получают помощь от англичан через сопредельные с Туркестаном страны. Но главная сила — эмир бухарский. Регулярная армия эмира насчитывает почти девять тысяч штыков и восемь тысяч сабель при двадцати трех орудиях. Кроме того, сюда следует приплюсовать ополчение беков — двадцать семь тысяч штыков и сабель при тридцати двух орудиях; итого сорок четыре тысячи штыков и сабель при пятидесяти пяти орудиях. У Фрунзе нет и половины того. Англичане беспрестанно подбрасывают эмиру вооружение. Армия Фрунзе разута, раздета, разбросана, разбавлена национальными формированиями. Лучшие свои дивизии Фрунзе отдал Южному фронту. Что может выставить красный генерал против Семиречья? Одну дивизию, не больше. Авалову хотелось верить, и он верил. Все дороги назад были отрезаны. А вдруг здесь засияет звезда!.. В Бухару Авалов отправился под видом мелкого купца. Вез ткани. Сопровождали его три чолоказака, которые служили также за переводчиков. Без особых приключений подвигался Авалов к Бухаре. Басмачей ему опасаться не приходилось, ткани большой ценности не представляли — их всегда можно было бросить и бежать без оглядки. Да никого и не интересовал купчишка в лисьей шапке, в халате, подпоясанном кушаком, в стоптанных сапогах. Звали его Буль-буль, что значит Соловей. Это была кличка. Когда спрашивали: «Уй сенеке кайда — где твой дом?», он тыкал камчой куда-то на северо-восток. Несколько обиходных киргизских, казахских и узбекских слов он запомнил. Однажды на заре он увидел розовато-желтые стены и мечети древней Бухары. …Сколько дней езды от Самары до Ташкента? Вот уже целый месяц пробирается сквозь бураны и снежные заносы поезд, увозящий Фрунзе, Фурманова, Любимова и других работников штаба Туркфронта в Ташкент. Едут с женами. Софья Алексеевна и Анна Никитична набивают огромный самовар снегом — воды даже на станции достать невозможно. Фурманов записывает в дневнике:«Мы едем в Туркестан. Новые мысли, новые чувства, новые перспективы… В трудной работе я найду новые радости, ибо поло, где будем сражаться, — это поле широко, просторно, не возделано пахарем. Мы идем теперь пахать богатую, многообещающую ниву туркестанской целины».Так представляется будущее восторженному романтику. Что касается перспектив… то Дмитрий Андреевич только что назначен начальником Политуправления Туркфронта, и на этой ниве есть где приложить силы. Фрунзе смотрит на все другими глазами. Он видит разрушенные, занесенные сугробами до крыш станционные здания, разодранные на топливо вагоны, скованные холодом паровозы в депо. На каждом полустанке приходится устраивать «субботник»: в тридцатиградусный мороз из вагонов и теплушек выскакивают красноармейцы, командиры и военспецы, рыщут в поисках топлива для паровоза. Михаил Васильевич Фрунзе и Фурманов неизменно принимают участие в пилке дров и расчистке железнодорожного пути от снега: единственная возможность по-настоящему согреться. Такой он, великий хлопковый путь. Сейчас он похож на «Великий белый путь» Джека Лондона, и они все тут совершают не просто поездку, а тяжелое путешествие с приключениями: дважды поезд терпел крушение, один раз утонул в снегу, и все пассажиры откапывали его. Несколько товарных вагонов заняты лошадьми. Среди них конь Чапаева. Беспокойное хозяйство в такой дороге. Иногда они говорят об искусстве, литературе, обсуждают очерки Фурманова, напечатанные в иваново-вознесенской газете «Рабочий край»: «Пилюгинский бой», «Уфимский бой», «Освобожденный Уральск», «Как погибли тов. Чапаев и Батурин». Это летопись, странички гражданской войны, свидетельства очевидца, заготовки для чего-то очень большого, что пока еще не выкристаллизовалось в сознании. Митяй — постоянный корреспондент рабочей газеты, он делится со своими земляками мыслями, впечатлениями, агитирует. — Вы никогда не бывали в тайге? — спрашивает Фрунзе. — У нас среди ссыльных был художник-любитель. Он пытался растолковать мне незыблемые законы искусства. Корабельная роща, мол, хороша для строителя. А для ценителя красоты в пейзаже важно другое: все причудливое, изогнутое, исковерканное. Изогнутая, разодранная ветрами сосна смотрится лучше, чем стройная, здоровая сосенка. Так, дескать, смотрит художник, писатель и на человечество: чем больше изломов, вывихов, болезней духа и тела — тем красочнее картина. Много ли мы найдем в искусстве «корабельных рощ»? Одну-единственную. Зато есть шедевры: «Грозный убивает своего сына», а в литературе: «Братья Карамазовы», проповеди о непротивлении Толстого, причудливые творения символистов. У искусства свои законы. А как вы на это смотрите? — Признаться, сперва и я так думал. Пока не прочитал «Мать» Горького — нашу «корабельную рощу». Болезненный дух, конечно, может породить нечто грандиозное. Разумеется, лишь в том случае, если он отражает болезни своего времени, дисгармоничность его. Такой писатель может даже любоваться человеческими страданиями, потому что человечество для него — лишь непроходимая тайга. Но я не из их числа. На фронте я полюбил корабельную рощу, тот строительный материал, к сорту которого страстно хотелось бы причислить и себя и из которого делается будущее. Нужна литература на принципиально новой основе, а писатель-большевик — это разведчик партии в тылу и на фронте искусства. Снобы всегда стараются говорить о литературе, отпихивают нас: вы, дескать, примитивные, прямолинейные, одним словом — народ. Но мы литературу снобам не отдадим, мы за нее драться будем, как дрались здесь. Я знал человека и задумал написать о нем книгу. — О Чапаеве? — Да. — Недавно я встречался с человеком, о котором, будь я даже гениальным писателем, не сумел бы написать. И дело даже не в том, что всякая героизация его противна духу этого человека. Каждый из нас — только часть, стремящаяся стать целым; а он — целое. Франц Меринг говорит, что Наполеон может быть побежден только Наполеоном. Так и писатель: ему подвластно лишь то, что не превышает его кругозора, его мировоззрения и миросозерцания. Он не может быть умнее самого себя, даже если встанет на самые высокие ходули. Я люблю «Войну и мир» Толстого за то, что там очень хорошо выражена одна истина: судьбы народов так же мало определяются неслыханной глупостью царей и правителей, как и неслыханной мудростью их. — Чапаев не будет похож на меня. Я ведь записывал вслед. Но не ползучая документальность привлекает меня. Представьте себе, что, как в сказке, вихрь, ветер обернулся человеком, стал таким, как мы. Но я-то знаю, что это ветер, стихия. Герой, чтобы быть таким, как все, неотличимым, старается сдерживать порывы, дисциплинирует себя. Но его природа нет-нет да и возьмет верх. Все клокочет у него внутри, просится наружу. И может быть, в такие минуты он наиболее интересен, самобытен. Писатель обрисовывает историческую фигуру. И совершенно неважно, что будут опущены мысли и слова, действительно высказанные подлинным человеком, и, с другой стороны, приведены слова и мысли, никогда им не высказывавшиеся в той форме, как это сделано писателем. Главное, чтобы характерная личность, основная верность исторической личности была соблюдена. Одни слова были сказаны, другие могли быть сказаны. Только не должно быть ничего искажающего верность и подлинность событий и лиц. …Фрунзе заново переживал недавние встречи. Небольшая комната со сводчатым потолком — кабинет Ленина. Очень много книг, три телефона, географические карты, атласы, над диваном — портреты Маркса и Степана Халтурина; пальма в вазоне. Говорят о скорой поездке Фрунзе в Туркестан. — То, что вы руководили «Красной губернией», я знаю. Колчака побили — тоже знаю. А вот то, что вы разговариваете на киргизском и татарском, — полная неожиданность! И Коран, наверное, знаете? — Знаю, Владимир Ильич. Все без парадоксов: я ведь уроженец тех мест. Мать до сих пор в Верном. Ленин удовлетворенно смеется. — Если гора не идет к Магомету… Прошу сообщать мне о положении тамошних дел чаще. Мы все верим в вашу революционную энергию… В Туркестане вы будете представлять ВЦИК и Совет Народных Комиссаров, действовать от их имени в пределах Туркестана и сопредельных с ним государств и способствовать проведению в жизнь национальной политики Советского государства. Полномочия большие и ответственные… Прежде чем отправиться в Ташкент, заехал в Иваново-Вознесенск, в Шую — «домой». Лучше было бы не предупреждать телеграммой: как в давние времена, остановились фабрики, во всю мощь ревели гудки, приветствуя Арсения. — Вы навсегда зачислены в наш рабочий гарнизон, — говорил радостно Жиделев. Знакомая атмосфера, знакомые лица. И снова Арсений — агитатор. Выступает перед рабочими, вникает в жизнь профсоюзов, фабзавкомов, горсовета. Окрепла «Красная губерния», стоит твердо. В одном из цехов — большой портрет Фрунзе с орденом Красного Знамени, старательно выписанный заводским художником. В алых лентах. Наверное, ради встречи. Михаил Васильевич укоризненно покачивает головой. Подбежал мальчуган лет восьми: «Дяденька, я вас знаю: вы — Арсений!» Все оставляет след… …Человек греется у самовара, накинув на плечи бекешу, выскакивает на мороз пилить дрова, поет с Митяем, Анной Никитичной и Софьей Алексеевной песни про матушку-Волгу, играет в шахматы. Но он — не пассажир, едущий в очередную командировку. Он по-прежнему отвечает за все эти пространства от Каспия и Самары до границ Китая, Индии, Персии, Афганистана. Он — хозяин. На больших станциях, в городах проводит военные смотры, обследует госпитали. Воинские части раздеты и разуты, госпитали переполнены тифозными. Больные вповалку лежат в холодных бараках на соломе, в верхней одежде. Медицинского надсмотра нет. Нет лекарств, нет бинтов, нет врачей. Нет еды. Люди обречены. Это — герои. Их нужно спасти. Пока Фрунзе наводит порядок в госпиталях, поезд простаивает на станциях по пять — десять суток. И если разговоры о литературе, об искусстве — только минутный отдых, то заботы о фронте, о десятках тысяч людей, о делах в самом Туркестане преследуют и днем и ночью. От них нельзя уйти в отпуск. Фрунзе громил генерала Толстова, строил железную дорогу и в то же самое время не отходил от радиостанции, посылал гонцов к Куйбышеву и Новицкому, которые по его указанию производили реорганизацию войск Туркестанской республики, а потом двинули их на Красноводск — оплот закаспийской белогвардейской группировки и английских интервентов. Войска совершили стоверстный бросок по безводным пескам Кара-Кумов. Впереди шел Куйбышев. То был героический марш. Правда, под конец нервы у Федора Федоровича Новицкого сдали, и он стал доказывать по радио, что Красноводск без тяжелой артиллерии не взять. Фрунзе ответил ему:
«Донесение нахожу неосновательным. Приказываю принять самые решительные меры к овладению Красноводском!»Федор Федорович понял, что тяжелой артиллерии не будет, и взял Красноводск. Взята нефть Челекена. Но нефть пока, к сожалению, вывезти нельзя: у острова стоит флот белых, блокируя подход с моря. А эти сто пятьдесят тысяч пудов челекенской нефти сейчас очень нужны… И еще одно событие: когда население Хивы восстало и обратилось за помощью к Красной Армии, Фрунзе послал туда отряд войск. Басмаческие отряды Джунаида разбиты, власть хивинского хана свергнута, в Хиве — Советская власть. Но сколько еще ее решенных вопросов там, в Туркестане… И самый сложный из них — национальный. В Семиречье — банды Анненкова, Дутова, Щербакова, в Бухаре — эмир, в Фергане — банды басмачей Мадамин-бека. Советская власть пока слаба, ее органы засорены националистами всех мастей. Тяжелые думы, нескончаемые заботы. Исидор Любимов (теперь он член Реввоенсовета фронта) говорит: — Если уж в Минске выкарабкались, то тут и подавно… — Не выкарабкиваться, а Советскую власть устанавливать надо… Минск — эпизод. Мы отвечаем за всю СреднююАзию. Это несколько огромных государств. В Ташкенте на перроне — Куйбышев, Новицкий, председатель Турккомиссии Шальва Элиава. Воинские подразделения. Звуки «Интернационала». Рапорты. Толпы людей в полосатых халатах, опоясанных платками чарса, и высоких бараньих шапках. Бородатый Фрунзе в папахе, в шинели, в ремнях; на боку шашка; на правой стороне груди, прямо на шинели, — орден Красного Знамени. Каждому хочется взглянуть на «кзыл-генерала Пурунзо», главного защитника дехкан, на его байбиче — жену. За церемонией встречи командующего с восхищением наблюдает невысокий плотный человек в легком пальто и белой мерлушковой шапке. Фрунзе — красный герой, о его подвигах писали газеты, появились его печатные портреты, да и вряд ли найдется человек, который не слышал бы о Фрунзе! Человек снимает шапку, ветер шевелит его светлые волосы. Фрунзе идет вдоль шеренги встречающих, останавливается, всматривается в лицо светловолосого и неожиданно крепко стискивает в объятьях. — Костя! Брат… Ты здесь? А где мама, сестры? Вот так встреча!.. И теперь все собравшиеся замечают, как они похожи, эти двое, друг на друга — местный врач Константин Васильевич Фрунзе и командующий. Оказывается, командующий родом из Пишпека. Свой. «Узун-кулак» — «длинное ухо», «беспроволочный телеграф» разносит эту новость по всем кишлакам и курганчам. Они сидели с братом Константином в гостинице. Софья Алексеевна наливала чай. Михаил Васильевич был печально задумчив. Он беспокоился за мать, за сестер. Они там, в Верном. Каждый день могут попасть в руки бандитов. Прямой дороги на Верный нет, а та, что есть, разрушена, кое-где контролируется беляками. Чтобы попасть в Верный, нужно проделать путешествие более сложное, чем поездка сюда из Самары. Маме придется подождать… Родное Семиречье, где сошлись Туркестан, Сибирь и Китай… Киргизский Алатау с его вечными розовыми снегами. В Пишпеке — белый домик, там прошло детство. Из детства почему-то запомнилось, казалось бы, самое несущественное: запах сизого дыма кизяка, песчаные кыры, заросшие полынью, низкорослый конь с шершавой сбившейся шерстью, на которого посадил отец пятилетнего Мишу, советы отца: «Сжимай коленями лошадь, сжимай!» И еще — круглый карагач, всегдашняя прохлада под густой листвой; расшитая узорами кошма сырмак в чьей-то закоптелой юрте; на сырмаке мягко, покойно; старый Таджибай, разглядывая убитую Мишей перепелку, причмокивал губами и говорил: «Джаксы анкши! (Хороший охотник.) Вырастешь, на джолбарса пойдешь». Фрунзе знал семиреков — трудолюбивые люди. Многие из них обмануты, мобилизованы Анненковым, Дутовым и Щербаковым насильно. Наряду с кулаками тут много бедноты, и ей по дороге не с белыми атаманами, а с Советской властью. Он взял бумагу, карандаш.
«Семиреки!.. Как командующий всеми Вооруженными Силами Республики в пределах Туркестанского фронта, как сын Семиречья, именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики объявляю…»Завтра пошлет он своих агитаторов в города и курганчи Семиречья… Он знал, что Анненков с его формированиями не представляет особой опасности. Опасность сидела под боком — эмир бухарский, нарыв в самом сердце Туркестана. Вокруг эмира группировались все силы контрреволюции. С чего начать? С учета собственных ресурсов. С дипломатии. Не дать эмиру бухарскому договориться с Анненковым. Нейтрализовать Мадамин-бека, дабы не выступил союзником эмира бухарского. Да, начинать, как всегда, приходится с политики, с установления связей. Фрунзе принял чрезвычайного посланника эмира афганского Муххамеда Вали-хана и вручил ему поздравительное письмо по случаю годовщины объявления независимости Афганистана. Подарил посланнику породистую лошадь и золотые часы. Растроганный Муххамед Вали-хан обещал передать письмо своему владыке и заверил, что афганское правительство в политике всегда будет руководствоваться чувством дружбы по отношению к Советской республике. Командующий послал дары эмиру бухарскому: новенький граммофон с пластинками, большие бронзовые настольные часы, черкеску с газырями, бурку, кинжал кавказской работы и еще много всякого добра для министров эмира. Через неделю пришло приглашение от эмира. Фрунзе с небольшим отрядом отправился в Бухару. Надел черкеску, повесил кинжал, шашку. Во дворец эмира Михаила Васильевича вели под руки, точно немощного. На коврах сидели министры в белых чалмах и шелковых халатах. Вошел эмир, человек с длинной черной бородой и острыми горячими глазами. Все встали. Начались церемонные приветствия. Фрунзе усадили на почетное место рядом с эмиром, пододвинули цветные подушки из лебяжьего пуха и подлокотники. Мальчик принес кумган — серебряный кувшин и таз с полотенцем. Он обходил гостей, и каждый совершал омовение рук. На скатертях появились груды желтого урюка и чудом сохранившиеся громадные нежно-зеленоватые дыни. По кругу пошла узорная пиала кок-чая. Потом было пиршество, как в «Тысяче и одной ночи»: шашлык на вертеле из перепелок, подрумяненные цыплята, кишки с начинкой, лапша с миндалем и медом, пирожки с патокой, плов — венец всему. Все на золотых, серебряных и расписных глиняных блюдах. После плова — опять чай. Вбегали мальчики, раскуривающие чилим и обносящие гостей. Седой узбек играл на дутаре, пел и рассказывал древние истории. А в это время в одной из комнат дворца томился Авалов. Вот уже две недели находился он здесь, но эмир так и не соизволил принять его. Переговоры велись с одним из министров — узбеком с громадным зобом, свисавшим ему на грудь. Всякий раз министр говорил: «Его величество эмир размышляет». Авалов начинал терять терпение. Старая лиса этот эмир… Боится прогадать. Постепенно Авалов перешел к запугиванию. Напоминал о судьбе хивинского хана, свергнутого народом, предрекал эмиру бухарскому такую же участь. Но министр с зобом, невозмутимо все выслушав, говорил: «Его величество размышляет. Политика подобна блуждающему руслу реки в песках пустыни. Каждый получит от аллаха за свои дела, хвала ему!» В окно, забранное узорной решеткой, Авалов видел, с каким почетом и церемониями встретили Фрунзе и его свиту. Имя атамана Анненкова почему-то не вызывало здесь восторгов. Эмир в самом деле размышлял. Он мечтал о великом «мусульманском государстве» и считал, что белые генералы и атаманы потерпели окончательный крах. Адмирал Колчак разбит и ожидает своей участи в Иркутской тюрьме; в Хабаровске и Владивостоке белогвардейская власть уничтожена, и ее не могли спасти даже японцы; Юденич бежал от Петрограда к англичанам; генерал Деникин застрял на Кубани, и все его планы рухнули. Конечно, Советская власть в Туркестане слаба. Но она держится. Народ не хочет белых атаманов и адмиралов. Сейчас важно выиграть время, провести мобилизацию и запастись английским оружием. Англичане — вот реальная сила в борьбе против Советской власти. Но к решительной войне эмир пока не готов. Несколько дней вел Фрунзе переговоры с министрами эмира. Они не говорили ни «да», ни «нет», отделывались общими фразами о дружбе и взаимном уважении. Он-то все понимал, но и ему сейчас важно было выиграть время; потому-то он не выказывал ни раздражения, ни нетерпения. Он выяснил главное: Анненкову эмир помогать не станет. Командующий заторопился в Ташкент. В день отъезда Фрунзе министр с зобом сказал Авалову: — Состояние здоровья не позволяет его величеству принять вас. Передайте атаману изъявления дружбы и высокого уважения со стороны его величества эмира. Мы вынуждены прервать переговоры на неопределенное время, до полного выздоровления его величества, да пошлет ему аллах долгие годы царствования. Авалов в упор посмотрел на зобатого министра и сказал: — Передайте своему эмиру, что он о многом пожалеет, но будет поздно. Да пошлет ему аллах долгие лета царствования! В чем я лично сомневаюсь… Его вежливо выдворили за пределы Бухары. По радио Фрунзе договорился с командующим Восточным фронтом о помощи: с севера на Семиречье должна наступать так называемая Сергиопольская группа войск. От Ташкента через горы в обход выступит Третья Туркестанская дивизия — все, что сейчас можно послать против Анненкова. В марте Копал окружили. Осада длилась целую неделю. В конце концов белый гарнизон сдался. Преследуя разбитые банды, Красная Армия вышла на границу с Китаем. Казачьи отряды, оказавшись на территории Китая, опомнились. Через кульджинского губернатора они сообщили в штаб Красной Армии, что готовы сдать оружие — только бы их пустили домой! Фрунзе обещал амнистировать. Анненков остался в Кульдже один. Семиреченский фронт распался. По логике событий Фрунзе должен был бы устремиться в Верный, обнять сестер и старую мать. Но командующий есть командующий, и в своей деятельности он обязан руководствоваться не личными порывами, а соображениями государственного порядка. Его время расписано по часам, и все нерешенные проблемы здесь, в Туркестане, — задачи первой очереди и чрезвычайной важности. В его распоряжении всего три дивизии. И они разбросаны маленькими гарнизонами от заснеженных пиков Семиречья до Кушки и Красноводска. По сути, дивизии еще только формируются. Двадцать тысяч красных бойцов на весь необъятный Туркестан! И не известно, что из себя представляют эти войска, окруженные со всех сторон отрядами басмачей, беков и эмира. Нужно побывать в каждом гарнизоне, обследовать части. Весь Туркестан разделен на три фронта (по дивизии на каждый): Семиреченский, Ферганский, красноводское направление. Необходимо в срочном порядке расколоть басмаческое движение, переманить на свою сторону руководителей кулацко-басмаческих отрядов. (Казалось бы, неосуществимое дело! Но Фрунзе знает, что переманить надо…) И еще национальный вопрос. Сложный, запутанный вопрос. В Ашхабаде открывается съезд представителей туркменского народа. Фрунзе приглашен и должен быть. «Установление правильных отношений с народами Туркестана имеет теперь для Российской Социалистической Федеративной Советской Республики значение, без преувеличения можно сказать, гигантское, всемирно-историческое», — говорит Владимир Ильич. Ленина и Фрунзе разделяют тысячи верст, но никогда еще до этого Михаил Васильевич не общался с Ильичем так часто, как теперь. Телеграммы Ленина. Телеграммы, доклады, письма Ленину. Советская республика находится в блокаде. Требуются нефть, бензин, хлопок и другое сырье для фабрик и заводов. Нефть, хлопок в Фергане. Но здесь действует более сорока басмаческих банд. На железных дорогах беспорядок, и трудно, почти невозможно отправить это сырье из Туркестана. Приходится воевать за то, чтобы туркестанские железные дороги были подчинены фронту, ему, Фрунзе. Кстати, об установлении правильных отношений с народами Туркестана. Тут пока что дело обстоит не блестяще. Русское колонизаторское чиновничество утвердилось на всех видных постах, в государственном аппарате. Оно выдает себя за единственных представителей «диктатуры пролетариата», призванных управлять разноплеменной азиатской массой, которая-де в силу вековой отсталости не может ничем руководить. Михаил Васильевич называет таких чиновников «колонизаторами». Баи, манапы, духовенство с оружием в руках отстаивают свои привилегии, натравливают дехкан на представителей «янги турмыш» — новой жизни. Кучка мусульманской мелкобуржуазной интеллигенции считает себя выразительницей дум и чаяний всей «тюркской» «мусульманской нации», требует создания некой «Тюркской республики» «без русских». И это все было бы полбеды, если бы не приходилось бороться с националистическим засильем в самом крайкоме. Националистическую позицию занимают председатель крайкома партии и председатель ТурЦИКа. Много в Туркестане меньшевиков, эсеров, анархистов, они подогревают страсти, пытаются мешать всяческими способами. Нужна чистка партийных и советских органов Туркестана! Самое сложное в том, что все задачи приходится решать сразу. Пока части Третьей Туркестанской дивизии пробирались по горным проходам к Копалу и Лепсинску, стремясь окружить банды Анненкова, Фрунзе был занят «басмаческим вопросом» и готовился к поездке по отдаленным гарнизонам, вплоть до Кушки и Красноводска. Мадамин-бек возглавлял крупные шайки, орудовавшие в Фергане. С этого курбаши-главаря и решил начать Михаил Васильевич: он вызвал Мадамин-бека в Ташкент; вызвал не как предводителя банд, а как «командира повстанческого отряда, партизанского вождя». Вызвал для переговоров, предлагая перейти на сторону Советской власти честно и открыто. Никто не верил, что Мадамин-бек отважится приехать в штаб Туркфронта. — Сомневаюсь, — говорил Федор Федорович Новицкий. — Ведь Мадамин-бек — фигура, самая крупная фигура среди басмачей. О чем вы с ним можете договориться? Чтобы он перешел на нашу сторону? Смешно… Крупнейший главарь басмачей — и Советская власть! Фрунзе загадочно улыбнулся. — А я не сомневаюсь. Мадамин будет служить Советской власти. Я много наслушался о нем от местных бедняков и, кажется, кое-что понял. Мадамин — не то, что о нем думают. Знаете, откуда взялся Мадамин? Его породили обстоятельства. К несчастью для революции, первые представители и организаторы Советской власти в Фергане не сумели сплотить вокруг себя трудовое население. Почему? Потому что они, эти представители, ничего общего с рабочим классом и его делом не имеют: руководящие органы власти захватывались группами авантюристов и вчерашних колонизаторов, желавших половить рыбку в мутной воде. Вот они-то и сделали все возможное, чтобы оттолкнуть от Советской власти трудовое население. Вместо национализации производства шел открытый грабеж и буржуазии, и средних слоев; вместо защиты мусульманской бедноты от баев над ней чинились всевозможные надругательства. Действовавшие здесь красные части в руках некоторых руководителей превращались из защитников революции и трудового народа в оружие насилия над ними. На этой почве и появились такие курбаши, как Мадамин-бек. Главные силы басмачества составили сотни и тысячи тех, которых так или иначе задела или обидела прежняя власть; не видя нигде защиты, они ушли к басмачам и тем придали им небывалую силу. Вместе с собой они принесли басмачам и поддержку мусульманского населения. Теперь мы заняты устранением всех прежних безобразий, и народ потянулся к нам. А что такое Мадамин-бек без поддержки населения? Просто бандит. Но бандитом он быть не хочет, так как считает себя идейным борцом. Ведь он, как удалось установить, образованный человек. — Всегда удивляюсь вашей способности сразу схватывать суть самых запутанных явлений. Все это логично, правильно. Но позвольте на сей раз усомниться. Не приедет Мадамин-бек! — Хорошо. Вы будете присутствовать на моей беседе с ним. Нет ли у вас случайно старой фотографии, где вы в полной генеральской форме? Федор Федорович насторожился. — Это еще зачем? — Пока не скажу. Седьмого марта рано утром жители Ташкента были разбужены страшной вестью: — Мадамин-бек!.. В город, поднимая розоватую пыль, входил конный отряд. Впереди на белой лошади ехал молодой человек с черной бородкой, смуглый до черноты; он скалил в улыбке крепкие белые зубы, и трудно было понять, что в его суженных глазах с нависающими веками: злость или веселье. Его ватный халат был перепоясан несколькими цветными чарса, высокая черная шапка съехала на затылок. Во всем его облике, в небрежной посадке чувствовалась удаль. Это был Мадамин-бек. И самое странное: красноармейцы пропускали басмачей, приняв стойку «смирно». Отряд басмачей беспрепятственно проследовал до штаба Туркфронта, занял площадь. В общем-то, отряд не насчитывал и сотни человек. По-видимому, это была личная охрана. Мадамин-бек спрыгнул с коня и, слегка расставляя ноги, направился к группе людей в фуражках с красными звездами. Вперед вышел Новицкий, представился. Сказал: — Командующий вас ждет. Все было не так грозно и торжественно, как рисовалась эта встреча с «кзыл-генералом» главарю басмачей. Просто из-за большого стола поднялся человек с ласковыми серыми глазами, двинулся навстречу Мадамин-беку, крепко пожал ему руку и сказал по-узбекски: — Вот вы какой, Мадамин-бек! Худояр-хан — кокандский владыка. Мадамин-бек был настроен на серьезный лад, но, услышав родную речь и комплимент в свой адрес, рассмеялся. — А вы, оказывается, знаете нашу историю и наш язык, — сказал он на русском. — Мы с вами земляки, так что тут нет ничего удивительного. Узбекский я знаю очень плохо, но подучусь. Больше — киргизский. Я вот все мечтаю попасть в Самарканд. — У вас там есть знакомые? — Разумеется. Тамерлан, которого я уважаю очень давно, и его жена Биби-ханым. Мадамин-бек снова рассмеялся. Совсем освоившись, тихо спросил на узбекском, кивнув в сторону Новицкого: — Этот в очках кто? Важный, должно быть, начальник? — Мой заместитель, Новицкий-ага. — Я о нем слышал, но не думал, что он такой… — Какой? Мадамин смутился. — Говорили, будто он был у белого царя генералом. Только я думаю, все это враки. Не похож. Такой, как все. Генерал должен быть с большим животом. Теперь смеялся Фрунзе. Смеялся заливчиво, так, что, глядя на него, стал смеяться и Мадамин. Новицкий ничего не понимал. — Федор Федорович, наш друг курбаши хочет иметь на память вашу фотографию, где вы в генеральской форме. — Пожалуйста. Только зачем это ему? Курбаши разглядывал фотографию, узил глаза и улыбался. — А вы, Пурунзо-ага, тоже — генерал? — Был аскером, а до генерала не дослужился. — Зато вы теперь кзыл-генерал. — Ну это так. Я, как и вы, любил свою родину и люблю ее, боролся с ее врагами и буду бороться — и эта священная борьба сделала меня командующим. А вас ваша борьба завела в другую сторону. Мадамин помрачнел. — Я дерусь с врагами тюркской нации! — резко сказал он и поднялся. Фрунзе легонько усадил его на место, покачал головой. — Ответьте мне на один вопрос, Мадамин-бек. Вы ведь умный и образованный: что такое тюркская нация? — Мусульмане. — Разве есть такая нация? Есть узбеки, есть таджики, киргизы, туркмены, казахи, уйгуры. А что такое — тюркская нация? Можно ли сюда отнести азербайджанцев или крымских и казанских татар, например? Персов, арабов, индийцев и китайцев, исповедующих ислам, турок, индонезийцев? Можно или нет?! Отвечайте! Кто должен войти в ваше «Тюркское государство»? Войдут ли в него те чолоказаки, которые исповедуют христианство? Мадамин-бек был в растерянности. Та самая тюркская нация, во имя которой он боролся, вдруг расплылась, сделалась чем-то неуловимым, словно бы расползлась по всему свету. А «кзыл-генерал» не унимался: — Что было бы, если бы кто-нибудь надумал объединить всех, верящих в Христа, в одно государство? Где границы такого государства? Куда деваться тем, кто не верит ни в Аллаха, ни в Иисуса, ни в Будду? Есть много христиан японцев, эфиопы тоже христиане. — Я думаю о тех мусульманах, кто говорит на тюркских языках, — защищался Мадамин-бек. — Есть же тюркские народы? — Вы имеете в виду тувинцев? Они — тюрки. Но не мусульмане. Нация и народность, племя — разные вещи. Существовало даже такое понятие, как монголо-тюркские племена. В древности народ тюркского происхождения, уйгуры, были буддистами и христианами. Вы, Мадамин-ага, мудрее самого Аллаха: в свое «Тюркское государство» не хотите включать мусульман, которые не знают тюркских языков. Аллах милостивее. Глаза курбаши озорно блеснули. — Муллы утверждают, что Советская власть проклята Аллахом, — сказал он. — Муллам, разумеется, лучше знать, какая власть проклята Аллахом, ведь они сообщаются с небом по прямому проводу, называемому «узун-кулак». А не находите ли вы, Мадамин-ага, что муллы, манапы, баи и бывшие царские чиновники из русских, а также англичане проявляют в данном вопросе подозрительное единомыслие? Объясните мне, почему Аллах настроен против Советской власти, которая освободила дехкан от колонизаторов и всякого угнетения, дала им земли и возможность управлять государством без богатеев, и почему он благоволит к англичанам, угнетающим мусульман на всем Ближнем Востоке и в Африке? Почему Аллах насылает на эмира Сеид-Алима английских военных инструкторов? Мне кажется, что объединение народов, Мадамин-ага, должно идти не по религиозному признаку, а по классовому. На основе пролетарского интернационализма. Так учит нас Ленин! Я знаю Саардара Ваисова, который сформировал в Самаре из мусульман-ваисовцев стрелковый полк для защиты Советской власти. Брат Саардара Гайан был главой так называемых «Волжских болгарских мусульман», или партии «Ваисовских божьих воинов». Он был честным человеком. Когда татарские контрреволюционеры в восемнадцатом году попытались объявить буржуазную «Забулакскую республику», Гайан выступил против них, объявил себя большевиком. Контрреволюционеры убили Гайана. Так Гайан из «божьего воина» стал борцом за Советскую власть, ее героем. Вы, наверное, слышали о Башкирской республике, красные солдаты которой плечом к плечу с русскими и другими народами отстаивают права трудящихся и угнетенных. Я помню, как в августе прошлого года на нашу сторону перешел командир башкирской кавалерийской бригады вместе со своей бригадой, и, поверьте мне, он дрался с белыми, как барс. Я познакомлю вас с начальником штаба татарской бригады Тальковским. О, это интересный человек! Он из литовских татар, сын царского генерала, сам бывший полковник старой армии. Вы знаете, кто командует этой бригадой? Двадцатичетырехлетний Юсуф Ибрагимов из офицеров-фронтовиков; он только что назначен членом Реввоенсовета фронта. Почему Мадамин-ага рыщет, как затравленный волк, в басмачах? Мне это непонятно. Почему он не член реввоенсовета, не командир красного полка или бригады? Рот Мадамин-бека растянулся в широкую улыбку. — Мне тоже непонятно, — тихо произнес он. — Эмир — негодяй; англичан я ненавижу, баев, жандармов, полицейских, чиновников, белых казаков тоже. Всех грабителей ненавижу. Где правда? К тебе за правдой пришел… — Решим так, товарищ Мадамин: будем бороться с эксплуататорами и колонизаторами за возрождение Туркестана и его народов общими силами. Вы назначаетесь командиром полка, а ваши аскеры становятся кзыл-аскерами. Ваш полк будет называться Старо-Маргеланским узбекским конным. Политотдел сформируем сегодня же. Подпишите соглашение. Зачитаю вам текст присяги. — Клянусь до последней капли крови служить Советской власти и трудовому народу!.. Федор Федорович Новицкий не верил собственным ушам: басмач, принимающий присягу!.. Когда Мадамин ушел, Федор Федорович в сильном волнении забегал по кабинету. — Сказать, что я восхищаюсь, все равно что ничего не сказать. Вы — демон! «Товарищ Мадамин!» И вы уверены, что он будет драться против других басмачей, против того же Курширмата или же Джунаида, собственных друзей? Впрочем, верю, верю… Будет. Вы — великий охотник, ловец человеческих душ. Пристегнули к своему поясу меня, Авксентьевского и многих других. Вот еще один… Он никогда не уйдет от вас, не может уйти: вы ведь не любите отпускать от себя людей. В Верный вслед за наступающими войсками уехал брат Константин. Полномочным представителем фронта в Семиречье послали Дмитрия Фурманова с группой политработников.
ПАФОС ПРЕОДОЛЕНИЯ
Командующий на поезде отправился в Наманган, куда Мадамин должен был привести свою конницу. Мадамин слово сдержал: его отряды вышли из предгорий Алайского хребта. В Намангане находилась отдельная Ферганская кавбригада, которой командовал чех Эрнст Кужело. После осмотра бригады и конницы Мадамина Михаил Васильевич решил побывать в Уч-Кургане. Мадамин сказал: — Хотел бы сопровождать вас. Опасно ездить на Уч-Курган: Курширмат со своими шайками бродит; очень злой. Он не думает о народе, о своем брюхе думает, с эмиром дружбу водит, с англичанами. Эмиром Ферганы обещают сделать. Глупый человек: верит. Михаил Васильевич поблагодарил, но от сопровождения отказался: ведь до Уч-Кургана совсем близко — нет и сорока верст! Пока командующий и сопровождающие его лица производили смотр войскам, пока они пили кок-чай и рассаживались в вагоны, от Намангана в сторону кишлака Уйчи мчался всадник. Он торопился, грязные потеки пота избороздили круп коня; следом тянулся хвост лёссовой пыли. На улице Уйчи было пустынно. Всадник остановил коня возле первого же дувала и вошел в дом. На кошме сидел предводитель басмачей Курширмат с огромной узорной пиалой в руке. Он уставился единственным красным глазом на вошедшего. — Ну? — Пурунзо едет на Уч-Курган! С ним Юлдаш Ахунбабаев. Грубое, черное, словно сделанное из древесного наплыва — капа, лицо Курширмата оживилось. Он швырнул пиалу, проворно вскочил на короткие кривые ноги, выбежал во двор. — Эй, Курбан-бай, собирай людей! Курширмат не верил собственной удаче: командующий фронтом сам идет ему в руки! Взять в плен «кзыл-генерала», переманившего Мадамина на свою сторону! Забрать коня. А с Мадамином можно разделаться потом… План Курширмата был прост: один отряд в двести всадников он выслал в сторону Намангана, другой — семьдесят всадников — в сторону Уч-Кургана… Долина Сыр-Дарьи клубилась горячим весенним светом. Поезд шел мимо разрушенных дувалов, мимо кишлаков и курганчей, обнесенных высокими глинобитными стенами, мимо старых пирамидальных тополей и карагачей, растущих вдоль арыков. Навстречу поезду выбегала черноголовая, босоногая детвора. Белобородые аксакалы неподвижно сидели под навесами, поджав под себя ноги. У них над головами висели клетки, сделанные из посудной тыквы. В клетках прыгали перепелки. Над Ферганской долиной далеко на юге горели белыми снегами вершины Алайского хребта. Фрунзе с Юлдашем Ахунбабаевым, туркестанским революционером, стояли у открытого окна и переговаривались. Обсуждали текст листовки — обращения к басмачам, составленной Михаилом Васильевичем. — Их главари требуют автономии Ферганы, — говорил Фрунзе. Ахунбабаев угрюмо отвечал: — Эту автономию они представляют себе наподобие бухарского эмирата или Кокандского ханства. Наймиты баев, купленные английским золотом! Их нужно истребить, как бешеных волков… Ну а тем из дехкан, кого они заманили в свои сети, мы откроем глаза. Скорее бы восстановить нефтепромыслы Санто и Чемпон. — Затребуем оборудование из центра. — Дров нет, жгут саксаул — скоро вся земля превратится в пустыню. Плохо пока хозяйствуем. Нефть в Фергане хорошая, легкая. Эх, нефть, нефть!.. Нефть и хлопок. Ну а если говорить о Бухаре, то вот что: восстание поднимать дехкане скоро будут, нет больше терпения. Красная Армия должна помочь… — Поможем. Эмир бухарский надул меня, — сказал Михаил Васильевич. — Как удалось выяснить, принял не в своем дворце, а в покоях одного из своих министров. Начинаю даже сомневаться: да был ли сам эмир? Переговоры вели в моем вагоне в Новой Бухаре. Он от меня за свой нейтралитет четыре пушки потребовал. — И вы дали? — Дал. Снарядов, правда, к ним нет. Он ведь просил пушки. А когда напомнил о снарядах, я обещал выслать при первой же возможности. Ахунбабаев усмехнулся. Пояснил: — Он вас не обманывал: иноверец по здешним обычаям не может вступить во дворец эмира. Исключение Сеид-Алим делает только для английских офицеров. Поезд замедлил ход, остановился. Михаил Васильевич послал адъютанта узнать, что случилось. — Басмачи разобрали рельсы. Дороги на Уч-Курган нет. — Засада. Возвращаемся в Наманган! Фрунзе и Ахунбабаев перешли на бронеплощадку, где были установлены пулеметы и орудие. — Всем приготовиться к бою! Поезд стал пятиться на Наманган. Вскоре адъютант доложил: — Путь на Наманган тоже разобран! Мы в ловушке… Когда явился старший охраны, Михаил Васильевич сказал ему: — Всем залечь за насыпью, вывести из вагонов лошадей. Пошлите трех из охраны в Наманган. Пусть мчатся во весь дух и не попадаются в руки басмачам. Охрану поезда беру на себя. Конный отряд Курширмата с пронзительным гиком вымахнул из-за небольшой рощицы карагачей; стреляли из карабинов и винтовок на полном скаку. В ответ заговорил пулемет с бронеплощадки, ухнуло орудие. Михаил Васильевич стоял у паровоза, наблюдал за ходом боя. Ординарец подвел коня. Того самого коня — подарок Чапаева. Англо-араб переезжал в эшелоне с командующим от гарнизона к гарнизону, вызывая зависть у командиров и местных знатоков лошадей. Весть о коне «кзыл-генерала» шла от кишлака к кишлаку. Долетела она и до Курширмата. — Конь будет мой! — заявил курбаши. — По коню не стрелять! «Кзыл-генерала» взять живым. Я не какой-нибудь разбойник: Пурунзо будем судить и повесим при всем народе. Курбаши не сомневался в своей победе. Говорят, что Пурунзо — знаменитый полководец. Но что из того? Долго ли сможет продержаться кучка людей, отрезанных и от Уч-Кургана и от Намангана? Туда Курширмат выслал свои заслоны, а главными силами окружит эшелон, и знаменитому полководцу придется сдаться на милость победителя. Вот тогда все увидят, что самый знаменитый полководец — Курширмат, перехитривший «кзыл-генерала». У Фрунзе было всего двадцать всадников. Остальные бойцы охраны лежали за насыпью и отстреливались. Когда басмачи, разделившись на две группы, стали окружать эшелон, Фрунзе, подав команду «По коням», вскочил в седло. Не ожидая приказания, конь рванулся вперед. Размахивая шашкой, Фрунзе врезался в гущу басмачей. Рядом всхрапывал конь Юлдаша Ахунбабаева. Командующий был возмущен. Еще не было случая, чтобы курбаши открыто нападали на красные части. Грабили, терроризировали население, угоняли скот, забирали жен и сыновей, убивали совслужащих, разоряли нефтепромыслы. Но стычек с Красной Армией избегали. Советские войска беспрепятственно занимали города и кишлаки; курбаши, вытесненные «мирным» путем, уходили в горы. Среди басмачей существовал как бы негласный запрет: в драку с кзыл-аскерами не вступать, нужно сперва объединиться. Курширмат первым нарушил этот запрет. Его преступление выходило за рамки обыкновенного разбоя: он поднял руку на командующего фронтом, на представителя центральной власти, и тем самым придал политическую окраску своему безрассудному шагу. Видимо, этот шаг был продиктован из Старой Бухары, из дворца эмира. Потеряв убитыми и ранеными десятка два, Курширмат увел отряд за карагачи. Он не ожидал, что горстка людей окажет такое жестокое сопротивление. Ведь они отрезаны, отрезаны! На месте «кзыл-генерала» Курширмат попытался бы на конях прорваться в Наманган, оставив тех, у кого нет лошадей, на произвол судьбы. Но, видимо, Пурунзо и не помышлял ни о чем подобном. Курбаши не знал, что делать дальше, жалел, что раздробил силы. — По «кзыл-генералу» можно стрелять! — распорядился он. Басмачи перешли в новую атаку. Силы защитников эшелона таяли. С бронированной площадки доложили о том, что снаряды израсходованы и остались всего две пулеметные ленты. Старший охраны, хоть и не отвечал теперь за оборону эшелона, нервничал, лез со своими советами: нужно, мол, спасать не эшелон, а командующего, увести его насильно. Фрунзе приказал прекратить пустые разговоры. Он знал: нужно продержаться еще немного. Если даже красноармейцы, посланные в Наманган, схвачены басмачами, помощь все равно скоро подоспеет. Командующий фронтом не может затеряться, подобно иголке в стоге сена, на отрезке пути в сорок верст. В Уч-Кургане ждут эшелон, в Намангане недоумевают, почему поезд до сих пор не прибыл к месту назначения. А если курбаши порвали телеграфные провода, то тем хуже для них: и в Намангане и в Уч-Кургане войска подняты по боевой тревоге. Если бы они догадались отрезать Курширмату пути отступления в горы… Курширмат просто недалекий человек. Он сам себе подписал смертный приговор. Командующий не испытывал ни смятения, ни досады. Все было предусмотрено, кроме глупости Курширмата. Глупый противник — самый опасный противник: он действует без логики, экспромтом — «что в голову взбредет». А ведь таких курбаши, по-видимому, большинство. Методы борьбы с ними тоже должны быть простыми: не гоняться за каждой бандой в отдельности, а занять все опорные пункты басмачей, вытеснить их из кишлаков, окружить летучими конными отрядами. Действовать примерно так же, как он действовал против белоказачьих банд Толстова. И если до этого басмачей «терпели», то сейчас им следует объявить беспощадную войну. Это сторона военная; что касается политической, то нужно поднять все население, чтобы у курбаши земля горела под ногами. Фергана разорена, хозяйство ее разрушено, поля не обрабатываются… На западе появилось мутное пятно, оно быстро увеличивалось в размерах. Казалось, что надвигается песчаная буря. — Кужело идет! Смолкли выстрелы, басмачи рассеялись по долине. Они уходили в сторону Андижана. Их преследовали до вечера. Курширмат скрылся в горах. — Ушел кривой шайтан, — сокрушался Мадамин. — Я его повадки знаю. Но мы его найдем и в горах. Возле Андижана сидит мой дружок курбаши Ахунжан. Я письмо ему послал: пусть переходит в Красную Армию. Если все станут кзыл-аскерами — басмачи пропадут. — Спасибо, товарищ Мадамин. Примите эти простые часы. Золотых, к сожалению, нет. Подарок от командующего. Вы действовали смело и решительно. Часы были большие, величиной с кулак, на массивной цепи. Мадамин обрадовался. — Если кого-нибудь ударить по лбу… Он обладал хорошо развитым чувством юмора. — Дам вам добрый совет, Мадамин… — Мое настоящее имя Мохаммад-Амин. — Мохаммад-Амин. Никогда не старайтесь склонить на сторону Советской власти Курширмата: он потерянный для нас человек. Остерегайтесь его. — Я учту ваш совет, товарищ командующий. Я знаю: Кривой Ширмат — очковая змея зум-зум. «Ну а если все-таки постараться переманить кривого шайтана на нашу сторону?.. Большой подарок будет «кзыл-генералу»! — думал Мадамин. У него зародился, как ему казалось, очень хитрый план: ведь и змею можно приручить!.. Если бы Фрунзе мог знать его мысли, он сказал бы строго: — Никогда не делайте начальству подарков! Андижан охраняла Первая Приволжская татарская стрелковая бригада. Командовал ею Юсуф Ибрагимов, человек молодой, энергичный, с большим боевым опытом. Одно время он работал в Москве в Центральном мусульманском комиссариате. Теперь Ибрагимов по настоянию Фрунзе утвержден членом Реввоенсовета фронта. Ему придется перебраться в Ташкент, а бригаду оставить на Александра Тальковского. Бригада прошла с боями от берегов Волги через уральские степи до Туркестана, взяла в плен белого генерала Акутина, захватила штаб Илецкого корпуса и теперь очутилась в восточном горном углу Ферганы. Андижанцы встречали кзыл-батыра торжественным громоподобным завыванием саженных труб-карнаев. На площадь Старого города вышли все. Мужчины по случаю праздника надели каждый по два ватных халата, один поверх другого, подпоясали их лучшими цветными платками. Женщины были укутаны в черные паранджи. Мелькали шитые шелком и золотом тюбетейки мальчишек. Сидящие у дверей глинобитных домов аксакалы в зеленых и белых чалмах при появлении кзыл-батыра на площади поднялись и, сложив руки, стали кланяться. Фрунзе подошел к каждому из них и поздоровался по мусульманскому обычаю. Это было замечено всеми, и по толпе прошел одобрительный гул. После митинга и речи Фрунзе местные джигиты устроили в честь высокого гостя улак — козлодрание, скачки. Эта спортивная игра давно была известна Михаилу Васильевичу. Во время скачек всадники вырывали один у другого козла. Козел жалобно блеял, все покатывались со смеху. Смеялся и командующий. Тот, у кого козел останется к концу байги, считается первым джигитом края. Победил двадцатилетний Суннатула. Фрунзе наградил его велосипедом. Джигит уселся на велосипед — и свалился в пыль. Поднялся смущенный, красный. Суннатулу поддразнивали, хватали за полы халата. Было весело. На другой день Фрунзе как представитель власти принимал андижанцев, выслушивал их жалобы. На красноармейцев жалоб не было. Зато все просили найти управу на курбаши Ахунжана. «О нем говорил Мадамин», — вспомнил Михаил Васильевич. Ахунжан угонял лошадей, причем со строгим отбором: чистокровных и чистопородных. Впрочем, как уже было известно, за чистокровными лошадьми охотились и другие курбаши. Особенно ценились карабаиры и текинские. Их сбывали эмиру, а он — англичанам. Торговля крадеными лошадьми процветала, их целыми табунами перегоняли в Афганистан и Персию. Государственное коннозаводство находилось на грани краха. Следовало издать специальный закон, сформировать приемные комиссии, назначить цены на лошадей, построить государственные конюшни. Этот, казалось бы, второстепенный вопрос волновал командующего. В условиях Туркестана «конский вопрос» приобрел первостепенное значение. …Фрунзе любил горы. — У меня это почти врожденное чувство, — говорил он Куйбышеву. Через арчовый лес они поднимались на гору Сулеймана. Часто останавливались, окидывали взглядом окрестности. Летучий кавалерийский отряд оставили в одном из ущелий. Просто хотелось, отрешившись от всех забот, побыть вдвоем, почитать стихи, пофилософствовать. Стоять на камнях и следить за полетом гигантских кумаев, слышать шум их крыльев… Они стояли на вершине, на стыке двух величайших горных систем мира — Тянь-Шаня и Памира. Внизу, в долине, раскинулся древнейший город Средней Азии Ош. Дали были затянуты голубовато-серой дымкой. На северо-востоке сверкали вершины Ферганского хребта, на юге белой пирамидой поднимался Кичик-Алай. Фрунзе наклонился, засунул руку под камень и вынул что-то рыхлое, черно-бурое. — Что это у вас? — Семена. Я ведь в юности увлекался ботаникой. — И чем они примечательны? — Они лежат здесь много лет, ждут своего часа. Когда наступят благоприятные условия, они прорастут. Мне иногда кажется, что так бывает и с отдельными людьми. — С той только разницей, что «благоприятные условия» приходится создавать самим людям. Вам хорошо — вы «кзыл-батыр». А я всегда мечтал и мечтаю посвятить себя науке, да вот все не могу «прорасти»: то ли условия для моих наук еще не созданы, то ли условия не выпускают меня в науку… — Ваша правда. А вы знаете, для чего рожден человек? — Догадываюсь. Послушайте:Будем жить, страдать, смеяться,
Будем мыслить, петь, любить,
Бури вторят, ветры злятся…
Славно, братцы, в бурю жить!
«Хотя я и буду нежнейшим супругом, я все же останусь равнодушным к слезам жены, если увижу, что она хочет удержать меня от исполнения обязанностей гражданина».Этим она как бы говорила ему: «Я-то тебя понимаю, и хотя ты не любишь высокопарных фраз, но природа твоя от моего глаза не укрылась». Обычное ее лукавство. Вслух такого она не скажет. Перед его отъездом в Фергану она сказала: «Я жду ребенка». — «А когда все случится?» Она усмехнулась: «Во всяком случае, тебе не о чем пока беспокоиться — еще не скоро». И теперь теплые волны счастья захлестывали его. Быть отцом!.. — Отцом!.. — сказал он вслух. Куйбышев не понял. Фрунзе расхохотался, проворно взобрался на серую каменную глыбу, сложил руки рупором и закричал: — Человек рожден для счастья, как птица для полета! Ого-го-го-го… Пафос пре-о-до-ле-ни-я-а!.. Спустился вниз, сказал: — От крика чуть борода не отвалилась. И вам советую обзавестись бородой. — В тридцать два года? — В глазах мусульман борода служит признаком умудренности человека. К бородачу больше уважения и доверия. — Вот уж никогда не замечал за вами лукавства! Я, кажется, вот-вот лопну от смеха. Не могу даже представить себя с бородой! Нет и нет. Тут мой пафос преодоления пасует. У меня на голове избыток растительности. Пусть уважают за голову, а не за бороду. Как здесь легко дышится… Они не подозревали, что из расселины за ними в бинокль внимательно наблюдаетчеловек в узкой круглой шапочке, отороченной мехом. На человеке был черный рваный халат, затянутый широким поясом с медными побрякушками. Нож он прятал за голенищем сапога. Такого легко принять за пастуха, если он, конечно, появится перед вами без бинокля и придаст своему лицу робкое выражение. К человеку в круглой шапочке подошел курбаши Хал-Хаджи. — Я бы мог их снять двумя выстрелами! — Ты дурак, Хал-Хаджи. У тебя ума не больше, чем у ягненка. Зачем убивать? Это называется — террор. Газеты читаешь? На белый террор большевики всегда отвечают чем? — Не знаю. — А я знаю, потому что я грамотный человек. Ты убьешь Пурунзо-ага и Койбаши-ага, а завтра в Фергану стянут все войска и еще из России пришлют войска. Куда пойдешь? В Афганистан? А зачем ты там нужен? Я хочу служить у такого великого полководца, как Пурунзо-ага. Тебе тоже пора за ум взяться. — Меня сразу расстреляют. И Кривого Ширмата расстреляют, если он попадется. — Ну, меня не расстреляют. Я не такой глупец, как вы с Кривым Ширматом. — Заладил: глупец, дурак… Объясни все толком. — Передай Кривому Ширмату, что изменник Мадамин почти в наших руках. Пусть прикинется овечкой и пригласит Мадамина для переговоров. А теперь уходи, не мешай мне. «Кзыл-генерала» заманить мы всегда успеем. Газават нужно делать, а не террор! Фрунзе и Куйбышев поднялись до священной плиты, на которой будто бы молился сподвижник Магомета Али и оставил на ней отпечатки своих пальцев. Здесь их встретили отшельники-сторожа. Сторожа были смущены и перепуганы. Еще ни один орус не поднимался к священному месту, а тут пришли два начальника с красными звездами на фуражках, с шашками и револьверами на боку. Чтобы успокоить отшельников, Михаил Васильевич встал на колени, положил руки и голову в углубления на плите и несколько минут оставался в такой позе. Когда поднялся, подошел к старцам, поклонился им, сказал несколько слов по-узбекски, а затем раздал милостыню. Валериан Владимирович с интересом наблюдал всю эту сцену. — Я как-то всякий раз забываю, что вы родом из Туркестана. Да, нужно родиться здесь, чтобы постичь все… Почему у здешних народов так много церемоний? Иногда мне кажется, что обрядность выхолащивает из души человека что-то очень существенное, важное; она не может заменить это важное. Всякая обрядность — не сущность, а видимость. — На первых порах обрядность приучала человечество к дисциплине. Всякий ритуал требует строгой дисциплины. На тропе показался человек в круглой шапочке и рваном черном халате. Подойдя к Фрунзе и Куйбышеву, он стал кланяться, сложив руки на животе и полузакрыв глаза. — Не ты ли будешь кзыл-батыр Пурунзо-ага? — обратился он к Михаилу Васильевичу. — Откуда ты меня знаешь? Человек в круглой шапочке упал на колени. — Не гневайся, высокий генерал, на меня за мою дерзость! Я не по своей воле: послал меня к тебе курбаши Ахунжан сказать, что он готов перейти на твою сторону. — Где сейчас Ахунжан? — Неподалеку от Андижана. — Я завтра буду в Андижане. Пусть Ахунжан приезжает в штаб бригады. В штаб Ахунжан не приехал. Через посыльного передал, что ждет «кзыл-генерала» в своем шатре, на окраине города, а в штаб являться боится. Разведчики донесли, что курбаши явился с отрядом в семьсот человек. — Их надо окружить, — предложил командир бригады. — Вам, товарищ командующий, не советую ехать туда. Это же басмачи, и от них можно ждать любой провокации. — И все-таки я поеду! Без сопровождения. У курбаши была возможность захватить меня, но он этой возможностью не воспользовался. Значит, в самом деле надумал подписать соглашение. Адъютант, едем! Зеленый шатер Ахунжана стоял между двух холмов. Басмачи окружили Михаила Васильевича и адъютанта, помогли им слезть с лошадей. Больше всех суетился человек в круглой шапочке. Сегодня, правда, на нем был новый цветной халат. — А где Ахунжан? Человек в круглой шапочке обнажил белые зубы. — Я и есть Ахунжан, высокий генерал. Вчера схитрил. Но кому можно доверить такое важное дело? Сам пошел. Все мои аскеры готовы присягнуть тебе. Командующего под руки ввели в шатер, усадили на ковер. Ели плов, пили кок-чай. Ахунжан пил водку из изюма, прикрывая пиалу ладонью: «чтобы не видел аллах». Курбаши без всяких дополнительных условий подписал соглашение, его отряд стал называться Узбекским кавалерийским полком Красной Армии. Легкость, с какой Ахунжан перешел на сторону Советской власти, настораживала. — Если уж он своего аллаха надувает, то нас и подавно надует. За Ахунжаном нужен надзор и надзор, — сказал Михаил Васильевич командиру бригады. — У него вид продувной бестии. Щурит глазки, улыбается, а сам себе на уме. Очень уж подобострастен. Не доверяю таким. Командующий уехал в Ашхабад. Ахунжан отправился в Наманган в гости к своему старому приятелю Мадамину. — Вот видишь, Мадамин, — говорил Ахунжан, — ты меня переманил на свою сторону. Ты грамотный человек, Мадамин, самый умный из курбаши. Теперь мы с тобой оба командуем полками и получаем жалованье. Никаких забот, убегать ни от кого не нужно. Мне жаль Кривого Ширмата и Хал-Хаджи. Они все-таки наши друзья. А теперь получается, будто мы кровные враги. Неправильно получается. Я уговаривал обоих, боятся. Особенно упирается Кривой Ширмат. Может, он тебя послушает? — Уговаривать его не поеду. Пусть сам приходит в Наманган. Ахунжан покачал головой. — Кривой Ширмат — упрямый, как осел. Глупый, темный человек. Его нужно убеждать. А хорошо было бы, если бы мы собрались все вместе: ты, я, Хал-Хаджи, Ширмат. Пурунзо-ага был бы очень доволен. — Он не верит Ширмату. — Откуда командующему знать, что Ширмат, как большой ребенок. Он только на вид свирепый, а в голове у него не все в порядке. Англичане пообещали его чуть ли не эмиром сделать. А где они, англичане? Где они были, когда народ поднялся против хивинского хана и Джунаида? Ширмату все объяснить надо, как это умеешь делать только один ты. Мадамин был польщен. «А может быть, в самом деле стоит съездить к Ширмату? — размышлял он. — Ширмат не посмеет нарушить закон гостеприимства…» На второй день Ахунжан встретился с Кривым Ширматом, сказал ему: — Пригласи Мадамина письмом, скажи, что надумал перейти, и убей эту неверную собаку! …Эту страну он не успел целиком открыть в юности. Он тогда обследовал лишь те земли, что лежат вокруг Иссык-Куля, увидел снеговую голову Хан-Тенгри. А далеко на западе были тугаи Аму-Дарьи, пески Кызыл-Кумов и Кара-Кумов, столовидные горы Копет-Дага, старинные развалины. Теперь он увидел все это. В тугаях, в камышах, на воде розовели изящные фламинго, плавали лебеди и колпицы с лопатообразными клювами, неслышно подкрадывалась к фазану камышовая рысь кара-кулак. Здесь было кабанье царство. По ночам кабаны делали набеги на бахчи и огороды, истребляли посевы джугары. Кремневые мултуки и лохматые киргизские овчарки мало помогают местным жителям в борьбе с кабанами. Нужно создать из красноармейцев охотничьи команды, устроить настоящий кабаний гон с собаками и самому неплохо бы вспомнить молодость… Забраться на коне в зеленовато-желтые заросли, ждать с винтовкой, пока послышатся крики и свист загонщиков… Хорошо бы иметь при каждой охотничьей команде хотя бы небольшую свору! Мечты… На зеленых холмах возле Ашхабада алели тюльпаны, ползали черепахи и маленькие вараны. Михаилу Васильевичу понравился город на равнине. Но и здесь тянуло в горы, манили мягкие очертания Копет-Дага, поднимающегося на юге. После съезда он совершил экскурсию в Фирюзу. Поразили плоские, красные, выветрившиеся горы, совершенно голые и все-таки прекрасные; поразили вековые чинары; и небо здесь было особенное: бирюзовое. Еще нигде и никогда не видел он такого неба. Казалось бы, небо повсюду должно быть одинаковое, но это неправда. «Я бы хотел всегда жить здесь… — думал он. — Охотиться на перепелов и архаров, сидеть на берегу Фирюзинки и читать книги». Но он знал, что жить здесь не придется. Жить здесь — значит отдыхать. Одни словно бы рождаются для отдыха, другие — для работы. Сколько дней смог бы он просидеть на берегу Фирюзинки?.. Конь Чапаева был с ним. Конь, привыкший к выстрелам, к орудийным залпам, конь, знающий, когда ему нужно лечь на землю и когда мчаться, обгоняя ветер. Он мирно пасся на лугу, иногда прядая нервно-чуткими ушами. Потом они двинулись к самой южной точке Советского государства — к Кушке. Был парад. Михаил Васильевич осмотрел развалины крепости, где некогда останавливался Александр Македонский. Прошло… как будто вовсе не бывало… Фрунзе написал Владимиру Ильичу:
«Личное ознакомление с состоянием воинских частей фронта, начиная от Ташкента, кончая районами Красноводска и Кушки, дало самую безотрадную картину. Численный состав ничтожен… Настроение частей неудовлетворительное, главным образом, на почве отсутствия обмундирования; все части представляют в этом отношении неописуемый сброд. Пограничная охрана отсутствует; вся приграничная полоса заполнена афганцами и персами. Вооружение войск разнокалиберное; до сих пор одна четверть вооружена берданками и одна четверть английскими винтовками. Таким образом, в военном отношении мы сейчас представляем ничтожество. В политическом отношении наше положение в Закаспии в данный момент вполне благоприятно. После произведенного нами объезда депутатов и всех туркменских племен можно считать исчезнувшими опасения за неблагоприятный исход голосования… Настроение приграничных персидских племен тоже в нашу пользу. Англичане в Хоросане отчаянно нервничают…»С вооружением очень плохо. На днях пришлось отправить полторы тысячи винтовок и десять пулеметов в Баку — Сергею Мироновичу Кирову. На чем все держится? Но пока держится, нужно спешить. В Ташкент командующий вернулся с обширными планами преобразования армии. В частности, он решил построить военно-коммунистический городок — стратегический опорный пункт к юго-западу от Ташкента, на плато, возвышающемся над долиной Сыр-Дарьи и Голодной степью, а также создать мощную боевую флотилию на Аму-Дарье, которая сдерживала бы напор англичан на Термез. За военными делами не забывал он и хозяйственные: отправил в Иваново-Вознесенск два эшелона хлопка, а в Самару — два эшелона с нефтью и бензином.
КАК ХАЛАТ БУХАРСКОГО ЭМИРА ОКАЗАЛСЯ В ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЕ
Одного из киргизов звали Халпибай, другого — Гедибай. Оба они были седобородые, морщинистые, пропахшие дымом кизяка, в синих засаленных халатах. Как они добрались от Ферганы до Ташкента, никто не знал. Когда их провели в кабинет командующего, они распростерлись на полу. — О, высокий генерал наш! Кто же виноват, что мы родились киргизами? Почему грабят наши юрты, разоряют наши кочевья? Михаил Васильевич усадил их на диван. Ординарец принес чай. — Кто посмел вас обидеть? — Проклятый курбаши Ахунжан (будь вдовой его дочь!), который притворился красным командиром. Его солдаты разбойничают в кишлаках, угоняют коней. — Ахунжан все вернет и будет наказан. Когда киргизы ушли, Фрунзе дал волю гневу. Был только один способ положить конец всем безобразиям, творимым Ахунжаном: перебросить его полк в Ташкент и переформировать здесь. Командующий отдал приказ. Вскоре получил ответ: Ахунжан выполнять приказ отказался. А тут чрезвычайное происшествие: басмач Курширмат заманил в свою ставку командира полка Мадамина и зарезал его. По-видимому, не обошлось без Ахунжана. Значит, Ахунжан поднял мятеж… Командующий в сопровождении отряда выехал в Андижан. Взбунтовавшегося курбаши нужно немедленно арестовать, разоружить полк. Но все это казалось довольно проблематичным. К Ахунжану может присоединиться Кривой Ширмат, а в Андижане советский гарнизон слаб. Может произойти кровопролитие, а его не должно быть. Только хитростью можно взять мятежников. План командующий обсудил с командирами Татарской бригады и местным ревкомом. Якобы по случаю приезда командующего назначили парад всего гарнизона. На площади войска были расположены таким образом, что ахунжановцы оказались в кольце бойцов Татарской бригады. Выходы с площади перекрыли повозками и автомобилями. Ахунжана вызвали в клуб на заседание ревкома. Курбаши явился. Но не один, а с четырнадцатью своими сторонниками, вооруженными маузерами. Они окружили Фрунзе. Но он сделал вид, что ничего не замечает. Как бы между прочим, спросил, почему Ахунжан не выполнил приказ. — Я в Троицкие лагеря не поеду! — закричал курбаши. — Не поеду, и мой полк не поедет. Фрунзе не обратил внимания даже на то, что Ахунжан вскочил со стула и схватился за рукоятку маузера. — Реввоенсовет фронта постановил, чтобы твой полк вышел в Ташкент. Так нужно для Советской власти. — Почему оставляешь Татарскую бригаду, почему выгоняешь меня в Ташкент? Или для татар — другая Советская власть? Я уеду, кто будет охранять наши семьи, наш скот? — От кого? — От ваших красноармейцев! — Но они никого не грабят, не воруют коней. Твои джигиты воруют коней. Все вернуть дехканам! За разбой судить будем. Теперь скажи: кто убил Мадамина? — Откуда мне знать? Говорят, Кривой Ширмат. Мадамин будто бы поехал к нему в гости, они напились изюмной водки и поссорились. — А мне сказали, что ты уговорил Мадамина поехать к Курширмату и сам вместе с Мадамином поехал. Я это установил точно! Сквозь смуглоту щек Ахунжана проступила бледность, лицо перекосилось от злобы. Басмачи поднялись, Ахунжан резко выхватил маузер, приставил к груди Фрунзе. — Кто тебе сказал, кто?! Не ты меня, а я тебя судить буду, кзыл-генерал! — Опусти маузер. Ошибку можно простить, Ахунжан, но предательство — никогда. Сдать оружие! Вы арестованы… Кто-то ударил Ахунжана по руке, он выронил маузер. Комнату заполнили красноармейцы с винтовками. Басмачи побросали маузеры. Фрунзе продолжал сидеть на стуле, спокойно наблюдая, как Ахунжану и его единомышленникам скручивают руки. — Всех разоружили на площади? — Всех, товарищ командующий. — Ну вот и все. Никаких переговоров с басмачами больше вести не будем. Пора каленым железом выжечь язву басмачества. Пора железной метлой вымести из Ферганы всех грабителей и бандитов. Для всех таких хулиганов и насильников, как Ахунжан, Хал-Хаджи, Бахрамов, Курширмат, у Советской власти ответ один: пуля в лоб. Уведите их!.. Когда на станции Нарын к командующему пришли празднично разодетые люди и пригласили его на плов, Михаил Васильевич спросил: — Кто вы такие? — Здешние дехкане, высокий начальник. Прослышали о твоих доблестных делах, а прочитав твое послание «К мусульманскому населению Ферганской долины», возликовали: ты обещаешь уничтожить басмачей! Вот мы ходим тут и на радостях твердим, как молитву: «Да здравствует Советская власть!» А когда узнали, что пройдет твой поезд, совсем, потеряли покой. — Спасибо за приглашение. Я приду… — Как вам все это нравится? — спросил он у Сиротинского. — Не очень нравится. — Почему? — По-моему, все они — басмачи. Хотят устроить вам ловушку. Их нужно арестовать. — А если они все-таки дехкане? — Очень уж осведомленные дехкане. Знают, когда пройдет поезд. И обращение успели прочитать, а ведь его только завтра будут разбрасывать с аэроплана. И лозунги вызубрили. — Правильно. Это банда Бахрамова, если хотите знать точно. Все их очаги помечены у нас на карте. А им все кажется, что они неуловимы. Борьба с басмачеством будет затяжной. Мало выловить курбашей и их шпионов. Нужно выявить, кто доставляет басмачам продовольствие, и таких расстреливать. Сегодня мы возьмем Бахрамова. Станцию окружить! Вызвать из Андижана бронепоезд и два кавалерийских эскадрона. И никаких церемоний и пловов!.. Во время этой операции было взято в плен две тысячи басмачей. Их под усиленным конвоем отправили в Андижан, в тюрьму. В Фергану командующий бросил большую часть сил, вплоть до команды фронтового поезда. Не успел он подавить басмачество в Фергане, как получил известие о мятеже в Семиречье. В ночь на двенадцатое июня поднял восстание Двадцать седьмой стрелковый полк в Верном, куда уехал Фурманов. Известие о мятеже застало Фрунзе в Ташкенте. Фурманов со своей группой прибыл в Верный еще 5 апреля. Расположились в гостинице «Белоусовские номера». Дела шли, казалось бы, хорошо. Фурманов занялся мобилизацией коммунистов в армию, приходилось заниматься посевной кампанией, сбором средств в помощь разоренным районам. Привычная, знакомая работа. У него в кабинете висела табличка: «Говори кратко, уходи быстро», Он часто выступал в семиреченской «Правде». Беспокоило одно: некоторые части Третьей Туркестанской дивизии были сформированы из зажиточных крестьян Семиречья, сюда попало много кулаков, враждебно настроенных к Советской власти, к ее национальной политике. Кулакам хотелось бы по-прежнему держать в узде киргизскую бедноту, которую Советская власть стала наделять землей. Никто не заметил появления в Верном Авалова. Покинув Старую Бухару, Авалов долго добирался до Семиречья. А когда добрался, то узнал, что Анненков, Щербаков и Дутов разбиты, бежали в Китай. Авалов не растерялся. Оставив чолоказаков на постоялом дворе сторожить товар, он отправился к помощнику военкома Мирзоеву, с которым, как он знал, был связан атаман Анненков. Мирзоев обрадовался гостю. Придвинув вплотную к лицу Авалова обритую синюю голову, Мирзоев шептал: — Формировать батальоны, полки будешь! Хороший глаз нужен. Сам знаешь, кого формировать надо. Будь маленький, маленький, самый незаметный. Помни, что ты — контр-ры-волюция! Знаешь, чего семирек боится? — Нет, не знаю. В узких глазах Мирзоева блеснул огонек. — Введения хлебной монополии боится. Нужно слухи пускать. О чем Фрунзе думает? Он говорит: в семиреченских полках много кулаков, нужно эти полки перебросить в Ташкент, там их от кулаков очистить. Большой бунт поднимать надо! Крепких хозяев спасать надо. Наши табуны спасать надо. Твоего атамана спасать надо. Авалов с жаром принялся готовить «большой бунт». Авалов, до этого относившийся презрительно к «инородцам», сейчас ловил себя на мысли, что испытывает подобострастное почтение к неподвижной тяжести Мирзоева. В этой тяжести было нечто прочное. Заговорщики всячески старались использовать национальную и религиозную вражду, тайно привозили в воинские части бочки со спиртом, спаивали и командиров и подчиненных. После того как Дмитрий Фурманов объявил приказ о переброске воинских частей из Семиречья в Ташкент и Фергану, мятежники арестовали комендантов города и крепости, командира Третьей Туркестанской дивизии, командира кавполка Масанчи и работников областного революционного комитета. Они без труда захватили крепость, где находились почти все боеприпасы дивизии. Гарнизон Верного примкнул к мятежникам. Из окрестных селений в город стекались кулаки, объединялись в отряды. Мирзоев создал «боевой совет», своего рода «временное правительство Семиречья», куда вошли Авалов, белогвардейские офицеры, местные эсеры, меньшевики и анархисты. События приобрели такой размах, что Фрунзе вынужден был поставить обо всем в известность Ленина. Фурманов и еще пятнадцать политработников остались в крепости. Их пока почему-то не трогали; но все равно они находились в руках у мятежников. «И самое большое, что сможем сделать, — это умереть как следует, если уж к тому идет дело…» — записал Фурманов. Он знал, что Фрунзе уже принимает меры, формирует бронеотряды и роты с пулеметами. Но помощь может прийти слишком поздно. Как бы поступил в подобной раскаленной атмосфере Михаил Васильевич? Конечно же, не сидел бы, ожидая красивой смерти. Надо действовать! Изолировать главарей мятежа, взять в руки мятежную толпу. «Как ее взять в руки, мятежную толпу?.. Прежде всего перед лицом мятежного собрания надо выйти как сильному: и думать, мол, не думайте, что к вам сюда пришли несчастные и одинокие…» И он вышел к ним, стал убеждать, разъяснять, что все они обмануты белогвардейцами. Лучше одуматься, пока не поздно. Из Семипалатинска, из Ташкента идут войска. Советская власть утвердилась навсегда. Кому нужно кровопролитие, во имя чего? А в это время посланные им разведчики связались с комиссаром Четвертого кавалерийского полка Иваном Долженковым. Долженкову удалось задержать кулацкие отряды, спешившие на соединение с мятежниками. Ночью Фурманов выбрался из крепости. В два часа он встретился с Четвертым кавполком на подступах к Верному. Полк вошел в город. Посты мятежников были сняты, заговорщики схвачены. На второй день утром, двадцатого июня, Дмитрий Фурманов доложил в Ташкент о ликвидации мятежа. Авалов и сопровождающие его чолоказаки заблаговременно покинули город. След их затерялся в пустынях и горах Семиречья. Командующий в это время вынужден был следить не только за событиями в Верном, но и за тем, что происходит в Бухаре. Через границу Персии караванами сюда беспрестанно подвозили оружие. В Старую Бухару стекались «добровольцы» — от белых офицеров до басмачей. Белогвардейцы и английские инструктора обучали армию эмира. Эмир провел две мобилизации молодежи. Теперь он и его беки располагали почти сорокапятитысячной армией. Фрунзе по-прежнему мог выставить всего лишь десять тысяч бойцов. В районе Термеза зашевелились англичане. Доходили слухи, будто на Термез из-за границы идет десятитысячная армия. Что представляла из себя Бухара? С 1868 года она была в зависимости от России, через эмират проходила русская железная дорога. Эмират занимал двести двадцать тысяч квадратных верст. Так как Туркестан входил в состав РСФСР на правах автономной республики, то сложилась совершенно нелепая ситуация: в тело социалистического государства клином врезалось феодальное государство. Это был нож в сердце Туркестана. Связь со странами Востока эмир поддерживал в основном через Аму-Дарью. Создав военную флотилию на Аму-Дарье, Фрунзе тем самым выбил у эмира ключевые позиции. Что это была за флотилия? Восемь 75-миллиметровых орудий, восемь 57-миллиметровых, десять 37-миллиметровых, установленных на старых катерах. На Аральском море стояло семь пароходов, три баржи; на Аму-Дарье — девять пароходов, один катер, два теплохода, двенадцать барж и четыре баркаса. Из Самары он вызвал еще шесть катеров и гидроотряд. Вот и вся флотилия. Старую Бухару взять приступом было бы нелегко: толстые и высокие стены, широкий защитный пояс, высокие башни над одиннадцатью воротами. На ночь ворота запираются. Но Фрунзе и Куйбышев хорошо были осведомлены, что делается за толстыми стенами: в глубоком подполье недавно организовалась бухарская компартия; она готовила восстание. Компартия насчитывала пять тысяч членов. Двенадцатого августа Фрунзе подписал директиву:«В связи с ожидаемым выступлением бухарского народа на путь открытой борьбы со своим эмиром и его правительством приказываю…»Красная Армия должна быть готова в любую минуту выступить на помощь восставшему народу. Прежде всего командующий усилил охрану и наблюдение на границе с Персией и Афганистаном, а также охрану железной дороги. В Новую Бухару были переброшены два авиаотряда. Аму-Дарьинской флотилии поставили задачу не допускать никаких переправ противника на участке от Керки до Термеза, то есть у самой южной границы. Чтобы изолировать Бухару от войск беков и отрядов басмачей, Фрунзе создал несколько сильных ударных групп: Чарджуйскую, Самарканд-Бухарскую, Катта-Курганскую, Каганскую. Эмират оказался в кольце. К участию в операции был привлечен отряд бухарских красных войск. Когда Фрунзе пугали тем, что у эмира почти пятикратное превосходство в силах, он строго отвечал: — А кто их считал, эти сорок пять тысяч? Мне, например, точно известно, что в Старой Бухаре семьдесят пять тысяч жителей, большая часть из них за нас. Для нас сейчас главное: скрытно провести подготовку. Пусть эмир думает, что мы готовимся к новому походу против недобитых басмачей. Восстание началось в конце августа 1920 года после партийной конференции. Военно-революционный комитет, созданный на конференции, обратился к Турккомиссии, к правительству Туркестанской АССР и лично к Фрунзе за помощью. Восстали крупные города эмирата: Старый Чарджуй, Сахар-Базар, Хатырчи, Керки. Михаил Васильевич находился со своим полевым штабом в Самарканде. Самарканд… В детстве это слово звучало восточной сказкой. И только теперь, в тридцать пять лет, он увидел минареты Регистана, мечети, мавзолеи и надгробья. Столица Тимура, ставка Александра Македонского… Здесь обитал дух древности. Раскаленные зноем холмы, устремленные в желтое небо высоченные башни, расписанные глазурью; каменные дворы мечетей, арабские письмена… Все здесь будило фантазию, взывало к вечности, напоминало о бренности. Это чувство становилось особенно острым по ночам, когда над башнями и куполами горели звезды. Так как днем ворота Старой Бухары были открыты для всех, Михаил Васильевич решил послать туда разведчицу Хулькар. Задание несложное, но очень важное: выяснить, где квартируют английские офицеры. Пришла Хулькар. Ее крутая голова была убрана множеством мелких косичек. Детская мягкость скуластых, с темным румянцем щек, тонкий рисунок бровей, тяжелые мониста на шее… Совсем ребенок — четырнадцать лет. — Не боишься, Хулькар? Глаза ее гордо блеснули. — Нет, нет. Я хорошо знаю Старую Бухару. Я притворюсь турчанкой, турецкий учила, мама — турчанка. Хулькар выяснила: дом английских офицеров находится в тихой части города, неподалеку от одной из магометанских школ. Охраняется турецкими аскерами. Фрунзе устроил совещание с политработниками. Была создана специальная группа, в которую вошли венгры Фазекаш и Киш и русский Иван Шишкин. — Нужно захватить хотя бы одного англичанина-инструктора, — сказал Михаил Васильевич. В Старой Бухаре со времен мировой войны проживало много бывших пленных чехов, венгров. Переодетые Фазекаш и Киш могли сойти за «своих». Спецгруппа уселась в крытый грузовой автомобиль и беспрепятственно въехала в городские ворота. Возле дома, где жили английские офицеры, Киш затормозил машину, выскочил, поднял капот и начал браниться по-венгерски. Часовой в тюрбане подошел к Кишу, стал объяснять знаками, что останавливаться возле дома нельзя. Киш поманил часового пальцем, а когда турок наклонился, ударил его гаечным ключом по шее. Все трое ворвались в дом. Англичане были пьяны, они отупело уставились на непрошеных гостей. Когда на них направили дула маузеров, они, мотая головами, что-то мыча, подняли руки. Англичан вывели и усадили в машину. Они все еще не могли сообразить, что происходит. — Забрав этих трех джентльменов, вы избавили их от многих неприятностей, — сказал Фрунзе. — Мы их допросим и отпустим. В Старую Бухару они больше не вернутся, и, следовательно, им не придется отсиживаться в осажденном городе. Один из англичан саркастически улыбнулся. Он, должно быть, понимал по-русски. После того как восстание вспыхнуло в Старой Бухаре, Фрунзе приказал начать военные действия. Оперативными группами управлял по радио. Бухара — это равнина, покрытая песками. Эмир надеялся заманить отряды Красной Армии в глубь песков, окружить их и уничтожить. Он распорядился перекрыть главный водный распределительный канал. Под сорокаградусным зноем арыки мгновенно высохли. Бойцы глотали раскаленную пыль.
 Но никакие уловки не помогли эмиру. Дехкане выходили навстречу красноармейцам, передавали кожаные турсуки с водой и холодным айраном, арбузы и дыни. Двадцать девятого августа советские войска подошли к стенам Старой Бухары. Фрунзе лично руководил штурмом крепости. Из всех ста тридцати башен города противник вел пулеметный и артиллерийский огонь. Все одиннадцать ворот оборонялись лучшими частями армии эмира. Все мечети и медресе были приспособлены для обороны. Никакие снаряды красных не могли пробить глинобитные стены толщиной восемь метров. Штурм затягивался. Фрунзе телеграфировал Куйбышеву в Ташкент:
Но никакие уловки не помогли эмиру. Дехкане выходили навстречу красноармейцам, передавали кожаные турсуки с водой и холодным айраном, арбузы и дыни. Двадцать девятого августа советские войска подошли к стенам Старой Бухары. Фрунзе лично руководил штурмом крепости. Из всех ста тридцати башен города противник вел пулеметный и артиллерийский огонь. Все одиннадцать ворот оборонялись лучшими частями армии эмира. Все мечети и медресе были приспособлены для обороны. Никакие снаряды красных не могли пробить глинобитные стены толщиной восемь метров. Штурм затягивался. Фрунзе телеграфировал Куйбышеву в Ташкент:
«Мы несем огромные потери, по-видимому, перешедшие уже за цифру 500… Бросаю в помощь свой последний резерв. Чувствуется острый недостаток в патронах и снарядах, необходимо также пополнение людьми и комсоставом. Примите все меры для организации эшелонов пополнения…»К стенам Фрунзе послал саперов. Саперы заложили динамит. Содрогнулись древние стены. В брешь устремились красноармейцы. Бой теперь шел на узких, кривых улочках города. Эмир приказал поджечь склады хлопка. Ядовитый дым окутал город. Красноармейцы шаг за шагом продвигались к многобашенному Арку, в центр города, где на холме находился дворец эмира. Вот распахнулись ворота Арка, аскеры эмира побросали винтовки. А где же эмир Сеид-Селим? Эмир бежал. Через какие ворота? Через Каршинские, Каракульские, Мазар-и-Шерифские или Шахские?.. Кто мог сказать? Фрунзе послал Ильичу телеграмму:
«Крепость Старая Бухара взята сегодня штурмом… Над Регистаном победно развевается КРАСНОЕ ЗНАМЯ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ…»Освобожденные дехкане Бухары преподнесли Михаилу Васильевичу саблю с надписью:
«Дана в знак благодарности от имени бухарского революционного народа товарищу командующему Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе за активное участие в бухарской революции. 5 сентября 1920 года».Эмир не успел захватить свои богатства. Красноармейцы укладывали в кожаные мешки и в ящики золотые сосуды, жемчуг, драгоценные камни. Все это опечатывали и отправляли в Самаркандский государственный банк. Огромное количество золота было взято и в другом городе эмирата — в Шахризябсе. Михаилу Васильевичу принесли халат эмира, шитый золотом и жемчугом, шапку, оружие и стремена. — Даже халат не успел надеть! Отправим все это в дар Иваново-Вознесенскому краеведческому музею. Ивановцы храбро дрались за бухарскую революцию. Будет память для потомков. Эмират пал. Басмачи разбиты. Семиреченская контрреволюция разгромлена. Все оперативные направления ликвидированы. Осталось одно название — Туркестанский фронт. А фронта-то и нет… В вагон командующего вбежал адъютант. — Вас требует к проводу товарищ Куйбышев! Немедленно… — Что еще стряслось? Ползла телеграфная лента. Телеграфист молчал. Как-то странно щурился, будто сдерживал рвущееся наружу веселье. — Читайте! — «От всего сердца поздравляю. У вас родилась дочь…» — Татьяна, — сказал Михаил Васильевич. — Какая Татьяна? — не понял адъютант. — Дочь моя. Родилась… Читайте дальше. — «Вас весьма срочно отзывают в Москву. Повторяю: отзывают». Не вызывают, а отзывают. Значит, насовсем. Но почему такая спешка? Кто отзывает?.. …В Ташкенте на квартире Фрунзе старая женщина стирала пеленки. Михаил Васильевич вошел неслышно. Под мышкой у него была огромная, как поросенок, золотисто-зеленая дыня. Женщина подняла голову от корыта, спросила: — Вам кого? — Мама! Дыня упала на пол, треснула. Губы женщины дрогнули, руки повисли. — Мишенька!.. Наконец-то… — Мама! Мама! Мама!..
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА» — НА НОВЫЙ ФРОНТ
Пока Фрунзе громил Колчака, белоказаков, басмачей, штурмовал Бухару, на других фронтах совершались свои большие события, месяц за месяцем вплетающиеся в мозаику общих побед Красной Армии; там были свои талантливые полководцы и командиры. Кто-то разбил Юденича, кто-то разбил Деникина, кто-то воевал с Петлюрой, Мамонтовым и Шкуро, кто-то гнал белополяков чуть ли не до Варшавы. Кто-то создал и впервые в истории всех войн применил в боях целую конную армию, тем самым решив одну из важнейших проблем военного искусства: прорыв позиционного фронта с последующим развитием прорыва на большую глубину. Конная армия, способная самостоятельно решать не только оперативные, но и стратегические задачи! Где и когда было такое?! В сводках и в газетах попадались знакомые фамилии: Тухачевский, Буденный, Постышев, Бубнов. Постышев руководит партизанами на Дальнем Востоке и в Сибири. Это он помогал бить Колчака. Андрей Бубнов входил в Советское правительство Украины, был членом Реввоенсовета фронта. Ну а Буденный командует той самой конной армией — Первой. Членом Реввоенсовета этой армии значится человек с незнакомой Михаилу Васильевичу фамилией — Ворошилов. Кто он? На глазах Фрунзе рождалось новое военное искусство, то, что Энгельс в свое время определил как пролетарский способ ведения войны. Гражданская война была наиболее острой формой классовой борьбы, когда, по словам Ленина, ряд столкновений и битв экономических и политических, повторяясь, накапливаясь, расширяясь, заостряясь, доходит до превращения этих столкновений в борьбу с оружием в руках одного класса против другого класса. И руководил этой невиданной по размаху борьбой великий стратег революции Ленин. К нему сходились нити со всех фронтов, и ни одно явление не ускользало от его зоркого глаза. Это он всякий раз указывал, откуда надвигается смертельная опасность, — и сразу начиналась гигантская работа всего партийного и государственного аппарата по мобилизации и перегруппировке сил. Владимир Ильич принимал решения, от которых в итоге зависела судьба всего Советского государства. Фрунзе поражала способность вождя в критические моменты безошибочно определять направление главного удара. Подобная работа мысли была под силу только гению. Он словно видел то, чего не дано видеть другим, и твердо отметал все сомнения колеблющихся. Но Ильич не ограничивался общим руководством, он вникал в частности той или иной операции, он успевал следить и да тем, что происходит на Кавказском фронте, и за событиями на польском фронте, и за каждым шагом Фрунзе в Туркестане. Реввоенсовету Кавказского фронта Ильич указывал: «Поляки, видимо, сделают войну с ними неизбежной. Поэтому главная задача сейчас не Кавтрудармия, а подготовка быстрейшей переброски максимума войск на Запфронт». От Фрунзе требовал: немедленно скомплектуйте два маршрутных поезда, груженных нефтью и бензином, и примите самые энергичные меры к скорейшему внеочередному продвижению маршрутов на Москву! Меньше всего мог предполагать Михаил Васильевич, что он как полководец занимает значительное место в мыслях Ленина. Но Владимир Ильич очень часто думал именно о нем. «Совершенно исключительный военный талант… Товарищ с редкими стратегическими способностями…» — так сказал о Фрунзе Сергей Иванович Гусев. Крепчайшая большевистская теоретическая и практическая закалка… Все это так. И трудно назвать во всей гражданской войне фигуру, крупнее Фрунзе. Главком Сергей Сергеевич Каменев в прошлом году разработал хороший план контрнаступления Южного фронта, предусматривающий во всех деталях разгром основных сил Деникина. Но Троцкий сделал все возможное, чтобы затянуть подготовку наступления, и план, учитывавший конкретную обстановку, устарел; кроме того, о нем каким-то образом узнало заранее белогвардейское командование. Контрнаступление провалилось, бои приняли затяжной характер, деникинцы захватили Украину и возобновили наступление на Москву. Пришлось вырабатывать новый план. Почему с Фрунзе никогда не случалось ничего подобного? Контрнаступление его Южной группы на Восточном фронте для Колчака явилось полной неожиданностью, и это решило исход сражения. А сложнейшая обстановка в Туркестане, взятие Бухары? Каждый день приходят в Москву оттуда эшелоны с нефтью, бензином и хлопком… й все это сделано предельно ограниченными средствами за каких-нибудь полгода. Фрунзе словно бы игнорирует объективные причины, вырабатывает против них иммунитет. Перечислив эти причины, нарисовав тяжелую, правдивую картину, он неизменно добавляет: «Прошу верить, что реввоенсовет исполнял и исполняет свой долг перед революцией» ила «армия свой революционный долг выполнит». Есть ли дела, непосильные для Фрунзе?.. 8 сентября 1920 года Владимир Ильич предложил Реввоенсовету Республики:«Не назначить ли Фрунзе комфронтом против Врангеля и поставить Фрунзе тотчас… Фрунзе говорит, что изучал фронт Врангеля, готовился к этому фронту, знает (по Уральск. обл.) приемы борьбы с казаками».Откуда взялся Врангель? Было известно, что в феврале прошлого года он командовал одной из колонн кубанско-добровольческой армии Деникина. Эта армия нанесла сильный удар по Одиннадцатой Красной Армии, отбросила ее в бесплодную Прикаспийскую пустыню, через которую Одиннадцатая армия совершила свой тяжелый отход к Астрахани. Мало кто знал, что Врангель — человек с большими претензиями. Деникина он считал полной бездарностью и претендовал на роль верховного правителя России. Прибалтийский барон Врангель Петр Николаевич и в сорок два года сохранил авантюрную жилку, присущую чаще всего молодости. В узком кругу он говорил о Деникине: — Антон Иванович — хороший служака, он верно служил царю, но претензии Антона Ивановича на престол вызывают улыбку. Какой из него правитель? Своим солдафонством и излишними претензиями он оттолкнул французов, англичане тоже холодно относятся к этому индюку. Что касается его полководческих талантов, то Деникин — бельмо на глазу военного искусства. России нужен энергичный правитель типа Столыпина. На последней фразе Врангель умолкал, давая понять всем, что лишь в его лице Россия может обрести твердую монархическую власть. Всякой неудаче Деникина Врангель радовался и терпеливо ждал своего часа. К концу марта 1920 года армии Деникина были разгромлены. Врангель понял, что наступило время его возвышения. Под давлением собственных генералов и Антанты Деникин вынужден был отказаться от власти и передать все свои полномочия Врангелю. Деникин бежал за границу, а Врангель сделался «правителем юга России» и главнокомандующим всеми белогвардейскими силами. В Крым он стянул остатки разгромленной деникинской армии, расправился с генералами, в свою очередь метившими в «правители», занялся тщательным подбором командного состава, как старшего, так и низшего, произвел основательную чистку соединений, создал отличную разведку. Офицеров, чиновников и солдат, проявлявших недовольство, вешал без суда и следствия. Собрав армию в тридцать тысяч штыков и сабель, он 7 июня перешел в наступление, бросив на Тринадцатую Красную Армию танки, броневики, бронепоезда. Очень скоро он захватил всю Северную Таврию, поставил под угрозу Донецкий бассейн и тыл Юго-Западного фронта Красной Армии. Успехи барона Врангеля были так велики, что Франция признала его «правительство». Врангель получил пушки, танки, самолеты, пулеметы, обмундирование и французских инженеров, которые занялись укреплением Чонгарского и Перекопского перешейков. Врангелю противостояла всего лишь одна Тринадцатая армия Юго-Западного фронта, которой командовал двадцатичетырехлетний Уборевич. Реввоенсовет Республики почему-то мало уделял внимания крымскому направлению, и это возмущало Ленина. Он видел, что надвигается новая опасность. Донецкий бассейн, Дон, Кубань: уголь, хлеб, нефть… Но Троцкий, по-видимому, и не собирался оказывать помощь Тринадцатой армии. Против кандидатуры Фрунзе на пост командующего новым, Южным фронтом Троцкий выдвинул «неопровержимые» аргументы: — Фрунзе говорит, что изучал фронт Врангеля. Где он его изучал? Сидя в Ташкенте? Перекопские и чонгарские укрепления Врангеля неприступны, их возводили французские инженеры. Мы знаем, что из себя представляют эти укрепления: бетонированные казематы, пулеметные блокгаузы, крепостная артиллерия, снятая с севастопольских верков, танки, аэропланы. Тут революционный энтузиазм Фрунзе не поможет — это не глинобитные стоны Бухары. У Врангеля лучшая в мире «бронированная» конница! Успехи Фрунзе основаны на случайностях, на простом везении. Но что он может поделать со своей удачей против перекопских укреплений? Опять — революционный дух? Блеф, мистика. Врангеля придется оставить в Крыму. Если не навсегда, то хотя бы до тех пор, пока не закончится баталия с Польшей. Михаил Васильевич ехал в Москву по срочному вызову Центрального Комитета и лично Владимира Ильича. И если зимой дорога от Самары до Ташкента заняла почти месяц, то теперь Фрунзе обязан был приехать в столицу ровно за пять суток, к 17.00. На этот час было назначено заседание Совета Труда и Обороны под председательством Ленина. Останавливались эшелоны с хлопком и нефтью, чтобы пропустить поезд командующего. В считанные минуты менялись поездные бригады. В Москву на всех парах!.. За окном тянулись нескончаемые ковыльные казахские степи, но Михаил Васильевич был равнодушен к картинам природы. Он не слышал перестука колес, не знал, на каких станциях поезд останавливается, и вообще не замечал движения поезда. На недавний запрос из Москвы он ответил, что изучал фронт Врангеля и готовился к этому фронту. Так оно и было на самом деле. Если личность Колчака, как таковая, никогда не интересовала Фрунзе, то к Врангелю у него выработалось иное отношение. Из всех претендентов на верховную власть барон Врангель был самым умным и деятельным. В каждом его шаге угадывалось чувство собственного достоинства. Когда англичане пытались диктовать ему свою волю, он пошел на разрыв с англичанами, вопреки неблагоприятным прогнозам английского кабинета, перешел в решительное наступление на континент. «Чувство времени» — очень важное качество полководца; у Врангеля это чувство, судя по всему, было развито хорошо. Он выбрал самый подходящий момент для наступления. Весь его стратегический план, как догадывался Михаил Васильевич, был построен на том, что помощь только что созданному Южному фронту красных может прийти с запада нескоро. Следовательно, сперва нужно разбить по частям армии Южного фронта, а когда подойдут подкрепления — разбить подкрепления. Что противостояло «бронированной» кавалерии Врангеля? Фрунзе знал: плохо обученная, разутая, раздетая, недавно разбитая бароном пехота. У нее не было ни броневиков, ни танков, ни аэропланов, даже винтовок не хватало. Знал это через своих разведчиков и Врангель. — Зато на нашей стороне интуиция, — говорил Михаил Васильевич адъютанту Сиротинскому. Интуиция… В это слово онвсегда вкладывал разное содержание. В данном случае он имел в виду предвидение, основанное на учете всех слабых сторон врангелевской стратегии. Время Колчака, Деникина, Юденича прошло. Время Врангеля тоже прошло. Только авантюрист может надеяться на какое-то «внеисторическое» чудо. Стратегический план барона покоится на очень зыбкой основе: на неверии в жизненность нового строя, на неверии в способность большевиков противопоставить что-то его «бронированной» кавалерии. Они все не верят, до тех пор пока их не вышвырнут вон… Никакие аргументы Троцкому не помогли: Фрунзе был назначен командующим Южным фронтом. Но Троцкий не собирался складывать оружия. Он знал: Фрунзе разобьет Врангеля. Фрунзе надо свалить, ошельмовать, опорочить в глазах членов ЦК, Ленина, Совета Труда и Обороны. Величайший мастер интриг, Троцкий и на этот раз придумал поистине дьявольский план. План, учитывающий самые низкие стороны души человеческой. Троцкий считал себя знатоком психологии, ее темных сторон; он говорил себе: «Если я способен на это, то на это способен и любой другой». А способен он был на многое. Вокруг него всегда вертелись какие-то тихие, невзрачные на вид люди. С деловым видом, зажав портфели под мышкой, проходили они в его кабинет, тихо выскальзывали из кабинета, словно бы растворялись, не оставляя после себя никакого следа. Это были безымянные статисты политики, но они-то и были самыми доверенными, беспрекословными исполнителями любых планов Троцкого. Они были сильны своей безликостью, своей кажущейся незначимостью. Одному из таких «статистов» Троцкий сказал: — Сегодня на Казанский вокзал прибывает поезд Фрунзе. Известно ли вам, что Фрунзе не так давно подарил Иваново-Вознесенскому краеведческому музею халат бухарского эмира, шитый золотом и жемчугом? Весьма ценный подарок. Такие подарки делают обычно от великих щедрот. Фрунзе захватил все богатства эмира: сундуки с золотом и драгоценными камнями. Вот вы работаете в ЧК, скажите: не могло ли что-нибудь из этих богатств осесть в карманах людей, которые едут сюда вместе с Фрунзе из Ташкента? Нет, нет, Фрунзе в обкрадывании государственной казны я заподозрить не могу: это кристальный большевик, герой. Но можно ли поручиться за его окружение, за всяких там штабников? — В наше время трудно поручиться за кого бы то ни было, — с готовностью ответил «статист». — Золото обладает свойством прилипать даже к самым, казалось бы, чистым рукам. Мы оцепим поезд Фрунзе и всех обыщем. — Ваши дела меня не касаются. Я лишь высказал предположение. Революции, как никогда, нужны деньги, и воровства мы допустить не можем. Сумеете задержать пассажиров, в том числе и Фрунзе, на несколько часов? Прецедент с поездом Фрунзе должен послужить уроком для других. Предупредительная мера. — Разумеется. Я все понял. — Полагаюсь на вас. О результатах обыска можете не докладывать. У меня и без того хватает забот. Дзержинского тоже не стоит беспокоить. Ведь может случиться и так, что обыск ничего не даст. Но законы революции для всех обязательны! Вы произведете обыск не у Фрунзе, а в поезде Фрунзе… «Статист» исчез, растворился. Троцкий почти не сомневался, что у кого-нибудь из сотрудников штаба Фрунзе или команды, охраняющей поезд, будет найдено золото. Лично Фрунзе, разумеется, обыскивать не будут, он не допустит, чтобы у него шарили в карманах, но тень подозрения все равно ляжет и на Фрунзе. Ведь главное: заронить подозрение, намекнуть. Вот, мол, что из себя представляет ваш революционный энтузиаст! Мы не стали обыскивать Фрунзе, но ведь это никогда не поздно сделать… Во всяком случае, на заседание Совета Труда и Обороны Фрунзе явиться не сможет, его задержат. А сейчас дорог каждый день… Может случиться и так, что возмущенный Фрунзе гордо «хлопнет дверью», откажется от фронта, потребует скрупулезного расследования, обвинит Дзержинского в произволе (а поссорить этих двух «железных», столкнуть их лбами прямо-таки необходимо). Не исключено и вооруженное столкновение между охраной поезда и чекистами. Как бы там ни было, акция даст свои результаты. Не было в мире человека, которого бы Троцкий так люто ненавидел, как Фрунзе. Бесила холодная твердость Фрунзе; он разрушал все планы, он как бы мимоходом всякий раз щелкал Троцкого по носу, ставил его на место, изобличал в незнании военного дела, а то и в прямом саботаже. Хоть бы раз, единственный раз унизить этого ярого приверженца Ленина! Оставшись в кабинете один, Троцкий сбросил с себя маску «государственного деятеля», он превратился в маленького, злобного мещанина, жаждущего расправы со своими личными врагами. Убить, уничтожить, сгноить, заставить всех танцевать под свою дудку… Секретарь напомнил: в пять вечера заседание Совета Труда и Обороны. — Меня нет и не будет! В пять я провожу свое заседание. Заседание Реввоенсовета. Секретарь попятился: никогда еще не видел он Троцкого в таком возбужденном состоянии… Поезд подошел к перрону Казанского вокзала. Михаил Васильевич стоял у окна. Он видел, как по перрону бегут вооруженные люди. — Поезд оцеплен отрядом ВЧК, — доложил адъютант. — Что-нибудь случилось? — Сейчас выясню. Выяснить не пришлось. В купе вошел человек в красной кожанке, в пенсне. — Я от ВЧК. Прошкин. Нами получены сведения: в поезде находится золото. Я должен произвести обыск. — Откуда получены такие сведения и кто уполномочил вас производить обыск? — Я не обязан отвечать на ваши вопросы. — Ордер на обыск! Живо… Прошкин улыбнулся. — Все честь честью, товарищ Фрунзе. Вот ордер. — Я не вижу подписи Дзержинского. — Товарищ Дзержинский на заседании СТО. Кроме того, он не обязан на каждом ордере ставить свою подпись. — В данном случае обязан был. — Извините, но это дело не моей компетенции. Я должен выполнить приказ. Ваше купе, разумеется, мы обыскивать не будем. Всякое бывало в жизни, но такого еще не было. Фрунзе хотелось тут же, на месте, пристрелить этого человека, посмевшего так нагло оскорбить подозрением людей, беззаветно утверждавших Советскую власть в Туркестане, дравшихся под Уфой, под Уральском, но он понимал, что Прошкин — всего лишь пешка в чьих-то руках. В чьих?.. Сейчас надо проявить выдержку. Провокация, явная провокация. И где? В Москве, в нескольких минутах езды от Кремля… Знает ли о провокации Дзержинский? Вряд ли… — Хорошо, — сказал он. — Ваши действия я считаю противозаконными, оскорбляющими достоинство красных воинов. Вступать в дискуссию с вами мы не собираемся. Мы составим протокол, зафиксируем все ваши действия, и вы подпишете этот протокол! — А если мы не подпишем! — Тогда я не разрешу производить обыск до прибытия товарища Дзержинского. — И как вы это сделаете? Фрунзе побелел, стиснул зубы. Проговорил тихо: — Я расценю ваши действия как вооруженное нападение на поезд командующего, прикажу бойцам охраны арестовать вас как провокатора. Вы сфабриковали ордер. Ну а с остальными справимся без шума и скандала. Опыт в таких вещах у нас есть. Теперь побелел Прошкин. Локти бойцов охраны — венгров легонько уперлись ему в бока. — Но я обязан выполнить приказ!.. Я согласен подписать протокол. Мы все подпишем… Войдите в мое положение, товарищ Фрунзе. Я-то уверен, что никакого золота мы не найдем. Но раз поступили сведения, мы в ваших же интересах должны все проверить, никого не унижая, не оскорбляя. — В таком случае не мешкайте. Но прежде я объясню своим сотрудникам положение. Их оклеветали, а клевету можно отвести только фактами… Тут вы правы. В Кремль Михаил Васильевич приехал, когда заседание шло к концу. Дзержинский крепко пожал ему руку и передал записку Ленина. Всего одна строчка: «Точность для военного человека — высший закон! Почему опоздали?» Михаил Васильевич шепнул Дзержинскому: — Мой поезд задержал отряд ВЧК, производили обыск. У Феликса Эдмундовича дернулся мускул на щеке. — Кто посмел?!. Сейчас об этом не имело смысла говорить. Михаил Васильевич прислушивался к словам Владимира Ильича. — …Нам нужно раздавить в кратчайший срок Врангеля… Главное заключается в том, чтобы не допустить зимней кампании. Мы не имеем права обрекать народ на ужасы и страдания еще одной зимней кампании… В зале Михаил Васильевич увидел Сергея Сергеевича Каменева, Сергея Ивановича Гусева, Сталина. Не было Троцкого и вообще никого из Реввоенсовета. Странно… А впрочем… Стало как-то уютно на душе, когда узнал, что членом Реввоенсовета Южного фронта назначен Сергей Иванович Гусев. Значит, снова вместе. После заседания вышли во двор Кремля. Владимир Ильич взял руку Фрунзе. — Несомненно, что кто-то хотел вас скомпрометировать, — сказал Ильич. — Подло это, подло! Случай с вами на вокзале мы сделаем предметом обсуждения на Политбюро. В специальном постановлении ЦК необходимо выразить доверие приехавшим с вами сотрудникам. Они неторопливо шли по двору. Снова заговорили о Южном фронте. — Да, да, следует ускорить наступление на Врангеля с тем, чтобы до предстоящей зимы на юге Крым был возвращен, — сказал Владимир Ильич. — Как вы полагаете, когда закончите операцию по разгрому? — К декабрю все будет кончено, Владимир Ильич! Нужно кончить… Ленин помолчал. Остановился, заглянул в глаза Фрунзе. В тусклом свете фонаря лицо Ильича казалось непривычно суровым, резко очерченным. Не то лицо, к которому привыкли массы. Этот могучий взгляд, не запрятанный в прищур, однажды уже ощутил на себе Фрунзе. Тогда, в Петрограде… «У него очень волевое лицо, жесткий рот, — подумал Михаил Васильевич, — а этого почему-то не замечают. Не замечают друзья. А враги, наверное, замечают и боятся». — Нужно кончать… — повторил Ленин. — Хочу лишь предостеречь вас от чрезмерного оптимизма. Сейчас конец сентября. Два месяца… Не маловато?.. — Маловато. Но что делать? Мне ясно одно: переход в общее наступление во многом будет зависеть от времени переброски Конной армии Буденного. …26 сентября Фрунзе прибыл в Харьков. 28 сентября он докладывал Ленину:
«В два дня сформирован в основных чертах штаб фронта… Положение на фронтах характеризуется упорным сопротивлением противника, очевидно, прекрасно осведомленного о наших планах… Настроение частей несколько надломлено…»И еще сообщал Фрунзе Владимиру Ильичу:
«Положение усугубляется дезорганизацией тыла. В самом Харькове у меня сейчас нет ни одной надежной части. Настроение запасных частей, почти совершенно раздетых и плохо питаемых, определенно скверное. Чувствую себя со штабом фронта окруженным враждебной стихией… В конечном успехе, несмотря ни на что, не сомневаюсь».29 сентября Донской корпус Врангеля захватил Волноваху и Мариуполь и создал серьезную угрозу Гришинскому, Юзовскому и Таганрогскому районам Донбасса. А всего через неделю Фрунзе телеграфировал Ленину:
«Угрозу Донбассу можно считать ликвидированной».Первая Конная армия Буденного в это время находилась очень далеко от места боев — на Польском фронте. А на нее-то и возлагал основные надежды Фрунзе. Впрочем, в Харьков приехал член Реввоенсовета Первой Конной. Приехал он еще 29 сентября по срочному вызову Фрунзе. И сразу же отправился на заседание. Заседание проходило в вагоне. Здесь должна состояться встреча с Фрунзе. Представитель Первой Конной волновался, очень волновался. Вот сейчас он увидит почти легендарную личность, человека, разбившего Колчака, целую плеяду белых генералов, эмира бухарского. А разговор предстоит неприятный. Почему не смог приехать сам Буденный? Почему Первая Конная до сих пор на Юго-Западном, почему не выполняется приказ об ускорении марша? Существуют частности, которые трудно объяснить лаконичным военным языком. Пришлось бы делать обстоятельный доклад. В вагоне собрались все высшие начальники, члены реввоенсовета и командующие армиями фронта. Который Фрунзе? За столом — главком Каменев, Гусев, начальник штаба Лебедев и еще кто-то незнакомый. Нет, очень знакомый! — Арсений! Арсений смотрит во все глаза на члена Реввоенсовета Первой Конной. — Володя! Вы?.. Какими судьбами в здешних краях?.. — По вызову товарища Фрунзе. Я хотел бы ему представиться. — Гм. Фрунзе — это я. А вы? — Фрунзе — вы? А я — Ворошилов. — Ворошилов! Так я жду вас не дождусь… Как Семен Михайлович? Почему не приехал? — Вы с ним знакомы? — Еще бы! — Но он говорит, что не знаком с Фрунзе и мечтает познакомиться. — Ну если мечтает, то пусть поспешает с переброской армии… Сколько лет они не виделись? Со времен Стокгольма. «Володе» — Ворошилову Клименту Ефремовичу было тогда двадцать пять, а грозному Арсению и того меньше — двадцать с хвостиком. И сразу узнали друг друга. А сколько людей прошло перед глазами за четырнадцать лет! Сколько было всего… Гостиница «Регина», рассекающий голубизну неба шпиль церкви святой Клары, рыжий плющ по фасадам домов… Это останется в памяти навсегда. Как странно: тогда обоим казалось, что уже прожита огромная жизнь, а на самом деле она только начиналась… И вот встреча. Встреча совсем в иной эпохе. Но действующие лица все те же: Ворошилов, Буденный, Бубнов, Постышев, Федор Петров, Игнатий Волков, Любимов, Фрунзе… Здесь, на Южном фронте, — тоже хорошо знакомые люди: например, Авксентьевский! Теперь он командующий Шестой армией. А Девятой стрелковой дивизией командует Николай Куйбышев, младший брат Валериана Владимировича. Валериан Владимирович временно оставлен в Туркестане — первым полномочным представителем РСФСР в Бухарской Народной Советской Республике. Остался в Туркестане Федор Федорович Новицкий, остался Исидор Любимов. Дмитрий Фурманов получил назначение в Девятую армию Кавказского фронта — начальник политотдела. Среди старых знакомых — Дмитрий Михайлович Карбышев; сейчас он помощник начальника инженеров Южного фронта. Старым знакомым (по Восточному фронту) можно считать Василия Блюхера, несомненно весьма одаренного командира. Есть два человека, которые вызывают у Михаила Васильевича огромный, чисто человеческий интерес: командующий Тринадцатой армией Иероним Уборевич, безусый мальчик в очках, худенький, тихий, и член Реввоенсовета Южного фронта венгр Бела Кун. Девятнадцатилетний паренек из бедной семьи литовского крестьянина Пятраса Уборявичюса, Иероним, окончив военное училище, командовал артиллерийской батареей во время империалистической, был в плену, бежал в революционный Петроград, командовал батареей в Кронштадте. В двадцать два года стал командующим войсками на Северной Двине, дрался с интервентами, получил орден Красного Знамени. Лондонская «Таймс» писала об Иерониме:
«Говорят, что командующим назначен Уборевич, бывший поручик царской армии. Мало найдется английских офицеров, которые будут отрицать, что он знает свое дело. Поразительная точность его огня показывает, что у его орудий находятся хорошие инструктора».Потом, командуя на другом фронте армией, повернул деникинского генерала Кутепова от Москвы; освобождал Орел, Курск, Кромы, Конотоп, Сумы, Одессу, Екатеринодар, Новороссийск. Награжден ВЦИК Почетным золотым оружием. Дрался с белополяками. Владимир Ильич еще в июле направил Уборевича сюда, на врангелевский фронт… Фрунзе смотрел на Иеронима Уборевича с уважением. Нет, не мальчик, а зрелый ум, постигший тайны оперативного искусства. Бела Кун — фигура международного масштаба, один из основателей компартии Венгрии и руководитель Венгерской Советской Республики. Диктатура пролетариата продержалась в Венгрии недолго — всего четыре с половиной месяца. Но она была, действовала. У Бела Куна грустные карие глаза. После поражения Советской власти в Венгрии Куна схватили и упрятали в австрийскую тюрьму. Теперь он на свободе. Но что — свобода, если родина снова в рабстве?.. Свободу раздавил генерал Франше д’Эсперэ, тот самый, который мечтал раздавить Красную Россию. Утешить может лишь одно: венгерская пролетарская революция оттянула на себя силы международной контрреволюции в самый тяжелый для РСФСР момент. Но скоро ли наступит после всего случившегося утро там, на родине?.. Мысли и переживания Бела Куна были близки и понятны Михаилу Васильевичу. Он помнит день восторга, когда будапештское радио передало известие о победе пролетарской революции в Венгрии. Это было в марте прошлого года. Фрунзе тогда издал специальный приказ по войскам Южной группы, венгры, красноармейцы и командиры, обнимались, плакали, их поздравляли. В Южной группе было много венгров — целые полки. Тогда Фрунзе еще не знал, что событиями в Венгрии руководит Бела Кун. Но объективно Бела Кун помог Восточному фронту, ему, Фрунзе, в самый критический момент, когда Колчак рвался к Москве, к Самаре. Да, Кун пережил то, что так хорошо известно самому Фрунзе: радость борьбы, муку отчаянной и почти безнадежной схватки и… безграничную горечь поражения. Когда Фрунзе говорил Владимиру Ильичу, что закончит операцию по разгрому Врангеля к декабрю, то основывался не на самомнении, не на своих полководческих талантах, а на необходимости. Не допустить зимней кампании. Это все равно, что к определенному сроку закончить посевную или уборку урожая. Так диктуют обстоятельства. К своим полководческим талантам Михаил Васильевич по-прежнему относился с веселой иронией. При чем здесь таланты, если Врангеля будет громить весь народ? Главное: суметь организовать этот народ, подготовить победу, как подготавливается всякое большое дело. А тут умения Ленину, партии да и Фрунзе не занимать. Если сумели подготовить пролетарскую революцию, то уж операцию по уничтожению «черного барона» как-нибудь подготовим в более короткие сроки. Фрунзе знал, что Центральным Комитетом и лично Владимиром Ильичем уже приведены в действие все ресурсы огромного государства. Брошен клич: «На коня!» Идет спешное формирование кавалерийских эскадронов для посылки на Южный фронт; собирают лошадей, седла, обмундирование, оружие и снаряжение, мобилизуют коммунистов. Истерзанная тремя годами гражданской войны страна еще способна все это дать. И снова обратился Михаил Васильевич к коммунистам «Красной губернии» с призывом: все на фронт! Иваново-вознесенцы немедленно откликнулись, стали создавать отряды. Там, в Иваново-Вознесенске, по-прежнему были Жиделев, Зайцев, Варенцова и тысячи рабочих, которые помнили Арсения. Организация… Фрунзе твердо знал, что без нее никогда и никого не сумел бы победить. Она была многолика. Она выступала то в виде мобилизации незаможних крестьян Украины, то в виде политической работы среди разутых и раздетых красноармейцев, то в виде устройства новых переправ через Днепр, то в виде срочного расследования возмутительного факта: все семь бронеотрядов Тринадцатой армии находятся в ремонте в то время, как противник бьет нас со всей энергией своими бронемашинами, то в форме чистки армий от контрреволюционных элементов, перерегистрации всех служивших когда-либо в белых армиях Колчака, Деникина, Юденича, Миллера. Нужно наводить революционный порядок, предавать суду Реввоентрибунала злоумышленников и саботажников. Все эти, казалось бы, второстепенные дела, внешне далекие от стратегических и оперативных замыслов, требуют уйму времени, они-то и являются фундаментом, на котором прочно могут держаться стратегические замыслы. И тут же на ходу приходится заниматься созданием самого аппарата штаба и тысячами других больших и маленьких дел, которые и составляют суть организации. Он-то знает, что «чистый» полководец, этакий высоколобый мыслитель, росчерком красного карандаша определяющий судьбы войны, — красивая выдумка историков. Командующий — это чернорабочий войны, затурканный мелочами, заваленный ежедневными сводками, которые невозможно прочитать и за месяц, он — режиссер и главное действующее лицо самого грандиозного и самого неорганизованного театра — театра военных действий, он кропотливо подготавливает то, что впоследствии историки назовут «чудом». При внимательном рассмотрении «чудо» оказывается не чудом чистой оперативной мысли, а чудом организации. Оперативная мысль — только скелет. Ее нужно одеть мясом, вложить в нее пламенеющее сердце, пустить по жилам кровь; и тогда, обретя материальность, она станет реальной силой. Но командующий обязан уметь подниматься над массой мелочей, взлетать мыслью к высотам военного искусства. В противном случае, он — не командующий, а начпрод, снабженец. Командующий окидывает внутренним взором весь фронт — гигантскую дугу от Бердянска, Александровска, Никополя до Херсона, от северного побережья Азовского моря до северного побережья Черного. В его распоряжении пока всего три армии (одна из них конная) и две авиационные группы (сорок пять самолетов); когда подойдет с Польского фронта Первая Конная, когда будут стянуты с Кавказа, из Сибири и других мест части и соединения, тогда можно будет создать еще одну армию. Но когда это случится? Основной замысел операции оформился еще по дороге в Харьков: двусторонним, охватывающим маневром отрезать войска «черного барона» от крымских перешейков, рассечь их на две изолированные группы и уничтожить! В Крыму, в тылу у Врангеля, действуют партизаны Мокроусова, с ними установлена связь. Гораздо хуже обстоит дело с собственным тылом: здесь гуляет и свирепствует басмач нового пошиба — Нестор Махно. Еще в восемнадцатом он создал на юге Украины так называемую «повстанческую армию», куда влились кулаки, анархисты, эсеры и попросту белогвардейцы. Нужно отдать должное Нестору Махно: в отличие от других главарей банд, он имел свою политическую программу. Эта программа выражала стремление кулачества Украины выйти на историческую арену в роли самостоятельной политической силы. Махно выдвинул анархистский лозунг: «Вольные советы без коммунистов». Выразитель интересов кулацкой верхушки, он на словах вынужден был выдавать себя за защитника всего крестьянства. К началу девятнадцатого года его армия насчитывала до десятка тысяч бойцов. Под давлением незаможних селян, то есть бедноты, он вынужден был признать Советскую власть и вступить в состав Красной украинской армии и даже бороться с белой добровольческой армией Деникина на границах Донбасса и Украины. Но роман с Советской властью продолжался недолго: в самый тяжелый момент для Красной Армии Махно ушел с фронта, тем самым открыв дорогу Деникину. До июня этого года Махно отсиживался в районе Гуляй-Поля. Но потом стал делать налеты на тылы Красной Армии. Попытки Врангеля переманить Махно на свою сторону закончились ничем: на открытый разрыв с крестьянством он пойти не мог — это означало бы для него смерть. Таким образом, «повстанческая армия» оказалась зажатой между врангелевцами с одной стороны и частями Красной Армии — с другой. Третьей силой, действовавшей против банд Махно, были отряды незаможних селян, которые оказывали содействие Красной Армии в ликвидации кулаческого бандитизма и закреплении Советской власти на Украине. В местностях, охваченных бандитизмом, органы Советской власти назначали так называемых «ответчиков» из числа кулаков. Кулак обязан был своевременно предупреждать власти о готовящихся бандитских налетах. «Ответчики» следили также за сохранностью телеграфных линий и железнодорожных путей. Действовали они тайно. Михаил Васильевич понимал, что, готовя решительное наступление против Врангеля, нужно всеми мерами укрепить собственный тыл, хотя бы на время обезвредить Махно. Фигура Махно никакой загадки для него не представляла. Если Мадамин-бек и другие басмаческие курбаши прикрывали свои бандитские действия требованиями некой «Тюркской республики без русских», то Махно выдвигал демагогический лозунг «самостийности Украины». А классовая суть была одна и та же. При сложившихся обстоятельствах Махно должен поступить точно так же, как в свое время поступил Мадамин: перейти на сторону Советской власти. Хотя бы для того, чтобы сохранить за собой часть крестьянства, свою «повстанческую армию». Что бы сказал Федор Федорович Новицкий, если бы узнал, что Фрунзе собирается привлечь на сторону Красной Армии Махно?.. В первый же день пребывания в Харькове Фрунзе послал гонца в Гуляй-Поле с приказом «командарму повстанческой тов. Махно» явиться в штаб Южного фронта на заседание Реввоенсовета. Тут как бы было нечто само собой разумеющееся. Мол, пора кончать с Врангелем. Этот шаг, разумеется, еще раньше был согласован с Центральным Комитетом. В первую минуту Махно был сбит с толку. А через четыре дня ответил, что по состоянию здоровья, к сожалению, приехать не может; но командование повстанческой армии обращается к Реввоенсовету Южного фронта с заявлением о своей готовности прекратить военные действия против красноармейских частей, признать Советскую власть и перейти в подчинение командования Южного фронта. Повстанческая армия готова выступить на фронт для борьбы с войсками Врангеля немедленно. — Союзник ненадежный, — сказал, посмеиваясь, Михаил Васильевич, — но из этого лохматого пуделя большего не выжмешь. Владимиру Ильичу доложил:
«С Махно вопрос кончен в смысле соглашения, с 12 октября можно его направлять на фронт… Его делегация прибыла в Харьков».
СФИНКС С ПОЛОМАННЫМИ РЕБРАМИ
Пока Врангель находился на запятках у Деникина, он был человеком без лица. Но сделавшись претендентом в диктаторы России, он сразу обрел все признаки «исторической» личности. Так, член французской военной миссии Лерис, желая польстить барону, сравнил его с царем Митридатом, владыкой древнего Боспора. Лерис хорошо знал историю. Но и Врангель тоже хорошо знал ее. Он поморщился. Комплимент был сомнительным. Владыка владыкой, но каждый школьник знает, что Митридат был побит Помпеем, после чего вынужден был укрыться в Керчи, или в Пантикапее, как она тогда называлась. А когда против Митридата восстали боспорские города, он был заколот собственным рабом. Представитель английской миссии Уинклер, знавший историю здешних мест понаслышке, дерзнул сравнить Врангеля с покорителем Крыма фельдмаршалом Ласси, на что барон язвительно ответил: — Фельдмаршалу Ласси, насколько мне известно, никого и ничего покорить не удалось. Он отступил, взорвав Перекоп. Надеюсь, со мной ничего подобного не случится. После этого Уинклеру пришлось прикусить язык и не пускаться больше в исторические экскурсы. Французы и особенно англичане раздражали Врангеля, но обойтись без них он не мог. Так, англичане пытались диктовать ему, когда и где наступать. Из-за этого возник крупный конфликт. — Союзники должны быть союзниками, а не фециалами, — заявил барон. Французы чувствовали себя в Крыму полными хозяевами и требовали немедленного наступления по всему фронту, обещая большой заем, но денег пока не давали. В своих приказах и листовках барон старался создать представление о перекопских и чонгарских укреплениях как о неприступных. Французские газеты вроде бы поддакивали, но называли Перекоп «почти Верденом». Вот это «почти» выводило Врангеля из себя. Почему «почти»? Можно ли сравнивать четыре жалкие верденские оборонительные позиции с Перекопом, где те же французские инженеры создали нечто невиданное по своей мощи и крепости? Тут — бетон, тяжелая и легкая артиллерия, пулеметы на каждом шагу — одна общая сеть позиций, усиленных естественными и искусственными препятствиями. Укрепленная полоса, абсолютно недоступная для пехоты и конницы противника. На Перекопе — Турецкий вал высотой до десяти метров; перед ним — широченный и глубокий ров, по дну которого тянутся проволочные заграждения. Подступы к валу прикрыты огнем семидесяти орудий и ста пятидесяти пулеметов; на самом валу — блиндажи, ходы сообщения, пулеметные площадки. Непростреливаемых участков нет. За Турецким валом, к югу, — мощные Юшуньские позиции из шести линий оборонительных сооружений. Арабатскую стрелку и Чонгарский перешеек держат под прицелом крейсеры «Генерал Корнилов», «Георгий», «Алмаз», дредноут «Генерал Алексеев»; в Севастополе — французский дредноут «Мальборо» и английский сверхдредноут «Рамилье». Гордостью Врангеля были английские танки, целый отряд танков. Барон сам дал каждой машине имя: «Сфинкс», «Генерал Корнилов», «За Русь святую», «Степняк», «Генерал Скобелев», «Кутузов», «Ермак»… Где, какая армия имела в своем распоряжении сорок пять танков и бронемашин, сотни грузовиков с поставленными на них пулеметами, сорок два самолета новейших конструкций, четырнадцать бронепоездов, конницу из прирожденных кавалеристов-казаков, которой командуют опытнейшие генералы-кавалеристы? Любой знаток военного искусства может без всяких скидок заявить, что Врангель создал самое идеальное по силе удара, по маневренной гибкости, по быстроте передвижения войско, какого не было за всю историю войн. Таким войском можно гордиться и чувствовать себя непобедимым. Врангель благословлял мать-историю. Она отмела выкидышей — Юденича, Колчака, Деникина, ибо в них выразилась вся слабость старой России, и возвела на пьедестал достойного, в котором воплотились все неисчерпанные до конца силы империи; их нужно было только организовать, дисциплинировать, сжать в кулак, и эту невиданную по масштабам работу Врангель сумел провести в самые короткие сроки. Осознавая свое предначертание, он приобрел величественную осанку. К его сухопарой длинной фигуре очень шла черкеска с серебряными газырями. Благодарные союзники увешали его грудь орденами, «благодарная Франция» преподнесла золотую шашку. Кто-то из льстецов обронил фразу: барон Врангель лицом — вылитый Павел Первый. После чего барон заперся в кабинете и перед зеркалом принялся изучать собственное лицо. Глупости. Павел Первый — самый ограниченный из императоров России, если не считать Николая Второго. На лице Врангеля лежит благородный отпечаток, одухотворенность нордической расы. Можно верить или не верить старому немецкому историку Генриху Трейчке, но в критические минуты на арену всегда выступают вершителями судеб такие люди, как Врангель, с их вековыми задатками. Барон был преисполнен сознания собственной силы. Кто противостоит ему? Сброд, взбунтовавшееся мужичье, которому удалось разбить Юденича, Деникина, Колчака и других генералов и адмиралов лишь потому, что эти, последние, были не самыми удачными кандидатурами на пост верховного правителя, диктатора. Они действовали по старинке, тянулись за Мольтке; закисшие в ветхозаветных представлениях о способе ведения войны, не поняли роли техники в современном бою. И вообще, многого они не поняли, потому-то история их и отшвырнула. Врангель любит технику, преклоняется перед гением, создавшим чудо-машины. Конница — хорошо, но это уже вчерашний день, варварство, протянувшееся от времен Дария и Александра в наше время. Говорят, первый танк придумал сын того самого Менделеева. Русский человек хорошо начинает, но не доводит до конца. Русские цари, за редким исключением, никогда не отличались дальновидностью. Основной штаб Врангеля находился в Севастополе, полевой — в Джанкое. Из Джанкоя посылал он свои бронированные полчища на материк. Весть о создании красными Южного фронта во главе с Фрунзе Врангель принял спокойно. О Фрунзе он уже слышал. Разбил Колчака, не допустил его соединения с Деникиным, разгромил уральскую белоказачью армию, выгнал эмира бухарского. Что из того? Конечно, Фрунзе, судя по всему, незаурядный полководец, но, какими бы способностями он ни обладал, что он может поделать, если северный участок его фронта совершенно оголен, Донбасс и Таганрог прикрывает потрепанная в предыдущих боях, измотанная и, по сути, деморализованная Тринадцатая армия Уборевича; так называемая Шестая армия еще только рождается из хаоса; Вторая Конная армия, насчитывающая пять тысяч сабель, в последних боях действовала нерешительно, никак не проявила себя. Весь расчет Фрунзе, по-видимому, построен на быстром подходе Первой Конной армии Буденного с польского фронта, на том, что происходит сейчас в Риге. А в Риге происходит вот что: советская сторона ведет с Польшей переговоры о мире. И до тех пор пока ситуация не прояснится, Советы не смогут снять с польского фронта конницу Буденного. Значит, нужно сорвать переговоры. Сорвать их можно лишь решительным наступлением на Правобережную Украину. Нужно идти на соединение с Пилсудским, Петлюрой и Третьей русской белой армией, которая формируется на территории Польши. А чтобы без особых потерь прорваться на Правобережную Украину, следует отвлечь силы Фрунзе на второстепенное направление: создать видимость широкого наступления на Донбасс и Таганрог, объявить во всеуслышание, что хочу прорваться на Дон, Кубань, Терек, чтобы соединиться с казачьим населением, поднять восстание на Дону и Кубани, пополнить свою армию. Фрунзе легко всему поверит, так как прецеденты есть: летом этого года Врангель высадил два десанта — один во главе с полковником Назаровым на побережье Азовского моря в районе Таганрога, другой под начальством генерала Улагая на побережье Кубани. Правда, попытка не увенчалась успехом, но пусть Фрунзе думает, что Врангель решил повторить маневр. Если отвлекающий маневр удастся, можно будет бросить основные силы на северо-западное направление, на Правобережную Украину. Врангель почти не сомневался в успехе задуманного; план был настолько замысловатым, что его не мог бы разгадать и гениальный полководец. Осуществление плана началось еще до приезда Фрунзе в Харьков. Врангель принял решение: путем активных отдельных операций не допустить перегруппировок красных войск и уничтожить их по частям еще до подхода конницы Буденного. Сперва Врангель прощупал северный участок фронта красных и занял Александровск (Запорожье), Синельниково. На север можно идти беспрепятственно, там нет войск противника. Но Врангель сделал вид, что встретил упорное сопротивление, опасается окружения, и резко повернул на восток, к Донбассу. В это время на фронте появился Фрунзе. Барон мог поздравить себя с успехом: как он и предполагал, Фрунзе начал подбрасывать свежие части в район севернее Волноваха — об этом донесла разведка. О, эти прямолинейные русаки! Под Волновахой появилась новая 9-я дивизия под началом некоего Николая Куйбышева. А потом, конечно, подойдут другие дивизии; возможно даже, что Фрунзе оголит каховский плацдарм, а от Перекопа до Каховки всего шестьдесят верст — танки, развивая скорость до тринадцати километров в час, и бронеавтомобили пройдут это расстояние в короткий отрезок времени. Погруженный в величественные думы, барон прохаживался вдоль штабных вагонов. Хрустел под сапогами белый ракушечник. Со стороны Сиваша тянуло кислым, гнилостным запахом. Подбегали телеграфисты, вытянувшись в струнку, подавали сводки. Но верховный правитель и так знал, что все в порядке. Как сказал английский генерал Хольман, вручая Врангелю платиновый орден: — «Олл райт, ядрена корень!» Барона беспокоило одно маленькое обстоятельство, которое, однако, лишало его сна и аппетита: дошли слухи, будто английский кабинет не очень-то верит в успех Врангеля, считает все его затеи обреченными на провал, и, неизвестно, насколько все соответствует действительности, будто бы намечается сдвиг английской политики в сторону соглашения с Советской Россией. Все это настораживало, создавало атмосферу неуверенности. О, коварный Альбион!.. Когда барон обратился с прямым вопросом к Уинклеру, тот пожал плечами: — Ничего не могу сказать определенного. Несомненно одно: силы Польши исчерпаны, она сама жаждет мира, относится к вам с подозрением, так как вовсе не желает возвращаться под эгиду нового русского царя. Ваши частные успехи не могут повлиять на создавшуюся ситуацию в целом. Логика истории. Кстати, наше правительство уведомило меня сообщить вам, что оно отзывает нашу военную миссию из вашей армии. Гуд бай! Несколько минут барон стоял в оцепенении. Потом, придя в себя, сказал резко и зло: — Ну и катитесь к чертовой матери! А танки я назад не отдам… Не отдам! …Когда Фрунзе несколько дней спустя после приезда на Южный фронт сообщил в Москву о том, что угрозу Донбассу можно считать ликвидированной, в столице этому не сразу поверили. Каким бы ни был талантливым полководцем Фрунзе, он все же не чудотворец: пришел — увидел — победил! Ведь всем казалось, что Врангель рвется в Донбасс с далеко идущими целями: оставить республику на зиму глядя без угля; он, конечно же, зная, что разутая, раздетая, потрепанная в боях Тринадцатая армия не в силах противостоять его «бронированной» кавалерии, постарается бросить в наступление отборные части. Но Фрунзе обладал способностью гениально схватывать обстановку. Врангель был для него врагом коварным, хитрым, а следовательно, — не прямолинейным. На войне не всегда нужно верить очевидным вещам. Если Врангель демонстративно рвется в Донбасс и Таганрог, трубит о своих намерениях на весь мир, то следует крепко призадуматься. Михаил Васильевич почти знал, что замышляет барон. Однако догадки остаются догадками. В самом ли деле намечается грандиозная провокация? Это можно проверить только с помощью разведки. Вскоре разведка установила странный, на первый взгляд, факт: те самые английские танки, которыми Врангель старался запугать красноармейцев, шли не в направлении на Донбасс, а совсем в противоположную сторону: к каховскому плацдарму. Фрунзе вызвал к себе на квартиру начальника 9-й дивизии Николая Куйбышева. Дивизия составляла фронтовой резерв. Когда Михаил Васильевич увидел Николая Куйбышева, то ему показалось, будто в комнату вошел Валериан Куйбышев. Братья были очень похожи. Но вот Николай снял фуражку — и иллюзия исчезла: у Николая была выбритая до блеска шишковатая голова. Начдив был несколько смущен: жена командующего Софья Алексеевна как-то по-свойски стащила с него мокрую шинель и усадила за стол. В качке попискивал ребенок. Ярко светилась «молния», подвешенная к потолку. На белой стене красным огнем горел коврик. Домашний уют, непринужденность хозяев… Стали собираться гости. Пришел адъютант Сиротинский с женой, старый сослуживец Михаила Васильевича Аркадий Осинкин, тоже с женой. Появился чай. Зеленый, ташкентский. Хозяйка угощала курагой, кишмишем, земляными орехами. После плова сам собой завязался общий разговор. Николаю Куйбышеву Михаил Васильевич сказал: — Вам письмо и посылка от брата. Потом стал рассказывать о туркестанских делах Валериана Владимировича. — Хочу перетащить его сюда. Специально послал телеграмму Владимиру Ильичу: прошу, чтобы перевели на наш фронт. Кстати, Валериан Владимирович поручил мне опекать вас. Николай Куйбышев совсем смешался. Он был боевым командиром, три года отвоевал в империалистическую, дослужился до капитана, трижды ранен, давно вышел из-под чьей бы то ни было опеки, награжден орденом Красного Знамени, именными золотыми часами, а тут старший брат вроде бы хлопочет за своего. Нескладно получается… Фрунзе рассмеялся. — Да, да, так и сказал на прощанье: прошу опекать Николая. Он-де парень скромный, о себе заявить постесняется, да и не любит быть на виду. Помогите, говорит, ему проявить себя в полную меру на большом деле. Нас, мол, шестеро детей было в дворянской семье армейского офицера Владимира Яковлевича Куйбышева, и все шестеро в большевики ушли. Вот и должны мы свою честь поддерживать друг перед другом. — Мне ничего не нужно! — решительно заявил Николай, побагровев до кончиков ушей. — С чего он только взял?.. — Вам-то не нужно, а мне нужно. И, переходя на деловой тон, сказал: — Как вы думаете, почему Врангель рвется в Донбасс? — Известное дело. — А вы уверены, что он рвется именно в Донбасс? — Разумеется. — А я не уверен. Даже больше того: в Донбасс Врангель не так уж и рвется. Я думаю: достаточно одной дивизии, чтобы приостановить наступление врангелевцев на Донбасс. В Донбасс не пропустите белых вы с вашей Девятой. Нужно лечь костьми… Я приказываю вам это! Знаю: Девятой всегда приходится принимать первый удар на себя: так было под Курском, так было, когда дрались за Донбасс. Слышал, как брали Анапу, Новороссийск, как бились с полковником Назаровым под Константиновкой и с генералом Улагаем на Кубани. Придется и теперь…Начдив Девятой сосредоточил свою дивизию в районе Волноваха. Именно здесь противник поднял невообразимую возню, стремясь создать видимость подготовки широкого наступления. И все-таки восточная группировка Врангеля была сильна. Когда Фрунзе говорил, что напор в этом месте может сдержать одна дивизия, то лишь подбадривал Куйбышева. Но командующий, в самом деле, ничего не мог снять с других участков фронта. Он с нетерпением ждал подхода Первой Конной, а ее продвижение с польского фронта почему-то задерживалось. Конной предстояло строевым порядком покрыть многие сотни километров. Михаил Васильевич слал телеграммы Ленину, просил всеми мерами ускорить подход конницы Буденного:
«Самым скверным считаю запоздание конницы Буденного».Девятая дивизия Куйбышева составляла ядро группы, которой предстояло не пустить Врангеля в Донбасс. Ядром дивизии был 77-й полк, самый крепкий, самый стойкий. Сперва бой завязался где-то в стороне, в местечке Конские Раздоры. Потом белые всей мощью Донского корпуса навалились на 9-ю дивизию. Девятая устояла. Ее 77-й полк почти полностью был уничтожен. И все-таки белые просчитались. Николай Куйбышев неожиданно для них перешел в контрнаступление. Врангелевцы очутились в цепком кольце. Не помогли им ни бронеавтомобили, ни аэропланы. Избиение длилось два дня, в конце концов белым удалось прорваться и уйти на мелитопольские позиции. Это была крупная и решительная победа: отстояли Донбасс, враг понес серьезные потери. Девятой стрелковой было передано Красное знамя ВЦИК. Николай Куйбышев второй раз за этот год удостоился высшей награды — ордена Красного Знамени. С щемящим чувством тревоги ждал Фрунзе вылазки Врангеля на Правобережную Украину. Владимиру Ильичу сообщал:
«Противник, несомненно, попытается нанести удар нашей правобережной группе, переправившись через Днепр где-нибудь в районе Александровска. Наша задача — во что бы то ни стало продержаться на левобережном участке и прикрыть Донбасс, не вводя в бой пока не готовойправобережной группы. Задача крайне трудная, ибо дух войск надломлен…»На левом берегу Днепра существовал пятачок, занятый красными: каховский плацдарм. Обороняли его четыре дивизии. Каховский плацдарм имел свою историю. Образовался он совсем недавно, в августе, после того как Уборевич приказал командующему правобережной группой Роберту Эйдеману форсировать Днепр. Под жесточайшим огнем противника Эйдеман занял плацдарм. Это был, несомненно, очень мужественный человек, а такие люди всегда интересовали Фрунзе. — Куда девался Эйдеман? — спросил он Уборевича. — Его перевели на Юго-Западный фронт. Назначен командующим войсками внутренней службы. — Очень жаль. Его место сейчас здесь. Сколько ему лет? Откуда он? — О, Роберт старый человек: он на год старше меня, ему двадцать пять. — В самом деле, преклонный возраст. — Роберт — бездна ума. Он из Латвии, сын учителя. Пишет прекрасные стихи. Поэт. — А вы пишете стихи? — Пока еще нет. Некогда. Да и не умею. Всегда завидую людям, которые могут формулировать свое миросозерцание в стихах. Взял Роберт плацдарм, а потом по телефону докладывает: «Послушай, Иероним, я новые стихи сочинил: «Побеждены лишь те солдаты, которые в бою взрывают сердец последние гранаты». Как, по-твоему; вышло?» Я чуть от злости не лопнул. О деле, говорю, докладывай! А он: «Разве стихи — не дело? Почему суров поэт? Труд суров, суровей нет. Ты Маяковского любишь?» А кто такой Маяковский и почему я должен его любить? Фрунзе придавал очень большое значение каховскому плацдарму. Именно здесь по идее будет сосредоточиваться Первая Конная для нанесения основного удара по Врангелю, во фланг и тыл его основной группировки. Если Врангелю удастся захватить этот клочок земли глубиной пятнадцать верст, весь стратегический замысел Фрунзе рухнет. Сюда, на левый берег, он послал Карбышева, наказав ему в самые короткие сроки создать на плацдарме противотанковую оборону и заминировать мелитопольский тракт. Каховка, Днепр… Бела Кун как-то сказал: — Вот река, которая волнует воображение. У меня есть один знакомый старый венгерский инженер-мостостроитель. Он бредил Кичкасским мостом, считая его чудом технической мысли. Оказывается, поглядеть на этот мост съезжались сюда студенты и инженеры со всего света. Покалечили беляки Кичкасский мост, взорвали. Два наших эшелона с мукой, крупой, обмундированием и скотом пошли на дно. Спаслась одна телка. Ее тут как достопримечательность показывают. Да… Врангель постарается обойти Каховку и отрезать пути отступления нашим дивизиям. Во всяком случае, на его месте я поступил бы только так. Я прихожу вот к какому выводу: думать за противника всегда труднее, чем за себя. Но необходимо. Командир, не думающий за противника, — авантюрист. Хотел бы знать: думает ли Врангель за нас?.. Дымился осенний Днепр. У Ненасытца он напоминал котел с кипящей водой, метался, прыгал по гранитным ступеням. А на участке Каховка — Александровск он поражал величавым спокойствием. Ширина реки здесь не превышала двухсот саженей, но правый берег ее, занятый красными, был укреплен и казался неприступным. Самым уязвимым участком фронта считался каховский плацдарм на противоположном берегу. Но как и предполагал Фрунзе, врангелевцы не полезли в лоб на каховский плацдарм, они решили обойти его с тыла, намереваясь окружить и уничтожить дивизии. Переправу они начали у острова Хортица. Место переправы было выбрано удачно: врангелевцам удалось нащупать наиболее слабый участок обороны правобережной группы красных. Лучшие дивизии Врангеля — дроздовская, корниловская, марковская, взаимодействуя с кубанской конницей генерала Бабиева, устремились в прорыв и, заняв обширный плацдарм на правом берегу Днепра, начали наступление на Никополь и Апостолово, где находился полевой штаб Фрунзе. В эти дни решалась судьба Южного фронта. Считанные десятки верст отделяли полевой штаб Фрунзе от противника. В штабе царила паника. Всем казалось, что сражение проиграно. Нужно отступать, отступать, спасать то, что еще можно спасти. И совсем безрассудным было оставаться в Апостолово, куда враг может нагрянуть через час-другой. Только Фрунзе, как всегда, был спокоен. Он работал. Ему приходилось проявлять чудеса оперативности. Прежде всего он создал ударную группу севернее Александровска, куда вошли переброшенная из Сибири 30-я стрелковая дивизия, отдельная бригада и прибывшая из Петрограда бригада курсантов. Разгадав замысел противника, он без колебаний снял с каховского плацдарма Латышскую и Пятьдесят вторую стрелковые дивизии, бросил их на участок Апостолово — Никополь. Когда и этого оказалось мало, взял с плацдарма еще две бригады. На плацдарме остались лишь 51-я стрелковая дивизия Блюхера и бригада 15-й дивизии. Это был огромный риск. Но расчет командующего оказался правильным: Шестая армия Авксентьевского и Вторая Конная армия Миронова при содействии правого крыла Тринадцатой армии приостановили наступление белых. А несколько дней спустя перешли в контрнаступление. Начался разгром белогвардейского корпуса. Командующий кубанской конницей генерал Бабиев был убит. Михаил Васильевич облегченно вздохнул, хотя и знал, что главная опасность впереди. Целую неделю не выходил он из штабного вагона, и все эти дни слились в некое безвременье, в сплошную полосу напряженной работы мысли. Загипнотизированный развертывающимися событиями, он не замечал, когда адъютант подсовывал ему тарелку с супом, не слышал близкой артиллерийской стрельбы — и ничто не в силах было вывести его из глубочайшей сосредоточенности. Его внутреннему взору была открыта вся картина боя: он видел свои полки, дивизии и бригады; знал, где и когда нужно ввести резерв; все время помнил о каховском плацдарме, о Днепровской флотилии; видел кавалерийские дивизии противника; и в то время, когда всем казалось, что дело проиграно, он готовил контрудар. Здесь были его поэзия, его творчество. Он вышел из вагона, пошатнулся от ветра, от переутомления и от яркого дневного света. Он смертельно устал. Прислонился к вагону, чтобы не упасть. Но то была минутная слабость. Подошел адъютант, сказал: — Вас просит к прямому проводу командарм Авксентьевский. Авксентьевский сообщал, что армейский корпус генерала Витковского перешел в наступление на каховский плацдарм. С востока на плацдарм идет группа генерала Черепова. Противник ввел в бой танки и авиацию. Усталость пропала. Фрунзе снова был весь воля и энергия. Он отдал приказ взятым с плацдарма дивизиям и бригадам форсированным маршем следовать на Каховку. А на подступах к каховскому плацдарму в это время разыгрывалась еще невиданная в истории всех войн драма. Врангель послал сюда целую танковую колонну: двадцать английских танков. Неуклюжие железные громады, чем-то напоминающие ползущих крокодилов, ломали, рвали проволочные заграждения, переваливали через окопы, в которых сидели красноармейцы. Никто из бойцов 51-й дивизии до этого не видел танков. За танками шли броневики. За ними — пехота. Что мог противопоставить Блюхер врангелевским танкам? Свою артиллерию, гранаты, огнеметы, минометы, бомбометы, свою Ударную огневую бригаду. У него были отличные артиллеристы. Одним из дивизионов командовал Леонид Алексеевич Говоров. Но силы были неравные. Не могла одна дивизия долго сдерживать натиск целого корпуса, оснащенного новейшей военной техникой. Четыре дня длился бой. И произошло то, чего даже много лет спустя, уже находясь в эмиграции, Врангель не смог объяснить толком:
«Наши части, дойдя до проволоки, продвинуться дальше не могли, залегли и несли тяжелые потери от жестокого артиллерийского огня. Отряд танков, прорвавшийся в Каховку, почти целиком погиб».Да, погиб. Врангель оплакивал потерю своих танков. Но это было лишь начало разгрома корпуса Витковского. Фрунзе вызвал к проводу Авксентьевского. — Если чутье меня не обманывает, то противник под Каховкой уже захлебывается в своих атаках. Теперь необходимо энергичное контрнаступление с нашей стороны. Подтяните все ближайшие резервы и нанесите стремительный контрудар! Передайте привет Блюхеру и его славным войскам. Они сейчас решают судьбу всей кампании. Авксентьевский подтянул резервы. Блюхер, оставив в резерве всего лишь один полк, повел свою дивизию в контрнаступление. На фланге дивизии действовала кавгруппа. Наступление развивалось успешно. Белые стали отходить на юг. Потом они побежали, бросая орудия, броневики и обозы. Упоенный победой Блюхер не давал врангелевцам передышки. Его полки вырвались с каховского плацдарма на степные просторы Северной Таврии. — Гнать, гнать до самого Перекопа! Начдиву казалось, что его дивизия положила начало всеобщему наступлению и что другие дивизии Шестой армии, и Вторая Конная, и Тринадцатая армия Уборевича разовьют этот успех, окружат группировки Врангеля или же загонят их в Крым, откуда выбить их не составит труда, если ворваться через перешейки на плечах противника. И неожиданно приказ Авксентьевского: — Прекратить наступление! Вернуться на каховский плацдарм. Приказ был чудовищным, невероятным. Блюхер не поверил, переспросил. — Прекратить! Таков приказ командующего фронтом. Выполняйте… — Но это же… Разрешите завершить бой? Ответ пришел через несколько долгих, мучительных минут: «Разрешаю». Триста пленных, два орудия, обозы. А под Каховкой осталось девять английских танков, броневики. С неохотой вернулся Блюхер на каховский плацдарм. Что бы все это могло значить? Ведь по всему фронту белогвардейцы вынуждены перейти к обороне, один их корпус разгромлен, их лучшая конница уничтожена, армии генералов Драценко и Кутепова отступили, за несколько дней боев в плен попало двадцать тысяч беляков… В Каховке Блюхера встретил Фрунзе. — Изумлен стойкостью ваших красноармейцев. Вы чем-то недовольны, Василий Константинович? Почему такой расстроенный вид? Блюхер, в самом деле, был угрюм, супил густющие брови, старался не смотреть в глаза командующему. — Я всем доволен, товарищ командующий. А вот как бойцам объяснить все это?.. Наступали, преследовали — стоп! — А никак пока не надо объяснять. Все объяснится со временем. Будем хранить военную тайну. Вам-то могу сказать: успех вашей дивизии — частный успех. Одержанные победы — частные победы. Силенок у нас маловато. Нельзя их распылять. А на подходе Первая Конная! И еще одну армию формируем — Четвертую. Вот подойдет Буденный… А ведь ваш командарм Авксентьевский со мной тоже чуть не поссорился: иду через головы побежденных в Крым — и все тут! Нельзя. Рано. Блюхер догадался: начинается подготовка к общему наступлению! — Показывайте подбитые танки, Василий Константинович. «Сфинкс»! Поломали «Сфинксу» ребра… Недавнюю победу Фрунзе оценивал как начало стратегического крушения Врангеля. Ленин предостерег:
«Боюсь чрезмерного оптимизма. Помните, что надо во что бы то ни стало на плечах противника войти в Крым. Готовьтесь обстоятельнее, проверьте — изучены ли все переходы вброд для взятия Крыма».Бывал ли Владимир Ильич когда-нибудь в Крыму? А если не бывал, то прямо-таки удивительно, что, находясь там, в Москве, он учитывает эту сугубо специальную, тактическую деталь — переходы вброд… Самое уязвимое место во всем стратегическом замысле Фрунзе. Сколько ночей потратил он, изучая эти проклятые броды! Засылал к Перекопу и Чонгару разведчиков… А может быть, никакие броды и не потребуются вовсе?..
РАДИОГРАММА ВРАНГЕЛЮ
Встреча с Буденным была бурной. Его конница наконец-то подходит к Бериславу. Все воспрянули духом. Михаил Васильевич с видимым удовольствием разглядывал подвижного, загорелого усача, молодо сверкающего круглыми глазами. Вспомнили старые времена: Минск, Западный фронт, корниловщину, кавказскую кавалерийскую дивизию, в которой тогда служил Семен Михайлович. Сколько событий за четыре года! Оказалось, что Буденный хорошо знаком с Уборевичем, Гусевым и Николаем Куйбышевым. В прошлом году, когда дрались с Деникиным, Сергей Иванович Гусев был членом реввоенсовета ударной группы, куда входил конный корпус Буденного. Командовал группой Василий Шорин. Дрались за Царицын, начальником гарнизона которого был барон Врангель; уже тогда Врангель применил новейшую технику — танки. Применял он и химические снаряды. Конный корпус Буденного участвовал в Воронежско-Касторненской операции. Это Буденный получил приказ овладеть Воронежем и Касторной. Прежде чем принять решение, Семен Михайлович послал в Воронеж, занятый белыми, Олеко Дундича. В форме казачьего офицера Дундич с отрядом красноармейцев проник в Воронеж и тут, на месте, выявил систему огня противника, его состав и группировку. Воронеж был взят. Взяли Касторную. Вот тогда-то на базе конного корпуса была создана Первая Конная армия. Она освободила. Ростов, очистила от белых Северный Кавказ; потом, совершив тысячеверстный марш с Северного Кавказа на советско-польский фронт, овладела Житомиром, Бердичевом и повела наступление на Львов… — Уборевич со своей армией прикрывал левый фланг нашей Конной. Тогда-то мы и познакомились, — сказал Семен Михайлович. Нет, Михаил Васильевич не удивлялся сцеплению жизненных обстоятельств. Теперь, когда в гражданской войне, по сути, остался один-единственный фронт — Южный, к нему приковано внимание всей республики, всего мира. И нет ничего удивительного, что здесь очутились Буденный и Ворошилов, Председатель ВЦИК Калинин, нарком просвещения Луначарский и прославленный поэт-большевик Демьян Бедный. И оказалось, что все, собравшиеся в штабном вагоне, давным-давно знакомы, а общих знакомых не перечесть: Бубнов, Шорин, Сталин, Дзержинский, Тухачевский, Киров, Азин, Постышев, Гай, Восканов, Баранов, Валериан Куйбышев, Элиава… С каждым из них у Михаила Васильевича были отношения, а отношения, как известно, составляют сердцевину жизни; если бы у Фрунзе не было сложившихся отношений с десятками и сотнями тысяч рабочих Иваново-Вознесенска и Шуи, Минска и Читы, с десятками и сотнями тысяч крестьян Поволжья и Урала, с дехканами Средней Азии, с бойцами и командирами всех фронтов, которыми ему довелось командовать, с тысячами партийных товарищей, не было бы Фрунзе как такового, ибо он неотделим от своей среды, своей стихии — масс. Человек не может сам по себе. Он живет отношениями. …Степи Северной Таврии. Они словно созданы для войны, для легенд. Первобытная непаханная степь, охваченная тишиной. На кургане — грубо высеченная серая каменная баба с плоским лицом — степной сфинкс с необъяснимой древней улыбкой. Бредит степь исчезнувшими скифскими племенами, несметными сокровищами скифских царей, золотыми и серебряными амфорами, тяжелыми золотыми браслетами, зарытыми здесь еще в те времена, когда Митридат вел войны с Помпеем. И странно видеть на кургане всадников в остроконечных шлемах с красными звездами. Это разведчики Буденного. …Теперь, когда подошли первые дивизии Конной Буденного, а формирование Четвертой армии закончилось, пора было начинать наступление. В распоряжении командующего фронтом было тридцать три тысячи штыков и сабель, он выделил сильный оперативный резерв. И хотя с того дня, как он приехал на фронт, беспрестанно шли тяжелейшие бои, ему удалось создать почти четырехкратное превосходство в силах над противником. Даже орудий, самолетов и бронемашин сейчас у него насчитывалось больше, чем у Врангеля. Республика бросила сюда все. Терпеливо и настойчиво готовил он последний удар. Его стратегический замысел был грандиозен: одной решительной наступательной операцией закончить гражданскую войну! Ему казалось, что он учел все. Случайностям нет места, когда речь идет о завершении целого периода в истории. Если бы Врангель не был авантюристом и мог беспристрастно оценить неумолимость совершающегося процесса, он понял бы, что ни техника, ни субъективный фактор сейчас не имеют значения. Но Врангель этого никогда не поймет. Он верит в счастливую звезду, в свою исключительность, в помощь союзников, в несокрушимость перекопских и чонгарских укреплений, в силу децимации и своих приказов. Он — игрок. Но он прямо-таки не может поверить, что игра проиграна. Его союзники, те уже сообразили, что последняя ставка бита: англичане отозвали военную миссию; французы не желают больше вкладывать капиталы в такое сомнительное предприятие, как война «черного барона» против величайшей державы, разбившей за три года всех ставленников Антанты; Польша вышла из игры, да и не нужен ей Врангель с его претензиями на престол. Врангель одинок, как никогда. Но он этого не хочет понимать, он цепляется за последнюю возможность: если придется отступить, отсижусь в Крыму, а весной начну новое наступление. Он пытается обмануть себя и других. И когда он на весь мир кричит, что не в силах держаться один, то это — шантаж, запугивание союзников. А они на самом деле знают: Врангель не удержится! Сперва Фрунзе страшился: как бы «черный барон», перетрусив, не залез в «крымскую бутылку» до начала операции Красной Армии! Но потом успокоился: разведка донесла, что противник продолжает укрепляться в Северной Таврии на мелитопольских позициях и в районе Серогозы. План Фрунзе состоял в следующем: согласованным концентрическим наступлением всех армий уничтожить главные силы Врангеля, группирующиеся к северу и северо-востоку от перешейков, отрезать пути отхода в Крым. Да, не пустить барона в Крым, покончить с ним в Северной Таврии!.. Ну, а если этот план по каким-либо причинам выполнить не удастся, то на плечах бегущего противника ворваться в Крым, овладев перешейками. Замысел изящный, свидетельствующий о зрелости и высокой культуре полководческого таланта Фрунзе. Старые генштабисты только руками разводили: приходится, мол, нам отбрасывать прежние представления о военном искусстве и переучиваться заново… Он выслушивал генштабистов с неподдельным удивлением: ведь другого решения в принципе не может быть! Оно продиктовано всеми обстоятельствами, вплоть до конфигурации линии фронта. Ему и в голову не приходило, что при создавшихся обстоятельствах можно принять десятки других бездарных решений и что таинство творчества и заключается в способности полководца производить единственный в своем роде отбор, в умении обобщать, находить самое важное звено, смело отметать шаблоны. Война шла к концу, а он до сих пор так и не поверил в свою исключительную одаренность, все думал о том, как бы поскорее разделаться со всем этим да вернуться в Иваново-Вознесенскую губернию, где его ждут не дождутся. Оттуда приезжают делегации, шлют для красноармейцев теплые вещи. И в то же время он знал, что без этой страсти — разрабатывать операции, двигать армиями, находить уязвимые места у противника, вводить его в заблуждение, разбивать его — жизнь станет намного беднее, как бы поблекнет. Именно тут отныне было его место. Раз и навсегда он нашел себя. Это страсть, страсть самая могучая, пожирающая его всего, и от нее не освободиться никогда… Увлечение поэзией, ботаникой, политической экономией — все это как бы побочный продукт, и даже странно, что когда-то он всерьез считал себя поэтом, мечтал о тоненькой книжке революционных стихов, и почему-то обязательно в синей обложке. Когда он стал расхваливать стихи Демьяна Бедного, поэт грустно улыбнулся и сказал: — Пою. Но разве я пою?.. Мой голос огрубел в бою… «А ведь это сказано предельно точно», — подумал тогда Фрунзе. В другое время встреча с Демьяном Бедным, стихи которого он любил до слез, стала бы событием. Но сейчас, здесь, на фронте, в наэлектризованной атмосфере крупных ожиданий, встреча прошла буднично просто, накоротке. Поэт понял, что командующему сейчас не до него, и уехал в полки. Даже самый великолепный стратегический замысел, если ему не обеспечена секретность, может не увенчаться успехом и привести к ненужным жертвам. Фрунзе знал, что у него есть враги, много врагов. Возможно, они есть и здесь, на Южном фронте; когда речь идет о жесточайших классовых битвах, то эти битвы ведутся не с отвлеченным противником, а с конкретными врагами. То, что у Врангеля превосходная разведка, было известно. И конечно же, он постарался заслать своих разведчиков во все армии Южного фронта, так же как Фрунзе засылал своих разведчиков в армии «черного барона». Контрразведка Южного фронта работала без устали, стараясь выявить врангелевских шпионов. Свои усилия она направила на прощупывание махновцев, в частности представителя Махно при штабе фронта некоего Попова, бывшего начальника ВЧК, предателя, перемахнувшего к эсерам еще в восемнадцатом году во время эсеровской авантюры в Москве, а также 30-й дивизии, где имелось много бывших колчаковцев, перешедших на сторону красных в Сибири. Но враг находился в другом месте — в штабе Второй Конной. Это был личный враг Фрунзе — тот самый Романов, провокатор, который выдал Михаила Васильевича полиции и жандармам дважды: в седьмом году в Шуе и в конце шестнадцатого года в Минске. Во Вторую Конную Романова прислали из Москвы. На него не обратили особого внимания. Он воевал на разных фронтах, и никто не мог заподозрить в нем врага Советской власти. Романов страдал недержанием мочи и в строевые не годился. Ему нашлось место в штабе, так как он быстро и без ошибок печатал на машинке, разбирался в сводках, а ознакомившись с ними, умел выбрать самое существенное. Одним словом, он считался незаменимым исполнительным работником. Всех подкупали внешность, незлобивый характер и широта натуры Романова. Этакий добродушный толстячок с маленькими пронзительными глазками, утопающими в складках жира. Болтливый, вечно озабоченный тем, где раздобыть еду. Он водил дружбу с поварами, со снабженцами, а выменяв у селян на зажигалку кусок розового сала, щедро делился со всеми, оставляя себе самую малость. В таких случаях говорил: — Сейчас не модно, но если бы я был паном, то ел бы сало с салом, спал бы на соломе и мазал чоботы дегтем. А интересно знать, что ест сейчас пан Пилсудский? Керзон его подкармливает. Я ведь в прежние времена был поваром в ресторане «Прага». Не верите? Серый вы народ. Я своих убеждений не скрываю: люблю пожрать! Знаете, как приготовляется пирожное «Матильда»? Нужно стереть четыре желтка с полфунтом сахара, влить четверть фунта подогретого сливочного масла… Впрочем, тут никто не может оценить моего искусства. Суп-пюре из каштанов!.. Кончится война, снова уйду в ресторан, буду кормить пролетарию. Купим лошадь карюю — кормить пролетарию… На него не сердились. Он умел располагать к себе, входить в доверие. За несколько дней до наступления ночью Романов встретился с махновцем Поповым. Свидание было коротким. Здесь уже был другой Романов: резкий, властный. Сверля взглядом Попова, он шепотом спросил: — Ну как, надумали ваши? Что говорит Нестор? — Он не верит Врангелю и не хочет с ним связываться. — А кому же он верит? — Он никому не верит. — Если бы ваша армия во время наступления Фрунзе ударила ему в тыл… Потом разберемся, что к чему. — Я целиком разделяю вашу точку зрения, но Махно не согласен. — Чего он ждет, на что надеется? Или вы думаете, что Советская власть простит вам? Вас первого расстреляют. Вы — изменник! Фрунзе сперва разделается с Врангелем, а потом займется Махно. Запомните мои слова. Лучшего момента для выступления вам не представится. — Целиком согласен. Но что я могу поделать? Я убеждал, приводил доводы. — И что он ответил? — А вот что: без своей армии он Врангелю не нужен. А его армии, состоящей из селян, Врангель не нужен. Не хотят селяне барона, не станут ему помогать, разбегутся, кто куда. Попов сказал не все, но Романов и так понял: кулак испугался за захваченную им у помещика землю, не хочет помещика, не хочет Врангеля. — Очень жаль. Прощайте. В случае чего, думаю, батько не откажет мне в гостеприимстве? — В этом можете не сомневаться. Романов был зол. Главное, ради чего он рисковал головой, сорвалось. Как показаться на глаза барону, не выполнив важного поручения? А барону и не нужно показываться на глаза. Может быть, куда важнее сейчас предупредить своих о подготовке красных к генеральному наступлению, о подходе Первой Конной армии Буденного… Романов исчез. Строили разные догадки, но так ни к чему и не пришли. Когда врангелевцы узнали от Романова о коннице Буденного, о том, что вот-вот начнется общее наступление, в их стане поднялся переполох. В общее наступление красных до этого они не верили, а теперь поверили. Поверили и в то, что настал последний час белой армии. А поверив, начали поспешный отход в Крым, оставив на позициях лишь маневренные арьергарды. Танки, броневики и тяжелую артиллерию оттянули в Армянский Базар. Таким образом, фактора внезапности больше не существовало. Для Фрунзе это был тяжелейший удар. Весь его замысел рушился. Но он ничего не мог поделать: конница Буденного все еще подтягивалась и сосредоточивалась в районе Берислава. Подошла она вечером 27 октября, а утром 28-го Фрунзе отдал приказ перейти в наступление. — Начинается заключительный аккорд «врангелиады», — определил он. Сперва казалось, что ничего страшного не произошло. Переправившись через Днепр, Первая Конная устремилась к Перекопу и Чонгару. Тысячи всадников в шлемах-богатырках, буденовках, наводнили степи Северной Таврии. Они почти без боя захватили подступы к перешейкам и закрыли таким образом пути отхода противнику в Крым. Две дивизии Буденный направил к Чонгарскому полуострову, а две наступали севернее — на Серогозы, где находилась основная врангелевская группировка. Но случилось именно то, что должно было случиться. Врангелевцы, поняв, что кольцо вокруг них уже замкнулось, вместо того чтобы оказывать упорное сопротивление Тринадцатой, Четвертой и Второй Конной армиям, пустились наутек в Крым. Вот этого Фрунзе ожидал меньше всего. Обезумевшие от страха, они бросали обозы, артиллерию, неисправные броневики, раненых лошадей. Поджигали составы с зерном. Красные армии не поспевали за ними. «Бронированная» кавалерия оказалась предельно маневренной и на этот раз. Вся масса врангелевских войск навалилась на Первую Конную. Буденновцы дрались героически. Четыре дня сдерживали они натиск белогвардейцев. Погибли начдив Морозов, военком Банчуров и комбриг Колпаков. Едва не погиб Ворошилов: удар пикой пришелся ему в грудь, острие пики застряло в бурке. Тимошенко и Городовиков были тяжело ранены. Их вывезли на тачанке из-под огня. Вся степь покрылась конскими трупами. Двадцать тысяч врангелевцев сдались в плен. Штабники подсчитывали трофеи: почти все обозы с обмундированием и продовольствием, свыше ста орудий, десятки тысяч снарядов и миллионы патронов, сто паровозов и две тысячи вагонов — всего не перечесть. Врангель почти уничтожен… Но на войне «почти» не считается. Ядру врангелевской группировки все же удалось проскользнуть в Крым через Чонгарский полуостров и Арабатскую стрелку. У Врангеля все еще — двадцать восемь тысяч штыков и сабель, двести орудий, пять бронепоездов, два десятка броневиков и три танка. А кроме того, — боевые корабли интервентов. На перекопском направлении Фрунзе развернул Шестую армию, на чонгарском — Четвертую. Конные армии находились теперь во втором эшелоне, они должны будут развивать успех. Тринадцатую армию он оставил в своем резерве у Мелитополя. Михаил Васильевич находился в подавленном состоянии. Окончательная победа была так близка! А теперь предстоит почти невозможное, требующее неисчислимых жертв, — штурм укреплений. Самым гнетущим было чувство ответственности. Может быть, он не учел что-то очень важное, допустил просчет? Шаг за шагом анализировал свои действия, действия своих армий. Конечно, он далек был от мысли, что именно он — главная движущая сила Южного фронта. Операцию подготавливали десятки, сотни людей. Здесь, в штабе, находился главком Каменев, который вникал в каждую деталь плана, здесь были командующие армиями и бывалые члены реввоенсоветов, многоопытные штабисты. Целый легион политработников, комиссаров трудился в воинских частях, готовя бойцов к последней решительной схватке. Без посланцев партии эта победа вообще была бы немыслима. Боевой дух — не отвлеченное понятие. Он и есть основная движущая сила, и в войсках он создается планомерно, в итоге кропотливейшей работы комиссаров, агитаторов. И очень хорошо, когда есть такие агитаторы, как Михаил Иванович Калинин, нарком Луначарский, поэт Демьян Бедный, Иосиф Сталин, который по заданию ЦК приезжал сюда еще в сентябре. Сперва Фрунзе казалось, что все дело в том, что по чьей-то небрежности не был взорван мост через Генический пролив. Если бы мост своевременно взорвали… Но потом, трезво все взвесив, он понял: мост — еще не все. Если бы даже удалось взорвать мост, белые все равно просочились бы в Крым, пробились бы всей своей мощью, не считаясь с потерями. Планы всегда составляются с учетом конкретной обстановки, и в то же время в них отражены стремления полководца в идеале; а жизнь неумолимо вносит свои коррективы. Никакого просчета нет, и нечего казнить себя. Ведь Врангель мог отвести свои войска вообще и держался в Северной Таврии лишь потому, что надеялся выколотить заем у французов. Теперь в своем приказе он заявляет:«Крым уже и отныне неприступен. Я осмотрел укрепления Перекопа и нашел, что для защиты Крыма сделано все, что только в силах человеческих».Посмотрим. Фрунзе перенес свой командный пункт на северный берег Сиваша, в Строгоновку. На рыжем англо-арабе командующий объезжал передовые части, подолгу разговаривал с красноармейцами, внушая одну и ту же мысль: последнее усилие — и гражданская война как таковая закончится. Только не нужно жалеть себя. Презрение к врагу должно быть выше страха смерти. Тот, в ком бьется честное сердце пролетария и крестьянина, должен выявить всю волю, всю энергию, на которую он только способен. Победа армии труда, несмотря на все козни врагов, неизбежна! Днем ядовито-зеленые, волны Сиваша пламенели по вечерам. И очень часто на багровом фоне заката появлялась фигура всадника. Это был Фрунзе. Он видел свои войска, которые расположились прямо под открытым небом. Красноармейцы, сидя на корточках, кутались в рваные шинелишки. Иные обматывали ноги разным тряпьем, так как ботинки на маршах расхудились до такой степени, что их пришлось выбросить. Многие полки́ совершенно разуты. Топлива, чтобы согреться, вскипятить чай, тоже нет. Нет и пресной воды. Плохо со снабжением, очень плохо… Тяжелая артиллерия безнадежно отстала, так как все мосты взорваны. И все же настроение у всех бодрое, приподнятое. Муки творчества особенно тяжелы, когда сознаешь, что от твоего решения зависят жизни десятков тысяч людей, и эти муки были укоренившимся состоянием Фрунзе. Они терзали его и на Восточном, и на Туркестанском фронтах, и особенно непереносимы были сейчас. Да, да, командующий — всего лишь человек, но человек, облеченный большой властью и наделенный правом выбора, и ответственность его оттого выходит за рамки обыкновенной человеческой ответственности. Перед ним — Перекоп, Сальковский и Чонгарский мосты, Арабатская стрелка. Три ниточки, соединяющие Крым с материком. Три оперативных направления. Как в сказке: направо пойдешь — своей смертью умрешь, налево пойдешь… Четвертой дороги в Крым нет. Чонгарский и Сальковский мосты возведены на дамбе шириной всего восемь метров, а дамба тянется на пять верст. Сальковский железнодорожный мост взорван, Чонгарский — сожжен. Если прорываться здесь, то красноармейцев перещелкают по одному. Да и негде развернуться полкам. Негде им развернуться и на Арабатской стрелке, узкой, как сабля. О Перекопе и говорить не приходится: тут, правда, есть где развернуться — ширина Перекопского перешейка восемь — двенадцать верст, — но впереди те самые непреодолимые укрепления. Сперва он выбрал Арабатскую стрелку, надеясь, что с моря поддержит Азовская флотилия. Но неожиданно ударили морозы. Таганрогскую бухту, где находилась флотилия, сковало льдом. По чонгарским переправам и Арабатской стрелке беспрестанно садит корабельная артиллерия белых. Вот оно, право выбора… Значит, Перекоп. Здесь нужно нанести главный удар. И только здесь. Как бы трудно ни пришлось… Он сделал Врангелю «шах». Но теперь будет «мат». У барона хорошая разведка, но и у Фрунзе она не хуже. Фактор внезапности вовсе не утрачен. Врангель, полностью уверенный в безопасности, затеял перегруппировку войск, заменяя на перекопском направлении сильно потрепанные в Северной Таврии части Второго армейского корпуса дроздовцами, марковцами и корниловцами из состава своего лучшего Первого армейского корпуса. Нужно идти на штурм Перекопа без всяких проволочек. Не дать белым перегруппироваться! Отстала артиллерия? Ну и черт с ней! Штурмовать, штурмовать немедленно, застать врасплох… Фактор внезапности действует… Он испытал огромное облегчение оттого, что решение наконец-то принято. Учел и политический фактор: наступление должно начаться 7 ноября, в ночь на 8-е, в третью годовщину Октябрьской революции. И снова напрашивались сравнения. Но сравнивать было не с чем: впервые за всю гражданскую войну придется осуществлять прорыв мощной и глубоко эшелонированной обороны противника. Слева — море, справа — море. Против Перекопа — Шестая армия; против Турецкого вала — Пятьдесят первая дивизия Блюхера. Именно на ее долю выпадет самое трудное — пока другие дивизии будут пробираться через Сиваш на Литовский полуостров в тыл перекопским позициям, она пойдет в лоб на Турецкий вал. …Черные тучи ползли над Турецким валом. Падал мелкий колючий снег. Красноармейцы лежали в окопах и воронках на холодных камнях, усталые, голодные и злые. Лежали и всматривались в сумрак. Иногда над валом вспыхивал ослепительно белый режущий свет прожекторов. Комиссар Четыреста пятьдесят пятого полка Безбородов думал о том, что Турецкий вал все равно нужно брать. И может быть, когда начнется атака, многие из сидящих сейчас в окопах найдут смерть. Ведь придется бежать по ровной, как стол, местности, а потом преодолевать ров, карабкаться по крутому скату. Безбородов хмурил белесые брови, дул на коченеющие пальцы, ему было так же плохо, как и другим. Мучила жажда. Внутри все пламенело, а воды не было, просто не было. Но комиссар не вправе выказывать слабость, раскисать. Комиссару приходится иногда заниматься делами, казалось бы, далекими от его прямых обязанностей. Сегодня, например, Безбородов проводил учения с бойцами. Занятия, собственно, проводил молоденький командир роты Забалуев. «Атаковали» высоту. Безбородов некоторое время наблюдал за неумелыми действиями Забалуева, потом не стерпел и гаркнул: — Разве так в атаку ходят?! Он схватил винтовку и повел красноармейцев на высоту. Так повторилось двадцать раз. Резали саперными ножницами колючую проволоку, закладывали взрывпакеты, швыряли учебные гранаты. На разборе занятий сказал: — Вот как учил нас ходить в атаку товарищ Арсений. Красноармейцы заинтересовались. — А кто такой Арсений? — О, это известный революционер, руководитель шуйских и иваново-вознесенских рабочих. Я ведь сам из Иваново-Вознесенска. Обыкновенный рабочий, ткач. Товарищ Арсений всем большевикам большевик: царское правительство дважды приговаривало его к смертной казни. — И как ему удалось спастись? Пришлось Безбородову рассказывать удивительную повесть жизни бесстрашного Арсения с самого начала. Обо всем: об Иваново-Вознесенской стачке, о поездке Арсения в Стокгольм к Ленину, о том, как полицейские и казаки вывернули ногу Арсению, о камере смертников, о Николаевском централе, о побеге из Сибири и еще о многих, многих вещах. И видавшие виды бойцы, потрясенные жизненным подвигом Арсения во имя революции, допытывались: — А чего с ним сталось? Где он? Письмо бы написать такому человеку от всего полка, ежели жив, конечно. — Арсений здесь! Он завтра поведет нас на штурм Перекопа. — Где? — Это наш командующий фронтом товарищ Фрунзе Михаил Васильевич! Арсений — его партийное имя. Эффект был поразительный. Все сразу оживились, заговорили наперебой. Стали вспоминать, кому довелось видеть командующего фронтом на каховском плацдарме, когда он с командирами и красноармейцами взобрался на разбитый танк «Сфинкс». — Очень будет стыдно всем нам, если не возьмем Турецкий вал, — сказал Безбородов. — Да как же не взять, ежели сам товарищ Фрунзе… И немыслимо вовсе не взять. Тут уж труса праздновать прямо-таки немыслимо. Красноармеец повторял это интеллигентное слово «немыслимо» с каким-то смаком. Был он маленький, усатый, с мелкими морщинками у глаз. Кажется, Рудаков. — Немыслимо, товарищ комиссар. Я ведь тоже партийный и понимаю. Возьмем, будь он неладен, этот вал. Прорвемся в Крым — все, крышка войне. Я жене и детишкам письмо написал. Так, на всякий случай. Пусть, мол, растут в революционной сознательности. — Мы за вами, товарищ комиссар! Как скажете, так и будет. Хоть на стену полезем. — Почему же — «хоть»? Турецкий вал и есть стена. Врангель называет его «стеной смерти». А вот для кого «стена смерти», не досказал. Послышался смешок. Поняли. И все-таки сейчас у Безбородова было скверно на душе. Рудаков написал жене. А комиссар Безбородов не стал писать. Ему думать о смерти прямо-таки «немыслимо», нельзя. Это не только перед другими, но и перед самим собой. Он написал иваново-вознесенским рабочим. Всем. Просил прислать теплые вещи для красноармейцев. Мороз пятнадцать градусов, а то и более. Появились обмороженные. Но отправить не успел. Раньше, при царе, о рабочей гордости иногда говорили, но так, вообще, не применительно к каждому человеку. У некоторых она была, у других ее не было. И вот держались за тех, у которых она была сильнее развита. У Безбородова рабочая гордость появилась не сразу. Жил, как все, при случае мог стянуть все, что плохо лежит; а если накрывали — смеялся: не удалось, дескать, перехитрить. Запивал после получки с друзьяками, возвращался домой яко наг, яко благ, без копейки. А потом появился Арсений: и повел, повел за собой, привел в партию, привел в рабочую совесть, в пролетарскую сознательность, в рабочую гордость и честь. И стал Безбородов крепким, как кремень, вся шелуха с него слетела. Теперь уж на него равнялись, и он должен был держаться по всем статьям, так как какая бы то ни было распущенность противоречила его убеждениям. Пройдя с Арсением через все фронты, стал комиссаром полка, тем партийным цементом, который скрепляет массы. Он знал, что красноармейцы его любят, доверяют ему, и гордился этим. Он много читал. И не только для себя, чтобы избавиться от темноты и невежества. Хотелось поделиться прочитанным с другими, с теми, кто не обучен грамоте. Как-то еще на Восточном фронте в полк приехал Фрунзе и застал Безбородова за чтением книги. Взял Михаил Васильевич книгу, перелистал. «Дама с камелиями». Улыбнулся. Распростился и ушел, ничего не сказав. А через неделю Безбородов получил с нарочным посылку: от командующего! Вскрыл ящик — книги «Что делать?» Чернышевского, «Овод» Войнич, «Спартак» Джованьоли, книжечка стихов Беранже. Подобрано со смыслом, выкроил время для Безбородова… И потом очень часто Безбородов получал книги от неизвестного адресата. Но знал, адресат один — Михаил Васильевич. Было даже как-то неловко. Удивляла способность Фрунзе помнить каждого, даже самого маленького работника, поражала его настойчивость… Врангелевцы усилили огонь. Снаряды, падающие со всех сторон, поднимали огромные столбы земли и пыли. Бегали лучи прожекторов. Обогреться бы, попить водички, затянуться махорочным дымом… Кто-то в шубе с серой оторочкой, в сапогах, в серой шапке с защитным верхом, чуть прихрамывая, шел к окопу. Безбородов обмер: Фрунзе! Сопровождал его командующий армией Август Иванович Корк. Они прыгнули в окоп, Фрунзе сжал руку Безбородова. — У вас все готово? Настроение бойцов? — Отличное. Фрунзе был серьезен. Он не улыбался, как всегда при встрече, не говорил ободряющих слов. Безбородов видел его высокий смуглый лоб, глубоко ввалившиеся серьезные глаза, брови с сердитым изгибом и понимал, что командующий фронтом пришел сюда вовсе не за тем, чтобы подбодрить комиссара, а за тем, чтобы выяснить обстановку. — Кто-нибудь был на Турецком валу? — Да. Командир шестой роты Четыреста пятьдесят шестого Петр Иванов. — Расскажите! — Со своей ротой прошел три линии проволочных заграждений и очутился наверху. Проходы гранатами проделывали. Под огнем, конечно, пришлось отступить. — Значит, все-таки возможно! Возможно. Если пустить вперед подрывников, резчиков проволоки, гранатометчиков… Спасибо. Скоро встретимся. Фрунзе сел в автомобиль и уехал. А Безбородов думал: «Почему разыскал именно меня? Или случайность? Скоро встретимся…» И вдруг стало легко, радостно. О том, что командующий фронтом был в штабе дивизии, в Чаплинке, и даже на передовой, говорили во всех ротах и полках. Многие жалели, что не удалось взглянуть на командующего; ведь теперь он был не только командующим фронтом, но еще и Арсением, близким товарищем Ленина. Воодушевление красноармейцев и командиров, кажется, достигло наивысшей точки. Под яростным светом прожекторов и прицельным огнем противника 51-я дивизия начала штурм Перекопа. Безбородов вел своих бойцов через плотную стену колючей проволоки. Сквозь вой и скрежет доносились крики, стоны, проклятья. Но останавливаться было нельзя. В воздухе держался запах крови и горький пороховой чад. Казалось, небо раскалывается от грохота непрерывной стрельбы. Он шел во весь рост, страшный в своей решительности. Сейчас его должны видеть все. — Даешь Крым! Вперед… Они карабкались по скользкому скату Турецкого вала, пробивались штыком и прикладом. Если бы сейчас каждому из них пообещали бессмертие, они все без колебаний отдали бы его за минуту победы. Красная повязка на рукаве Безбородова сбилась. Он хотел ее поправить и неожиданно почувствовал слабость в ногах. — Вперед, вперед!.. Но сам уже не мог сделать и шага — это была смерть. Кто-то подбежал, стараясь поддержать. Он узнал: комбат Слизков. — Не останавливайтесь! Я сейчас… И рухнул всем огромным телом на землю. Пулеметнаяочередь разрезала его пополам. Прожекторы погасли. Командир шестой роты Петр Иванов, тот самый, который первым побывал еще несколько дней назад на Турецком валу, и на этот раз первым поднялся сюда, с ним были двадцать его бойцов. Забросав офицерский блиндаж гранатами, Иванов вынул из-за пазухи кусок кумача, подмигнул неизвестно кому, деловито привязал кумач к шесту и воткнул шест в груду камней. Над Турецким валом на ветру весело запрыгало кумачовое пламя. Турецкий вал наш. Наш!.. «Видал бы Прохор…» — самодовольно подумал Петр Иванов. Младший брат Петра, Прохор Иванов, находился в 53-м полку, который в числе других полков, по замыслу Фрунзе, должен был форсировать залив Азовского моря Сиваш и обойти таким образом инженерные укрепления Турецкого вала с тыла со стороны Литовского полуострова. Этот замысел — форсировать Сиваш — Фрунзе вынашивал еще с той поры, как получил указание Владимира Ильича тщательно обследовать броды. Правда, тогда казалось, что броды не потребуются. А сейчас лишь оставалось удивляться дальновидности Ленина. От Строгоновки до Литовского полуострова было восемь верст. Противоположный берег терялся в тумане. Там беспрестанно полыхали вишнево-красные зарницы — били орудия противника. Восемь верст пройти по ледяной воде, под огнем, тянуть за собой пулеметы, артиллерию, повозки… Все это было настолько смело и необычно, что если бы Врангелю доложили, что красные готовятся перейти Сиваш вброд, он ни за что не поверил бы. Это было просто невероятно и безнадежно. Сиваш считался непроходимым. Но Фрунзе думал по-иному. В разговорах с местными крестьянами соляром Оленчуком и пастухом Ткаченко он выявил одну странную особенность Сиваша: когда дуют западные ветры, они сгоняют нею воду залива в море, обнажается глинистое дно, которое быстро затвердевает. Но ветер — стихия капризная, он может внезапно переменить направление, и тогда из моря покатятся обратно в Сиваш высокие мутные валы, сбивающие все на своем пути. Не так-то легко проскочить восемь верст под огнем. Оленчук и Ткаченко согласились быть проводниками. Михаил Васильевич знал также, что Литовский полуостров — самое уязвимое место обороны Врангеля. Туда по ночам на лодках и на плотах высаживались красные разведывательные десанты. Полуостров обороняла кубанская бригада генерала Фостикова, недавно сформированная и еще не обстрелянная. Сиваш предназначалось форсировать дивизиям и бригадам Шестой армии. Все складывалось как нельзя лучше: западный ветер согнал воды Сиваша, показалось серое дно. Топкие места укрепили соломенными матами. Увлеченный своей идеей и терзаемый жаждой быстрейшей победы, Фрунзе хотел сам повести войска через Сиваш. Но Гусев, Бела Кун и штабисты отговорили. И снова был вечер весь в багровых тонах. Ледяной ветер захватывал дыхание. Когда стемнело, к бродам стали подтягиваться полки. Бойцы передового отряда вошли в соленую грязь Гнилого моря. Полки один за другим скрывались в черноте ночи. Фрунзе стоял на берегу. Он знал, где войскам встретятся топкие «чаклаки», где начинаются заросли камыша, знал, где будет труднее всего. Противник то открывал ураганный огонь, то воцарялась такая тишина, что было слышно ржание лошадей и крики красноармейцев, по-видимому, упавших в трясину. Он знал: там вязнут орудия, соленая грязь и вода обжигают ноги. Многие не дойдут до противоположного берега. И в этой ночи, озаряемой орудийными залпами, ракетами и мертвенным синим светом прожекторов, было что-то величественное, не присущее людям, нечто почти космогоническое. В два часа ночи за Литовский полуостров зацепились первые отряды. Там завязался рукопашный бой. Прохору Иванову казалось, что его полк продвигается слишком медленно. Полк почти целиком состоял из донецких шахтеров, и на них-то командующий фронтом полагался целиком. Несколько минут назад, когда 53-й полк готовился к форсированию, сюда прибыл Фрунзе. — А не брат ли вы того самого Иванова? — Он самый, товарищ командующий. — На Ивановых можно положиться. Я слышал еще про одного Иванова. Приехал тот Иванов к Ильичу, видит — Ленин работает в холодной, нетопленой комнате. Непорядок. Вернулся во Владимирскую губернию, в свое село и рассказал, что видел. И вот какое решение принял волисполком: «Послать т. Ленину вагон дров на средства исполкома, а в случае надобности поставить железную печь руками своего кузнеца». Случайно, не ваш родственник? — Нет, не мой. Я из другой губернии. — Значит, очень похож на вас. А с братом на Турецком валу встретитесь. «А ведь может быть и такое, — рассуждал сейчас Прохор. — Зайдем в тыл, а Петра навстречу…» Это были бы те самые «солдатские чудеса», о которых любят рассказывать у костра, передавая кисет с махоркой из рук в руки. Но красноармейцу Прохору Иванову не суждено было дойти даже до берега Литовского полуострова. Десятипудовые снаряды падали в Сиваш, поднимая фонтаны воды и грязи. Прохору, однако, везло. Снаряды все время падали в стороне. Вода просочилась сквозь обмотки, и ноги онемели. «Только бы на берег выбраться, а там разомнемся…» Снаряд разорвался над головой. Боли не было. Прохор еще успел подумать о кисете с настоящим крымским табаком, который нес в подарок брату. «Жаль, не донес…» (Для истории: «Кузнец колхоза «Красный полуостров» Иван Павлов, собирая картечь в обмелевшем Сиваше, обнаружил тело красноармейца, убитого белогвардейцами в бою под Перекопом в 1920 г. Тело бойца Красной Армии перевезено в г. Армянск. Погибший в бою 15 лет назад красноармеец Прохор Иванов будет похоронен с великими почестями». «Правда», 25 августа 1935 г.) Михаилу Васильевичу доложили: — Ветер переменился. Гонит воду в Сиваш… — Передайте: захватить Турецкий вал этой же ночью! Во что бы то ни стало… Вода идет в Сиваш… Прежде всего, нужно бросить подкрепления частям, дерущимся на Литовском полуострове, пока они не оказались отрезанными от главных сил. А во-вторых, немедленно собрать всех окрестных жителей: пусть возводят дамбу у бродов… Чтобы скрыть от противника истинное направление главного удара, Фрунзе приказал вести наступление также на Чонгар и Арабатскую стрелку. На Арабатскую стрелку наступала 9-я дивизия Николая Куйбышева. Арабатские укрепления были ничуть не хуже перекопских. Только на узкой косе дивизия не могла развернуться. Ее поливала огнем корабельная артиллерия белых. И все-таки Девятая прорвалась, белые в панике бежали, оставив свои оборонительные рубежи. Под ударом Тридцатой дивизии пала Чонгарская твердыня. Целиком сдалась в плен бригада генерала Фостикова. Взят Турецкий вал, взяты Юшуньские позиции. Взят Джанкой. Врангель отдал приказ остаткам своих войск отступать к портам для эвакуации. А со стороны портов на белых двинулись партизаны Мокроусова. Не желая бесполезного кровопролития, Михаил Васильевич по радио обратился к Врангелю и его войскам с предложением сложить оружие, пообещав широкую амнистию. Врангель радиограмму получил, но не ответил. — Нам с вами амнистии ждать не приходится, — сказал барону Романов. Врангель брезгливо поморщился: — А вы-то тут при чем? Кто вы такой, черт вас побери, и почему путаетесь у меня под ногами?! — Ну, ну, барон, не будем ссориться. Может быть, я вам еще пригожусь в Константинополе? Стоит ли терять время на взаимные оскорбления? Бежать надо. Бежать! Спасать шкуру. — Замолчите, наглец! Пишите. Мой последний приказ: «У нас нет ни казны, ни денег, ни родины. Кто не чувствует за собой вины перед красными, пусть останется до лучших времен… Аминь». Врангель бросил свою армию и на крейсере «Генерал Корнилов» бежал в Константинополь. — Жалкий авантюрист, — сказал Фрунзе. — А я-то был о нем лучшего мнения… Фальшфейер… Вот и ликвидирован Южный фронт. Нет больше Южного фронта. Керчь, Феодосия, Симферополь, Севастополь… Крым свободен! Отныне и навеки это — советская земля. Кровью десяти тысяч своих лучших сынов оплатили рабочий класс и крестьянство свой последний смертельный удар по контрреволюции. Но революционный порыв оказался сильнее соединенных усилий природы, техники и смертоносного огня… В Симферополе к Фрунзе пришла студенческая делегация. Вперед выступил пожилой человек со светлой бородкой, с красным бантом на лацкане вытертого синего пиджака. Человек откашлялся и звучным голосом торжественно произнес: — По ходатайству студентов и профессоров Крымскому университету решено присвоить имя освободителя Крыма — Михаила Васильевича Фрунзе!.. Это был профессор Байков! Михаил Васильевич сразу узнал его. Байков, конечно, тоже узнал его, не мог не узнать, но официальность минуты требовала сдержанности. И вот, к удивлению студентов, знаменитый полководец прижал профессора к груди, расцеловал и вдруг заговорил языком науки: — А ведь существует адекватное знание! — Существует, Михаил Васильевич, существует. — Как вы оцениваете работу Госсена? Профессор смахнул слезу. — Теперь я считаю, что законы экономики имеют не психологическую природу, а классовую. — Ну вот и доспорили. Спасибо вам за все. И за жизнь… Как видите, она мне очень пригодилась. В группе студентов находился восемнадцатилетний юноша. Он с интересом и волнением наблюдал за сценой встречи двух давних друзей. Это был будущий великий физик Игорь Васильевич Курчатов.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГУЛЯЙ-ПОЛЕ
Гражданская война закончилась. Так, во всяком случае, считалось. Михаил Васильевич сбрил бороду. Он дал отпуск Блюхеру. На два с половиной месяца! А потом Василия Константиновича назначили военным министром и главнокомандующим Народно-революционной армией Дальневосточной республики. Ему еще предстояло добивать белогвардейцев на Дальнем Востоке и выкуривать японцев из Владивостока. Николай Куйбышев со своей Девятой отправился в Грузию утверждать Советскую власть. За штурм Пойлинского моста через Куру, за бои на Сурамском перевале и освобождение Батума его наградная третьим орденом Красного Знамени. Уборевич еще в октябре, до штурма Чонгара и Перекопа, был послан на Правобережную Украину, где объявился Петлюра, сколотивший между Днестром и Южным Бугом сорокатысячную армию. С Петлюрой было покончено за одиннадцать дней. Здесь прославилась кавбригада Котовского. Уборевича назначили на Тамбовщину заместителем командующего войсками Тухачевского. На Тамбовщине Уборевич и Тухачевский громили левоэсеровские банды Антонова. Однажды Михаил Васильевич привез домой чайный серебряный сервиз. — Какая прелесть! — восхитилась Софья Алексеевна. Он смутился. — Тут сказано: «За особо понесенные труды по ликвидации врангелевского фронта». Наградили. Одним словом, как в старых дворянских романах: фамильное серебро. — А что же мы будем с ним делать? — Чай пить. — Из такого сервиза? Приходят, к примеру, к тебе ивановские рабочие — а у тебя серебро на столе. — Черт! В самом деле как-то нехорошо. Будто царский генерал. Запрем или пожертвуем? — Пожертвуем. — Быть тому. А вот с награждением Почетным революционным оружием можешь поздравить! Это тебе не серебряные ложечки. Он показал Софье Алексеевне шашку с золотым эфесом, с орденом Красного Знамени на ножнах и надписью: «Народному герою Михаилу Васильевичу Фрунзе ВЦИК РСФСР». Приложил ее к губам, поцеловал. — Волос рассекает. Она рассмеялась. — А главного-то и не заметил: «Народный герой»! — Заметил. Знаешь: все это приятно и в то же время… Тебе не кажется, что чересчур уж громко: герой?! «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и ни герой…» — Я так понимаю: раз народный герой, значит, народ присваивает тебе такое звание. — Все правильно, логично. Меня не пугают громкие звания и названия. Только ум ограниченный может придавать самодовлеющее значение таким вещам. Я уже не раз говорил, что наши победы объясняются не особыми талантами и заслугами военных работников, каким я себя сейчас считаю, а тем, что в ходе революции объективная обстановка выдвигала на первый план военные задачи и привлекала к ним внимание партии, всего пролетариата и крестьянства. Вот моя точка зрения. Но Почетное оружие — редчайшая награда; ее получили всего трое: Ворошилов, Котовский и я. Будь моя власть, я бы… — Какую тебе еще власть? И так хоть отбавляй. Власти в самом деле хватало. Его назначили командующим всеми вооруженными силами Украины и Крыма, уполномоченным Реввоенсовета Республики, избрали членом ЦК компартии Украины, ввели в состав Совета Народных Комиссаров Украинской ССР, и он стал заместителем Председателя Совнаркома, а также заместителем председателя Украинского экономического совещания, причислили к Генеральному штабу. Это последнее особенно растрогало его. Ведь по статуту к Генштабу причисляли, главным образом, лиц, имеющих высшее военное образование, окончивших, например, по первому разряду Академию Генштаба. Еще не было случая, чтобы без такого образования присваивались все права генштабиста. А Фрунзе присвоили… Михаил Васильевич только что вернулся в Харьков из Москвы, куда вместе с Ворошиловым, Буденным и Тимошенко выезжал как делегат Восьмого съезда Советов. Радостной была встреча с Валерианом Владимировичем Куйбышевым и Сергеем Мироновичем Кировым. Куйбышев приехал прямо из Туркестана, передал Михаилу Васильевичу приветы от старых боевых друзей — Федора Федоровича Новицкого, Якуба Чанышева, Исидора Любимова (который стал Председателем Совнаркома Республики), Наумова и других. Дмитрий Фурманов! Он делегат съезда. На груди — орден Красного Знамени: за отважный десант в тыл генерала Улагая с Епифаном Ковтюхом. В Екатеринодаре Дмитрий Андреевич был начальником политотдела. Теперь — в Одиннадцатой армии, в Тбилиси, редактор газеты «Красный воин». Увидел Михаила Васильевича, устремился навстречу. Оба обрадовались, сцепили руки вовсе не по-военному. Но это был уже не тот Митяй, каким знал его Михаил Васильевич; и не известно, по каким приметам угадывается зрелость человека: то ли по выражению чуть усталых, не таких подвижных, как раньше, глаз, то ли по сухости выражения губ, то ли по спокойным, размеренным жестам, но перед Фрунзе был именно зрелый, возмужалый человек, хозяин своей судьбы, умный, расчетливый хозяин. — Почему не писали? — строго спросил Михаил Васильевич. Фурманов зажал улыбку в уголках рта. — Не до меня вам было. Мы ведь за каждым вашим шагом следили… А с Владимиром Ильичем Фрунзе будто и не расставался вовсе. Да и не расставались: каждый день обменивались пространными телеграммами. Проводя операцию в Северной Таврии и на перешейках, Фрунзе постоянно чувствовал на себе как бы пристальный взгляд Ленина. Потому и заговорил Владимир Ильич так, будто они и не разлучались. О недавних боях, о Махно, который отказался расформировать свою армию и влить бойцов в нормальные воинские соединения Красной Армии. Владимир Ильич сказал:
— Эта мелкобуржуазная контрреволюция, несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые…
А потом, вглядываясь в лицо Фрунзе, уже тише добавил:
— Вам необходимо хорошенько отдохнуть, подлечиться. Вы совсем больны.
— Вот покончим с Махно…
— Да, да, с Махно надо покончить! Это будет трудная, необычайная война. Желаю вам успеха!.. А слово сдержали, сдержали: управились с Врангелем, что называется, досрочно.
С трибуны съезда Владимир Ильич очень высоко оценил операцию по разгрому Врангеля, назвав ее «одной из самых блестящих страниц в истории Красной Армии».
Воодушевленный, в приподнятом настроении вернулся Михаил Васильевич в Харьков. Здоровье у него, в самом деле, порасшаталось: стал покашливать, часто кружилась голова. Но — не время, не время… Он вызвал своего заместителя и ближайшего помощника Роберта Эйдемана, с которым успел хорошо познакомиться, и вручил ценный подарок — золотой портсигар с надписью: «За особо полезные труды по ликвидации врангелевского фронта». Вручая подарок, Михаил Васильевич громко, чтобы слышали все работники штаба, произнес:
— Побеждены лишь те солдаты, которые в бою взрывают сердец последние гранаты…
От неожиданности Роберт Петрович чуть не выронил портсигар. Он смотрел на Фрунзе почти с суеверным ужасом. Топорщились усики.
— Откуда? Я ведь ни одной душе… Даже на бумагу не записал…
Насладившись эффектом, Михаил Васильевич рассмеялся, усадил Эйдемана за стол, где лежала развернутая карта.
— Награды наградами, а война для нас не кончилась: займемся бандитским батькой Махно.
Как известно, между Махно и командованием Красной Армии существовала договоренность: повстанческая армия должна была выступить против Врангеля. Однако Махно, выделив для этой цели отряд в две тысячи человек, с основными силами по-прежнему находился в районе Гуляй-Поля и меньше всего думал о помощи Красной Армии. Союзом с Фрунзе он надеялся выиграть время: не теряя ни дня, занялся дополнительной мобилизацией кулацкого населения в свою армию. За короткий срок армия выросла до пятнадцати тысяч человек, у Махно было свыше двухсот орудий, на поле боя он подобрал брошенные белыми тяжелые орудия. Не хуже Романова Махно знал, что ему скоро вновь придется столкнуться с Фрунзе, который, разделавшись со всеми врагами, не потерпит у себя под носом существования какой-то «повстанческой армии», а проще — бандитской.
Махно нарушил договоренность первым. Его банды стали совершать налеты на тыловые части Красной Армии, вооружаться и обмундировываться за их счет, убивать красноармейцев, продработников и сельских активистов. С каждым днем список преступлений махновских банд увеличивался: 12 ноября в Михайловке убиты и раздеты догола двенадцать красноармейцев; в районе Б. Токмака убит каптенармус 9-й стрелковой дивизии, везший обмундирование; 7 ноября в Ивановке убиты шесть красноармейцев 2-й спешенной бригады; в районе Жеребец разграблен отдел снабжения дивизии и произведен налет на транспорт интеркавбригады…
Фрунзе послал Махно приказ: все части бывшей повстанческой армии немедленно ввести в состав Четвертой Красной Армии! Махно не ответил.
Тогда Фрунзе и Эйдеман двинули против него войска, которые постепенно концентрически начали окружать Гуляйпольский район. Крупное столкновение произошло 16 декабря двадцатого года неподалеку от Мелитополя. Махно пытался уклониться от боя, но Фрунзе оказался хитрее и настойчивее — кольцо становилось все уже и уже. Идейный вдохновитель Махно анархист Волин-Эйхенбаум нашел единственный в сложившейся ситуации выход.
— Ваша жизнь драгоценнее всего этого сброда, — сказал он Махно. — С небольшим отрядом мы могли бы прорваться на Правобережную Украину. Армию всегда можно собрать. Были бы вы, вы, ибо вы божественны и бессмертны!
Он почти пел.
— Все свое личное я приношу в жертву идее, — сказал Махно. — Я не могу бросить свои войска!
Однако пришлось бросить. Пятнадцатитысячная армия была разбита, рассеяна. Оставив артиллерию и почти все пулеметы, Махно с отрядом в пятьсот сабель бежал на Правобережную Украину. Его преследовали до Черкасс. Но он опять переправился на ту сторону Днепра и через Полтавскую губернию проник в пределы Курской и Воронежской губерний.
— Он бежал. Но он не может не вернуться сюда: здесь его основная база, — сказал Фрунзе. — Подготовим ему достойную встречу. «Малую войну» следует вести по правилам «малой войны».
У него был богатый опыт борьбы с басмачами, и теперь это пригодилось. Махно применял тактику неожиданных налетов, беспрестанно менял районы действий. Нужно было тщательно изучить источники снабжения и пополнения банд. Фрунзе создал так называемый «Летучий корпус», куда вошли несколько десятков небольших, обладающих высокой подвижностью конных отрядов. Во главе ударной группы поставил Григория Котовского. Части ударной группы занялись преследованием махновцев.
Котовский давно привлекал внимание Михаила Васильевича. Этот могучий человек словно специально был рожден для боевых дел. Одним ударом шашки он мог разрубить беляка пополам. Он был карающей десницей революции, воплощением ее народной силы. Когда он входил в комнату, сразу становилось темно: он заполнял собой все пространство. Большая круглая голова, всегда тщательно выбритая, широкая выпуклая грудь, громадные ручищи — все как в сказе о былинных богатырях. Но резкие складки между бровями и тонкие недобрые губы могли бы подсказать хорошему физиономисту, что в этом, на первый взгляд, добродушном, неповоротливом человеке глубоко скрыт бешеный, неукротимый характер. Однако характер проявлялся в нем, как было известно Фрунзе, лишь по большому счету. В обычное время Григорий Иванович выглядел добродушно-спокойным, даже каким-то смирным, вроде бы стеснялся своей силы. Имелась еще одна особенность в натуре Котовского: он умел восхищаться боевыми делами других, будь то обыкновенный красноармеец или же сам командующий. В каждом он ценил предельное проявление духа, каждого мерил мерой гражданственности. Люди с притупленным чувством гражданственности его прямо-таки удивляли — не может быть таких! Он был на четыре года старше Фрунзе, испытал не меньше, приговаривался царским правительством к смертной казни за революционную работу, но на Фрунзе глядел с глубочайшим восхищением: здесь гражданственность выступала в своем идеале.
— Вас через повешение? — как-то спросил Михаил Васильевич.
— Да. В шестнадцатом.
— А где сидели?
— В Николаевской каторжной тюрьме.
— В «николаевской могиле»?
— Совершенно точно.
— Коробку застали?
— Вы знаете этого изверга?
— А я сидел в тринадцатой камере.
— Вот это здорово: я ведь тоже сидел в тринадцатой! Так это ж прямо-таки невероятно…
Фрунзе затянул басом: «Помилуй народ многогрешный, царь небесный свет… Господу богу помолимся!..»
Котовский прыснул.
— Так это же Рафаил!
— Я хором каторжан ведал.
— И что пели?
— Всякое божественное. А вы молдавские песни знаете?
— Знаю. Быть молдаванином и не знать песен своего народа?!
— Хотелось бы послушать. И вообще все про Молдавию. Я ведь по отцу — молдаванин, а в Молдавии никогда не бывал, и песен не знаю, и молдавского языка никогда не слыхал.
Когда Роберт Эйдеман вошел в кабинет командующего для доклада, то застыл на пороге, даже растерялся: легендарный комбриг красивым мягким басом выводил какую-то тягучую песню на незнакомом языке. Фрунзе внимательно, с деловым видом слушал.
Когда Котовский кончил петь, Эйдеман доложил:
— Махно объявился в Гуляй-Поле!
— Какими силами?
— Трудно сказать. Он ведь обрастает кулачьем, как снежный ком.
— На этот раз он не должен от нас уйти…
Как член правительства Украины Михаил Васильевич мог прибегнуть к старому, не раз испытанному средству: провести на съезде закон об амнистии тем махновцам, которые добровольно оставят банду и вернутся к мирному труду. Он знал, что такой закон — самое действенное оружие против массового бандитизма, так как украинское село успело оценить выгоды Советской власти и повернулось к ней.
Как и ожидал Фрунзе, закон дал колоссальный эффект: десять тысяч бандитов сложили оружие! У Махно осталось тысячи две сабель — не больше. Он оказался изолированным и вынужден был из Гуляй-Поля перебраться в Полтавскую губернию. Но он жил, существовал, нападал, грабил, убивал, и за его плечами по-прежнему стояла зловещая фигура Волина-Эйхенбаума, угрюмого волосатого человека, с толстыми, выпяченными губами, возомнившего себя пророком анархизма. Волин-Эйхенбаум изрекал сентенции, заимствованные у других, а окружающим казалось, что эти сентенции рождаются в его дремучем мозгу:
— Движение — все, цель — ничто. Прекрасен хаос — из него рождаются все формы. Чем больше в мире смут и беспокойства, тем лучше. Бытие лишено разумной связи. Велик тот, кто действует: в хаосе равноценны и великое злодейство и великая гуманность…
Но у Волина-Эйхенбаума помимо этих туманных сентенций имелась и четкая политическая программа: он был связан сразу с тремя разведками: французской, английской и американской, а также с Петлюрой. Программа не отличалась оригинальностью: разъедать Советскую власть изнутри, всеми возможностями способствовать отделению Украины от России.
И если Деникин, Колчак, Врангель, Юденич делали ставку в основном на иностранный капитал, то Волин-Эйхенбаум давно понял, что мелкобуржуазная стихия внутри страны, национализм куда страшнее английских и французских пушек и танков. На среднем пальце левой руки Волин-Эйхенбаум носил железное кольцо с эмблемой: змея, пожирающая сама себя.
— Наши цветы распускаются на неистребимых корнях, эти корни — природа человека, — внушал он Махно. — Цветы можно сорвать, смять, но корни уходят так глубоко, что они всякий раз будут давать новые цветы. Потому-то мы с вами непобедимы.
Махно слушал со скептической улыбкой. О каких победах может идти речь, когда от его армии остались рожки да ножки?!
Михаил Васильевич снова готовился к поездке в Москву, на Десятый съезд партии во главе украинской делегации. О съезде заблаговременно шло много разговоров: намечалось введение новой экономической политики. Но Фрунзе собирался выступать по военному вопросу.
Военный вопрос… Теперь, когда гражданская война в основном закончилась, намечалось резкое сокращение вооруженных сил. А оставшиеся силы должны были сохранить свою боеспособность и даже повысить ее. Речь, конечно, должна идти о реорганизации Красной Армии.
Это был очень сложный вопрос, если не самый сложный из всех, какие встали перед Республикой после окончания гражданской войны.
И хотя теперь Фрунзе как причисленному к Генштабу по штату было положено развивать военную науку, он не думал о своей принадлежности к Генеральному штабу. Проблему требовательно выдвигала сама жизнь. Сперва он составил тезисы, которые хотел положить в основу своего выступления на съезде, а потом увлекся.
Проблема волновала его не только в практических частностях, но и в целом, в теоретическом плане.
Что-то подобное уже было в его биографии: это когда он написал работу об Иваново-Вознесенской губернии в сельскохозяйственном отношении, став ее руководителем.
Снова заговорил в нем ученый, исследователь. И область приложения знаний была самой близкой, знакомой в мельчайших деталях, выношенной всем существом, выстраданной в бессонные штабные ночи, в беспрестанных боях.
Что касается реорганизации армии, то тут для него все было предельно ясно: армию нужно превратить в единый организм, спаянный сверху донизу не только общностью политической идеологии, но и единством взглядов на характер стоящих перед Республикой военных задач, способы их разрешения и методы боевой подготовки войск.
А вот с единством взглядов куда сложнее. У людей, считающих себя специалистами военного дела, пока, к сожалению, нет единства взглядов по коренным вопросам военного строительства, и это может сильно затормозить все дело, если не загубить его.
Взять хотя бы Троцкого: он продолжает дуть в старую дуду: «Может ли марксизм научить плести лапти?», «Нельзя военное дело и его вопросы растворять в социальных и политических категориях», «На основе марксистского учения нельзя построить стройную систему военного мировоззрения Красной Армии, никакой научной теории войны не может быть». За Троцким, как ни печально, идет часть старых генштабистов.
Тут завязывается такой резкий конфликт, на развязывание которого можно положить больше сил, чем их израсходовано за три года гражданской войны…
Он ходит по своему кабинету, засунув руки под ремень, хмурится, думает. И вся гамма чувств отражается на его лице. На нем новая форма: гимнастерка с тремя малиновыми «разговорами» на груди; когда выходит на улицу, надевает остроконечную буденовку.
Он думает, думает. Почему Троцкий и его приспешники не верят в возможность создания миллионной, технически оснащенной, подлинно социалистической армии? Почему отрицают необходимость разработки единой военной доктрины?
Ведь мало-мальски искушенному в политике человеку должно быть ясно, что военное дело данного государства, взятое в его совокупности, не является самодовлеющей величиной и целиком определяется общими условиями жизни государства. Это понимал еще Клаузевиц, это понимает Меринг.
Военную доктрину не придумывают нарочно: ее характер опять же определяется характером общей политической линии того общественного класса, который стоит у власти. Доктрины, способной быть жизненным, организующим моментом для армии, изобрести нельзя. Все основные элементы ее уже даны в окружающей среде, и работа теоретической мысли заключается в отыскании этих элементов, в сведении их в систему и в приведении их в соответствие с основными положениями военной науки и требованиями военного искусства.
Генеральный штаб на деле должен стать мозгом армии, военно-теоретическим штабом пролетарского государства. Выработку единой военной доктрины, разумеется, нельзя доверить лишь узким специалистам, ибо это мировоззрение не только армии, но и всей Республики. Наряду с военными специалистами доктриной должны заниматься все политические работники, получившие достаточный опыт в деле строительства армии и в ее борьбе…
На чистом листе бумаги он вывел своим торопливым прямым почерком: «Единая военная доктрина и Красная Армия». Но больше ничего написать не успел: пришлось выехать в Москву на съезд.
Но и здесь, на съезде, он продолжал думать о единой военной доктрине. Это была та самая идея, которая в очень смутной форме приходила ему в голову еще в годы империалистической войны. И теперь, ощущая в себе еще небывалую творческую силу, он жалел, что не принялся за труд раньше, и в то же время понимал, что не было никакой возможности, да и рано было тогда обобщать.
На съезде царила атмосфера всеобщего воодушевления ленинцев. Это они выиграли гражданскую войну и спасли только что народившееся социалистическое государство! Ленин наметил смелый курс — переход от военного коммунизма к новой экономической политике.
И вот в самый разгар съезда торжественность была нарушена известием из Петрограда: контрреволюционный мятеж в Кронштадте!
Делегаты съезда выехали в Петроград для подавления мятежа.
Фрунзе сказал Ворошилову:
— От Махно уехали, к Милюкову приехали.
Разумеется, самого Милюкова в Кронштадте не было, но лозунг, который выкинули мятежники, был милюковский: «Советы без коммунистов!» Таким же лозунгом прикрывался и Махно.
— Это ведь все те же басмачи! На сей раз кронштадтские… Не привыкать громить их.
План разгрома разрабатывали втроем: Владимир Ильич, Фрунзе и Ворошилов. Помимо делегатов, в Кронштадт решено было направить лучшие части Красной Армии.
Сперва предстояло пройти по тонкому льду залива, а потом брать крепость штурмом. Тонкий, рыхлый, мартовский лед, огромные полыньи… Многим идея казалась просто неосуществимой. На это, по-видимому, и рассчитывали мятежники. Кронштадт им казался неприступным. Но после штурма Перекопа и Чонгара для Фрунзе больше не существовало неприступных крепостей. На совещании командного состава он рассказал об одном эпизоде, имевшем место несколько месяцев назад.
После того как врангелевская армия была разгромлена, 9-ю дивизию Николая Куйбышева решили перебросить на Кубань для ликвидации кулацких банд. Путь предстоял немалый: вокруг Азовского моря, через Донбасс и Ростов, железные дороги разрушены. И вот Николай Куйбышев нашел необычное решение: переправиться по тонкому, рыхлому льду Керченского пролива. Работникам штаба идея показалась безумной. Но Фрунзе, взвесив все, одобрил ее. Он верил Николаю Куйбышеву. Каждый красноармеец прихватил с собой доску. И дивизия переправилась на Таманский полуостров.
Рассказ Фрунзе подбодрил всех. Части Красной Армии по льду подошли к Кронштадту и восемнадцатого марта двадцать первого года взяли крепость штурмом. Мятеж был ликвидирован, военные делегаты вернулись в Москву на съезд.
Тезисы Фрунзе по военному вопросу были использованы при разработке постановления съезда, а самого Михаила Васильевича избрали членом ЦК партии.
И еще одна должность: его назначили уполномоченным Совета Труда и Обороны по вывозу соли из солепромышленных районов Украины. За пуд соли можно было выменять четыре пуда хлеба. Республика сидела без соли, а как знал Фрунзе, в одном Крыму, возле Сиваша и Евпатории, скопилось более двадцати пяти миллионов пудов соли. Да, на этот раз Владимир Ильич говорил с Фрунзе о соли:
— Главное — соль. Все забрать, обставить тройным кордоном войска все места добычи, ни фунта не пропускать, не давать раскрасть… Поставьте по-военному. Назначьте точно ответственных лиц за каждую операцию. Мне их список (все через Главсоль). Вы — главком соли. Вы отвечаете за все!
— Соль будет, Владимир Ильич!
Если уж Владимир Ильич вынужден заниматься солью, то это — не соль, а соляной фронт.
Вернувшись на Украину, главком соли привел все в движение: трудармейцы прокладывали железнодорожные ветки, соль грузили в вагоны, на баржи, на подводы. Но он был не только главкомом соли. Он входил в Особую комиссию по топливу и продовольствию, занимался восстановлением и электрификацией Донбасса. Его назначили ответственным за проведение продовольственных заготовок на Украине. Каждый день отправлял он эшелоны с хлебом в голодающее Поволжье.
Все дела — срочные. Сейчас нет несрочных дел. Они навалились глыбой. А Махно до сих пор гуляет по степи.
Как член правительства и командующий Фрунзе занимался хлебом, углем, солью, нарождающимися колхозами и совхозами, транспортом, кооперацией, продналогом, детскими домами, выезжал на корабли Черноморского флота и Азовской флотилии, проверял, успешно ли ведет Карбышев строительство береговых укреплений и фортов на Черном море.
На Украине было ничуть не легче, чем в Туркестане. А может быть, во много раз сложнее и труднее. Возникало такое ощущение, будто усложнилось само время, стало зрелее.
Собственно, у Михаила Васильевича было три заместителя: Авксентьевский — по общим военным вопросам, Гусев — по политической части и Роберт Эйдеман — по борьбе с бандитизмом. Эйдеман носился на автомобиле по всей Украине, стараясь напасть на след Махно. И когда объявлялась банда, Эйдеман бросал на нее кавбригаду Котовского или же истребительные отряды. С Ворошиловым и Буденным недавно расстались. Климента Ефремовича назначили командующим Северокавказским округом, Буденного — его заместителем.
Неожиданно Котовского с его бригадой пришлось послать в Тамбовскую губернию, где усилились банды Антонова. Вскоре оттуда Михаил Васильевич получил письмо: от кулацкой пули погиб комбриг Плясунков!
На лицо Фрунзе легла суровая задумчивость. В двадцать пять лет оборвалась еще одна жизнь, так нужная революции…
Он помнил их всех: Батурин, Крайнюков, Степан Михайлов, Сергей Сокол, Дмитрий Суворов, отец и сын Чековы, ткачиха Маша Рябинина, Безбородов — и еще сотни дорогих имен… Они были самыми беззаветными, самыми прекрасными. Тогда действовала жестокая необходимость, и она смягчала горечь утраты. А сейчас, после того как основное завершилось, всякая смерть кажется неоправданной.
Много полегло у стен Кронштадта. Много гибнет в схватках с махновцами, петлюровцами, антоновцами. Да, мелкобуржуазная стихия страшнее Врангеля, коварнее. Мятежи, кулацкие банды — это и есть мелкобуржуазная контрреволюция. Фрунзе подавлял мятежи в Москве, Ярославле, в Туркестане, в Кронштадте. На фоне великих сражений гражданской войны они кажутся незначительными эпизодами. И «малые войны» с бандами, конечно же, войдут в историю побед Красной Армии как малозначащие эпизоды. И очень грустно, что погиб Иван Михайлович Плясунков, любимец Чапая…
Михаил Васильевич завершал работу над статьей «Единая военная доктрина и Красная Армия». В одном из разделов статьи он упоминал о «малой войне». Пролетариату помимо больших войн с буржуазией и другими отмирающими классами приходится вести также «малые войны» с мелкобуржуазной контрреволюцией. Опыт гражданской войны в этом отношении дает богатейший материал для обобщений: действия партизан в Сибири, борьба в казачьих областях, басмачество в Туркестане, махновщина и вообще бандитизм на Украине. «Малые войны» необходимо изучать наравне с большими. Одной из задач Генерального штаба должна стать разработка идеи «малой войны» в ее применении к нашим будущим войнам с противником, технически стоящим выше нас.
Идея «малой войны», впервые сформулированная Фрунзе, заслуживала того, чтобы посвятить ей отдельную статью. Известие о смерти Плясункова послужило своеобразным толчком: Михаил Васильевич решил сам провести несколько операций по разгрому махновщины и заодно «собрать» дополнительный материал. Махно раздражал его, отвлекал от важных дел государственного масштаба. Фрунзе не учитывал простого обстоятельства: и солдат, и командующий могут погибнуть не только в великих битвах, но и в самой маленькой войне, в обыкновенной стычке. Не то чтобы он не дорожил своей жизнью — просто он никогда не думал о смерти. Жизнь всякий раз нужна была ему для какого-то конкретного дела. И каждый раз говорил себе: «Только бы довести все до конца…»
В Харьков приехал Иван Кутяков. Он сдал зачеты за первый курс военной академии Генштаба и пожелал вернуться на Украину под начало Михаила Васильевича.
— Располагайтесь в моем вагоне. Едем воевать с Махно!
Вагон был прицеплен к бронепоезду. Тот самый вагон, в котором Фрунзе проводил большую часть своей жизни, выезжая то на флот, то на границу, то в Донбасс, то в Крым. Оперативные карты, фотография Махно на столе. Кутяков пристально вглядывался в фотографию. Мягкий, почти женский овал лица, голова арбузиком, длинные волосы, зачесанные на лоб; плотный грудастый мужичок — такие здесь встречаются на каждом шагу: угадай, кто из них Махно!
А Фрунзе наблюдал за Кутяковым. Этот молодой человек чем-то напоминал ему Чапаева. В двадцать четыре года двенадцать ранений, из них несколько тяжелых, — не многовато ли?.. А энергии еще непочатый край. Чапаев прощал Кутякову то, что не простил бы никому другому, — ослушание. Была у Кутякова страсть: ходить по тылам противника. Всякий раз преподносил Василию Ивановичу сюрприз: проберется с группой конных разведчиков во вражеский тыл, расколошматит полк белых, пленных пригонит, пушки с упряжкой. Явился, мол, победителей не судят. А Чапай из себя выходит, грозится в рядовые разжаловать. Потом отойдет, похвалит за удаль, рассмеется. Иван поглядывает с завистью на чапаевскую шашку с чеканным серебряным эфесом и клинком из дамасской стали. Закрутит Василий Иванович головой: и не зарься, не дам! А шашку Иван все-таки забрал: разбил колчаковскую дивизию, почти две тысячи пленных взял, много орудий и всякого добра. Тут уж сердце Чапая оттаяло. Приказал выстроить бригаду и под оркестр вручил Кутякову шашку: а дороже подарка и не может быть… Горяч Кутяков, вспыльчив. Член реввоенсовета Аралов рассказывал: Чапаевская дивизия прибыла на Польский фронт. Ее начальник Кутяков отправился к начальнику штаба Двенадцатой армии, бывшему царскому генералу Седачеву.
— Я хотел бы знать обстановку на фронте, — сказал Кутяков. — Какова задача моей дивизии?
Седачев саркастически улыбнулся.
— Сколько вам лет, молодой человек?
— Двадцать два.
— Какой чин в старой армии?
— Унтер-офицер.
— В ваши годы и с вашим званием вам, голубчик, не дивизией, а взводом командовать нужно.
— Имею честь доложить, что с начала гражданской войны я все время бил колчаковцев и белоказаков примерно вашего возраста и вашего звания!
Седачев опешил.
Чапаевская дивизия дралась за Стоход и за Буг. Сейчас ее штаб — в городе Белая Церковь, здесь, на Украине. Кутяков был тяжело ранен в боях за укрепленную линию на реке Уборть и попал в госпиталь.
Вспомнили общих знакомых: начальника артиллерии Чапаевской дивизии Николая Хлебникова, которого Фрунзе знал еще по штабу Ярославского округа, Бубенца, Пелевина, Сучкова. Ивановец Алексей Лапин, бывший комиссар кавбригады Чапаевской, сейчас — комиссаром кавбригады у Буденного… Бубенец командует кавбригадой Червонно-казачьей дивизии, мечтает стать летчиком. Гаспар Восканов — командир корпуса…
Бронепоезду командующего давали «зеленую улицу», и все-таки поездка затянулась на целый месяц. На больших станциях Фрунзе разговаривал по прямому проводу с Эйдеманом, с командирами дивизий, с уездными председателями ГПУ. Отовсюду поступали «бандсводки». Но на след самого Махно напасть никак не удавалось. Район его действий был слишком обширен: Синельниково, Кременчуг, Конотоп, Полтава. Атаман метался из края в край, он знал, что за ним охотится сам Фрунзе, и не засиживался на одном месте.
Когда поезд прибыл на станцию Решетиловка, пришло сообщение от Эйдемана: «Махно окружен в районе Ромны». Всю ночь Михаил Васильевич не отходил от прямого провода. Никаких известий больше не поступало. Что там происходит? Удалось ли взять Махно? Почему молчит Эйдеман?
Михаил Васильевич сказал Кутякову:
— Находимся в трех шагах от Полтавы. Я ведь намеревался в Полтаве задержаться: здесь живет мой старый друг — писатель Короленко Владимир Галактионович. Давно собираюсь заглянуть к нему, да все недосуг. Сколько ему может быть лет? Когда отмечали его пятидесятилетие, я окончил гимназию…
Годы… Завтра, послезавтра обязательно нужно побывать у старика. Помнит ли он Мишу Фрунзе?.. Михаил Васильевич с печалью думал о духовной эволюции прославленного писателя. Короленко увидел те самые «огоньки» новой жизни, о которых писал когда-то: «Но все-таки… все-таки впереди — огни!» Увидел, но не разглядел, принял их за пламя всепожирающего пожара. Суровые формы революционного дела устрашили старого гуманиста-либерала. Белые предлагали ему бежать, но он отказался. С белыми ему было совсем не по дороге. Оставшись в красной Полтаве, он заявил, что «жестокости большевиков вытекают из благородных мотивов, но и из их ложного представления о власти насилия над жизнью». Бедный старик, он так ничего и не понял и сейчас, конечно, пуще всего оберегает свою «внутреннюю свободу». Он против революционного насилия — вот в чемдело, и Фрунзе для него — ярчайший представитель этого революционного насилия. В прошлом году у Владимира Галактионовича побывал Луначарский. А Фрунзе, раздираемый на части срочными делами, всякий раз вынужден откладывать встречу с писателем на завтра. Но теперь-то, когда Полтава под боком, встреча должна состояться… И может быть, удастся объяснить пророку чистой любви, что великое царство правды на земле невозможно установить без борьбы, без подавления врагов, без революции и навязанной народу белогвардейцами гражданской войны…
Эйдеман приехал на рассвете. Усталый, понурый.
— Ушел, проклятый! Переправился через Сулу — и как сквозь землю провалился.
— Что намерены делать?
— Оцепил весь район. В местечко Решетиловку, что в нескольких верстах отсюда, должен прибыть наш отряд. Еду туда!
Эйдеман уехал.
Михаил Васильевич, хоть и не сомкнул за всю ночь глаз, был возбужден, бодр. Значит, все-таки напали на след… Махно постарается прорваться в плавни — а там ищи-свищи… Забыл сказать Эйдеману: истребительный отряд лучше всего направить в Хорол…
Проверил маузер, приказал седлать лошадей.
— Едем на местечко!
Выбрались на большак. Занималось июньское утро. На востоке горела красная полоса. Светился багряным каждый цветок драпоштана. В пустой вышине звенели жаворонки, перекатывали хрустальные стаканчики.
Ехали молча: впереди — Фрунзе и Кутяков, сзади — два ординарца. Когда поднялись на бугор, увидели белые приземистые хатки местечка. Из кузни доносился звон железа, на плетнях с корчагами горланили петухи.
Внезапно — резкая пулеметная очередь, пальба из винтовок. Потом все оборвалось.
Фрунзе и Кутяков переглянулись. Они слишком долго жили в атмосфере войны, чтобы придавать значение случайным выстрелам.
— Кто стрелял? — спросил Кутяков, когда остановились у кузни.
Вышел жилистый старик, уставился на всадников единственным глазом, задумчиво разгладил нависшие белоснежные усы, показал в улыбке два длинных желтых зуба. Страха в нем не было заметно.
— Кто стрелял? Теперь трудно разобрать, кто и в кого стреляет…
Кутяков нетерпеливо махнул рукой.
— Едем!
Когда показался конный разъезд, они направились к нему, намереваясь выяснить, что тут происходит. Но разъезд скрылся за хатами.
— Увидали нас и торопятся доложить своему командиру или Эйдеману, — предположил Кутяков. Никто из четверых не подозревал, что смерть уже занесла над ними свое черное крыло.
И когда из-за поворота вышла колонна с красным знаменем, они попридержали лошадей, стали ждать. В колонне было до двухсот всадников, позади погромыхивали на неровной дороге пулеметные тачанки.
Колонна, поравнявшись с Фрунзе, остановилась. Михаил Васильевич разглядывал командиров: все трое в бурках; на двоих — кубанки, третий — без головного убора. Очень знакомое курносое лицо, длинные черные волосы чуть ли не по плечи, искривленный в злой усмешке рот. Фрунзе все еще не догадывался…
— Какая часть? — спросил он.
Человек с распущенными волосами резким движением вскинул карабин. Махно!..
— Не стреляй, это комвойск Фрунзе! — закричал в ужасе Кутяков. Но Махно, по-видимому, и сам знал, с кем свела его судьба. Полыхнул выстрел. Фрунзе покачнулся, но удержался в седле, уцепился за гриву англо-араба.
— Скачите в разные стороны! — крикнул он и дал коню шпоры. Конь поднялся на дыбы, легко перемахнул через какой-то плетень и скрылся в облаке пыли.
За Фрунзе гналось до полсотни всадников. Иногда он оборачивался и посылал пулю из маузера. Холка англо-араба была в крови. Когда раненый конь стал сдавать, Фрунзе осадил его, спрыгнул на землю и стал отстреливаться. Конь норовил подняться на дыбы, Михаилу Васильевичу стоило немалых усилий удержать поводья. Наконец англо-араб успокоился.
Махновцы почему-то тоже спешились, залегли. Может быть, они надеялись взять командующего живым. Все равно не уйдет. Конь ранен, патроны израсходованы…
Фрунзе сделал вид, что собирается залечь. И внезапно вскочил в седло. Выручай, родной…
Впереди чернел сосновый лес. Фрунзе застыл в седле, даже мертвый он не выпал бы из седла. Он больше ничего не видел, не слышал. Реальный мир дробился на зеленые и красные куски, саднящая боль сводила правый бок.
Очнулся, когда рядом услышал голос Кутякова.
— Отстали…
Правая сторона плаща Фрунзе была изрешечена пулями. Бок в крови. У речки пришлось спешиться, так как Михаил Васильевич испытывал сильное головокружение и позыв к тошноте. Пуля прошла навылет, не задев ни кости, ни легкого. Кутяков вынул из сумки американский бинт и пузырек с йодом.
— Промойте рану коню, — сказал Фрунзе. — А меня — потом…
С Эйдеманом встретились в Решетиловке.
— Стреляли по вас? — спросил Михаил Васильевич.
— Я стрелял. Отбивался, пока шофер заводил машину. Меня они накрыли во дворе.
— И как удалось уйти?
— Техника! Весь кузов, проклятые, изуродовали пулями. Но теперь-то Махно не уйдет… Выздоравливайте! Все будет в порядке.
— Владимир Ильич как-то предостерег меня от излишнего оптимизма. «Малая война» почти закончилась. А на войне «почти» — не считается. В общем-то, не Махно от нас бегает, а мы от него… Позор!
Владимир Ильич сказал:
— Эта мелкобуржуазная контрреволюция, несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые…
А потом, вглядываясь в лицо Фрунзе, уже тише добавил:
— Вам необходимо хорошенько отдохнуть, подлечиться. Вы совсем больны.
— Вот покончим с Махно…
— Да, да, с Махно надо покончить! Это будет трудная, необычайная война. Желаю вам успеха!.. А слово сдержали, сдержали: управились с Врангелем, что называется, досрочно.
С трибуны съезда Владимир Ильич очень высоко оценил операцию по разгрому Врангеля, назвав ее «одной из самых блестящих страниц в истории Красной Армии».
Воодушевленный, в приподнятом настроении вернулся Михаил Васильевич в Харьков. Здоровье у него, в самом деле, порасшаталось: стал покашливать, часто кружилась голова. Но — не время, не время… Он вызвал своего заместителя и ближайшего помощника Роберта Эйдемана, с которым успел хорошо познакомиться, и вручил ценный подарок — золотой портсигар с надписью: «За особо полезные труды по ликвидации врангелевского фронта». Вручая подарок, Михаил Васильевич громко, чтобы слышали все работники штаба, произнес:
— Побеждены лишь те солдаты, которые в бою взрывают сердец последние гранаты…
От неожиданности Роберт Петрович чуть не выронил портсигар. Он смотрел на Фрунзе почти с суеверным ужасом. Топорщились усики.
— Откуда? Я ведь ни одной душе… Даже на бумагу не записал…
Насладившись эффектом, Михаил Васильевич рассмеялся, усадил Эйдемана за стол, где лежала развернутая карта.
— Награды наградами, а война для нас не кончилась: займемся бандитским батькой Махно.
Как известно, между Махно и командованием Красной Армии существовала договоренность: повстанческая армия должна была выступить против Врангеля. Однако Махно, выделив для этой цели отряд в две тысячи человек, с основными силами по-прежнему находился в районе Гуляй-Поля и меньше всего думал о помощи Красной Армии. Союзом с Фрунзе он надеялся выиграть время: не теряя ни дня, занялся дополнительной мобилизацией кулацкого населения в свою армию. За короткий срок армия выросла до пятнадцати тысяч человек, у Махно было свыше двухсот орудий, на поле боя он подобрал брошенные белыми тяжелые орудия. Не хуже Романова Махно знал, что ему скоро вновь придется столкнуться с Фрунзе, который, разделавшись со всеми врагами, не потерпит у себя под носом существования какой-то «повстанческой армии», а проще — бандитской.
Махно нарушил договоренность первым. Его банды стали совершать налеты на тыловые части Красной Армии, вооружаться и обмундировываться за их счет, убивать красноармейцев, продработников и сельских активистов. С каждым днем список преступлений махновских банд увеличивался: 12 ноября в Михайловке убиты и раздеты догола двенадцать красноармейцев; в районе Б. Токмака убит каптенармус 9-й стрелковой дивизии, везший обмундирование; 7 ноября в Ивановке убиты шесть красноармейцев 2-й спешенной бригады; в районе Жеребец разграблен отдел снабжения дивизии и произведен налет на транспорт интеркавбригады…
Фрунзе послал Махно приказ: все части бывшей повстанческой армии немедленно ввести в состав Четвертой Красной Армии! Махно не ответил.
Тогда Фрунзе и Эйдеман двинули против него войска, которые постепенно концентрически начали окружать Гуляйпольский район. Крупное столкновение произошло 16 декабря двадцатого года неподалеку от Мелитополя. Махно пытался уклониться от боя, но Фрунзе оказался хитрее и настойчивее — кольцо становилось все уже и уже. Идейный вдохновитель Махно анархист Волин-Эйхенбаум нашел единственный в сложившейся ситуации выход.
— Ваша жизнь драгоценнее всего этого сброда, — сказал он Махно. — С небольшим отрядом мы могли бы прорваться на Правобережную Украину. Армию всегда можно собрать. Были бы вы, вы, ибо вы божественны и бессмертны!
Он почти пел.
— Все свое личное я приношу в жертву идее, — сказал Махно. — Я не могу бросить свои войска!
Однако пришлось бросить. Пятнадцатитысячная армия была разбита, рассеяна. Оставив артиллерию и почти все пулеметы, Махно с отрядом в пятьсот сабель бежал на Правобережную Украину. Его преследовали до Черкасс. Но он опять переправился на ту сторону Днепра и через Полтавскую губернию проник в пределы Курской и Воронежской губерний.
— Он бежал. Но он не может не вернуться сюда: здесь его основная база, — сказал Фрунзе. — Подготовим ему достойную встречу. «Малую войну» следует вести по правилам «малой войны».
У него был богатый опыт борьбы с басмачами, и теперь это пригодилось. Махно применял тактику неожиданных налетов, беспрестанно менял районы действий. Нужно было тщательно изучить источники снабжения и пополнения банд. Фрунзе создал так называемый «Летучий корпус», куда вошли несколько десятков небольших, обладающих высокой подвижностью конных отрядов. Во главе ударной группы поставил Григория Котовского. Части ударной группы занялись преследованием махновцев.
Котовский давно привлекал внимание Михаила Васильевича. Этот могучий человек словно специально был рожден для боевых дел. Одним ударом шашки он мог разрубить беляка пополам. Он был карающей десницей революции, воплощением ее народной силы. Когда он входил в комнату, сразу становилось темно: он заполнял собой все пространство. Большая круглая голова, всегда тщательно выбритая, широкая выпуклая грудь, громадные ручищи — все как в сказе о былинных богатырях. Но резкие складки между бровями и тонкие недобрые губы могли бы подсказать хорошему физиономисту, что в этом, на первый взгляд, добродушном, неповоротливом человеке глубоко скрыт бешеный, неукротимый характер. Однако характер проявлялся в нем, как было известно Фрунзе, лишь по большому счету. В обычное время Григорий Иванович выглядел добродушно-спокойным, даже каким-то смирным, вроде бы стеснялся своей силы. Имелась еще одна особенность в натуре Котовского: он умел восхищаться боевыми делами других, будь то обыкновенный красноармеец или же сам командующий. В каждом он ценил предельное проявление духа, каждого мерил мерой гражданственности. Люди с притупленным чувством гражданственности его прямо-таки удивляли — не может быть таких! Он был на четыре года старше Фрунзе, испытал не меньше, приговаривался царским правительством к смертной казни за революционную работу, но на Фрунзе глядел с глубочайшим восхищением: здесь гражданственность выступала в своем идеале.
— Вас через повешение? — как-то спросил Михаил Васильевич.
— Да. В шестнадцатом.
— А где сидели?
— В Николаевской каторжной тюрьме.
— В «николаевской могиле»?
— Совершенно точно.
— Коробку застали?
— Вы знаете этого изверга?
— А я сидел в тринадцатой камере.
— Вот это здорово: я ведь тоже сидел в тринадцатой! Так это ж прямо-таки невероятно…
Фрунзе затянул басом: «Помилуй народ многогрешный, царь небесный свет… Господу богу помолимся!..»
Котовский прыснул.
— Так это же Рафаил!
— Я хором каторжан ведал.
— И что пели?
— Всякое божественное. А вы молдавские песни знаете?
— Знаю. Быть молдаванином и не знать песен своего народа?!
— Хотелось бы послушать. И вообще все про Молдавию. Я ведь по отцу — молдаванин, а в Молдавии никогда не бывал, и песен не знаю, и молдавского языка никогда не слыхал.
Когда Роберт Эйдеман вошел в кабинет командующего для доклада, то застыл на пороге, даже растерялся: легендарный комбриг красивым мягким басом выводил какую-то тягучую песню на незнакомом языке. Фрунзе внимательно, с деловым видом слушал.
Когда Котовский кончил петь, Эйдеман доложил:
— Махно объявился в Гуляй-Поле!
— Какими силами?
— Трудно сказать. Он ведь обрастает кулачьем, как снежный ком.
— На этот раз он не должен от нас уйти…
Как член правительства Украины Михаил Васильевич мог прибегнуть к старому, не раз испытанному средству: провести на съезде закон об амнистии тем махновцам, которые добровольно оставят банду и вернутся к мирному труду. Он знал, что такой закон — самое действенное оружие против массового бандитизма, так как украинское село успело оценить выгоды Советской власти и повернулось к ней.
Как и ожидал Фрунзе, закон дал колоссальный эффект: десять тысяч бандитов сложили оружие! У Махно осталось тысячи две сабель — не больше. Он оказался изолированным и вынужден был из Гуляй-Поля перебраться в Полтавскую губернию. Но он жил, существовал, нападал, грабил, убивал, и за его плечами по-прежнему стояла зловещая фигура Волина-Эйхенбаума, угрюмого волосатого человека, с толстыми, выпяченными губами, возомнившего себя пророком анархизма. Волин-Эйхенбаум изрекал сентенции, заимствованные у других, а окружающим казалось, что эти сентенции рождаются в его дремучем мозгу:
— Движение — все, цель — ничто. Прекрасен хаос — из него рождаются все формы. Чем больше в мире смут и беспокойства, тем лучше. Бытие лишено разумной связи. Велик тот, кто действует: в хаосе равноценны и великое злодейство и великая гуманность…
Но у Волина-Эйхенбаума помимо этих туманных сентенций имелась и четкая политическая программа: он был связан сразу с тремя разведками: французской, английской и американской, а также с Петлюрой. Программа не отличалась оригинальностью: разъедать Советскую власть изнутри, всеми возможностями способствовать отделению Украины от России.
И если Деникин, Колчак, Врангель, Юденич делали ставку в основном на иностранный капитал, то Волин-Эйхенбаум давно понял, что мелкобуржуазная стихия внутри страны, национализм куда страшнее английских и французских пушек и танков. На среднем пальце левой руки Волин-Эйхенбаум носил железное кольцо с эмблемой: змея, пожирающая сама себя.
— Наши цветы распускаются на неистребимых корнях, эти корни — природа человека, — внушал он Махно. — Цветы можно сорвать, смять, но корни уходят так глубоко, что они всякий раз будут давать новые цветы. Потому-то мы с вами непобедимы.
Махно слушал со скептической улыбкой. О каких победах может идти речь, когда от его армии остались рожки да ножки?!
Михаил Васильевич снова готовился к поездке в Москву, на Десятый съезд партии во главе украинской делегации. О съезде заблаговременно шло много разговоров: намечалось введение новой экономической политики. Но Фрунзе собирался выступать по военному вопросу.
Военный вопрос… Теперь, когда гражданская война в основном закончилась, намечалось резкое сокращение вооруженных сил. А оставшиеся силы должны были сохранить свою боеспособность и даже повысить ее. Речь, конечно, должна идти о реорганизации Красной Армии.
Это был очень сложный вопрос, если не самый сложный из всех, какие встали перед Республикой после окончания гражданской войны.
И хотя теперь Фрунзе как причисленному к Генштабу по штату было положено развивать военную науку, он не думал о своей принадлежности к Генеральному штабу. Проблему требовательно выдвигала сама жизнь. Сперва он составил тезисы, которые хотел положить в основу своего выступления на съезде, а потом увлекся.
Проблема волновала его не только в практических частностях, но и в целом, в теоретическом плане.
Что-то подобное уже было в его биографии: это когда он написал работу об Иваново-Вознесенской губернии в сельскохозяйственном отношении, став ее руководителем.
Снова заговорил в нем ученый, исследователь. И область приложения знаний была самой близкой, знакомой в мельчайших деталях, выношенной всем существом, выстраданной в бессонные штабные ночи, в беспрестанных боях.
Что касается реорганизации армии, то тут для него все было предельно ясно: армию нужно превратить в единый организм, спаянный сверху донизу не только общностью политической идеологии, но и единством взглядов на характер стоящих перед Республикой военных задач, способы их разрешения и методы боевой подготовки войск.
А вот с единством взглядов куда сложнее. У людей, считающих себя специалистами военного дела, пока, к сожалению, нет единства взглядов по коренным вопросам военного строительства, и это может сильно затормозить все дело, если не загубить его.
Взять хотя бы Троцкого: он продолжает дуть в старую дуду: «Может ли марксизм научить плести лапти?», «Нельзя военное дело и его вопросы растворять в социальных и политических категориях», «На основе марксистского учения нельзя построить стройную систему военного мировоззрения Красной Армии, никакой научной теории войны не может быть». За Троцким, как ни печально, идет часть старых генштабистов.
Тут завязывается такой резкий конфликт, на развязывание которого можно положить больше сил, чем их израсходовано за три года гражданской войны…
Он ходит по своему кабинету, засунув руки под ремень, хмурится, думает. И вся гамма чувств отражается на его лице. На нем новая форма: гимнастерка с тремя малиновыми «разговорами» на груди; когда выходит на улицу, надевает остроконечную буденовку.
Он думает, думает. Почему Троцкий и его приспешники не верят в возможность создания миллионной, технически оснащенной, подлинно социалистической армии? Почему отрицают необходимость разработки единой военной доктрины?
Ведь мало-мальски искушенному в политике человеку должно быть ясно, что военное дело данного государства, взятое в его совокупности, не является самодовлеющей величиной и целиком определяется общими условиями жизни государства. Это понимал еще Клаузевиц, это понимает Меринг.
Военную доктрину не придумывают нарочно: ее характер опять же определяется характером общей политической линии того общественного класса, который стоит у власти. Доктрины, способной быть жизненным, организующим моментом для армии, изобрести нельзя. Все основные элементы ее уже даны в окружающей среде, и работа теоретической мысли заключается в отыскании этих элементов, в сведении их в систему и в приведении их в соответствие с основными положениями военной науки и требованиями военного искусства.
Генеральный штаб на деле должен стать мозгом армии, военно-теоретическим штабом пролетарского государства. Выработку единой военной доктрины, разумеется, нельзя доверить лишь узким специалистам, ибо это мировоззрение не только армии, но и всей Республики. Наряду с военными специалистами доктриной должны заниматься все политические работники, получившие достаточный опыт в деле строительства армии и в ее борьбе…
На чистом листе бумаги он вывел своим торопливым прямым почерком: «Единая военная доктрина и Красная Армия». Но больше ничего написать не успел: пришлось выехать в Москву на съезд.
Но и здесь, на съезде, он продолжал думать о единой военной доктрине. Это была та самая идея, которая в очень смутной форме приходила ему в голову еще в годы империалистической войны. И теперь, ощущая в себе еще небывалую творческую силу, он жалел, что не принялся за труд раньше, и в то же время понимал, что не было никакой возможности, да и рано было тогда обобщать.
На съезде царила атмосфера всеобщего воодушевления ленинцев. Это они выиграли гражданскую войну и спасли только что народившееся социалистическое государство! Ленин наметил смелый курс — переход от военного коммунизма к новой экономической политике.
И вот в самый разгар съезда торжественность была нарушена известием из Петрограда: контрреволюционный мятеж в Кронштадте!
Делегаты съезда выехали в Петроград для подавления мятежа.
Фрунзе сказал Ворошилову:
— От Махно уехали, к Милюкову приехали.
Разумеется, самого Милюкова в Кронштадте не было, но лозунг, который выкинули мятежники, был милюковский: «Советы без коммунистов!» Таким же лозунгом прикрывался и Махно.
— Это ведь все те же басмачи! На сей раз кронштадтские… Не привыкать громить их.
План разгрома разрабатывали втроем: Владимир Ильич, Фрунзе и Ворошилов. Помимо делегатов, в Кронштадт решено было направить лучшие части Красной Армии.
Сперва предстояло пройти по тонкому льду залива, а потом брать крепость штурмом. Тонкий, рыхлый, мартовский лед, огромные полыньи… Многим идея казалась просто неосуществимой. На это, по-видимому, и рассчитывали мятежники. Кронштадт им казался неприступным. Но после штурма Перекопа и Чонгара для Фрунзе больше не существовало неприступных крепостей. На совещании командного состава он рассказал об одном эпизоде, имевшем место несколько месяцев назад.
После того как врангелевская армия была разгромлена, 9-ю дивизию Николая Куйбышева решили перебросить на Кубань для ликвидации кулацких банд. Путь предстоял немалый: вокруг Азовского моря, через Донбасс и Ростов, железные дороги разрушены. И вот Николай Куйбышев нашел необычное решение: переправиться по тонкому, рыхлому льду Керченского пролива. Работникам штаба идея показалась безумной. Но Фрунзе, взвесив все, одобрил ее. Он верил Николаю Куйбышеву. Каждый красноармеец прихватил с собой доску. И дивизия переправилась на Таманский полуостров.
Рассказ Фрунзе подбодрил всех. Части Красной Армии по льду подошли к Кронштадту и восемнадцатого марта двадцать первого года взяли крепость штурмом. Мятеж был ликвидирован, военные делегаты вернулись в Москву на съезд.
Тезисы Фрунзе по военному вопросу были использованы при разработке постановления съезда, а самого Михаила Васильевича избрали членом ЦК партии.
И еще одна должность: его назначили уполномоченным Совета Труда и Обороны по вывозу соли из солепромышленных районов Украины. За пуд соли можно было выменять четыре пуда хлеба. Республика сидела без соли, а как знал Фрунзе, в одном Крыму, возле Сиваша и Евпатории, скопилось более двадцати пяти миллионов пудов соли. Да, на этот раз Владимир Ильич говорил с Фрунзе о соли:
— Главное — соль. Все забрать, обставить тройным кордоном войска все места добычи, ни фунта не пропускать, не давать раскрасть… Поставьте по-военному. Назначьте точно ответственных лиц за каждую операцию. Мне их список (все через Главсоль). Вы — главком соли. Вы отвечаете за все!
— Соль будет, Владимир Ильич!
Если уж Владимир Ильич вынужден заниматься солью, то это — не соль, а соляной фронт.
Вернувшись на Украину, главком соли привел все в движение: трудармейцы прокладывали железнодорожные ветки, соль грузили в вагоны, на баржи, на подводы. Но он был не только главкомом соли. Он входил в Особую комиссию по топливу и продовольствию, занимался восстановлением и электрификацией Донбасса. Его назначили ответственным за проведение продовольственных заготовок на Украине. Каждый день отправлял он эшелоны с хлебом в голодающее Поволжье.
Все дела — срочные. Сейчас нет несрочных дел. Они навалились глыбой. А Махно до сих пор гуляет по степи.
Как член правительства и командующий Фрунзе занимался хлебом, углем, солью, нарождающимися колхозами и совхозами, транспортом, кооперацией, продналогом, детскими домами, выезжал на корабли Черноморского флота и Азовской флотилии, проверял, успешно ли ведет Карбышев строительство береговых укреплений и фортов на Черном море.
На Украине было ничуть не легче, чем в Туркестане. А может быть, во много раз сложнее и труднее. Возникало такое ощущение, будто усложнилось само время, стало зрелее.
Собственно, у Михаила Васильевича было три заместителя: Авксентьевский — по общим военным вопросам, Гусев — по политической части и Роберт Эйдеман — по борьбе с бандитизмом. Эйдеман носился на автомобиле по всей Украине, стараясь напасть на след Махно. И когда объявлялась банда, Эйдеман бросал на нее кавбригаду Котовского или же истребительные отряды. С Ворошиловым и Буденным недавно расстались. Климента Ефремовича назначили командующим Северокавказским округом, Буденного — его заместителем.
Неожиданно Котовского с его бригадой пришлось послать в Тамбовскую губернию, где усилились банды Антонова. Вскоре оттуда Михаил Васильевич получил письмо: от кулацкой пули погиб комбриг Плясунков!
На лицо Фрунзе легла суровая задумчивость. В двадцать пять лет оборвалась еще одна жизнь, так нужная революции…
Он помнил их всех: Батурин, Крайнюков, Степан Михайлов, Сергей Сокол, Дмитрий Суворов, отец и сын Чековы, ткачиха Маша Рябинина, Безбородов — и еще сотни дорогих имен… Они были самыми беззаветными, самыми прекрасными. Тогда действовала жестокая необходимость, и она смягчала горечь утраты. А сейчас, после того как основное завершилось, всякая смерть кажется неоправданной.
Много полегло у стен Кронштадта. Много гибнет в схватках с махновцами, петлюровцами, антоновцами. Да, мелкобуржуазная стихия страшнее Врангеля, коварнее. Мятежи, кулацкие банды — это и есть мелкобуржуазная контрреволюция. Фрунзе подавлял мятежи в Москве, Ярославле, в Туркестане, в Кронштадте. На фоне великих сражений гражданской войны они кажутся незначительными эпизодами. И «малые войны» с бандами, конечно же, войдут в историю побед Красной Армии как малозначащие эпизоды. И очень грустно, что погиб Иван Михайлович Плясунков, любимец Чапая…
Михаил Васильевич завершал работу над статьей «Единая военная доктрина и Красная Армия». В одном из разделов статьи он упоминал о «малой войне». Пролетариату помимо больших войн с буржуазией и другими отмирающими классами приходится вести также «малые войны» с мелкобуржуазной контрреволюцией. Опыт гражданской войны в этом отношении дает богатейший материал для обобщений: действия партизан в Сибири, борьба в казачьих областях, басмачество в Туркестане, махновщина и вообще бандитизм на Украине. «Малые войны» необходимо изучать наравне с большими. Одной из задач Генерального штаба должна стать разработка идеи «малой войны» в ее применении к нашим будущим войнам с противником, технически стоящим выше нас.
Идея «малой войны», впервые сформулированная Фрунзе, заслуживала того, чтобы посвятить ей отдельную статью. Известие о смерти Плясункова послужило своеобразным толчком: Михаил Васильевич решил сам провести несколько операций по разгрому махновщины и заодно «собрать» дополнительный материал. Махно раздражал его, отвлекал от важных дел государственного масштаба. Фрунзе не учитывал простого обстоятельства: и солдат, и командующий могут погибнуть не только в великих битвах, но и в самой маленькой войне, в обыкновенной стычке. Не то чтобы он не дорожил своей жизнью — просто он никогда не думал о смерти. Жизнь всякий раз нужна была ему для какого-то конкретного дела. И каждый раз говорил себе: «Только бы довести все до конца…»
В Харьков приехал Иван Кутяков. Он сдал зачеты за первый курс военной академии Генштаба и пожелал вернуться на Украину под начало Михаила Васильевича.
— Располагайтесь в моем вагоне. Едем воевать с Махно!
Вагон был прицеплен к бронепоезду. Тот самый вагон, в котором Фрунзе проводил большую часть своей жизни, выезжая то на флот, то на границу, то в Донбасс, то в Крым. Оперативные карты, фотография Махно на столе. Кутяков пристально вглядывался в фотографию. Мягкий, почти женский овал лица, голова арбузиком, длинные волосы, зачесанные на лоб; плотный грудастый мужичок — такие здесь встречаются на каждом шагу: угадай, кто из них Махно!
А Фрунзе наблюдал за Кутяковым. Этот молодой человек чем-то напоминал ему Чапаева. В двадцать четыре года двенадцать ранений, из них несколько тяжелых, — не многовато ли?.. А энергии еще непочатый край. Чапаев прощал Кутякову то, что не простил бы никому другому, — ослушание. Была у Кутякова страсть: ходить по тылам противника. Всякий раз преподносил Василию Ивановичу сюрприз: проберется с группой конных разведчиков во вражеский тыл, расколошматит полк белых, пленных пригонит, пушки с упряжкой. Явился, мол, победителей не судят. А Чапай из себя выходит, грозится в рядовые разжаловать. Потом отойдет, похвалит за удаль, рассмеется. Иван поглядывает с завистью на чапаевскую шашку с чеканным серебряным эфесом и клинком из дамасской стали. Закрутит Василий Иванович головой: и не зарься, не дам! А шашку Иван все-таки забрал: разбил колчаковскую дивизию, почти две тысячи пленных взял, много орудий и всякого добра. Тут уж сердце Чапая оттаяло. Приказал выстроить бригаду и под оркестр вручил Кутякову шашку: а дороже подарка и не может быть… Горяч Кутяков, вспыльчив. Член реввоенсовета Аралов рассказывал: Чапаевская дивизия прибыла на Польский фронт. Ее начальник Кутяков отправился к начальнику штаба Двенадцатой армии, бывшему царскому генералу Седачеву.
— Я хотел бы знать обстановку на фронте, — сказал Кутяков. — Какова задача моей дивизии?
Седачев саркастически улыбнулся.
— Сколько вам лет, молодой человек?
— Двадцать два.
— Какой чин в старой армии?
— Унтер-офицер.
— В ваши годы и с вашим званием вам, голубчик, не дивизией, а взводом командовать нужно.
— Имею честь доложить, что с начала гражданской войны я все время бил колчаковцев и белоказаков примерно вашего возраста и вашего звания!
Седачев опешил.
Чапаевская дивизия дралась за Стоход и за Буг. Сейчас ее штаб — в городе Белая Церковь, здесь, на Украине. Кутяков был тяжело ранен в боях за укрепленную линию на реке Уборть и попал в госпиталь.
Вспомнили общих знакомых: начальника артиллерии Чапаевской дивизии Николая Хлебникова, которого Фрунзе знал еще по штабу Ярославского округа, Бубенца, Пелевина, Сучкова. Ивановец Алексей Лапин, бывший комиссар кавбригады Чапаевской, сейчас — комиссаром кавбригады у Буденного… Бубенец командует кавбригадой Червонно-казачьей дивизии, мечтает стать летчиком. Гаспар Восканов — командир корпуса…
Бронепоезду командующего давали «зеленую улицу», и все-таки поездка затянулась на целый месяц. На больших станциях Фрунзе разговаривал по прямому проводу с Эйдеманом, с командирами дивизий, с уездными председателями ГПУ. Отовсюду поступали «бандсводки». Но на след самого Махно напасть никак не удавалось. Район его действий был слишком обширен: Синельниково, Кременчуг, Конотоп, Полтава. Атаман метался из края в край, он знал, что за ним охотится сам Фрунзе, и не засиживался на одном месте.
Когда поезд прибыл на станцию Решетиловка, пришло сообщение от Эйдемана: «Махно окружен в районе Ромны». Всю ночь Михаил Васильевич не отходил от прямого провода. Никаких известий больше не поступало. Что там происходит? Удалось ли взять Махно? Почему молчит Эйдеман?
Михаил Васильевич сказал Кутякову:
— Находимся в трех шагах от Полтавы. Я ведь намеревался в Полтаве задержаться: здесь живет мой старый друг — писатель Короленко Владимир Галактионович. Давно собираюсь заглянуть к нему, да все недосуг. Сколько ему может быть лет? Когда отмечали его пятидесятилетие, я окончил гимназию…
Годы… Завтра, послезавтра обязательно нужно побывать у старика. Помнит ли он Мишу Фрунзе?.. Михаил Васильевич с печалью думал о духовной эволюции прославленного писателя. Короленко увидел те самые «огоньки» новой жизни, о которых писал когда-то: «Но все-таки… все-таки впереди — огни!» Увидел, но не разглядел, принял их за пламя всепожирающего пожара. Суровые формы революционного дела устрашили старого гуманиста-либерала. Белые предлагали ему бежать, но он отказался. С белыми ему было совсем не по дороге. Оставшись в красной Полтаве, он заявил, что «жестокости большевиков вытекают из благородных мотивов, но и из их ложного представления о власти насилия над жизнью». Бедный старик, он так ничего и не понял и сейчас, конечно, пуще всего оберегает свою «внутреннюю свободу». Он против революционного насилия — вот в чемдело, и Фрунзе для него — ярчайший представитель этого революционного насилия. В прошлом году у Владимира Галактионовича побывал Луначарский. А Фрунзе, раздираемый на части срочными делами, всякий раз вынужден откладывать встречу с писателем на завтра. Но теперь-то, когда Полтава под боком, встреча должна состояться… И может быть, удастся объяснить пророку чистой любви, что великое царство правды на земле невозможно установить без борьбы, без подавления врагов, без революции и навязанной народу белогвардейцами гражданской войны…
Эйдеман приехал на рассвете. Усталый, понурый.
— Ушел, проклятый! Переправился через Сулу — и как сквозь землю провалился.
— Что намерены делать?
— Оцепил весь район. В местечко Решетиловку, что в нескольких верстах отсюда, должен прибыть наш отряд. Еду туда!
Эйдеман уехал.
Михаил Васильевич, хоть и не сомкнул за всю ночь глаз, был возбужден, бодр. Значит, все-таки напали на след… Махно постарается прорваться в плавни — а там ищи-свищи… Забыл сказать Эйдеману: истребительный отряд лучше всего направить в Хорол…
Проверил маузер, приказал седлать лошадей.
— Едем на местечко!
Выбрались на большак. Занималось июньское утро. На востоке горела красная полоса. Светился багряным каждый цветок драпоштана. В пустой вышине звенели жаворонки, перекатывали хрустальные стаканчики.
Ехали молча: впереди — Фрунзе и Кутяков, сзади — два ординарца. Когда поднялись на бугор, увидели белые приземистые хатки местечка. Из кузни доносился звон железа, на плетнях с корчагами горланили петухи.
Внезапно — резкая пулеметная очередь, пальба из винтовок. Потом все оборвалось.
Фрунзе и Кутяков переглянулись. Они слишком долго жили в атмосфере войны, чтобы придавать значение случайным выстрелам.
— Кто стрелял? — спросил Кутяков, когда остановились у кузни.
Вышел жилистый старик, уставился на всадников единственным глазом, задумчиво разгладил нависшие белоснежные усы, показал в улыбке два длинных желтых зуба. Страха в нем не было заметно.
— Кто стрелял? Теперь трудно разобрать, кто и в кого стреляет…
Кутяков нетерпеливо махнул рукой.
— Едем!
Когда показался конный разъезд, они направились к нему, намереваясь выяснить, что тут происходит. Но разъезд скрылся за хатами.
— Увидали нас и торопятся доложить своему командиру или Эйдеману, — предположил Кутяков. Никто из четверых не подозревал, что смерть уже занесла над ними свое черное крыло.
И когда из-за поворота вышла колонна с красным знаменем, они попридержали лошадей, стали ждать. В колонне было до двухсот всадников, позади погромыхивали на неровной дороге пулеметные тачанки.
Колонна, поравнявшись с Фрунзе, остановилась. Михаил Васильевич разглядывал командиров: все трое в бурках; на двоих — кубанки, третий — без головного убора. Очень знакомое курносое лицо, длинные черные волосы чуть ли не по плечи, искривленный в злой усмешке рот. Фрунзе все еще не догадывался…
— Какая часть? — спросил он.
Человек с распущенными волосами резким движением вскинул карабин. Махно!..
— Не стреляй, это комвойск Фрунзе! — закричал в ужасе Кутяков. Но Махно, по-видимому, и сам знал, с кем свела его судьба. Полыхнул выстрел. Фрунзе покачнулся, но удержался в седле, уцепился за гриву англо-араба.
— Скачите в разные стороны! — крикнул он и дал коню шпоры. Конь поднялся на дыбы, легко перемахнул через какой-то плетень и скрылся в облаке пыли.
За Фрунзе гналось до полсотни всадников. Иногда он оборачивался и посылал пулю из маузера. Холка англо-араба была в крови. Когда раненый конь стал сдавать, Фрунзе осадил его, спрыгнул на землю и стал отстреливаться. Конь норовил подняться на дыбы, Михаилу Васильевичу стоило немалых усилий удержать поводья. Наконец англо-араб успокоился.
Махновцы почему-то тоже спешились, залегли. Может быть, они надеялись взять командующего живым. Все равно не уйдет. Конь ранен, патроны израсходованы…
Фрунзе сделал вид, что собирается залечь. И внезапно вскочил в седло. Выручай, родной…
Впереди чернел сосновый лес. Фрунзе застыл в седле, даже мертвый он не выпал бы из седла. Он больше ничего не видел, не слышал. Реальный мир дробился на зеленые и красные куски, саднящая боль сводила правый бок.
Очнулся, когда рядом услышал голос Кутякова.
— Отстали…
Правая сторона плаща Фрунзе была изрешечена пулями. Бок в крови. У речки пришлось спешиться, так как Михаил Васильевич испытывал сильное головокружение и позыв к тошноте. Пуля прошла навылет, не задев ни кости, ни легкого. Кутяков вынул из сумки американский бинт и пузырек с йодом.
— Промойте рану коню, — сказал Фрунзе. — А меня — потом…
С Эйдеманом встретились в Решетиловке.
— Стреляли по вас? — спросил Михаил Васильевич.
— Я стрелял. Отбивался, пока шофер заводил машину. Меня они накрыли во дворе.
— И как удалось уйти?
— Техника! Весь кузов, проклятые, изуродовали пулями. Но теперь-то Махно не уйдет… Выздоравливайте! Все будет в порядке.
— Владимир Ильич как-то предостерег меня от излишнего оптимизма. «Малая война» почти закончилась. А на войне «почти» — не считается. В общем-то, не Махно от нас бегает, а мы от него… Позор!
ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ОПАСНЫМ
Двадцать первый год был особенно насыщен событиями. Казалось, и конца ему не будет. Отодвинулись в историческую даль бои с Врангелем. Как-то Авксентьевский спросил, где Михаил Васильевич получил военное образование. Он, улыбаясь, ответил: — Низшую военную школу я окончил тогда, когда первый раз взял в руки револьвер и стрелял в полицейского урядника; моя средняя военная школа — это правильно сделанная мною оценка обстановки Восточного фронта в девятнадцатом году при первом решительном ударе, нанесенном армиями Южной группы армиям Колчака; моя третья, высшая школа — это та, где вы и другие командиры и многие специалисты убеждали меня принять против Врангеля другое решение, но я позволил себе не согласиться, принял свое решение и был прав. Да, победу над Врангелем он расценивал как высшую военную школу, и если у полководца могут быть свои «любимые» операции, то эта была такой. Он помнил, с каким настороженным недоверием отнеслись тогда многие к его решению, оттого, возможно, и упустили Врангеля в Крым — не хватало убежденности. Михаил Васильевич задумал посвятить операциям в Северной Таврии и в Крыму большой оперативно-стратегический очерк. Но пока написал лишь заметку в газету. Не хватало данных о противной стороне. Его аналитический ум не мирился с односторонним освещением самой жестокой из всех битв гражданской войны. Хотелось нарисовать цельную картину. Читая работы того же Меринга и других крупных знатоков военного искусства, он всегда испытывал разочарование: в сочинениях отсутствовала сердцевина всего — описание работы штабов; распределение сил и средств авторы производили на глазок. Блестящий, виртуозный стиль историка не мог замаскировать зияющие пустоты: как мыслил полководец, как трудился его штаб, почему было принято то или иное решение? Вот образчик такой виртуозности:«По численности французское войско далеко превосходило прусско-русское: около 140 000 против 105 000. Еще больше была разница в управлении; военному гению Наполеона в русском главном командовании противостоял совершенно посредственный фронтовик — генерал Беннигсен, по рождению ганноверец, обязанный своим званием тому боязливому отвращению, которое он внушал как убийца царя Павла сыну своей жертвы…»Роман!.. А хотелось бы знать, как мыслил, например, заклятый враг революции, правая рука барона Врангеля, командир Первого корпуса, включавшего отборные части, генерал Слащев. В операциях в Северной Таврии, в Крыму генерал Слащев был врагом номер один. Его оперативность, холодная твердость вызывали у Фрунзе уважение. Достойный противник всегда вызывает уважение. Собственно, без Слащева не было бы и Врангеля. Слащев — это не Фостиков, который оставил на Литовском полуострове свою бригаду и удрал. Слащев дрался до последнего, преподнося Фрунзе все новые и новые сюрпризы. Ум жестокий и действенный… Первый раз в жизни Фрунзе смешался и не сразу все понял, когда Сиротинский доложил: — Генерал Слащев просит его принять. Гражданская война закончилась, был мирный Харьков, Фрунзе только что оправился от ранения, только что пришел в штаб. — Генерал Слащев? Это который? — Ну тот самый… Из Константинополя. Заместитель Врангеля. — А генерала Кутепова с ним, случайно, нет? — Кутепова нет. — Пусть войдет. Парадокс… Хмурый, чуть грузноватый человек с печальными усталыми глазами, сильно сутулясь, вошел в кабинет. Вошел растерянно, как-то качнулся, словно не решался даже войти и вот — решился. Войдя, плотно притворил дверь и не искательно, не очень просительно, но как-то «отчаянно» сперва изогнулся, затем вытянулся по стойке «смирно». — Разрешите доложить?.. — Лицо было искажено какой-то странной болезненной гримасой, щека подергивалась. — Садитесь. Рассказывайте все. — Стыдно отнимать у вас время. — Ничего. Бежали?.. — Бежал. — Почему. — Лучше смерть, чем жизнь без родины. — Я вас понимаю. — Рассуждал так: пусть казнят, заслужил. Но ведь я дрался за свое. Как солдат. И когда оказалось, что свое — миф, жить стало не для чего. И вообще, когда нет живого, осязательного ощущения России, жить не для чего. Решил сдаться на милость народа. Смерть приму спокойно. Умру все-таки на родине, а не в турецких ямах. Я — русский человек, и быть человеком без родины, паршивым приживальщиком французов мне не позволяет мое достоинство. Мы проиграли. Раз и навсегда… Впрочем, все это жалкая, запоздалая патетика, и вам, по-видимому, смешно… — В груди у него что-то хрипнуло. — Нисколько. Даже наоборот. Кто вас направил ко мне? — Георгиевский кавалер Петр Кирюхин. — Что-то не припоминаю. — Не мудрено. Он в штабе моем проходил службу. Крепкий такой мужичок, себе на уме. Но храбрости невероятной. Унтер-офицер. Слонялся я однажды по Константинополю. Страшное волчье одиночество. Есть там такая мечеть Гамида, за ней — холм, на котором расположен Ильдиз-Киоск, Звездная палата. На холме любят собираться английские и французские офицеры. Не знаю, зачем понесло меня на тот холм. Поднялся — и глазам своим не верю: стоит Кирюхин при полном параде, с крестами, а в руках картуз держит и гнусавым голосом распевает: «Боже, Врангеля схорони». Иностранцы ничего не понимают, бросают в картуз пиастры. Не стерпел и подошел: «Ты что же это, сукин сын, мундир позоришь?! Перед кем? Перед этой заграничной швалью? Ты — русский солдат…» Покосился на меня и равнодушно эдак спрашивает: «А кто вы, собственно, такой и какое вам дело до моего мундира? Почему вам с Врангелем позорить можно, а мне нельзя? Вы шустовский коньяк жрете да Месаксуди курите, а я на пропитание должон зарабатывать. Вы у французишек да англичан поболее клянчили — миллионы! А я копеечку прошу. Они вас надули. А вы — меня, всю Россию надули». — «Послушай, Кирюхин, — как можно бодрее сказал я, — мы поправим твои дела. Я хочу тебе помочь: вот деньги на первый случай. Правда, их немного. Но ничего, бери. Только не стой с фуражкой». А он так зло сквозь зубы сплюнул: «Вам — ваше, а мне — мое, вот что! Вы теперь — француз, да-с, а я хочу русским остаться. Вот насобираю на дорогу — и махну в Расею, в ноги Фрунзе упаду: не вели, мол, казнить; а коль велишь — небольшая потеря, ежели Петьку Кирюхина в группу «черного «Ж» переведут (в расход, значит, пустят)». «Черный «Ж» — это фюзеляж аэроплана «Моран «Ж», выкрашенный в черный цвет; он у нас катафалк заменял. «Да как же ты, дурья голова, до России доберешься? — спрашиваю. — Я, может, сам об этом денно и нощно мечтаю». Он посмотрел недоверчиво, наклонился и зашептал: красные моряки, дескать, Кемалю оружие возят; если прийти к ним и добровольно сдаться… А если не желаете прямо к морякам, то можно податься к контрабандистам: они из Батума керосин в жестяных банках возят. Сам видал. Приплатить можно. А в Батуме видно будет… И такую занозу всадил мне в сердце! Вы, говорит, на меня положитесь, я все устрою чин-чином. Ну а ежели в расход нас пустят, то не взыщите. А я уж и смерти рад. Только бы не в турецких ямах… Вот встреча с Кирюхиным и была той последней соломинкой, которая, по пословице, ломает спину верблюду. Решился. Не жить мне без России. В Батуме сразу явился в органы власти. Думал — посадят… А меня успокоили и привезли сюда. Ревел, как ребенок. Я ведь приготовился к смерти. И сейчас свой страшный суд в себе ношу. — Советская власть не мстит раскаявшимся противникам. Расскажите о своих бывших товарищах. — Что рассказывать? Позор и мерзость… Генерал Фостиков содержит кафешантан в Константинополе, торгует живым товаром. Каждый пробавляется, чем может: мелкой спекуляцией, торговлей папиросами, физическим трудом. Идешь, предположим, мимо кафешантана, а из открытых дверей знакомый баритон: «Преступника ведут, — кто этот осужденный?» Генерал-лейтенант в роли кафешантанной певички. Я ему честь отдавал, — Слащев передернул плечами, точно хотел высвободиться из пиджака, издал кашляющий звук. — А как зовут того генерал-лейтенанта? — Его-то я очень хорошо знаю. В моей ставке все время околачивался. По юстиции. Приговаривал всех без исключения. Целыми днями на виду у всех болтались на виселицах трупы приговоренных им офицеров, чиновников и солдат. Скотина!.. Милков его фамилия. — Да, мир тесен. А как союзники к вам относились там, в Турции? — С величайшим презрением. Они нас и за людей-то не считали. А мы платили им ненавистью. Больше ничего у нас не осталось: ни родины, ни чести. Если вы хотите найти людей, ненавидящих англичан и французов, то ищите их не здесь, а там, по ту сторону границы. Я счастлив, что моему примеру последовали другие: несколько десятков бывших офицеров и солдат сдались Советской власти. — Если вы искренне решили сотрудничать с нами, то я рад за вас. Вы могли бы преподавать тактику, военное дело нашим командирам… — О таком счастье я не смел и мечтать! Все это, разумеется, выглядело парадоксально: генерал Слащев в кабинете Фрунзе. Но еще парадоксальнее было то, что произошло потом: командиры и политработники, еще недавно дравшиеся со Слащевым, возбудили перед правительством Украины ходатайство о расстреле врангелевского генерала. Тут и начался парадокс: Михаилу Васильевичу пришлось выступить в роли ярого защитника и адвоката своего недавнего врага, доказывать, что такого крупного военного специалиста разумнее использовать, нежели расстрелять. В течение месяца жизнь Слащева висела на волоске. Он невозмутимо ждал. Логика и авторитет Фрунзе победили, Слащев приступил к исполнению новых обязанностей. Вышла в свет статья Фрунзе «Единая военная доктрина и Красная Армия». Обдумывая пути и методы строительства Красной Армии, он для сравнения в другом обширном очерке «К реорганизации французской армии» показал, как происходит процесс преобразования армий капиталистического мира. Это был глубокий, всесторонний анализ состояния иностранных армий. Рана постепенно зажила. Врачи были потрясены: от такой раны обычно умирают сразу. Плащ пробит в семи местах. Но железный Фрунзе нашел в себе силы отбиться от полусотни врагов, добрался в седле до станции и только тут потерял сознание. Все это казалось невероятным, но это было так. Лежа в постели, он продолжал руководить разгромом банды Махно. Банду зажали со всех сторон. Завязался жесточайший бой. Махно бросил свой штаб, свои обозы и пулеметы, своих помощников и идейных вдохновителей. Помощники были убиты в перестрелке. Он бежал. И все-таки красноармейская пуля настигла его. Несколько десятков всадников — вот что осталось от армии Махно. Они везли тяжелораненого атамана сперва на юг, скрываясь в рощицах и в плавнях. Затем переправили через Днестр, в боярскую Румынию. Здесь была смерть. Политическая. Но двадцать первый год еще не кончился. События продолжали нагромождаться одно на другое. На Украине объявился новый атаман — помощник Петлюры генерал Юрко Тютюник. Фрунзе отозвал из Тамбова Котовского, поставил его во главе кавалерийского корпуса и приказал уничтожить банды Тютюника. Сам Михаил Васильевич готовился к длительному и, по всей вероятности, опасному путешествию. В харьковской газете «Коммунист» появилась его статья «По ту сторону Черного моря». И все вдруг увидели: Фрунзе — великолепный знаток Ближнего Востока, Малой Азии. Он рассказывал о событиях в Турции, которые за последнее время приковывали внимание всего мира. Обывателю Турция всегда рисовалась этакой экзотической страной полумесяца на берегах Босфора, где, как во времена «Тысячи и одной ночи», правит султан, «повелитель правоверных», «калиф ислама», где до сих пор сохранились гаремы (у губернатора Константинополя сорок жен, у султана — триста), где курят наргиле и пьют фиговый сок, где в Софийской мечети сохранился оттиск пальца пророка, где в тени мечетей сидят дервиши и так далее, и тому подобное. Пустячки из жизни народов Востока туристы-сибариты всегда выдают за саму жизнь народов. Оком государственного деятеля Фрунзе видел другую Турцию. В прошлом году по Севрскому договору Антанта отняла у Турции большую часть территории вместе с Константинополем — столицей, находящейся в том месте, где сливаются воды Мраморного моря, Золотого Рога и Босфора. На долю Англии досталась Месопотамия, Палестина и Аравия; на долю Франции — Сирия, Ирак, большая часть Малоазиатского полуострова; Греции — западная часть Малой Азии с городом Смирной и остатки европейских владений Турции в юго-восточной части Балканского полуострова. Остальная часть собственно Турции — Анатолия была разделена на зоны влияния. Большинство турецкого народа выступило открыто на борьбу против захватчиков. Во главе недовольных стал один из видных турецких генералов Мустафа Кемаль-паша. В Анкаре он созвал национальное собрание, которое оформило новое революционное турецкое правительство. Правительство султана Магомета Шестого оказалось в изоляции. Правительство Кемаль-паши сумело в короткий срок создать довольно внушительные вооруженные силы и подготовить таким образом возможность активной борьбы с поработителями своей страны. Борьба началась после того, как Антанта натравила на турок Грецию. Советское государство с большим сочувствием относилось к борьбе турецкого народа за свою национальную независимость. В марте двадцать первого года в Москве между РСФСР и Турцией был заключен договор о дружбе и братстве, затем Турция подписала аналогичный договор с Закавказской федерацией. А Советская Украина, близкая соседка Турции по Черному морю, до сих пор не имела с ней дипломатических отношений! Фрунзе считал такое положение ненормальным. Вот почему еще в мае правительство Украины предложило Кемалю начать переговоры об установлении дипломатических отношений. Местом переговоров мог бы стать Харьков, столица Украины. Турки на переговоры согласились, но пожелали, чтобы они проходили в Анкаре. Это не вызвало возражений. Меньше всего Михаил Васильевич предполагал, что возглавлять чрезвычайную дипломатическую миссию придется ему. Но история большой жизни всегда немного фантастична: именно он был назначен председателем дипломатической делегации. И как всегда при неожиданных поворотах судьбы, он занялся тщательной подготовкой. На его рабочем столе появились русско-турецкие словари, труды по древней и новейшей истории Турции, книги по истории дипломатических отношений, этнографические сборники, статистические материалы, подробные описания турецких вилайетов — генерал-губернаторств. Можно было подумать, что он собирается защищать докторскую диссертацию. За несколько месяцев он сделался самым квалифицированным экспертом по Турции: знал ее экономику, состояние армии, политические программы, международные связи. Поздравил себя с открытием: оказывается, турецкий язык имеет много сходного с киргизским. Назначение Фрунзе чрезвычайным послом было воспринято в Турции с глубочайшим удовлетворением, как честь, оказанная молодой Турецкой республике со стороны Советского государства. Мустафа Кемаль по этому поводу писал:
«Уже один факт, что правительство Украинской Советской Республики для заключения договора дружбы, чтобы еще более закрепить политические и экономические связи, существующие между обоими народами, выбрало Фрунзе, одного из выдающихся политических деятелей, являющегося в то же время одним из самых доблестных полководцев и героических вождей победоносной Красной Армии, вызвал особую признательность со стороны национального собрания».В Турции его знали, за каждым его шагом в Туркестане и в Крыму пристально следили. Что такое чрезвычайный посол? Это прежде всего человек, в совершенстве владеющий дипломатическим искусством. Фрунзе предстояло опровергнуть собой, своими действиями старый, въевшийся в умы дипломатов афоризм: «Солдаты не становятся хорошими дипломатами, поскольку посол должен быть человеком мира». Впрочем, об этом он меньше всего заботился. Ему было известно, что «люди с Кэ д’Орсэ» пытаются заигрывать с новым турецким правительством; необходимо выяснить, как далеко зашли отношения новой Турции с Францией. Он слишком хорошо понимал природу только что возникшей Турецкой республики, чтобы строить какие-либо иллюзии на этот счет. Политическая платформа народной правительственной партии носит ярко выраженный буржуазно-либеральный характер. Но турки сражаются за свою независимость, и Советское государство обязано поддержать развертывающееся национально-освободительное движение. Из Харькова дипломатическая миссия выехала 4 ноября специальным поездом. В Баку Михаил Васильевич встретился с секретарем ЦК Азербайджана Сергеем Мироновичем Кировым. То была встреча старых боевых товарищей. — Как у вас здесь? — спросил Михаил Васильевич. — Трудно? — Трудно было, когда в прошлом году назначили меня полномочным представителем Советского правительства в меньшевистскую Грузию. Приходилось из меньшевистской делать советскую. Ну а здесь… покажу вам первый рабочий городок со всеми удобствами. Построили. Или, может быть, хотите взглянуть на казарму, каких доселе не бывало: душ, санузлы, полковой клуб, спортивный зал… — Значит, вертится! — Вертится. В Батуми проснулось, казалось бы, совсем забытое: страсть к ботанике. Михаил Васильевич заторопился на Зеленый мыс в Ботанический сад. Сопровождающие лица, а среди них были и дипломатические, и военные советники, недоумевали: времени в обрез, а председателю вдруг вздумалось полюбоваться на рододендроны и пальмы. Советники были еще больше изумлены, когда прославленный полководец вдруг заговорил с научными сотрудниками немыслимым языком ботаники: диоскорея, каладиум, питтоспорумы, пуника гранатум… — Увидеть этот сад было моей давнишней мечтой, — сказал Михаил Васильевич. — Ведь его создал знаменитый ботаник Андрей Николаевич Краснов, великолепный знаток флоры Тянь-Шаня! Когда-то его магистерская диссертация «Опыт истории развития флоры южной части Восточного Тянь-Шаня» была моей настольной книгой. Всего за два года на месте непроходимых лесных дебрей создать райский сад!.. Фрунзе побывал у обрыва на могиле Краснова. Сверкал над морем Кавказский хребет, тяжело перекатывались осенние волны. В тот же день Михаил Васильевич отправил в Наркомзем РСФСР докладную записку, в которой просил оказать научным сотрудникам срочную помощь, прислать ученого-ботаника, отпустить средства (сад находился в запущенном состоянии). С собой Фрунзе вез миллион золотых рублей царской чеканки — первый взнос в счет займа, предоставленного Советским правительством правительству Кемаля. Деньги доставляли много хлопот. Греческие боевые корабли сновали по Черному морю, и они могли совершить налет на советское судно, везущее в Турцию золото. Да и за самим Фрунзе иностранные разведки, конечно же, следят и будут стараться, чтобы он не добрался до Анкары. Война продолжается! …В Батумском порту стоял коммерческо-пассажирский итальянский пароход «Саннаго». Он должен был идти в Трапезунд. Италия старалась сохранять дружественные отношения с кемалистской Турцией, преследуя различные экономические и торговые выгоды. «Саннаго» охотно принял советских пассажиров. Фрунзе отправлялся в поездку под вымышленной фамилией. Золото погрузили на советский пароход «Георгий», который следовал собственным курсом. В матросском кубрике «Саннаго» Михаил Васильевич увидел на переборке портрет Ленина. Путешествие по морю, собственно, длилось одну ночь. Ночь, правда, выдалась штормовая. Гигантский пароход зарывался носом в волну. К утру были в Трапезунде. Здесь пришлось задержаться на целых четыре дня: шторм, сообщение со всеми портами турецкого побережья прекратилось. Михаил Васильевич решил вести дневник. Он находился на чужом берегу, на земле древнего Понта. Город террасами спускался к морю. Кое-где виднелись черные рощицы кипарисов. Вдоль улиц молчаливо сидели нищие с чашками. Он облегченно вздохнул, когда на рейде показался «Георгий». Миссия перебралась на советский пароход. Погода установилась, сквозь тучи упал длинный сноп света. «Георгий» взял курс на Самсун. Шли ночью. Здесь, в территориальных водах Турции, также была не исключена возможность столкновения с греческими кораблями. Такая возможность даже неимоверно возросла. На пароходе имелось всего одно орудие и к нему тринадцать снарядов. Могли, на первый случай, выручить три пулемета. Дух войны витал над этими пустынными водами, и Михаила Васильевича не покидало, сделавшееся уже привычным, состояние внутренней собранности, напряженности. Шли, прижимаясь к гористому берегу. Шли сквозь черно-синюю тяжелую мглу. Часовых у ящиков с золотом укачивало, они всеми силами старались стряхнуть сонную одурь. Все было смутно, зыбко в этой ночи. Сопровождавший миссию турецкий офицер юзбаши, что значит капитан, Хасан-бей нервно метался по верхней палубе. Встреча с неизвестным кораблем произошла в четвертом часу. Из темноты надвинулась громада, полоснула по «Георгию» лучами прожекторов. Замигали сигнальные огни: приказ остановиться. — Полный вперед! — скомандовал Фрунзе. А юзбаши Хасан-бей торопливо переодевался в матросскую робу. — О, форма вам идет, — ровным голосом произнес Михаил Васильевич. — В каком часу будем в Самсуне?.. Неизвестный корабль растворился в темноте. Ушли… Путешествие в Самсуне не закончилось, по-настоящему оно только начиналось. Чтобы добраться до Анкары, необходимо было совершить утомительный четырехсоткилометровый конный марш по дороге, построенной еще древними римлянами, затем от Яхши-хана ехать по узкоколейке. Члены делегации разместились в пятнадцати крытых повозках — яйли. Фрунзе в богатырке с красной звездой, в наброшенной на плечи кавказской бурке ехал верхом. Он хотел все видеть, и его не смущал дождь; а в повозке, где нет сидений, приходится лежать. Кроме того, он не совсем оправился от ранения, боялся, что тряская, скверная дорога его укатает. Медленно поднимались повозки на горное плато, на перевал, спускались в долины и узкие ущелья. Среди нагроможденных скалистых обломков росли низкие кустарники. В долинах виднелись дубовые, оливковые и миндальные рощицы. Караван находился под охраной турецких конных жандармов, но неизвестно было, как они поведут себя в бою. В селениях встречались только женщины, старики и дети — всех молодых мужчин мобилизовали на войну. Турчанки, воспетые Пьером Лоти… Здесь, в горных деревнях, они совсем не такие, как на страницах книг французского романиста: на ногах навернуто разное тряпье, коричневые заплатанные кофты заправлены в широкие синие шальвары; при встрече женщины норовят прикрыть нижнюю часть лица, впрочем — старухи, молодые, наоборот, становятся к ветру боком, чтобы покрывало отлетало. Безотрадные картины полного разорения. Деревни сожжены, разрушены. То и дело конвоиры вскидывают винтовки: за каждой скалой можно ждать засады. На всех перевалах — турецкие заставы. Тут сообщают: будьте наготове, на рассвете банда напала на заставу, еле отбились. В селениях собираются толпы крестьян, солдат. Михаил Васильевич обращается к ним с приветственными речами от имени советского народа. И всякий раз его удивляет то, что почти во всех деревнях крестьяне имеют довольно правильное представление о положении дел в стране, знают о Красной России и о том, что русские теперь им друзья, спрашивают, придет ли туркам на помощь Красная Армия. Слева и справа поднялись снеговые вершины, а конца пути не видно. Где Яхши-хан? Уже десять суток в седле… Приходится переправляться вброд через бурные речки, на постоялых дворах миссию заедают клопы.
«Дорога, ввиду крутизны, все время идет зигзагами, местами она проходит возле крутых и глубоких обрывов и суживается до пределов проходимости одной лишь телеги. Чем выше в горы, тем порывы ветра становятся свирепее. Ехать становится положительно опасно; того и гляди, сорвешься с дороги и покатишься вместе с конем куда-нибудь к черту на кулички. Раза три я едва мог удержаться. Особенно опасным был один момент, когда уже недалеко от вершины перевала на этой узкой дороге нам попал навстречу огромный караван верблюдов. Резким порывом ветра в мое лицо и морду лошади бросило кучу песку и камней из-под ног шедших вверх верблюдов; лошадь испуганно шарахнулась и, очутившись на краю пропасти, встала на дыбы. Пришлось пережить жуткое мгновение…»Когда проезжали мимо большого селения, оттуда раздался выстрел, и вслед за тем выскочило около пятнадцати всадников. Жандармы моментально вскинули винтовки, готовясь к нападению. — Бандиты! Поднялась частая стрельба. Жандармский офицер с испуганным видом подскочил к Михаилу Васильевичу и стал упрашивать спуститься в долину. Стрельба то утихала, то вновь разгоралась. Было впечатление завязавшегося боя. Из селения появилась огромная толпа с флагами, она окружала две закрытые пологом повозки, запряженные буйволами. Гремела музыка. Фрунзе недоумевал. — Ложная тревога, — сказал аскер. — Дюйюн. Свадьба. Положено стрелять в честь жениха и невесты. Фрунзе одарил молодых деньгами. Совершенно неожиданно возник митинг. Михаилу Васильевичу пришлось произносить речь на турецком языке, что вызвало взрыв ликования и еще более свирепую пальбу, грохот барабанов и завывание флейт. Славили Украину, Россию, Красную Армию. В селении пришлось задержаться. В пяти верстах от Яхши-хана миссию встретил почетный конвой. Хлестал дождь. У самой станции выстроилось местное начальство, собралась толпа. Когда Михаил Васильевич произнес приветственную речь на турецком языке, апатично-вежливые чиновники встрепенулись, радостно заулыбались, потеряв дипломатическую сдержанность, стали наперебой спрашивать, когда же придет Красная Армия. Она, мол, должна прийти и разбить англичан и французов, ее здесь все ждут. До Анкары каких-нибудь девяносто верст! Почти у цели. Небо прояснилось, полыхнуло синевой. Но как говорят на Украине: не кажи гоп, пока не перескочишь! Разукрашенный турецкими и советскими флагами поезд рванулся в сторону Анкары. Он бойко мчался над крутым обрывом, пронизывал тоннели. Внизу, на дне пропасти, бурлила и клокотала река. У делегатов захватывало дух: а что, если сорвется?.. Толчок — чемоданы разлетелись во все стороны. Паровоз сошел с рельс, повис над пропастью. — Под богом ходим, — проворчал дипломатический советник. — Так устанавливали дипломатические отношения во времена Марко Поло. Красноармейцы запели «Дубинушку», поставили паровоз на рельсы. Двинулись дальше. Все над той же пропастью. И снова захватывало дух, мурашки бегали по спине. Громоздились утесы, ревела река. По временному деревянному мосту проскочили, так и не заметив, обвалился он или нет. Анкара открылась неожиданно, сразу. Фрунзе, не отрывая взгляда от окна, записывал в дневник:
«Вид города чудеснейший. Он расположен по склонам конусообразной горы, облепляя их со всех сторон, кроме северо-восточной, где гора обрывается круто к берегу той самой речки, вдоль которой мы ехали. Вершина горы увенчана остатком древнеримской крепости, зубчатые стены и башни которой еще поныне горделиво высятся над окрестным районом… Низины уже были в тени, но зато тем красивее и ярче играли переливы света на крепостных стенах, белых минаретах и белых домиках города…»Он глубоко чувствовал красоту, и точные, рельефные слова сами ложились на бумагу. За двенадцать дней пути он начал понимать дух этой страны и про себя думал, что рожден все-таки путешественником, просторы земли всякий раз вызывают у него жадное любопытство. Помимо обыденности, есть еще что-то, возвышающее нас: оно таится в развалинах римских крепостей, в стрельчатых сводах, украшенных голубым фаянсом, в фантастических цветах, нарисованных глазурью на минаретах, в гордо устремленных в синеву кронах пальм, в дыхании пустынь, в меланхоличном шествии караванов — во всем, что рождает в мозгу призраки истории… Поездка для него не была утомительной. Он словно бы вспоминал: к Трапезунду в свое время вышли к морю греческие отряды, уцелевшие после битвы Кира-младшего с Артаксерксом; эту дорогу строили римляне, по ней шагали римские легионы; вон те величавые развалины — также следы былого могущества Рима… История продолжается, облекаясь в новые, неожиданные формы. Легендарное — это и есть освобожденное от бытовых частностей. …Фрунзе встретился с Мустафой Кемалем (или Ататюрком — «отцом турок», как назовут его потом). В кресле сидел высокий, худощавый, гладко выбритый мужчина с желтыми кругами под темными умными глазами. Это его называли Гази, то есть Непобедимый, так как, будучи начальником Дарданелльского пролива, он сумел защитить его от флота Антанты. Разговор вели на французском, без переводчика. Незаурядность личности ощущается сразу. Широта мышления, собственно, и есть незаурядность. Посредственность всегда мелкотравчата, если даже хочет казаться фигурой. Кемалю незачем было изображать личность, он был ею. Перед Фрунзе находился бесконечно усталый человек, без позы, без желания казаться твердым, волевым, несгибаемым. Быть «отцом» целого народа не так-то легко. Иногда просто не хватает нравственных сил. Они слишком хорошо понимали друг друга, чтобы тратить время на дипломатические церемонии. Они делали историю и торопились, отбрасывая всякую обрядность и условности. — Знаю, вас всюду спрашивают: когда же в Турцию придет Красная Армия, — сказал своим четким голосом Кемаль. — Мы с вами вынуждены оставить этот вопрос открытым. Но я, питая к вам безграничное доверие, хотел бы, чтобы вы познакомились с состоянием турецкой армии и сделали свои выводы, дали советы нашим военным. У нас — свое, и мы признательны России за помощь… Они представляли разные системы. Кемаль был сыном своего класса, и социалистические идеалы не находили отклика в его сердце, но энергия Советского государства не могла не вдохновлять его. Он твердо заявил Фрунзе: — Соглашение с Западом означает неизбежное закабаление Турции. Наша с вами встреча кладет конец всяким попыткам вбить клин между Советами и Турцией. Наше движение называют национальным. Но знаете, какой вопрос я считаю самым трудноразрешимым в нынешних условиях Турции? Национальный! С Мустафой Кемалем случилось то, что происходило с каждым, кто хоть раз соприкасался с Фрунзе: суровый турецкий генерал встретил не только умудренного политика, внешняя простота которого свидетельствовала о его высокой культуре, не только собрата по оружию, но и родственную душу. Перед Фрунзе хотелось раскрыться. Они говорили с жаром, словно школьные товарищи, съехавшиеся после долгой разлуки. Кемаль рассказывал о тех трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться в самом правительстве, давал прямую характеристику каждому из своих соратников и каждому оппозиционеру. Очень тепло отзывался о некоем Осман-аге. Лаз по происхождению, Осман-ага одним из первых откликнулся на призыв Кемаля, сформировал партизанский отряд, который и сейчас ведет ожесточенную войну с греческими повстанцами, сорганизовавшимися в банды. Недавно Осман-ага произведен в чин командира полка. Да, борьба здесь очень часто принимает националистическую окраску или религиозную. Отсюда — греческие зверства, турецкие зверства. Например, армия греческого короля Константина XIII при оккупации Смирны и Смирненской области вырезала почти все мусульманское население. Турки, разумеется, тоже не остаются в долгу. Ему, Кемалю, приходится завидовать четкости политики Советского государства, так как в ней главный аспект — классовый, а национальный примыкает к нему. — У нас сложностей тоже хватает, — сказал Фрунзе. — Все новое рождается в сложностях, в муках. Это, по-видимому, и придает ему прочность потом, когда оно найдет свои единственно возможные формы. Такова диалектика жизни. Договор о дружбе и братстве был подписан. Михаил Васильевич по этому случаю выступил в меджлисе. Кемаль повесил у себя в кабинете большой портрет Фрунзе. В Москву послал телеграмму:
«Речь Фрунзе ничем не походила на искусственные, полные лжи и лицемерия речи представителей империалистического строя».Чрезвычайная миссия была выполнена блестяще. За всю свою историю Турция еще не знала такого дипломата, как Фрунзе. Михаил Васильевич и Кемаль простились. Оба знали: встретиться еще, может быть, и не доведется. Оттого была грусть. Так случается всегда, когда обретаешь друга и расстаешься с ним. Каждый из них унес в себе ощущение чего-то очень значительного. Здесь же, в Анкаре, Михаил Васильевич узнал о смерти писателя Короленко. Пора домой! По тем же опасным горным тропам и ущельям, в том же самом седле… Прощайте, кипарисы Турции… Двадцать первый год закончился.
БИТВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
Наркомом по военным и морским делам, а также председателем Реввоенсовета продолжал оставаться Троцкий. Он находился в Москве, Фрунзе — на Украине, но это не мешало Троцкому бдительно следить за каждым шагом Михаила Васильевича. То, что все обстоит именно так, Фрунзе убедился вскоре после того, как вышел в свет журнал с его статьей «Единая военная доктрина и Красная Армия». Он оставался ученым. К какой бы стороне действительности он ни прикасался, мозг начинал обобщать, находить закономерности. Умственная работа была функцией его существа, потребностью и жесточайшей необходимостью. Не мудрено, что любимым его афоризмом стали слова Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую». Изначальный враг неорганизованности, Михаил Васильевич не терпел ее и в такой тонкой области, как мышление, страдал оттого, что большие явления не обобщаются другими умами, остаются как бы непознанными. Так, несмотря на все победы Красной Армии и огромный боевой опыт, накопленный ею, в среде специалистов из Генштаба до сих пор нет даже попыток осмыслить этот опыт, сделать выводы на потребу завтрашнего дня. Больше того: укоренилось пренебрежительное отношение к этому опыту. Для старых генштабистов даже само понятие военной доктрины является смутным и неопределенным. Они не в состоянии совлечь со своего духовного «я» одежды ветхого Адама, не могущего мыслить иначе, как в пределах узких рамок и привычных представлений буржуазного мировоззрения, пропитанного духом мещанской тупости и косности. По-видимому, следует им помочь стряхнуть с себя остатки старой рутины, разобраться во всей сложности происходящих вокруг явлений ломки старого мира, стать на точку зрения выдвигающихся на арену жизни новых общественных классов. Все обязаны уяснить очевидную истину: без глубокой разработки военно-теоретических взглядов невозможно по-настоящему укрепление военной мощи государства. Нужно уже сейчас определить характер общей, и в частности военной, политики, выработать и установить определенный план общегосударственной деятельности, учитывающий будущие столкновения и заранее обеспечивающий их удачу целесообразным использованием народной энергии. Что такое единая военная доктрина? Это не что иное, как принятое в армии данного государства учение, устанавливающее характер строительства вооруженных сил страны, методы боевой подготовки войск, их вождение на основе господствующих в государстве взглядов на характер лежащих перед ним военных задач и способы их разрешения, вытекающие из классового существа государства и определяемые уровнем развития производительных сил страны… Так думал Фрунзе. Он считал, что необходимо пересмотреть все вопросы военной науки и искусства под углом зрения пролетариата, установить основы пролетарского учения о войне. Единая доктрина обязана стать организующим моментом для армии. Все основные элементы ее уже даны в окружающей среде, и работа теоретической мысли должна заключаться в отыскании этих элементов, в сведении их в систему и в приведении их в соответствие с основными положениями военной науки и требованиями военного искусства. В то время как в прежних войнах момент непосредственного руководства вождей отдельными частями боевого организма составлял обычное явление, теперь о таком руководстве не может быть и речи. Между тем единство, цельность и согласованность нужны сейчас более, чем когда-либо, так как театром военных действий теперь являются не узкоограниченные пространства, а громадные территории с десятками и сотнями миллионов жителей; технические средства борьбы бесконечно развиваются и усложняются, создавая все новые и новые категории специальностей, родов оружия… Вернувшись из поездки в Турцию, он нашел у себя в кабинете на столе брошюрку Троцкого, своеобразную рецензию на «Единую доктрину», с претенциозным заглавием: «Военная доктрина или мнимо-военное доктринерство». Это был даже не вызов, тут была попытка ошельмовать Фрунзе, поставить его на место. «Выискался, дескать, мыслитель!» О каком военном опыте идет речь? Никакого опыта не было и нет. Гражданская война — сплошная военная неудача. Воевали вовсе не так, как хотелон, Троцкий, а вопреки его квалифицированным указаниям. Где тот опыт, о котором трубит Фрунзе? В области военного дела нет решительно ничего — пустое место. Все операции были проведены безграмотно, никаких успехов с точки зрения военного искусства Красная Армия не проявила. Что такое пролетарский командный состав? Скопище безграмотных неинтеллигентных людей, которые о военном искусстве не имеют и отдаленнейшего представления. Военной науки нет и не может быть, а потому к «теории войны, то есть практическому руководству», марксизм отношения не имеет. Марксизм не может научить плести лапти, марксизм нельзя «пущать к ветеринарии и к лаптям». Это была не рецензия, это была вылазка, направленная не только на то, чтобы оплевать Красную Армию, но и на то, чтобы подорвать веру к цвету армии — боевым краскомам. В Троцкого никогда не стреляли, на него не покушались, он не нюхал пороху, не знал, что такое стоять лицом к лицу с белогвардейцами; но зато он умел становиться в позу поучающего, зная, что против наглости бессильна любая логика, любые доводы разума. Главное: увлечь за собой определенную группу людей, противопоставить краскомам старых спецов, посеять между ними вражду, монополизировать военные знания в руках людей политически незрелых. Троцкий рьяно перешел в атаку, щедро предоставляя таким людям страницы военных журналов и оказывая своим должностным авторитетом давление на редакторов: у нас, мол, демократия, и каждый имеет право высказать свою точку зрения. Правда, статьи молодых краскомов и политработников почему-то отклонялись теми же журналами «ввиду незрелости мысли и необязательности предмета». Фрунзе с негодованием отмечал, что журналы занялись пропагандой антимарксистских взглядов. И самое страшное заключалось в том, что подобные взгляды протаскивали спецы, которых трудно было заподозрить во враждебности к Советской власти. Просто антимарксистские взгляды составляли вторую натуру таких спецов. По вопросу о принципах организации армии они преподносили теологию Богданова, по вопросу о методах военной науки городили идеалистическую чепуху. Они усердно доказывали, что война вечна, есть и будет, законы психологии толпы вечны и одинаковы для всех времен и общественных строев; все методы и способы войны старались вывести из свойств человека вообще, вне времени, вне классов. — Посмотрите, — говорил Гусев Михаилу Васильевичу. — Читаю журналы и прямо-таки выхожу из себя! Все собрали: веками накопившийся хлам софистики, схоластики, доктринерства, метафизики, идеализма, всегда пускавшийся в ход против марксизма. А Троцкий делает вид, что все в порядке вещей. Тут попахивает прямым вредительством, идеологической диверсией. — Я давно это заметил. Вот почитайте, что пишет петроградское «Военное обозрение»: «Мы не должны стремиться насильственно создать систематизацию особенностей военного искусства в условиях классовой борьбы на базе теории революционного марксизма… Военное искусство едино, интернационально». Сразу узнаю демагогию Троцкого. Как чуть что — кричит об интернационализме, дабы замаскировать свою мелкобуржуазную натуру. Суть его «интернационализма» я понял хорошо, это не тот интернационализм, который объединяет трудящихся всех стран, а тот, который объединяет мелкобуржуазную стихию внутри страны и вовне. Его интернационализм идет не от Третьего, а от Второго Интернационала. Пора дать по мозгам всем теоретикам от антимарксизма. — Вы правы. Я твердо уверен, что за борьбой между старыми спецами и краскомами по вопросу о марксизме скрываются определенные политические, то есть классовые, тенденции. В этом для марксиста-ленинца ни на минуту не может быть сомнения. Троцкого нужно убрать из армии, пока не поздно! Я, во всяком случае, приложу к этому все силы… — Иногда я удивляюсь его расторопности, — задумчиво произнес Фрунзе. — Он успевает пакостить всем и всюду. Не хотел бы сидеть с таким человеком в одном учреждении… Он вспомнил прошлогоднюю сцену в кабинете Ленина. То было время, когда Троцкий и его сторонники навязали партии дискуссию о профсоюзах: они требовали огосударствления профсоюзов, перенесения в них военного метода. Таким путем они рассчитывали поссорить рабочий класс с партией. Троцкий выдвинул своеобразную концепцию, согласно которой в основе общественного прогресса лежит леность человека, его неспособность к творческому труду. И не стеснялся вслух заявлять вот такое: «По общему правилу человек стремится уклониться от труда. Можно сказать, что человек есть довольно ленивое животное, и на этом качестве, в сущности, основан человеческий прогресс. Задача общественной организации состоит в том, чтобы леность вводить в определенные рамки, чтобы ее дисциплинировать и подстегивать. Если убрать кнут — ленивое человечество погибнет от голода». А отсюда: «Пулеметные методы будут самыми лучшими для разрешения хозяйственных задач». Но поскольку принудительный труд непроизводителен, то «ставьте на социализме крест». Профсоюзы должны стать «проводниками революционной репрессии», кнутом. В самые трудные месяцы (все тот же двадцать первый!) Михаилу Васильевичу пришлось разъезжать по предприятиям Украины, разоблачать «филистеров от революционаризма». У рабочего класса Украины троцкисты поддержки не нашли. Ильич, рассерженный, хмурый, шагал по кабинету и клеймил Троцкого, который тоже ходил по кабинету. Ленин наступал, Троцкий пятился до тех пор, пока не был загнан в угол. О чем говорил тогда Ильич? О руководстве массами. Для успешного руководства весьма важно правильное понимание соотношения между двумя факторами: объективным и субъективным, поскольку элемент руководства относится к сфере субъективного фактора. Руководство деятельностью масс требует глубокого осмысливания и всестороннего учета объективных условий и тенденций общественного развития. Субъективный фактор нельзя сводить к субъективизму. — Марксизм отличается от всех других социалистических теорий замечательным соединением полной научной трезвости в анализе объективного положения вещей и объективного хода эволюции с самым решительным признанием значения революционной энергии, революционного творчества, революционной инициативы масс, а также, конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми или иными классами, — говорил Ильич. И, совсем загнав в угол Троцкого, продолжал: — Один из главных, если не главный недостаток (или преступление против рабочего класса) как народников и ликвидаторов, так и разных интеллигентских группок, «впередовцев», плехановцев, троцкистов, есть их субъективизм… Кому «скучна», «неинтересна», «непонятна» работа по созданию социалистической экономики, кто не желает или не умеет подумать над своеобразием данного этапа борьбы — того лучше «освободить от работы»… чтобы он не мог принести вреда… «Освободить от работы»… Да, пожалуй, этот акт был бы самым благоприятным для армии. Но Троцкий держится. И пакостит у всех на глазах. Той же армии. Его нужно разбить идейно, показать зыбкость и вредность его позиций в военном вопросе. Да, не хотел бы Фрунзе работать бок о бок с этим фарисеем… Не хотел бы! Разумеется, личные обиды в счет не идут. А они есть, есть. Теперь-то Михаил Васильевич знал многое: как Троцкий противился его назначению командующим Четвертой армией и сколько сил пришлось приложить Ильичу, чтобы настоять на своем, как Троцкий хотел запретить операцию по взятию Бухары, ссылаясь на то, что Фрунзе-де авантюрист и безграмотный в военном отношении человек. Заместитель председателя ВЧК Яков Петерс рассказывал Михаилу Васильевичу, как Троцкий потребовал обыскать поезд Фрунзе якобы для того, чтобы изъять у команды золото, награбленное в Бухаре. Но что значат личные обиды в сравнении с тем огромным делом в перестройке армии, которое может загубить Троцкий?! Михаил Васильевич созвал совещание командного состава войск Украины и Крыма. В любых вопросах — практических и теоретических — он всегда опирался на массы, и теперь, перед XI съездом партии, необходимо было выяснить точку зрения армейских масс, опереться на них. Основной бой Троцкому Фрунзе, Ворошилов и Гусев решили дать на партийном съезде. Вот оно, только что расправившее крылья молодое поколение военных работников, выдвинувшихся за время революционных битв из народных низов! Это с ними он прошел через все бои, они были творцами новых методов и способов боевых действий. Не дожидаясь директив сверху, они учились воевать друг у друга. Для них операции по овладению Северной Таврией и Крымом значат больше операций битого Мольтке-младшего, на которого любят ссылаться спецы, как на пример отточенности стратегической и оперативной мысли. Пролетарская стратегия оказалась выше «стратегии торгашей». И этот факт никому не удастся умалить… Как и ожидал Михаил Васильевич, краскомы поддержали его идеи о военно-политическом воспитании Красной Армии, о единой военной доктрине, о роли конницы на современном театре военных действий; а среди краскомов были прославленные фронтовики Котовский, Примаков, Юшков. О необычном совещании в Харькове вскоре узнали все. И все разобрались, о чем шла речь. Мысль Фрунзе была предельно ясна: идеология рабочего класса, которая воплощена в Программе Коммунистической партии, составляет основу военной науки. Поднялись комячейки Военной академии, направили в ЦК письмо, в котором сообщали о «мощи спецовской касты», об «усилении идеологического влияния спецов», о «насаждении спецов и лжеспецов», о «монополизации военного знания в руках спецов». Дискуссия о «единой военной доктрине», открытая Фрунзе, вступила в новую фазу. Теперь она стала походить на жесточайший бой. Михаил Васильевич приехал в Москву на съезд во всеоружии. Теоретические битвы требовали не меньше нравственных сил, чем схватки на передовой. В президиуме Троцкий уселся рядом с Фрунзе. Вел себя экзальтированно: порывисто ерзал на стуле, беспрестанно подкладывал Михаилу Васильевичу записочки. Еще до начала совещания военных делегатов он старался выбить Фрунзе из колеи, запутать его. Ведь им предстояло схватиться на виду у людей, многоопытных в военном деле, а что за противник Фрунзе, Троцкий отлично знал. Он мешал слушать Ленина. Уткнувшись перьями бороды в ухо Михаила Васильевича, горячо шептал: «Вся речь Владимира Ильича бьет вас». «По-моему, она бьет вас», — отвечал Фрунзе. Он крепился. Троцкий гипнотизировал его козьим взглядом. Снова шептал что-то об ошибочной позиции, занятой-де украинским совещанием командного состава. С самого начала Троцкий восстал против созыва совещания военных делегатов съезда (а их было семьдесят два). Он пытался доказать членам ЦК, что говорить, собственно, не о чем. Единая военная доктрина? Измышление Фрунзе. Военная наука? Вздор. О каком укреплении Красной Армии может идти речь? Разве армия не крепка? У нас нет времени заводить дискуссии о какой-то там военной доктрине. Все сие от лукавого. Но Фрунзе, Гусев, Ворошилов, Бубнов, Тухачевский и другие оказались настойчивыми: дискуссия необходима! Был созван специальный пленум, и он решил, вопреки Троцкому, совещание военных делегатов провести. Троцкий пожал плечами: вынужден подчиниться воле большинства. Глупо-с… Военные делегаты собрались в отдельном зале. Атмосфера была настороженной. Все уже знали о предполагаемом диспуте между наркомом и командующим вооруженными силами Украины и Крыма. Но здесь, на партийном съезде, где собрались ленинцы, Троцкий чувствовал себя не совсем уютно. Такую аудиторию трудно повести за собой. Рядом с Фрунзе — Ворошилов, Гусев… Троцкий должен был выступать первым, Фрунзе считался содокладчиком, и, таким образом, последнее слово оставалось за ним. Существует особая романтика собраний, съездов, заседаний, совещаний, не всегда попятная непосвященному. Но именно на собраниях обнажаются умы и кипят страсти, именно здесь происходит утечка здоровья, бесконтрольная трата нервов, духовных сил. Как любил говорить Михаилу Васильевичу Валериан Куйбышев: «Сперва было собрание. А на нем уж постановили сотворить мир». Кстати, на съезде встретились с Валерианом Владимировичем. Он с головой ушел в экономику, как член президиума ВСНХ занимается «Автономно-индустриальной колонией Кузбасс», электрификацией и другими народнохозяйственными делами. Съезд избрал его членом ЦК. Фрунзе прекрасно понимал состояние Троцкого. Сейчас перед такой аудиторией он постарается уйти от основного, уклониться от обсуждения главной темы, свести все на нет, увильнуть от прямого ответа, изобразить из себя борца за перестройку Красной Армии. Споры, мол, спорами, но они носят частный характер. Нарком ведь тоже может в чем-то ошибаться. Но Фрунзе и его единомышленникам нужно было во что бы то ни стало именно сейчас, на съезде, изобличить Троцкого, указать на враждебность его позиции, оставить его голеньким, открыть широкую и деловую дискуссию по военным вопросам. Троцкий был запальчив, самолюбив, и это Фрунзе тоже хорошо знал. Михаил Васильевич за последние годы прошел превосходную дипломатическую школу. «Хороший дипломат должен обладать проницательностью, которая поможет ему разгадывать мысли собеседника и по малейшим движениям его лица судить о его чувствах», — гласит одно из старых правил дипломатической службы. А движения лица Троцкого свидетельствовали о том, что он трусит и собирается увильнуть. Потому-то при первом же разговоре с Троцким в кулуарах Михаил Васильевич заявил, что отметает все его обвинения в адрес украинского совещания. Утверждения Троцкого по военным вопросам объективно неверны, а психологически по своим последствиям просто вредны. Именно об этом он и собирается говорить с трибуны съезда, чтобы раз и навсегда отбить охоту у кого бы то ни было порочить Красную Армию. — Значит, вы намерены выступить против меня? — Против вашей вредной концепции. — Ну что ж, в таком случае я вынужден буду первым перейти в наступление. Спасибо, что предупредили. Держитесь! С трибуны Троцкий говорил директивным тоном, не допускающим возражений, повторял свой избитый афоризм насчет лаптей и марксизма, обвинял Фрунзе в идеализации прошлого Красной Армии, «разоблачая» Фрунзе «в невежестве», преклонялся перед позиционными формами борьбы и отрицал необходимость наступательных действий, маневренных форм борьбы, отрицал необходимость руководящей роли партии в армии: дескать, в гражданской войне Красной Армией руководила не партия, а офицеры старой армии. Слушали его холодно, хмуро. Все ждали выступления Фрунзе. И он сказал то, что от него надеялись услышать: — Мне кажется, что Троцкий в области недостатков чересчур перегибает палку в другую сторону. По его словам, выходит так, как будто мы ничего решительно в области военного дела особенного не сделали, что, с точки зрения правильности наших операций, у нас дело было из рук вон плохо, что никаких особенных успехов, с точки зрения военного искусства, мы не имели, не показали, не проявили. Я полагаю, что эти утверждения прежде всего объективно неверны, а психологически по своим последствиям просто вредны. Уж если говорить объективно, то гораздо лучше идеализировать наш прежний опыт, чем его недооценивать… Нет ничего вреднее, как становиться на точку зрения умаления заслуг коммунистических элементов внутри армии, умаления заслуг того командного состава, который, безусловно, вынес, и вынес с честью, тяжесть борьбы на своих плечах. Коммунистическая партия и рабочий класс держали и держат армию крепко в своих руках… Он показал все убожество и вредность теоретических измышлений Троцкого. Троцкий — не только дилетант в военном деле, он просто-напросто не занимается укреплением армии: осмысления опыта Красной Армии и армий империалистических нет и в помине, отсутствуют новые уставы. И Троцкому до этого нет никакого дела. И перед всеми Троцкий предстал в своем истинном виде: как фигура ненужная в армии и даже враждебная ей. Оставлять такого во главе Вооруженных Сил нельзя. И еще поняли: есть другая фигура, пожалуй, самая крупная в армии, человек, обладающий исключительной ясностью ума, теоретик и практик военного дела — Михаил Фрунзе, революционный полководец, с исключительной широтой, прозорливостью, решительностью и твердостью проведший крупнейшие операции гражданской войны, полководец без поражений. За короткий срок армию Украины и Крыма он сделал образцовой, успел поставить боевую и политическую подготовку войск на твердую основу, создал новые уставы. Он был подлинным хозяином армии — вот что уяснили делегаты. Уяснил это и Троцкий. После съезда он заперся в своем кабинете. На его языке такое уединение называлось «разговором со своим богом». Дескать, у всякого выдающегося человека есть свой бог, или, вернее, даймон, с которым в трудные минуты он советуется. А посоветоваться с даймоном было о чем. Своим духовным отцом Троцкий считал не Маркса, не Ленина, а Парвуса, того самого Парвуса, который перебывал всем: германским социал-демократом, русским меньшевиком, социал-шовинистом и крупным спекулянтом, разбогатевшим на военных поставках армии кайзера. О своем родстве с Парвусом Троцкий писал еще в пятнадцатом году в парижской газете «Наше слово», у Парвуса он заимствовал и пресловутую теорию «перманентной» революции. Троцкий не верил в победу социализма в одной стране, открыто заявлял, что «для революционного пролетариата Советская власть является слишком тяжелой ношей». Нужно отступить. Совсем недавно он сказал: — Для меня и сейчас ясно, что если капиталистический мир просуществует еще несколько десятилетий, то этим будет подписан смертный приговор социалистической России. Вот в это он верил твердо. Техническая и культурная отсталость России — непреодолимое препятствие на пути строительства социализма. Всеми своими высказываниями он давал понять, что России больше подходит буржуазно-демократическая республика, что большевики «явились слишком рано и должны уйти в подполье». Но посеять пессимизм и уныние в среде рабочего класса не удалось. Рабочие верят Ленину и его ученикам, не хотят пассивно ждать мировой революции, сдаваться на милость разгромленных в гражданской войне империалистов. Они верят в свои силы, не хотят признавать Троцкого своим вождем, и им наплевать на его хитроумную теорию «перманентной» революции, и на Парвуса в том числе. Все козыри биты, ленинцы с окончанием гражданской войны усилились до невероятия. Скоро Троцкому и его приспешникам укажут на дверь. Идет к тому. И конечно же, во главе армии поставят такого, как Фрунзе. Врангель разбит, Махно разбит, Тютюник разбит. Кризисных ситуаций может и не быть долгое время. А они нужны, очень нужны… Поведение Фрунзе в Турции очень обеспокоило Троцкого. Там, в Константинополе, оказывается, ничего не знали об объявлении ВЦИКом амнистии бывшим белым. Бегство Слащева в Советскую Россию генералы скрывали даже от офицеров. Врангель готовился к новой вылазке. В Галлиполи он сумел сохранить части кутеповского корпуса, кое-что перебросил в Болгарию и Сербию — всего сто пятьдесят тысяч войск. И тут появился Фрунзе. Он сделал все возможное, чтобы через турецкую печать довести до врангелевцев постановление ВЦИКа. А они будто только этого и ждали: кинулись сдаваться Советской власти целыми ротами — кутеповский корпус стал разваливаться. Нет, нет, Врангеля необходимо сохранить, игра еще не закончена. На удар Фрунзе следует ответить ударом, запугать всех тех белогвардейцев, которые живут за границей и мечтают о возврате на родину. Пусть знают: дороги сюда им нет, здесь их ждет смерть! Хотят они того или не хотят, но им придется объединяться… Троцкий, по-видимому закончив совещание со своим даймоном, вызвал в кабинет тихого, неприметного человека с портфелем. Твердо сказал: — Доклад Фрунзе мне понравился своей остротой, но он содержит противоречие: Фрунзе ругает старых генштабистов и тут же привлекает в качестве специалиста махрового врангелевца, явного врага Советской власти генерала Слащева. Врагам Советской власти не место на советской земле! Неприметный человек, блеснув стеклами роговых очков, ответил также твердо: — Мы его уничтожим! Троцкий рассердился. Он не любил прямолинейности. Сообщники должны понимать друг друга по намекам. — Не говорите глупостей. Слащев ничего дурного вам не сделал. Я думаю о гневе народном. Мы — не террористы. Я боюсь, что возмездие последует от руки какого-нибудь человека, обиженного Слащевым. Ведь могло случиться так, что врангелевцы из корпуса Слащева замучили кого-нибудь из красноармейцев или крымских партизан. А у замученного остались братья, которые вздумают отомстить. Братьев необходимо разыскать и предупредить, чтобы не вздумали мстить. Я сегодня же распоряжусь о переводе Слащева в Москву — будет под присмотром. Неприметный человек снова сверкнул очками — и ничего не сказал. Он понял. (Слащев был застрелен у себя на квартире неизвестным. Никакого резонанса его смерть не вызвала ни в стране, ни за рубежом.) Никому не приходило в голову, что энергичный, собранный, жизнерадостный Фрунзе тяжело болен. Только Владимир Ильич, с присущей ему проницательностью, догадался, что с Фрунзе творится что-то неладное, строго приказал: — Немедленно к врачам! То была застарелая болезнь: следствие неудачного удаления аппендикса. Еще тогда, в шестнадцатом, в Минске. Сперва мучила изжога. Михаил Васильевич повсюду возил с собой пакетики соды. Вроде бы помогало. Но после сильной нервной встряски последних месяцев он совсем расклеился. Появились рези в желудке. Врачи обследовали. Предписали: немедленно в Карлсбад! Приготовили паспорта, визы. Фрунзе отказался: некогда! Но ехать за границу все же пришлось. Дочь Татьяна поранила глаз. Врачи посоветовали обратиться к знаменитому окулисту, проживающему в Швейцарии. Все суровые испытания жизни, которые выпадали на его долю, он принимал как необходимость. Но он не переносил, когда страдают дети. Потому-то всюду — и в Самаре, и в Ташкенте, и в Харькове — прежде всего интересовался состоянием детских домов, добывал для них продукты, деньги, сам подбирал воспитателей. Детей Чапаева устроил в Самарский детдом, все время справлялся — а хорошо ли за ними смотрят. На Украине при штабе было несколько детских учреждений. Он, конечно, не мог предполагать, что его собственные дети скоро, очень скоро останутся сиротами, и воспитываться они будут в другой семье — в семье Ворошилова.Поселились они в небольшом двухэтажном домике на берегу Женевского озера, неподалеку от огромного парка и ботанического сада. Тишина, оцепенение, все будто остановилось. Фрунзе в кругу семьи. Никаких служебных забот. И есть время оглянуться вокруг, подумать о личных делах. Может быть, очень плохо, что за все годы так и не нашлось времени подумать как следует о личных делах… Русая головка дочери. Знаменитый окулист обещал сделать все возможное, вдохнул надежду. Но это не главная трагедия семьи Фрунзе. Главная трагедия — состояние здоровья Софьи Алексеевны. Голодная Шуя, голодный Иваново-Вознесенск, скитания по всем фронтам, вечная тревога за мужа не прошли бесследно: открылся туберкулезный процесс. Михаил Васильевич со страхом и болью наблюдал за женой: она таяла с каждым днем. У нее случались дни, полные глубокого лихорадочного волнения, в такие дни она тихо лежала на подушках, но он знал, что она думает о скорой смерти. Жаркий румянец на щеках, влажные глаза, синие круги под ними, обострившиеся черты лица… Он старался ободрить. Но оба знали, что болезнь зашла слишком далеко. Ни искусные врачи, ни лекарства, ни целебный воздух Ялты не могли вернуть ей былой жизнерадостности. Она теперь большую часть года проводила в Крыму. Никогда не жаловалась, все чаще и чаще вспоминала детство, тайгу, могучие сибирские кедры, Ингоду, синеву сопок, какое-то излюбленное место неподалеку от Песчанки. Тогда было хорошо. Много света, простора и — тайга, тайга… Когда они встречались, у нее были порывы бесконечной нежности к нему; и оттого печаль его становилась острей: он со своими высокими постами и должностями, ее единственный друг и защитник, не в силах был помочь ей. Если бы все оставить, поселиться в маленьком домике на берегу Черного моря и здесь все свои дни, всю свою любовь и заботы отдать ей… Но он твердо знал, что все это неправда; нечто более могучее, чем любовь, личные привязанности и мечты о каком-то личном счастье, будет всегда жестоко гнать его все вперед и вперед. До самой смерти… Он никогда не принадлежал только себе. Вернее, он никогда не принадлежал самому себе. И все, что с ним случалось, было лишь частным проявлением какой-то общей линии огромного исторического процесса, и не всегда Фрунзе был волен в выборе какого-то конкретного дела для приложения своих сил. Однажды еще из Ташкента он написал Владимиру Ильичу:
«Я как-то раздвоился — не то быть военным, не то переходить и вплотную браться за партийную или хозяйственную работу. Впрочем, я ни на что не претендую и буду там, где укажут».Конечно, он намекал на то, что хотел бы заняться партийной или хозяйственной работой. Но Ильич ответил: быть военным! Бойцы Чапаевской дивизии гордо называли себя чапаевцами, и это воспринималось как само собой разумеющееся. Потом появились фрунзенцы. Пока так именовали себя только ивановцы, Михаил Васильевич улыбался. Но потом, когда все те тысячи, десятки тысяч, что дрались за Уфу, за Уральск, в Туркестане, у Каспия, за Перекоп, стали называть себя фрунзенцами, он задумался. Они срослись с ним, эти десятки, сотни тысяч, они знали, что он всегда будет с ними, и если бы вдруг им сказали, что Фрунзе ушел на покой разводить цветы, они не поверили бы: в их глазах он не имел права на какую-то особую, отдельную от них, от общих забот личную жизнь. Он был орудием партии, и вся его жизнь, его успехи, радости и горести принадлежали ей. Тихо текли овеянные грустью женевские дни. Побывали в Шильонском замке, в горах, каждое утро гуляли по тенистому парку Мон Репо. Софья Алексеевна почувствовала себя лучше и даже стала поглядывать на Монблан: она любила горы. Лечение Танюши шло успешно. Михаил Васильевич пытался работать. Накинув на плечи туркестанский халат, по вечерам он усаживался за стол, открывал тетрадь. События, далекие и от Советского государства, и от Женевы, тревожили его, заставляли просиживать ночи над тетрадкой. Казалось бы, все, что он писал тут, не имеет отношения ни к перестройке Красной Армии, ни к военной доктрине. Работа называлась «Европейские цивилизаторы и Марокко». Он работал с увлечением. Должна получиться объемная книга со схемами и картами. Он шел по следам событии, которые еще не завершились. События в Марокко привлекали его внимание по двум статьям: здесь завязался очень важный узел мировых капиталистических противоречий и началась ожесточенная война марокканского народа против колонизаторов, ну а если брать сторону сугубо военную, то в Марокко впервые после окончания мировой войны проводились в довольно широком масштабе военные операции с применением всех новейших технических средств. Фрунзе намеревался провести исследование по обоим аспектам. Еще в «Единой военной доктрине» он уделил большое внимание армии Франции, вернее, ее доктрине. Следующая работа — «К реорганизации французской армии» явилась как бы продолжением, а к ней примыкала задуманная книга, над которой он сейчас трудился. Колониальные войны — неизбежный спутник империализма; но тот факт, что даже плохо вооруженные народы могут одерживать победы над оснащенными новейшей техникой империалистическими армиями, говорит о многом: век колониального владычества на исходе; настанет время, и колониальная система неизбежно распадется. Работа была только начата. Он намеревался завершить ее позже. Новые неотложные дела заставили его поторопиться с отъездом на родину. Существуют вещи как бы само собой разумеющиеся, но они вдруг находят свои законченные формы лишь тогда, когда к ним приложена огромная творческая мысль. Здесь и начинается тесное переплетение теории с практикой. Все началось как бы с повседневных, обыденных дел. На территории бывшей Российской империи возникло несколько республик, самостоятельных государств: Российская федерация, Украинская республика, Белоруссия и Закавказская федерация; а вот армия у них была одна — Красная Армия, и политика была одна, и устремления были одни — социализм. Но отношения между этими республиками были не до конца урегулированы. Сказывались пережитки местного и великодержавного шовинизма. Этот зародыш страшной болезни следовало задушить сразу же. Между социалистическими государствами не должно существовать никаких недомолвок! Фрунзе прямо и открыто поставил вопрос о взаимоотношениях между Украиной и Российской федерацией. И конечно же, председателем комиссии по урегулированию отношений избрали его. Тогда он поставил вопрос более широко: а почему бы не обсудить взаимоотношения всех республик? К этому времени уже назрела идея: объединить все республики в Союз Советских Республик на основе ленинского принципа добровольного союза равноправных и суверенных народов. В декабре на Всеукраинском съезде Советов Фрунзе сказал: — Рабоче-крестьянское правительство Украины, а равно и рабочий класс и крестьянство всей Украины могут гордиться тем, что по нашей инициативе, по нашей воле, по нашему почину мы приступили к строительству нового нашего государственного социалистического здания. Это мы, товарищи, постановили на сессии ВЦИКа обратиться с призывом к правительствам союзных с нами советских республик и предложить им поставить в порядок дня этот вопрос, считая его совершенно назревшим, и мы рады вам сообщить, что наш призыв встретил радостное отношение среди всех союзных с нами братских республик. Владимиру Ильичу он послал со съезда телеграмму:
«Сейчас под звуки «Интернационала» Всеукраинским съездом Советов единогласно принята по докладу правительства резолюция о немедленном создании нового государственного объединения под названием «Союз Социалистических Советских Республик».Да, название еще не затвердело. Оно затвердело на Первом Всесоюзном съезде Советов, где было провозглашено образование Союза Советских Социалистических Республик — СССР. Съезд проходил в Москве, на съезде присутствовал Фрунзе: в нем теперь видели не только выдающегося полководца, но и политического деятеля государственного масштаба. Он принял самое деятельное участие в разработке первой Конституции СССР, стал одним из ее авторов. И это он первым высказал мысль о необходимости создания Совета Национальностей (называя его «второй палатой»). …Он находился на какой-то конференции, когда позвонили из больницы: — У вас родился сын! Поздравляем… — Тимур! — выкрикнул он в трубку. — Через час буду… Ого, теперь он отец большого семейства. Сын… Пусть будет — Тимур, значит — «Железный». Таким и должен быть истинный мужчина. И в его душу ворвалась весна. Что-то нежное и беззащитное. «А ведь весна… — подумал он. — Журавли… Как тогда в юности… Сколько я отмахал? Тридцать восемь… Тридцать восемь! Седые виски. А по-прежнему все кажется, что главное впереди. Где?.. Еще не написано то, что хотел написать, еще не сделано что-то основное из того, что нужно обязательно сделать. Что?..» В его распоряжении было еще целых два года. Два года жизни. Он не знал этого. Его неистребимая энергия искала все новых и новых приложений. …А здоровье Софьи Алексеевны после родов резко ухудшилось. Пришлось отправить ее в частный санаторий в Финляндию.
ВОЖДЬ АРМИИ
Сердце отдать временам на разрыв…Где бы он ни был, ему всегда казалось, что он находится в центре жизни. И этот центр обладал способностью перемещаться вместе с ним. Так было в Самаре, где его окружали все те же иваново-вознесенцы или же старые товарищи по подпольной работе: Батурин, Волков, Заботин, Фурманов, Наумов. Так было еще раньше, в сибирской ссылке, где вдруг очутились все те же ивановцы. Так было в Минске. А в Туркестан словно бы переехали вслед за Фрунзе все его знакомые: и Любимов с женой, и сестры Додоновы — Анна и Мария, и те, с кем отбывал сибирскую ссылку. Так было и на Украине. Теперь центр его жизни вдруг переместился в Москву, И рядом, как по волшебству, очутились все старые товарищи. На дверях московского кабинета Фрунзе появилась дощечка: «Заместитель председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам». Всякий раз он смотрел на дощечку с удивлением, словно надпись имела отношение не к нему, а к кому-то другому, постороннему. По совместительству он исполнял также обязанности начальника штаба РККА, начальника Академии Генштаба, уполномоченного Народного комиссариата по военным и морским делам СССР при Совете Народных Комиссаров РСФСР. Недавно его наградили вторым орденом Красного Знамени. За успешную ликвидацию бандитизма на Украине. На очередном пленуме избрали кандидатом в члены Политбюро ЦК. Исполком Коминтерна в признание заслуг Фрунзе в международном рабочем движении избрал его своим членом. Товарищи тоже как-то сразу обрели масштабность: Исидор Любимов, например, стал наркомом легкой промышленности; Андрей Бубнов — начальником Политического Управления РККА; Тухачевский — заместителем начальника штаба РККА; Гусев — секретарем Центральной Контрольной Комиссии и членом коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции; Феликс Кон — секретарем Исполкома Коминтерна; Бела Кун — членом Президиума ВЦИК; Валериан Куйбышев — председателем ЦКК и Наркомом РКИ. Ну а Дмитрий Фурманов после опубликования «Чапаева» вдруг выдвинулся в первые ряды литературы, стал знаменитым писателем. Он писал не только о Чапаеве, Батурине, Андрееве, но и о Фрунзе. Странно было читать о себе как о герое литературного произведения.В. Маяковский
«Федор посматривал сбоку на Фрунзе и недоумевал, откуда у него эта ясность понимания в военном деле, отчего он так верно все схватывает и ни перед какими вопросами не встает в тупик. Ему все понятно, он тут совершенно легко разбирается, все учитывает, предвидит, — что за черт! А ведь давно ли был гражданской шляпой? Уже в те дни, на первых порах командования Фрунзе, сказались в нем четко эти особенности, его характерные черты: легкость, быстрота, полнота и ясность понимания, способность к своевременному и тщательному анализу и всестороннему учету, уверенный подход к решению задачи и вера, колоссальная вера в успех, вера не пустая — обоснованная…»— Не знал, Митяй, что у тебя способность писать характеристики, — в штаб усадил бы, — сказал Михаил Васильевич в сердцах. — Я на тебя всегда писал короче, без захваливания. И то для начальства. А ты ославил меня на весь свет. А книга хорошая, партийная!.. Книга произвела сильное впечатление: Михаил Васильевич перечитал ее несколько раз, порадовался за Фурманова. Не знал, что Фурманов задумал новую: «Фрунзе». И еще: «Эпопею гражданской войны» и «Ткачи» (про ивановских ткачей — «не по Гауптману, а по Ленину»). Перевод Фрунзе в Москву не был просто повышением по службе. Все началось с указания Ленина: в армии неблагополучно, нужно произвести обследование частей. Создали специальную комиссию. В нее вошли Фрунзе, Сталин, Ворошилов, Гусев, Орджоникидзе и другие ленинцы. И тут открылась жуткая картина: Красной Армии как организованной, обученной, политически воспитанной и обеспеченной мобилизационными запасами силы в настоящее время нет! Красная Армия небоеспособна, она на грани развала. Страна к обороне не готова… В чем причина? Причин, конечно, было много. Длительная война, разруха, плохое снабжение. Сыграли свою зловещую роль и ставленники Троцкого, которые преследовали и изгоняли из армии всех, кто не хотел идти за Троцким, вели линию на отрыв армии от партии. Аппарат управления армией был дезорганизован. Сказалось отсутствие твердо установленной системы прохождения воинской службы. И конечно же, техническое оснащение Красной Армии не соответствовало требованиям времени. А оснастить ее не представлялось возможным без тяжелой индустрии. Значит, нужно браться за все сразу… Работа комиссии была прервана трагическим событием: умер Ленин! Фрунзе стоял в почетном карауле у гроба Ильича. На фронтах Михаил Васильевич привык к смертям, там жизнь казалась эфемерной, необходимой для какого-то одного волевого акта. Он видел много смертей, никогда не щадил и себя, не прятался за спины других. То было презрение к смерти, которое легче воспитать в тысячах бойцов личным примером. За это его очень часто ругали. Кто-то осведомил Ильича о том, что произошло в Решетиловке. Ленин вызвал Фрунзе в Москву и здесь отчитал при всех членах ЦК. А потом потеплевшим голосом произнес: «Берегите себя. Очень прошу. Нельзя же так…» Теперь, у гроба, Фрунзе смотрел на восковой мертвый лоб Владимира Ильича, и рыдания душили его. Человечество потеряло величайшего мыслителя. Фрунзе потерял не только учителя, не только друга, но и человека, который один был для него на всю жизнь самым выверенным компасом революции — ее дыханием, ее воплощением. Личная утрата значит много. Но каким словом назвать вот эту утрату, с какими человеческими бедствиями можно сравнить ее?! Пролетариат потерял отца… Ленин умер. Но мозг революции не угас: он по-прежнему приводит в движение миллионы, он в каждой строке ленинских работ. Существует, живет, борется детище Ленина: Союз Советских Социалистических Республик… И здесь, у гроба Ильича, он нашел то слово, которое давно искал, когда пытался определить стратегию и тактику пролетарской борьбы: ленинизм! Как жить и работать без его руководства? Кто сможет его заменить?.. Равных ему по гениальной глубине ума, по способности видеть далеко впереди нет… И впервые на Фрунзе навалилось что-то неиспытанное раньше: он вдруг с поразительной четкостью понял: человек смертен! Разумеется, эта азбучная истина была известна ему и раньше. Но как передать то ощущение, когда знаешь, что больше не увидишь ласкового прищура глаз Ильича, не увидишь его бодро расхаживающим по кабинету, во дворе Кремля, на улицах Москвы?.. Человек уходит навсегда. И только один раз. Он оставляет идеи, дела, но уносит человеческое тепло, то тепло, которое согревало голодную, холодную, оборванную страну… Глаза Фрунзе были сухи. Он не умел плакать так, как это делают все. Внутренняя боль острей и жестче… Тогда-то Фрунзе и отозвали в Москву. Навсегда. С неохотой уезжал Михаил Васильевич из Харькова. Беспокоился, что московский климат окажется неподходящим для Софьи Алексеевны. Наверняка неподходящим… А в Москве сразу захватило обилие дел. И каждое было сверхсрочным, безотлагательным. Ленинцы сплотились вокруг Центрального Комитета, стали готовить последний удар по Троцкому и его приспешникам. Троцкого необходимо было отстранить от руководства Вооруженными Силами. Здесь ему мог противостоять Фрунзе с его военным опытом, его несгибаемостью и авторитетом у командного состава и красноармейцев. Его поставили во главе проведения военной реформы. Эту реформу он уже подготовил теоретически в своей «Единой военной доктрине», своими выступлениями на XI съезде партии и другими выступлениями с трибуны и в печати. Сейчас он лучше кого бы то ни было видел пути реорганизации и строительства Вооруженных Сил. Реформу проводит не один человек. Ее проводит комиссия. Комиссия делилась на пять подкомиссий, председателем политической был Андрей Бубнов. Фрунзе очутился в затруднительном положении. Начиналась старая история с перетягиванием каната. Только теперь за один конец каната держался Фрунзе, а за другой — Троцкий. На стороне Фрунзе были испытанные ленинцы, лучшая часть командного состава, краскомы, преданные идеям революции старые военспецы, сама сущность Советского государства; на стороне Троцкого — вся мелкобуржуазная нэпманская стихия, фракционеры, оживившиеся после смерти Ленина, «рабочая оппозиция», децисты, буржуазные националисты, бухаринцы, троцкисты, белоэмигранты и внутренние эмигранты, те из старых специалистов, которые не до конца приняли новую власть и втайне надеялись на реставрацию. Формально Фрунзе значился заместителем Троцкого, то есть лицом подчиненным, а фактически был облечен чрезвычайными полномочиями ЦК. Он возглавлял и Реввоенсовет, и Наркомат, и Генеральный штаб, и проведение военной реформы. Троцкий оказался блокированным со всех сторон; даже в военной академии, начальником которой стал Фрунзе, он не имел больше опоры. Фрунзе здесь в короткий срок навел образцовый порядок. Сам пересмотрел все программы по стратегии, тактике, военной истории, политработе. Старым специалистам объяснил: — Юлий Цезарь — хороший полководец, но в учебной программе он занимает слишком много места. Надо изучать операции империалистической войны и гражданской войны. Военные работы Ленина, Энгельса, Меринга, Клаузевица должны стать предметом пристального изучения. Академия — кузница военных кадров, центр военно-научной мысли. Отныне она будет называться не Академией Генштаба, а Военной академией РККА. При ней создаются Курсы усовершенствования высшего комсостава и Высшие военно-политические курсы. Преподавание марксизма-ленинизма в академии стало обязательным. Было реорганизовано Военно-научное общество, которое до этого влачило жалкое существование. Во главе общества стал Фрунзе. Троцкий попытался опереться на своих людей в центральном аппарате. Фрунзе доказал: поскольку армия сократилась до шестисот тысяч человек, нет нужды в громоздком центральном аппарате. Он сократил аппарат почти наполовину, изгнав из него троцкистов, скрытых меньшевиков, эсеров, кадетов, децистов, буферников и нэпманов. У Троцкого оставалась одна отдушина: военная печать. Но Фрунзе учел и эту возможность. Он поставил перед ЦК вопрос о закрытии ряда старых военных изданий, засоренных троцкистами, и о выпуске центральной газеты «Красная звезда» и теоретического журнала «Война и революция». Ответственным редактором«Красной звезды» стал Андрей Бубнов, а «Войну и революцию» возглавил сам Фрунзе. Этот журнал он тесно связал с Военно-научным обществом. В его редколлегию вошли Ворошилов, Бубнов, Сергей Сергеевич Каменев, Уншлихт. Смысл военной реформы Фрунзе видел в реорганизации Красной Армии. В такой реорганизации, которая соответствовала бы новым конкретно-историческим условиям жизни Советского государства. Содержать многомиллионную постоянную армию Советский Союз сейчас не может. Хотя бы по соображениям финансового порядка. На значительное расширение кадров постоянной армии понадобились бы колоссальные средства, которые истощили бы государственный организм. Где же выход? Выход есть: нужно определить такую систему комплектования, которая позволила бы содержать в мирное время небольшую кадровую армию и в то же время обеспечивала бы подготовку призывных контингентов без значительного отрыва их от производства. Это будет смешанная система комплектования, ее сущность — в сочетании кадровых войсковых соединений с территориально-милиционными формированиями. Территориально-милиционные части… Что это такое? Это, прежде всего, ядро — постоянный состав: командный, административный, медики и так далее; и — переменный состав, те самые призывные контингенты, которые будут проходить краткосрочные сборы… У этой системы, конечно, свои недостатки, но сейчас она единственно возможная. Наряду с развертыванием территориальных формирований необходимо создавать национальные формирования в республиках… Он думал о формированиях, об укреплении тыла и оснащении армий новейшей техникой, о необходимости введения единоначалия, о реорганизации центрального аппарата армии, об организационной структуре родов войск. — Когда фельдмаршал Гинденбург говорит, что в грядущей войне победит тот, у кого окажутся крепче нервы, он совершенно прав. Но крепость нервов теперь определяется крепостью тыла вообще, и в первую очередь устойчивостью его экономики. В грядущей войне потребуется напряжение всего рабоче-крестьянского тыла… Уже сейчас, в мирное время, необходимо создать все условия, которые обеспечили бы организацию тыла в самом широком смысле этого слова, то есть обеспечили бы мобилизацию всех сил и всех ресурсов страны. Понятие «мобилизация» следует распространить на весь тыл, на все хозяйство в целом, на просвещение, науку и вообще на все стороны жизни. О единоначалии поговаривали давно, но ни у кого не хватало духу прямо сказать: институт комиссаров сыграл свою роль, настало время упразднить его. Даже Андрей Бубнов считал, что вопрос о единоначалии «еще не стоит в порядке сегодняшнего дня». А Фрунзе заявил: — Пора упразднить! Старый военный комиссар должен превратиться в партруководителя. В руках командира можно и должно сосредоточить все руководство по линии строевой, административной и хозяйственной. Без этого дисциплину не укрепить… Троцкий мгновенно превратился в ярого противника единоначалия, пустил в ход излюбленное словечко «авантюризм». Так как он, по сути, находился не у дел, то занялся интригами против Фрунзе, пытаясь внести смуту в среду новых работников центрального аппарата. Но здесь сочувствия не встретил. Кончилось тем, что политработники и члены Реввоенсовета созвали конференцию и единодушно высказались за изгнание Троцкого из армии. Генсек Сталин горячо их поддержал. Пленум ЦК и ЦКК постановил:
«Признать невозможным дальнейшую работу Троцкого в РВС СССР».В конце января 1925 года наркомвоенмором и председателем Реввоенсовета был назначен Фрунзе. Так в сорок лет он стал во главе Вооруженных Сил Советского государства. …Он вдохновлен, деятелен, он видит каждую деталь того грандиозного здания, которое нужно возвести: Красная Армия должна стать сильнейшей в мире! Ведь в будущих военных столкновениях Советскому Союзу придется иметь против себя объединенную силу всего империалистического лагеря. Война будет не на живот, а на смерть. Вот почему он торопится. Если бы ему сказали, что в его распоряжении всего девять месяцев жизни, он все равно не смог бы сделать большего. Встает он в пять утра, а ложится за полночь. От Шереметьевской, где поселился с семьей, до наркомата идет пешком. В московском климате здоровье Софьи Алексеевны опять резко ухудшилось. Пришлось вызвать из Туркестана маму, Мавру Ефимовну. Мама — старенькая, но еще бодрая… Соню придется опять отправить в Ялту… И пока он идет по улице, мозг беспрестанно сверлят все те же мысли о перестройке. Одной численности армии, дисциплины, доблести и воинской выучки еще недостаточно для победы. Военно-техническая база слаба, нужны специальные заводы, нужен сильный флот, нужна авиационная промышленность, химическая, танковая, нужно наладить производство легких пулеметов и автоматов… Да, да, без широкой промышленной базы не обойтись… Все обязаны понять, что оборона и процветание страны теснейшим образом связаны с химической промышленностью, что государство, не имеющее мощной военной авиации, неизбежно обречено на поражение, что сейчас без танков воевать немыслимо, а следовательно, развивать танкостроение необходимо хотя бы в ущерб и за счет других родов оружия. Сквозь туманы времени он видит войну будущего. Она в значительной мере, если не целиком, будет войной машин… Исход будущих столкновений в гораздо большей степени зависит теперь от людей чистой науки, чем от командования. Всякое крупное изобретение или открытие в области военной техники может сразу же создать колоссальные преимущества для тяжущихся сторон… Сегодня у него «авиационный» день. На приеме Петр Баранов, который возглавляет Военно-Воздушные Силы. Авиационная промышленность не справляется с заказами. — Почему? — Авиазаводы не могут достать древесину, которая удовлетворяла бы всем техническим требованиям. Фрунзе с изумлением смотрит на Баранова. — Древесину? Англичане из нашего леса строят самолеты, а у нас нет древесины?.. Он звонит в ВСНХ Дзержинскому. Феликс Эдмундович возмущен: как это так нет древесины?! Сегодня же будут созданы комиссии, древесину найдут в неограниченном количестве. Не сомневайтесь! Баранов и Фрунзе едут в Центральный аэрогидродинамический институт, беседуют с Чаплыгиным, Туполевым; потом — на испытания скоростного истребителя; потом — на проводы группы самолетов, которые должны совершить первый в истории воздухоплавания перелет от Москвы через просторы Сибири в Китай и Японию. Михаил Васильевич сам проверяет оборудование самолетов, снаряжение, выясняет настроение летчиков. За перелетом красной авиации следит весь мир. Он вызывает в наркомат конструкторов-изобретателей стрелкового оружия Дегтярева и Токарева. С ними — долгий разговор. Создать такое, какого нет ни в одной капиталистической армии!.. И так каждый день. Он выезжает в округа, на маневры и учения. Сделал в академии доклад «Ленин и Красная Армия», закончил работу над книгой «Европейские цивилизаторы и Марокко». И если бы собрать все, что он написал за эти девять месяцев, то получился бы внушительный том. Он занимается добровольными обществами и спортивными организациями, выступает на конференциях комсомола. По его инициативе возникает Литературное объединение Красной Армии и Флота, членами которого стали Серафимович, Демьян Бедный, Фадеев и другие известные писатели; он помогает рождению Всероссийской студии военных художников. За год с небольшим совершилось чудо: Вооруженные Силы обрели стройность, закипела работа во всех округах, поднялась дисциплина, укрепилось материальное положение комсостава, красноармейцев стали лучше одевать, кормить (и это в неурожайный год!), им выдали одеяла, простыни, полотенца, носовые платки! Появилась «Красная казарма», которая стала не только местом обучения, но и местом воспитания — политического и культурного. А главное: намного улучшилась боевая подготовка войск, техническая подготовка командиров. Фрунзе создал широкую сеть военно-учебных заведений. Он вникал во все, учил: — Нам нужно во многом подтянуться, подучиться, приспособиться организационно, ибо только при хорошей, правильной организации труда, при рациональной организации военной учебы, при правильном налаживании всей нашей жизни, в том числе даже семейной и домашней, мы сможем двигать вперед нашу культуру, сможем развивать наше хозяйство и двигать военную учебу. Он поставил на ноги оборонную промышленность. Советский Союз перестал закупать самолеты за границей. Авиация была его гордостью. Он произвел реформу, выделил авиационные заводы в особый авиационный трест, вытребовал средства на химическую промышленность, занялся ремонтом старых и постройкой новых боевых кораблей, подводных лодок. У него была мечта о «флоте открытого моря». Целыми днями пропадал он на полигонах, где испытывались легкие пулеметы и автоматы. У него было острое ощущение собственной причастности не только к сфере военной, но и ко всему, что совершается в стране. Присутствуя на съездах учителей, врачей, инженеров и других групп интеллигенции, он чутко улавливал политическое настроение среды и радовался, когда замечал, что позиции интеллигенции изменяются в сторону все большей партийности. Ведь речь шла о культурном подъеме страны, а это дело, как он знал, было самое трудное и требовало более длительных сроков, чем, скажем, решение задач политических или военных. Культурная революция займет годы и годы. А частью массового культурного роста являлся рост литературы и искусства. В этой, еще пока трудноуправляемой стихии вовсю резвились троцкисты и бухаринцы, мутная мелкобуржуазная волна захлестывала журналы и издательства. В литературе находили пристанище все те, кто старался увести культуру с правильного пути, кто в иносказательной, а то и в прямой форме оплевывал Советскую власть. К литературе у Михаила Васильевича с давних пор было особое отношение — почти родственное. Он изыскивал время для частых бесед с «разведчиком партии в литературе» Дмитрием Фурмановым. Митяй приходил с Анной Никитичной. Софья Алексеевна ставила на стол самовар. Супруги Фурмановы оба были тесно связаны с литературной жизнью Москвы. Анна Никитична значилась председателем Пролеткульта, Дмитрий Андреевич трудился в секретариате Московской ассоциации пролетарских писателей, входил в коллегию по вопросам печати при Московском Комитете партии и вел борьбу с различными литературными группировками мелкобуржуазного толка. Его ненавидели за то, что он со всех трибун заявлял: литература — значительный участок идеологического фронта, и он должен быть взят под коммунистическое руководство. — Враги этого пошиба, как правило, крикливы, наглы, беспринципны, любят объединяться в землячества и фракции, — пояснял Дмитрий Андреевич, — они всегда требуют какой-то особой свободы для своих группок, выступая якобы от всего народа или же от молодежи, от студенчества, от деятелей искусства и литературы, от интеллигенции вообще; они обычно представительствуют от того, кто их и в глаза не видел; пишут громкие декларации, шумят на весь мир, вовлекая в сферу своих интересов людей не всегда осведомленных. Им важно создать видимость общественного мнения: мы, мол, тоже представители народа и хотим высказаться… Они сильны глоткой, казуистикой, софистикой, умением использовать формальную сторону наших демократических законов. Вы, мол, говорите о свободе слова, вот я и воспользуюсь этой свободой против вас. — С идейными басмачами разговор должен быть коротким, — отзывался Фрунзе. — Мы свободу завоевывал и не для них, а для народа. Фурманов оказался самым ярым поклонником таланта Маяковского и говорил: — Он — наш. И в прошлом, должно быть, был наш. Футуризм — только тень, которая тянется за ним. Но тень останется лишь тенью. — А как же Леф? — допытывался Михаил Васильевич. — А что Леф? Маяковский без лефов и футуризмов останется Маяковским, а что лефы и футуристы без Маяковского? Обыкновенная крикливая мелкобуржуазность, которая хочет казаться более партийной, чем сама партия. Все это — накипь на котлах революции. Я уже с ними схватывался не раз. А Маяковский — Гулливер, у которого в ногах путаются литературные пигмеи. Они всячески пытаются доказать, что это они его открыли, оплодотворили и взрастили. А его открыла и оплодотворила революция. Он — пролетарский поэт. Слова Дмитрия Андреевича заинтересовывали. Михаил Васильевич знал, какую высокую оценку дал Владимир Ильич стихотворению Маяковского «Прозаседавшиеся», и жалел, что так и не выбрал досуга познакомиться с творчеством поэта. Решил почитать. Когда Михаила Васильевича пригласили на выступление Маяковского, он пошел. В Красном зале Московского Комитета партии поэт читал свою новую поэму о Ленине. Тут все шло так, будто собралась партийная конференция, а главным докладчиком был Маяковский. После читки предполагались прения. Срывались в тишину зала необычные строки:
Пролетариат —
неуклюже и узко
тому,
кому коммунизм — западня.
Для нас
это слово —
могучая музыка,
могущая
мертвых
сражаться поднять…
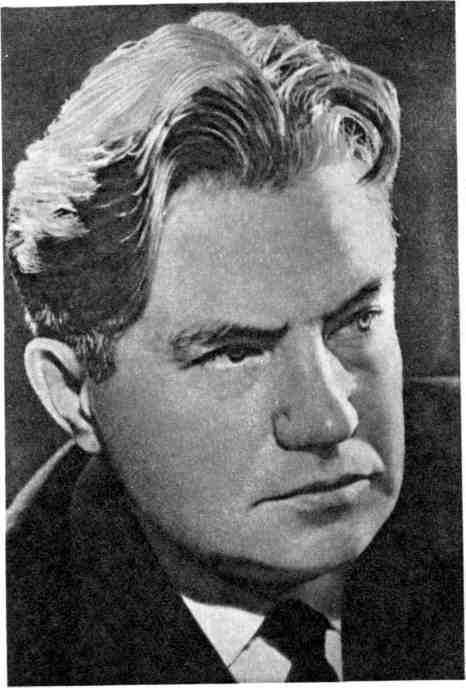
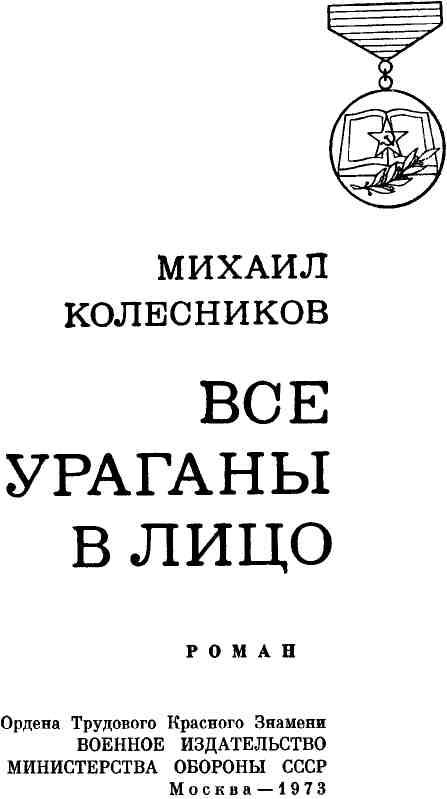
Последние комментарии
1 день 16 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 23 часов назад
2 дней 57 минут назад
2 дней 2 часов назад