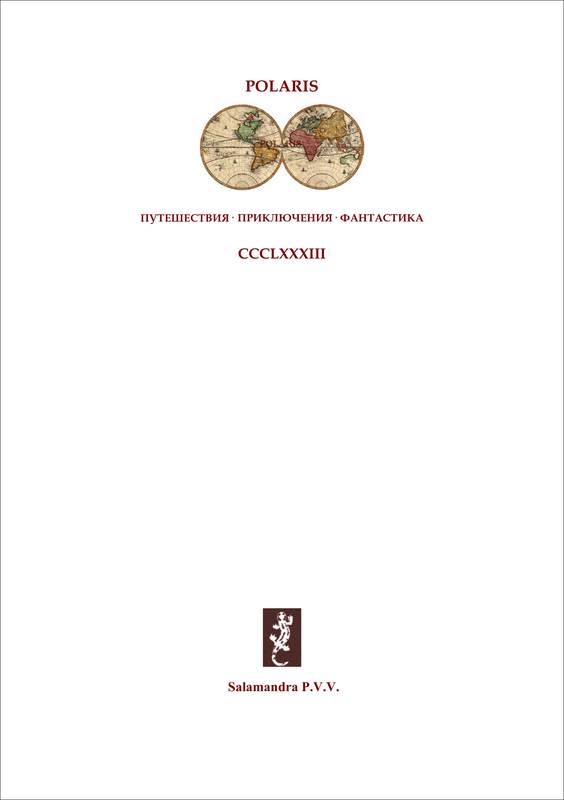
Сергей Соломин ДОКТОР-ДЬЯВОЛ Избранные сочинения Т. III
 Мертвый муж
Мертвый муж
I
Когда он вошел в мой кабинет, я сразу привычным взглядом определил неврастению в сильном развитии этой ужасной болезни. Худое лицо, постоянно меняющее выражение; глаза, то вспыхивающие неестественным огнем, то погасающие, мутные, мертвые глаза, согнутый стан, неверная походка и неспокойные руки. Знаете ли, что это такое? Руки ни на одну минуту не остаются спокойными, а постоянно двигаются, меняют положение, делают тысячи ненужных, даже нецелесообразных движений. Расспросы и осмотр только подтвердили мой первый диагноз. Типичная форма неврастении при довольно сильном расстройстве внутренних органов. Расширение сердца, желудочно-кишечный катар, увеличенная печень, начинающийся склероз почек. Я назначил общее укрепляющее лечение, прописал тоническое средство для сердца, внушил необходимость диеты и нормального образа жизни. Больной ходил ко мне два раза в неделю и, видимо, исполнял точно мои предписания. Чуда, конечно, не совершилось, но улучшение состояния было заметно. Установился тон сердца, беспорядочность в управлении нервной системой начала переходить в правильное отправление всего сложного механизма и твердая власть центрального органа — мозга — уже давала себя чувствовать. Больной ободрился и стал смотреть на окружающее менее мрачно. Та ужасная бездна, которую называют внутренними органами, кровеносной и лимфатической системой, бездна, из которой исходят настроения человека, то радостные, то доводящие его до мысли о самоубийстве — успокоилась, и больной стал освобождаться от демонов самоотравления организма. Наконец, я с уверенностью смело сказал больному, что он на пути выздоровления, что органы восстанавливаются. Он, видимо, обрадовался, горячо меня благодарил, с полудетской болтливостью рассказал мне, как он по утрам чувствует прилив сил, как около него всегда сидела большая, серая гадина в виде летучей мыши, сидела и отряхивала с себя серую пыль и оттого кругом все было мрачно, серо, а теперь эта гадина ушла и глаз вновь ощутил радость зрительных ощущений от веселых красок жизни. Он был немножко литератор и любил выражаться на языке символистов, определяя свое самочувствие. Между прочим, сообщил он мне, что ждет с нетерпением приезда своей молодой жены, гостившей у бабушки. — Я ее встречу без этой серой гадины, которая сидит рядом и отряхивается. И, полный радостных надежд, он ушел, сказав, что визит его последний, если не случится что-нибудь особенное. Но через две недели я опять увидел его в своем кабинете. С погасшими глазами, с дергающимися руками, с беспрерывным дрожанием левой ноги, положенной на правую. И, казалось, серая, отряхивающая пыль гадина сидела тут же, около него. — Что с вами? Он конфузливо огляделся кругом. — Есть вещи, доктор, о которых говорить трудно, очень трудно. Неловко, знаете. И притом, это так интимно, этого нельзя выносить наружу… — Поступайте, как хотите, но помните, что мы, доктора, свято соблюдаем врачебную тайну. Больной начал говорить. Туманно, несвязно, прибегая к литературным оборотам, параллелям, метафорам… Я скоро догадался, в чем дело. Не в первый раз приходилось мне быть исповедником роковой тайны неврастеников. Его надежды на жизнерадостную встречу жены не оправдались… Здесь врач подходит вплотную к тем граням, где требования науки сталкиваются с властными требованиями жизни. Как врач, я мог посоветовать лишь одно: длительный курс лечения, восстанавливающий здоровье, при условии душевного покоя. Как человек, как мужчина, я понимал, что в иных случаях лучше разжечь свечку жизни с двух концов и быстро сгореть в иллюзии искусственной силы и бодрости. Хоть день, да мой! Больной с нежной организацией нервной системы, весь трепет, весь порыв при обанкротившемся организме, внушил мне жалость и я совершил профессиональное преступление: дал ему искусственную молодость и страсть.II
Я получил приглашение приехать на дом. Меня встретил мой пациент, чем-то огорченный, но с сияющими звездами-глазами, весь точно на пружине, точно змея, ставшая на хвост. Я знал причину этого нервно-возбужденного состояния: ведь я давал ему этот огонь, на котором он сгорал медленно, но верно. — Я пригласил вас, доктор, потому, что верю в вас. Моя жена больна, то есть не то чтобы больна, но, очевидно, нервное расстройство… Никогда я не забуду первого впечатления от встречи с этой женщиной. Она полулежала на кушетке и заговорила со мною томным, усталым голосом. — Напрасно муж беспокоился. Я вовсе не больна. Так, нервы шалят. Я добросовестно, как врач, ее исследовал и, действительно, нашел только повышенную чувствительность в этом дивном по силе и здоровью организме. Она была молода и изумительно красива. Но это все не то… Вся она полна женственного обаяния, словно лучи исходят из ее тела и сквозь одежду проходят и образуют около нее ореол, то астральное свечение, о котором твердят оккультисты. И одного малейшего прикосновения было достаточно, чтобы подпасть под власть той силы, которую нельзя определить грубым, пошлым, научным языком, языком, всегда циничным своею определенностью, но не выражающим существа. Я сразу почувствовал, что люблю ее, люблю давно, хотя вижу в первый раз. Не знаю, поняла ли она тогда то впечатление, которое произвела на меня. Вероятно, нет. В ней не было ни тени кокетства и без ее воли излучала она флюид молодости и еще не развернувшейся страсти. Она была безмерно щедра, потому что была богата еще не использованными силами. С этого дня начались мои муки. Я любил все сильнее, страсть поглощала меня, затягивала с головой в омут бесчестных мыслей, которые являются у мужчины, когда он любит замужнюю женщину. Муж не ходил уже ко мне в приемные часы, а я ездил на дом к нему три раза в неделю, чтобы вводить в кровь этого полуразрушенного человека бодрящий яд, дающий ему иллюзию молодости и силы. И я видел ее. И все сильнее любил, пока любовь не обратилась в мозгу моем в назойливую идею. Я определяю это состояние так: человек смотрит в широкий конец суживающейся трубки и видит через маленькое отверстие только одно. Все окружающее для него не существует, все закрыто стенками трубки. И я видел только ее: жену моего пациента, вся жизнь, все переживания которого зависели только от меня. Я искусственно создавал его счастье, одна мысль о котором терзала меня жестокими муками ревности. Без меня это был бы живой труп, я делал из него человека, мужчину. Будь проклято это знание, эта наука о тайнах человека, будь проклята! Уйти, бросить их, эту пару человеческих существ, этот чудовищный союз молодости, красоты и силы с мертвецом, оживленным на время эликсиром жизни. Но я не мог уйти. Я хотел видеть ее, я был бы глубоко несчастен, лишив себя возможности купаться иногда в источаемом ею флюиде женственной молодости и обаяния. А мысль, злая и преступная, работала, отравляя мозг ужасом возможности и безнаказанности… Наконец, я не устоял и впрыснул ему под кожу… да не все ли равно, какой яд ввел я в этот погибающий организм? Он слег. Я лечил его. Лицемерно, подло спрашивал о состоянии здоровья. Отвечал на тревожные вопросы жены, сам сгорая страстью к ней. Я готовил лекарство, которое скорее свело бы его в могилу… Он был ужасен мертвый. Синий, с лицом, покрытым гнойниками и черными пятнами, пускавшими отростки на лице, словно лапы паука. Страшно исхудал, а тело бугрилось злокачественными наростами… Незабываемый ужас! Позор и омерзение жертвы смерти! И это сделал я, врач, целитель недужных, которому доверяются больные, веря в науку, в чудо!..III
Я женился на вдове моего пациента. Убедить было так легко. Она, осиротевшая от внезапного, как она думала, удара смерти, искала друга, а ко мне успела привыкнуть. Может быть, повлияло и то, что я молодой, здоровый мужчина, что в самой страсти моей не было болезненного огня, а только сила мужского чувства. Мы вернулись вдвоем из церкви в мою квартиру. Траур не позволял сыграть веселую, пышную свадьбу. Клянусь, что я забыл обо всем, что было, о своем преступлении, об ужасном трупе человека, которого я устранил со своей дороги. Весь полон я был одним чувством: безумной радостью победы, достижения своей цели. Сейчас она станет моей и я упьюсь ее молодой страстью. Одурманенный чувственностью, вошел я в супружескую спальню, где уже лежала на кровати так страстно любимая мною женщина. Я приблизился. Я простер к ней руки и… Безумный, дикий крик мой огласил спальню. Ее, любимую, обнимал «он», мертвый муж, не такой, как был при жизни, а труп умершего от заражения крови, тело, отравленное мною, моими знаниями, которые употребил я на преступление. «Он» лежал рядом, самодовольно ухмыляясь распухшими губами, властно обнимал стан женщины и из гноящихся впадин блестели насмешливо его глаза… Я убежал в кабинет и в каком-то отупении чувства упал на диван. Сердце билось тяжелыми, мучительными ударами. Кровь то приливала к голове, и она словно наполнялась кипящей водой, то отливала вновь, и холод от затылка шел по спине, вызывая в теле неудержимую дрожь. Все силы разума собрал я на борьбу с овладевающим мною безумием. Несомненно, это галлюцинация. Я слишком часто видел больного, долго осматривал его труп, сохранилась фотография в мозгу. А тут совесть заговорила. Совесть? Какой вздор! Я устранил живого мертвеца, ходячий труп и стал на его место, сильный, здоровый, имеющий право жить и наслаждаться. Но что теперь подумает жена? Она, конечно, не должна ничего знать. Она, верно, придет сейчас. И она пришла в легком, шелковом пеньюаре, как водой обливающем ее дивный стан. Села на диван, около меня. Лицо встревоженное, пытливое. Что бы сказать ей? — Что с тобою, милый? Ты нездоров? — Да, представь себе: страшная спазма желудка. Вероятно, что-нибудь съел такое… — Ты принял лекарство? — Конечно, мне теперь гораздо лучше. Все пройдет. Я ведь, как страус, камни перевариваю. — А если бы ты знал, как я напугалась! Ты так страшно закричал и лицо у тебя было бледное, глаза большие-большие, словно ты увидал что-то ужасное. — Это… это всегда так бывает при внезапных спазмах. Она продолжала смотреть на меня и я прочел в глазах ее то чувство, которое властным призывом тянет мужчину к ожидающей женщине. Я обнял ее… Ужас ужасов! Между нами сидел «он», полуголый, гнилой… Я коснулся «его», омерзительного, холодного тела и быстро отдернул руку. Ясно чувствовал его тошнотворный запах тления. И «он» обернулся и глянул на меня острым взглядом, мерцающим, как светящая гнилушка. Шевельнулись отвратительные губы и в комнате раздалось гнусное, подлое хихиканье, точно кто проводил гребешком по бумаге… — Милый, ты опять побледнел? Тебе дурно? — Да… опять… спазмы… С тех пор это повторялось каждый раз, когда я приближался к жене. И мне уже нечем было объяснить свою мнимую холодность. Иногда я впадал в неистовство, самого себя обвинял в трусости, проклинал гнилой труп. Только решиться, только переступить через него! И я бросался, как зверь, к жене и сжимал ее в объятиях, но руки мои встречали холодную, омерзительную кожу, а губы касались гнилого рта. И «он» гнусно хихикал, издеваясь надо мною… Однажды я подслушал разговор жены с замужней подругой. — Мой муж чем-то болен, — говорила она, плача. Труп отомстил…«В смерти моей прошу никого не винить. Казню себя добровольно».
Убийца (Из записок врача)
…Я чувствую приближение смерти. Я знаю почти по часам, когда она наступит. Страшно быть врачом! Не раз следил я за развитием туберкулеза у своих пациентов. Знаю моменты, когда человеку кажется, что он умирает, а он еще проживет не один месяц. Знаю и это обманчивое самочувствие, веселую улыбку, быструю, возбужденную речь и глаза, сияющие радостью жизни и надеждой, почти уверенностью, что чудо свершилось и болезнь прошла. Последняя вспышка жизни, которую смерть дарит чахоточным накануне конца! Яркий летний день смотрится в окно. Жарко и душно. Все радуется, все хочет жить, изнывает в истоме страсти и горячие ласки солнца будят воспоминание о других ласках. А я вчера целый день дрожал, как в нетопленой квартире, и только сегодня я совсем, совсем здоров. Это значит, что мне не прожить и недели. Вероятно, это прекрасное состояние продлится дня два, и я успею написать то, что тяготит мою душу. Я — убийца. Да, я отравил князя Мезерского, у которого был домашним врачом около двух лет. Отравил гнусно, предательски, пользуясь доверием пациента. И чтобы не навлечь подозрения судебных властей, я отравил князя не в один раз, а постепенно, следя за разрушительным действием яда, увеличивая и уменьшая его дозы. Мне удалось и консилиум обмануть блестящим докладом о мнимой болезни, и этим идиотам даже в голову не пришло, что перед ними отравленный, что на их глазах совершается преступление. Восемь лет прошло со смерти князя, никто не подозревал убийства, родственники съели похоронный обед и с замиранием сердца ждали вскрытия завещания. Все обошлось прекрасно, не было больших споров и тяжелых обид. Имущество умершего богача поделили. И самое лучшее было бы и мне унести тайну в могилу, но что-то толкает меня перед лицом приближающейся смерти открыть людям истину. Я считал и считаю себя правым в совершенном поступке и вновь совершил бы его при тех же обстоятельствах — так говорит мой разум.Но рядом с этим прямым суждением, рядом с отчеканенной холодной мыслью, копошится чувство иное: «Ты смел лишить жизни человека! Кто тебя призвал быть судьею?» Я не в состоянии разобраться в этих колючих противоречиях сознания и предоставляю разобраться в них другим. Князь, тридцатилетний красавец, заболел роковой болезнью, которая теперь считается почти обязательной у холостых мужчин и ни в ком не возбуждает ужаса. Можно вылечиться. Да, вероятно, можно, но при условии систематического, строгого курса лечения и полного воздержания. Через пять-шесть лет врач вправе сказать: «Вы здоровы настолько, насколько это возможно в вашем положении». Но для князя было нестерпимо все обязательное. Избалованный, своевольный, он лишь короткое время способен был следовать советам врача. Сначала испугался, больше за свою наружность. — А что, если испортится лицо? И лечился довольно внимательно. Но когда болезнь лукаво скрылась, взялся за прежнее: бессонные ночи, легкие связи, кутежи. Заболевал вновь и опять подлечивался. Я был бессилен убедить его, что он готовил себе страшное будущее. А уже мелькали роковые признаки: разные нервные явления, легкий паралич правой ноги, мозговые паузы, что особенно проявлялось при писании в виде пропуска слов и целых фраз. В 19** году князь переехал в свое имение, и я был при нем в качестве домашнего врача. На время он поправился. Стал вести здоровый образ жизни, ходил на охоту, объезжал свое обширное хозяйство. В середине лета князь познакомился с семейством небогатых помещиков и зачастил туда чуть не каждый день. Сначала я не обращал особого внимания на это новое развлечение моего пациента. Все же это было лучше вечеров, проводимых с кокотками, и игры в рулетку. Князь не говорил со мной о новых знакомых, только раз, вернувшись оттуда на шарабане, он, подъехав к дому, кинул вожжи конюху и, увидя меня, разоткровенничался: — Какая девушка, mon vieux[1], какая девушка! Я тогда не обратил на это внимания, но через несколько дней князь показал мне кабинетный портрет блондинки. Была она одета в малороссийский костюм, на голове цветы, волны светлых волос, глаза большие, с ребячьим выражением, — словно по-детски говорят: «Ох, как хорошо жить, но, кажется, есть еще что-то, что совсем скрасит жизнь». Что может быть прелестнее этой не познавшей себя, не выявившейся страстности молодого здорового существа! Князь следил, какое впечатление произведет на меня портрет, и самодовольно улыбнулся. — Ага! И вы поняли, какая это жемчужина? То, что совершается близко, говоря грубо, под носом, мы обыкновенно редко замечаем, еще реже осмысливаем. И я оставался в неведении, что готовится в недалеком будущем. А оно пришло сразу, для меня внезапно: — Поздравьте меня, дорогой доктор, я помолвлен с Ниной Александровной. По привычке ответил: — Поздравляю! Даже пошутил: — Что же вы меня не пригласили пить шампанское? — Погодите! Все это случилось вдруг, так неожиданно. Берсеневы завтра приедут к нам всей семьей. Клянусь, что, кроме любопытства засидевшегося в деревне человека, кроме желания увидеть новых людей, у меня никаких ощущений не было. Я спокойно лег спать и наутро приказал слуге вынуть из чемодана новый летний костюм, приготовить новые ботинки. И в это утро я мылся и брился тщательней, чем обыкновенно. Только всего. Часа в два подъехала коляска, старомодного фасона, запряженная четверней саврасых, давно отслуживших срок лошадиной службы. В дом явились гости: старик с белой бородой и длинными седыми волосами локонами, под фигуру шестидесятника, и маленькая толстая женщина с наивно-любопытными глазами, женщина-тумбочка. А с ними она, портрет которой показывал мне князь, — девушка, цветущая здоровьем, еще лучше, чем я думал. Вся свежая, чистая, нетронутая. Вся, ожидающая еще не сознанных ощущений жизни. Но уже искрятся невинным еще кокетством молодые глаза и разгораются звездами, когда смотрят на жениха. Я, по природе бобыль, и тогда уже привык видеть чужое счастье и не мечтать о своем. Я не завидовал, — напротив! Вид этих двух, жениха и невесты, красивых, молодых, увлек меня изяществом иллюстрации человеческих переживаний. — Красивая пара! Конечно, на меня легла обязанность занимать стариков, а молодые пошли гулять в парк. Потом и я повел отца и мать невесты осматривать оранжереи, грунтовые сараи, угощал их фруктами, слышал охи и ахи по поводу роскоши княжеской жизни от маленькой толстушки и презрительно-демократическое молчание «шестидесятника». Усадил, наконец, стариков за сотовый мед. Ели они его с хлебом, и я подивился: во что же будут обедать? Пока продолжалось священнодействие, пошел побродить по аллеям сада и набрел на китайскую беседку. Сам не знаю, зачем толкнул дверь и вошел. Князь обнимал девушку. Я видел, как под его рукой трепетала ее высокая грудь. И всем станом жалась она к нему. Головы их сблизились в напряженном поцелуе. Они любили и наслаждались без слов. Первое мое движение было: скорее уйти. Но сейчас же точно ударило по голове, замутилось в глазах, мысль заработала быстро-быстро. Ведь он больной, поражен ужасным недугом. Его бледное, изящное лицо, эта матовая щека, перерезанная завитком черного уса, силой воображения сделались багрово-красными, омерзительно израненными. И рука его, с длинными, отточенными ногтями, лежащая на высокой груди девушки, обратилась в болезненный, изрытый ядом недуга бугор. Я вскрикнул от нахлынувшего ужаса. Пара разлучилась, и оба обернулись ко мне. Невинное, разгоряченное лицо девушки залилось краской стыда. Князь отшатнулся. — A, mon vieux, и у вас сердце не камень!.. До отъезда гостей ничего не говорил, ночью пошел к нему в спальню. Горячо убеждал, объяснял все ужасные последствия для женщины и ребенка. А он с самодовольной усмешкой слушал меня, закинув руку за голову, а в другой держа сигару, с которой изредка отряхивал пепел длинным ногтем мизинца. — Да вы не влюбились ли сами, mon vieux, в Нину, что так горячо проповедуете мне монашеский образ жизни? Но, увы! шансы ваши невелики! — Князь, это подло, наконец. Вы больны, вы только что избавились от рецидива впрыскиванием ртути. Жениться вам сейчас — безумие, больше того — преступление. — Вы преувеличиваете, mon vieux! Кто не болел этой болезнью? У кого она не числится в формулярном списке? И все женятся, имеют детей и никаких ужасов, которыми вы меня пугаете, не происходит. Он не хотел меня слушать, он издевался, насмехался надо мною, над наукой. И я ушел от него негодующий, оплеванный, осмеянный. Лег спать. Образ молодой, здоровой девушки преследовал меня. Наивное, милое лицо, вопрошающие глаза, высокая грудь и широкие бедра, и около нее вьется, скользит, всю втягивает в себя омерзительный спрут. Плохо спал я эту ночь в кошмарных переживаниях. Что делать? Как спасти невинное, чистое существо? Пусть меня лишат практики навсегда: нарушу присягу — тайну врача, пойду к родителям Нины, все расскажу. Но вспомнилось, как оба старика ели мед с хлебом, как ахала толстушка. Вспомнилось, что Берсеневы кругом должны и осенью грозит продажа имения. Разве их убедишь? Разве они поймут? Только убить, только убить — один исход. И я стал отравлять отравленного и следить за угасанием жизни зараженного.
Доктор-дьявол
I
Жители большого университетского города N-ска были страшно потрясены таинственными случаями, повторявшимися за последние полтора года. Бесследно исчезали молодые люди, преимущественно из студентов. Насчитывалось уже семь человек, без вести пропавших. Общественное мнение обвиняло полицию и следователя в бездействии и неумелости. Но это была неправда. Необъяснимые исчезновения обратили на себя внимание и в столице, откуда неоднократно предписывалось произвести строжайшее расследование. Наконец, в N-ск был командирован опытный сыщик. Были пущены в ход все тонкости сыскного дела. Прибегли и к помощи дрессированных собак. Все усилия, однако, оказались тщетными. Местная газета подробно разбирала в своих статьях всевозможные предположения и признала, что ни одно из них не объясняет вполне таинственных случаев. Исчезнувшие все были людьми здоровыми, жизнерадостными. Никаких душевных драм они, по-видимому, не переживали. Поэтому сама мысль о самоубийстве казалась невероятной, даже смешной. Наконец, почему никто из них не оставил посмертной записки? Следователь бесцельно отрицал самоубийства. Все свидетели в один голос утверждали, что накануне исчезновения молодые люди ничем не обнаруживали мрачного, угнетенного состояния духа. Это подтверждали родители и знакомые, товарищи. Проще всего было бы предположить убийство, но неужели во всех случаях преступникам удалось совершенно скрыть всякие следы? Куда девались трупы? Если все-таки это убийство, то по каким мотивам? Из мести? Из ревности? С целью грабежа? Но следствие не дало никаких доказательств, что убийцами руководил один из этих поводов. Предполагалось и похищение… Но с какой целью? Правда, двое из молодых людей были сыновьями богатых родителей. Но последние не получали писем с требованием выкупа, как обыкновенно практикуется в подобных случаях. Не уехали ли исчезнувшие сами и тщательно скрывают свое местопребывание? Конечно, это возможно, особенно среди пылкой, увлекающейся молодежи. Но исчезнувшие были людьми с совершенно различными характерами, убеждениями и привычками. И, притом, далеко не все знакомы друг с другом. Пропал, между прочим, молодой механик с завода, совершенно не имевший ничего общего со студентами, особенно — богатыми… Следователь все-таки допускал, что молодых людей увлекла какая-нибудь шайка анархистов или экспроприаторов. Чего не бывает по нынешнему времени?! Но ни малейших доказательств самое тщательное следствие не дало и для этого предположения. Для всех ясно было одно: в судьбе исчезнувших есть что-то общее. И если это преступление, то совершено одной рукой или одной шайкой. Газета, впрочем, не допускала, чтобы преступник имел сообщников. «Повторяющиеся таинственные преступления обыкновенно совершаются одним лицом. Именно при этих условиях убийца становится неуловимым. Вспомните Джека-Потрошителя». «Пусть так, — отвечала другая газета, — но где же трупы? Джек их оставлял». Постепенно общественное мнение, как всегда это бывает, стало забывать об этом и занялось другими интересами. Уже около полугода новых исчезновений не было. Власти и обыватели г. N-ска готовы были предать все дело на волю Божию, как вдруг исчез сын соборного протоиерея, семинарист старшего класса Генерозов. Молодой человек был известен среди товарищей своей необыкновенной силой и чудным, бархатным баритоном. Его уговаривали учиться в консерватории и пойти на сцену, приглашали на домашние и любительские концерты. Все любили юношу за скромный, милый характер. А красивая наружность создала ему массу поклонниц. О физической силе Генерозова ходили целые легенды. Рассказывали, что он, встретив в глухом переулке пятерых хулиганов, которые на него напали, всех их оглушил ударом. Потом сходил в лавку, купил веревку и, вернувшись, перевязал хулиганам руки и ноги и, наконец, связал вместе. Так их и нашла полиция. Генерозов смеялся: — Я из них сделал букет. И вот этот всеми любимый юноша исчез бесследно, как и другие, и общественное мнение заволновалось и громко требовало найти виновного.II
— Неужели нет никакой надежды? Я не пожалею сотен тысяч… Шугаев поднялся на постели, растерянно-испуганным взглядом впиваясь в лицо доктора. Кто узнал бы теперь известного миллионера, державшего во власти своего капитала целый заводской округ с десятками тысяч рабочих и служащих? Он, перед кем лебезили и унижались, теперь сам просил, умолял, готов был целовать руки своему домашнему врачу, Хворостинину. И как жалок был теперь этот богач с худым, дряблым телом, покрытым липким потом, с серо-землистым лицом и темными кругами вокруг глаз. — Доктор, помогите! Бога ради! Я все готов сделать! Крупные слезы скатились по щекам Шугаева. — Стыдитесь! — сухо и резко ответил врач. — Будьте мужчиной. Я вас предупреждал вовремя. У вас уставшее, ожиревшее сердце, слабые легкие, желудок не в порядке, увеличенная печень, склероз сосудов. Но все бы это еще ничего. Почки, почки окончательно отказываются работать! Когда вы заболели полгода тому назад, я говорил: «Измените весь образ жизни, станьте на положение тяжелобольного, — и на несколько лет я ручаюсь за ваше здоровье». Вы получили грозное предостережение. Вы испугались тогда, стали лечиться, ездили за границу. Врачи поставили вас на ноги. Все удивились, какой богатый запас сил еще хранится в вашем организме. Как же вы использовали почти чудом возвращенное вам здоровье? Опять вино и женщины! Бессонные ночи! Наконец, эта связь с красивой авантюристкой… — Ах, доктор, если бы вы знали, какая это женщина! — Вот видите! Даже сейчас, когда дни, часы ваши сочтены, вы не можете забыть о ваших развлечениях, которые вам теперь недоступны. Минутное возбуждение, охватившее миллионера при воспоминании о своей последней любовнице, сменилось полным упадком сил. Шугаев, задыхаясь, весь в поту, метался на постели и простирал худые руки к кому-то невидимому за помощью. Хворостинин покачал головой. — Мы созывали уже два консилиума. И оба признали, что возможно отсрочить на неопределенное время роковую развязку. Главное условие: покой! А вы нервничаете, волнуетесь. — Отсрочка! Медленная смерть! А Лида! Я жить хочу, любить! Я не пожалею целого состояния… — Не все можно купить за деньги. Медицина не знает чудес. Но улучшение возможно. Проживете и два года, и больше. — Хорошо утешение! Если так, я согласен лучше на операцию. Пусть я умру под ножом, но есть ведь и маленькая надежда вновь стать человеком. — Операция в вашем положении невозможна. Нельзя вырезать обе почки. С чем же вы останетесь? Шугаев пристально посмотрел на своего домашнего врача. — Даете ли вы мне честное слово, что разговор наш останется тайной? — Я — не сплетник! — За границей я встретил одного миллионера. Он находился в таком же положении, как и я. Врачи приговорили его к смерти. А теперь он совершению здоров. Узнав, чем я болен, он под большим секретом сообщил мне, что его спас наш N-ский врач, Малевский. Делал ему какую-то операцию. И он воскрес. Отчего вы не пригласили Малевского на консилиум? — Он никогда не ездит на дом. У него больница. Остальное время занимается в своей домашней лаборатории. — Все же я попробую ему написать. Помогите мне… Я так ослабел… Хворостинин отправил письмо Шугаева, написанное дрожащим почерком, и на следующий день, к изумлению, Малевский явился. Он пожелал остаться с больным наедине и, проведя в спальне около часа, вышел, наконец, в залу. Хворостинин ждал его с нетерпением. Малевский считался специалистом по внутренним болезням. — Ну, что, коллега, вы, конечно, подтверждаете мнение консилиума? — Не совсем. Положение больного крайне тяжелое. Но я считаю возможной операцию, разумеется, с известным риском. — Как? Операцию? Но ведь поражены обе почки? — А я разве сказал, что хочу их вырезать? — Но тогда… в чем же операция? — Об этом позвольте мне не распространяться. Я считаю преждевременным обнародовать некоторые мои научные открытия. Разумеется, я предупредил Шугаева, что риск очень велик. Но он согласился. — Вы будете делать операцию у него на дому? — Ни в каком случае! Он должен приехать ко мне, в мою частную лабораторию. К сожалению, я не могу допустить вас в качестве ассистента. «Дьявол! — мелькнуло в голове Хворостинина. — А уж я добьюсь правды и узнаю, какую операцию, неизвестную в медицине, собираешься ты сделать этому полумертвому миллионеру».III
В глубине усадьбы загородного дома Малевского стояло среди густых деревьев здание странного вида. Окна всегда были плотно закрыты железными ставнями. Никто из ученых собратий не мог похвастаться, что видел внутренность лаборатории. Кроме самого Малевского, там бывал только глухонемой сторож Василий, от которого никто не мог ничего добиться. В тот вечер, когда привезли сюда Шугаева, стояла бурная осенняя погода. Облака неслись клочьями по небу, то открывая, то закрывая луну. Шумели деревья, уже потерявшие листья. Пронзительно свистел ветер, налетая на таинственное здание. И если бы кто-либо следил в эту страшную ночь за садом Малевского, то в момент, когда сквозь тучи пробился лунный свет, он увидел бы тихо крадущуюся между деревьями тень… В огромной комнате под куполом стояло два операционных стола. На одном лежало худое, дряблое тело миллионера Шугаева, на другом — цветущее, розовое тело какого-то молодого человека. Оба пациента находились в бессознательном состоянии, но, по-видимому, не были хлороформированы: на лицах их не было масок. Операционные столы освещались огромными рефлекторами, от которых лились потоки синеватого света. Тишину нарушало лишь жужжание, исходившее от осветительных приборов. Доктор Малевский, весь в белом, оперировал Шугаева. Вот он запустил руку в один из двух широких разрезов над поясницей, вынул ожиревшую, потерявшую обыкновенный вид почку и небрежно бросил ее в тазик, где уже в крови лежал такой же обезображенный орган. Высокая белая фигура неслышно, как привидение, передвинулась ко второму операционному столу. Лицо Малевского исказила сатанинская улыбка, и он сказал громко, так что слова его отдались в сводах комнаты: — Несчастная жертва! Все испытавший, развратный капиталист воскреснет и будет вновь наслаждаться всем, что можно купить за деньги. А ты, еще только начавший жить, погибнешь в расцвете сил. Ромуальд Малевский — владыка над жизнью и смертью! Он занес блестящий нож и погрузил его в упругое, розовое тело. Кровь полилась ручьем и обрызгала белый халат врача-дьявола. Но в то же мгновение раздался сильный треск и с высоты купола посыпались стекла. Грянул выстрел, другой. Около сада затрещали полицейские свистки. Внутрь операционной комнаты на веревке на блоках, служившей для какого-то приспособления, быстро спустился домашний врач Шугаева, Хворостинин, и схватил за руку Малевского. Двери громил полицейский отряд. Малевский извивался, как змея. Глухонемой идиот бил Хворостинина чем-то тяжелым по голове. Наконец, Малевскому удалось вырваться. Он подбежал к стене и повернул рычаг. Синий свет погас. По диковинным осветительным аппаратам сверкнули молнии. В соседнем помещении раздались один за другим взрывы… Полиция ворвалась. Малевский был арестован. Одним из лежащих на операционном столе оказался Генерозов. Рана, нанесенная ему Малевским, не угрожала жизни. Миллионер, у которого были вырезаны обе почки, умер в страшных мучениях через несколько часов.На допросе Малевский вел себя спокойно и объяснил все, словно читал лекцию студентам. — Я думаю, что обойдусь без вопросов и сумею удовлетворить ваше любопытство. Я ведь знаю, что нужно вам, жалким трусам жизни. Я открыл способ пересаживать органы из одного организма в другой. Если бы мне не помешали, Шугаев был бы жив и пользовался здоровьем, а труп Генерозова я сжег бы в крематории, который у меня устроен в конце здания. Я зарезал всех исчезнувших молодых людей, чтобы их здоровыми органами обновить и воскресить жизнь богачей. Они наслаждаются жизнью. Имен их я не назову. Они сами не знают, какой ценой я их спас. Они живут с чужими почками и думают, что я их вылечил. За эти операции я брал огромные деньги. Я сам тоже миллионер. Синий свет тоже мое изобретение. Он способствует почти мгновенному заживлению, восстанавливает сосуды и протоки. Вы никогда не узнаете моей тайны — взрыв истребил все. Что мне сказать вам еще? Что вы меня осудите, что вы готовы растерзать меня, что вы считаете меня за неслыханного злодея? Жалкие слизняки, копошащиеся в навозе черви! Разве вы в состоянии понять жизнь? Прощайте, добродетельные мещане! Будьте вы прокляты! Малевский поднес руку ко рту, что-то проглотил и через мгновение рухнул на пол безжизненной массой.
Роковая страсть
I
В доме князя Корибут-Ольшанского письмо дяди из Австралии произвело страшный переполох. Двенадцать лет тому назад, когда князь был еще совсем молодым человеком, этот дядя, разорившись на разных предприятиях, уехал в Америку искать счастья. Года два от него приходили письма, а потом он замолчал и родственники думали, что он умер. Вот что значилось в письме: «Дорогой племянник! Австралия дала мне то, что не дала ни родина, ни Соединенные Штаты: я нажил около миллиона фунтов стерлингов. Чувствуя, что мне осталось недолго жить, я обратил все свое состояние в капитал, который желаю при жизни передать старшему в роде князей Корибут-Ольшанских, то есть тебе. С меня достаточно небольшого капитала и моей любимой фермы, на которой я окончу дни свои. Однако, непременным условием получения наследства я ставлю твой приезд с женой (уверен, что ты женился) ко мне, в Австралию. Хочу вас обоих видеть и обнять… Известите меня о вашем решении каблограммой. На все расходы прилагаю чек в 10.000 фунтов. Любящий тебя дядя Франциск».Неожиданное получение наследства было как нельзя более кстати. Дела князя Корибут-Ольшанского сильно пошатнулись и огромному родовому имению, «Ольшанке», грозила продажа с аукциона. Но, с другой стороны, поездка в Австралию представляла непреодолимые затруднения. Князь только что оправился от опасной болезни, был еще очень слаб; опасались, что разовьется порок сердца. Столь дальний переезд по океану консилиум врачей признал безусловно невозможным и угрожающим роковыми последствиями. Обо всем этом известили дядю обстоятельной каблограммой, стоившей огромных денег. Но упорный старик знать ничего не хотел и ответил: «В таком случае, пусть приедет твоя жена. Иначе лишу наследства». Князь не знал, что делать, но молодая княгиня, славившаяся своей красотой, энергично настаивала на путешествии. Ее поддержали родные и знакомые: — Океанские пароходы — верх комфорта и несчастий почти никогда не случается. Катастрофы на железных дорогах гораздо чаще. С княгиней вашей может поехать кто-нибудь из родственников. Необходимы для сопровождения пожилая дама и опытный, энергичный мужчина. Конечно, поедет и преданная прислуга. Княгиня и не заметит, как переплывете океан. С тяжелым предчувствием князь, наконец, согласился и княгиня со свитой уехала. Каблограмма известила о ее благополучном прибытии в Австралию. Пришло два письма от княгини и дяди и, наконец, новое известие по подводному кабелю о дне обратного отъезда. За время отсутствия княгини лондонский банк известил князя о переводе на его имя из Австралии 893.000 фунтов стерлингов. Следовательно, со стороны получения наследства все обстояло благополучно и княжеский род Корибут-Олбшанских вновь засиял в блеске и славе. Наконец, наступил день, когда княгиня должна была прибыть в Европу. Но телеграммы из Англии князь не получил. Не пришла она и на второй, и на третий день. В страшной тревоге князь запросил пароходную контору. Ответили глухо: «„Трафальгар“ еще не прибыл». Потянулись мучительные дни ожидания. Князь поехал в Англию и ежедневно лично справлялся в пароходной конторе. Высокий, выбритый англичанин, с сухим деревянным выражением лица, неизменно отвечал: — Никаких известий о «Трафальгаре» мы не имеем. Через месяц англичанин тем же равнодушным голосом сообщил убийственное известие: — «Трафальгар» вычеркнут из списков наших пароходов, как погибший. Князь едва не сошел с ума и два раза покушался на самоубийство. Его с трудом спасли, но вернулся он в Ольшанку совершенно разбитый и сразу поседевший. Со времени отъезда княгини Ванды из Австралии в Европу шел уже третий месяц. Никакой надежды на случайное спасение не оставалось, но в один вечер в Ольшанку прискакал младший брат князя. Выскочив из коляски, он бросился к террасе, где стоял сам князь, и, размахивая газетой, кричал: — Владислав! Владислав! Ванда жива! Князь протянул руки вперед и рухнул на пол. Но радость редко убивает и вскоре, очнувшись, он прочел корреспонденцию в газете: «Из Коломбо телеграфируют, что итальянский пароход „Этрурия“, попав в циклон в южной части Тихого океана, сбился с курса и едва не потерпел аварию у скалистых островов. С одного из них были замечены подаваемые кем-то сигналы. Когда волнение несколько успокоилось, была отправлена на берег шлюпка, которая приняла на борт двух потерпевших кораблекрушение: молодую даму и пожилого мужчину. Оба оказались пассажирами с погибшего парохода „Трафальгар“. Трудно объяснить, как это злосчастное судно могло быть отнесено в Тихий океан, но спасенный мужчина рассказывает, что пароход потерял руль и сверх того сломался гребной вал. „Трафальгар“ носило больше недели по воле ветра и морских течений, пока он не нашел гибели около скалистых островов. Спаслось только двое. Несчастные питались с трудом добываемой рыбой, раками и устрицами. Выброшенный на берег ящик с консервами спас им жизнь, по последние три дня они голодали. В общем оба совершенно здоровы».
Вторая корреспонденция гласила: «Спасенные пассажиры „Трафальгара“ оказались: польской княгиней Вандой Корибут-Ольшанской и ее слугою Яном». В ту же ночь пришла телеграмма и от самой княгини. Оба брата поехали навстречу и стали ожидать добровольца[2] «Киев» в Порт-Саиде… Князь и княгиня счастливо зажили в Ольшанке, стараясь забыть страшное прошлое.
II
Князь был очень доволен состоянием здоровья своей жены. Ванда быстро поправилась и зацвела вновь красотой. К ней вернулись прежний веселый характер и способность поднимать настроение целого общества. В Ольшанском дворце шли игры, балы, затевались пикники, поездки по Волге на собственном пароходе. Ночную темноту озаряли сотни огней и небо бороздили ракеты, рассыпавшиеся разноцветными звездами. Музыка гремела часто до утра. Но после вновь пережитого медового месяца, князь стал замечать в Ванде необъяснимые странности. Без всякой видимой причины она на некоторое время впадала в задумчивость. Лицо ее то бледнело, то краснело, волнующаяся грудь указывала на усиленное дыхание. Она сильно хотела отогнать от себя какую-то беспокоящую ее мысль и не могла, несмотря на все старания. Однажды князь, подойдя к спущенным портьерам в дверях будуара, увидел сквозь узкую щель лицо жены, застывшей в неподвижной позе. Глаза ее были тупо устремлены куда-то вдаль, губы двигались, произнося неслышные слова. Ревнивое чувство мужей, вопреки доводам рассудка, всякое необычное состояние жены готово объяснить совершившейся или готовящейся изменой. — Она шепчет чье-то имя! Мысль, заработавшая в этом направлении, уже не знает удержа и подбирает тысячу доказательств, все дальше уходя в дебри противоречий. Фактов никаких не было, и князь решил держаться настороже и следить. Со своими многочисленными поклонниками Банда держала себя одинаково любезно, допуская легкий флирт, как всякая светская женщина. «Есть кто-нибудь тайный, которого я не знаю. Муж всегда узнает последним». Возвращаясь домой вечером из города, где провел целый день, князь, еще не раздеваясь, спросил слугу: — Где княгиня? — Часа два тому назад уехали в кабриолете. — С кем? — Одни. Сами правят. — В какую сторону поехала? — По дороге к Висле. Князь пошел пешком в указанном направлении. Ему пришлось сделать несколько верст. Вот блеснула вдали и река. Ванды нигде не было видно. Вдруг он услышал справа фырканье лошади. По узкой, едва проложенной лесной дорожке, качаясь, как лодка по волнам, шагом пробирался кабриолет. «Куда это она ездила? Там только сторож живет. А, понимаю! Тайное свидание в лесу». Ванда радостно вскрикнула, увидев мужа: — Как это мило с твоей стороны, что ты вышел навстречу. Я без тебя соскучилась и поехала прокатиться. — Но зачем же ты ездила по лесной дорожке? — Я так люблю лес. Заезжала к нашему сторожу Яну. Он меня угощал клубникой и медом. Все такой же нелюдимый, страшный какой-то. «Не верь, не верь!» — шептал внутренний голос, но Ванда была так обольстительно мила, так любовно засматривала в его глаза, что нехотя верилось, и размягчалась душа, застывшая в ужасных подозрениях. Сторож Ян был тот самый слуга, вместе с которым нашел княгиню пароход «Этрурия». Вернувшись в Ольшанку, он, щедро награжденный князем, отказался от службы во дворце и просил назначить его лесным сторожем на берегу Вислы. — Что тебеза охота? Зимой с тоски умрешь! Но Ян настаивал на своем, доказывая, что жизнь на острове развила в нем любовь к одиночеству и людей он словно боится. — Да и старость пришла, пан Владислав — человеку одному надо побыть, о смерти подумать. Желание старого, верного слуги было, конечно, удовлетворено. В том, что Ванда захотела повидаться со стариком, не было ничего подозрительного. Он ее выносил малюткой вместо няньки и всю жизнь служил, как цепная собака, своей госпоже. Князь временно успокоился, но у Ванды опять начались припадки меланхолии и подозрения мужа возобновились. Он унизился до шпионства и избрал своим доверенным слугу Стася. Сам же стал чаще уезжать в город. Каждый раз Стась доносил, что княгиня ездила в его отсутствие одна в лес, куда за ней проник и Стась. Ян привязывал лошадь и оба удалялись в сторожку, где, запершись, с закрытыми окнами (занавески тоже были спущены), проводили часа полтора. После этого княгиня выходила, провожаемая Яном, и садилась в кабриолет. — И пани казалась мне очень веселой, — добавлял Стась с гаденькой улыбкой. — Что же ты обо всем этом думаешь? — Разве я могу судить панские дела? Пани ездит к Яну — значит, так нужно пани. Надо было остановиться, но князя сильно подмывало задавать дальше щекотливые вопросы. — Ты, кажется, подозреваешь что-то дурное? Но ведь Ян — старик. — Какой же он старик, когда, до отъезда за границу с пани, ходил в деревню к солдатке. Обнаглевший Стась хихикнул. — А теперь на нее, на солдатку, и смотреть не хочет…III
— Отчего ты ездишь к Яну только в мое отсутствие? — Мне без тебя скучно. А для старика большая радость, он меня так любит. — Отчего ты никогда не возьмешь меня с собою? — Поедем. Но, предупреждаю, соскучишься. Старик откровенен только со мною. При тебе он насупится и будет молчать. Все выходило так просто, естественно, но ничего не разъясняло, и ревнивая мысль искала новых удостоверений. Князь решил выследить Ванду сам. Сказав ей утром, что уезжает в город, он остановился на первой станции, оставил там лошадей и вернулся пешком. Забравшись в чащу леса около сторожки, князь стал терпеливо ждать. Время тянулось мучительно долго. Наконец, послышалось фырканье лошади и веселый окрик Ванды, сдерживающей порывы красивого и статного жеребца, рвущегося перейти в большую рысь. Вышел Ян и помог сойти Ванде. Через минуту княгиня и слуга скрылись в сторожке. Князь выждал около получаса и подошел к домику Яна. Занавески на окнах, действительно, были спущены. Заднее окно, выходящее к реке, было забито ставнем. Князь подкрался и приложил глаз к щели. Нет, и здесь занавес. Зато до него довольно явственно долетали голоса. — Как вкусно! — Кушайте пани, кушайте на доброе здоровье! — Дай еще кусочек. — Постойте, пани, я достану из печи рагу. То совсем хорошее блюдо. А ветчины, пани, не хотите? Отличная. Сам коптил. — Пожалуй! … — Где ты достаешь, Ян? — Не спрашивайте, пани, не все ли равно. … — Ну, а теперь, пани, запьем старым вином из панского погреба… Голоса смолкли. Верно, оба пересели куда-нибудь дальше. Долетали только отрывки слов без всякой связи. В комнате послышались шаги и голоса стали ближе. — Я боюсь, Ян, я страшно боюсь, что муж узнает когда-нибудь нашу тайну. Он отвернется от меня навсегда. Мне иногда думается, что и сейчас он что-то подозревает. — Откуда ему догадаться, пани? Если и сказать кому, никогда не поверят… Загремела отворяемая дверь и князь отпрянул в лес, скрываясь за густыми кустами. То, что он подслушал, вполне убедило его в связи жены с Яном. Долго бродил он по лесным тропинкам, стараясь разумно отнестись к совершившемуся. Он вспомнил, что Ванда подробно и оживленно рассказывала о своем путешествии на «Трафальгаре», но, к удивленно слушателей почти ничего не говорила о пребывании на необитаемом острове. «Совершенно ясно, что случилось, — думал князь. — На остров были заброшены два существа, мужчина и женщина, надежды на спасение никакой, впереди — голодная смерть… Все может произойти при подобной обстановке. Но как Ванда, спасенная, вернувшаяся к счастливой жизни, может продолжать эту позорную связь? Кто поймет женщину?..» Безумная ревность и злоба овладели князем. Он потерял власть над собою и бросился вновь к лесной сторожке. Ян встретил его сурово, но почтительно, не приглашая войти. Князь оттолкнул старика и ворвался в сторожку. Сел на скамью у стола и пристальным взглядом стал осматривать все, словно ища каких-то новых доказательств измены жены. Ян молча следил за ним. Его сухое, бритое лицо, с длинными седыми усами, показалось князю отвратительным. Хотелось сказать ему что-нибудь злое, ударить, оскорбить. — Угости-ка меня твоей ветчиной, той самой, которую вы едите вместе с пани. Князь сам испугался действия, которое произвели на Яна его слова. Лицо сторожа побледнело, как мел. Глаза сделались огромными и выражали беспредельный ужас. Голова и руки тряслись. — Что, струсил? — злорадствовал князь. — Тащи сейчас твою ветчину! — Но пан… она не здесь… она… на… на…. чердаке… — Веди меня туда! — Зачем же пану беспокоиться? — оправился Ян. — Там тесно и пыльно… Но князь уже выскочил в сени и взобрался по маленькой лесенке. На чердаке царил полумрак. Висели окорока и колбасы. — Зачем я полез сюда? Что ожидал увидеть? Я кажется, схожу с ума. Почти спрыгнув сверху, князь сильным ударом по лицу повалил Яна и пихнул его ногой. — Вот тебе, негодяй!.. И бросился из сторожки бегом по дороге, ведущей к дворцу.IV
Князь бурей ворвался в спальню жены и начал выкрикивать полусвязные фразы задыхающимся голосом: — Ты ела с Яном ветчину… Я потребовал, чтобы он показал мне эту ветчину… Ванда поднялась с кресла. Вся бледная, с широко открытыми глазами, она, казалось, обратилась в каменное изваяние. — А, и тебя пугает ветчина! Беспутная! — Что ты… что ты думаешь? — Она еще спрашивает! Чего тебе недоставало? Но ты пошла к старику искать грязных развлечений! — Остановись! Это не то!.. — Не то? Так ты будешь и теперь отрицать свою связь с Яном? Не лги! Князь замахнулся хлыстом, но рука его задрожала, хлыст, упав, звонко ударился серебряной ручкой о стол. Князь закрыл лицо обеими руками и, глухо рыдая, выбежал вон… Ванда, запершись в спальне, долго писала, перечеркивая, разрывая бумагу и принимаясь вновь за перо: «Владислав! Я никогда не была любовницей Яна и не могла ею быть, потому что люблю только тебя. Ты мне должен верить, потому что перед смертью не лгут, а через час меня не будет. Но роковая, ужасная тайна, действительно, связывает меня с Яном. Сейчас я подслушивала у дверей твоего кабинета. Первый раз в жизни! Ты совещался с полицейскими, обвинив Яна в краже. Вы хотите его арестовать и обыскать сторожку. Тогда все откроется. Узнай лучше правду от меня. Считай меня сумасшедшей, преступницей, но не подозревай в измене. Когда я рассказывала о своей поездке из Австралии, я скрывала самое главное. На скалистый остров высадились шестнадцать пассажиров, мужчин и женщин. На острове в пещере мы нашли источник свежей, холодной воды. Около пещеры росли тощие кустарники. Все остальное — одни голые скалы. Три дня мужчины, благодаря спокойному морю, ловили рыбу и раков. У кого-то нашлись спички — развели костер и все ели. Потом начался сильный ветер и ловля прекратилась. На третий день голодания мужчины стали собираться отдельно от женщин и о чем-то совещаться. Потом стали бросать жребий и увели на южную сторону молодого крепкого мужчину. Он плакал, но шел покорно. Что с ним делали, я не видела, но мы были все сыты. С тех пор их убивали одного за другим. Каждый раз, когда бросали жребий, я содрогалась от мысли, что придет моя очередь. Но Ян всегда распоряжался бросанием жребия и я иногда думаю, что он фальшивил. Наконец на острове, кроме нас двоих, осталась только одна молодая женщина. Ее Ян убил ударом камня по голове без всякого жребия. Мяса на двоих было очень много. Ян вялил его на солнце и коптил. Потом я увидала дым парохода. Ян заставил меня забраться на самую высокую часть острова и махать платком, а сам зажег большой костер. Нас заметили и спасли. Мы оба решили скрывать истину. Я думала, что все забудется и я буду счастлива. Но после блаженных дней, проведенных с тобою, Владислав, я почувствовала странное, непреодолимое желание, в котором было стыдно сознаться даже перед собою… Желание росло и росло. Мне хотелось поесть человеческого мяса. Что это? Болезнь? Проклятие Божие за совершенный грех? Или в человеке, отведавшем человеческое мясо, просыпается первобытный дикарь? В своих желаниях я доходила до такого бесстыдства, что, оставаясь наедине, обращалась к кому-то с мольбою: „Кусочек, хоть один кусочек!“ Однажды, гуляя по парку, вся во власти безумного желания, я встретила Яна. Он не стал ни о чем расспрашивать, а сказал прямо: — Пани, я достал. Завтра пан уезжает с утра в город, приезжайте ко мне в сторожку. Нужно ли рассказывать остальное? Я стала ездить к Яну и мы оба наслаждались ужасной трапезой. Откуда он доставал человеческое мясо, я не знаю. Да и мне, в моем бесстыдстве, это было безразлично. Теперь все открылось и жить на свете мне больше нельзя. Владислав, найди в себе силу простить свою безумную Ванду и помолись о моей грешной душе…»Княгиня запечатала предсмертное письмо в конверт и надписала: «Князю Владиславу Корибут-Ольшанскому; моему дорогому, обожаемому мужу». Она повязала голову газовой вуалью и тихо вышла из дворца. Конюх видел, как она направилась к Висле. Но на разделе дороги Ванда пошла не к лесу, а влево, к крутому берегу, где бурное течение подмывает высокий берег и пенится, разбиваясь об острые камни… Обыск лесной сторожки дал неожиданные, поразившие всех результаты. На чердаке, на леднике, на полках в избе нашли куски человеческого мяса, сырые, жареные, копченые. Ян, очевидно, скрылся тотчас после посещения князя. На третий день его нашли в сарае у солдатки. На допросе Ян показал то же, что написала княгиня Ванда своему мужу. Но откуда добывал человеческое мясо, не сказал, несмотря на все уговоры. Когда его вели этапом в губернский город, он по дороге бежал и исчез навсегда. Расспрашивая разных лиц об образе жизни Яна, следователь натолкнулся на очень любопытную подробность: сторож часто виделся со сторожем анатомического театра при уездной больнице. Но допрошенный сторож показал, что давно знаком с Яном, и, когда он приезжал в город, они вместе пили пиво. Никаких улик за сторожем не оказалось и его отпустили. Князь пустил в ход все свое влияние и не жалел денег, чтобы замять это страшное, таинственное дело. Тело Ванды, бросившейся в Вислу с высокого берега, нашли на камнях. Она не утонула, а разбилась. Ее лицо нисколько не пострадало и было так же прекрасно, как и при жизни… В глухой сибирской тайге пробирались трое беглых арестантов. Они изнемогали от голода и усталости. Вдруг один вскрикнул, указывая на что-то. Перед ними лежал труп старика с седой бородой и длинными повисшими усами. — А ведь это он! — Кто? — Разве забыл, что рассказывал Лука? «Страшный старик», охотится за беглецами, как за дичью. Пришел и ему, злодею, конец. Около старика лежало ружье. Оружие было спасением для беглых. Они сняли с трупа сумку с порохом и пулями, нож и топорик. И пошли дальше, бросив тело на растерзание диким зверям. Вскоре натолкнулись они на избушку «Страшного старика». Выломали двери, все обшарили и, что годилось, забрали себе. Добыча была знатная. Нашли и мешок с деньгами. Один слазил на чердак и принес несколько кусков копченого мяса. Но, когда их вынесли на свет, все ахнули. Это были копченые человеческие бедра. В полуостывшем очаге нашли котел с вареным мясом, но и здесь легко было узнать ребра человеческие. — Батюшки, да он человечину ел! И все трое в суеверном ужасе бросились в чащу тайги, подальше от берлоги старика-людоеда.
На скалах
I
«Океанию» трепало второй день. Пароход давно потерял курс. Капитан думал об одном — как бы удрать от надвигающегося циклона. Никогда нельзя предвидеть, по какому пути пойдет центр циклона — и судно металось во все стороны, словно перепелка, над которой повис зоркий ястреб. На третий день небо по-прежнему было покрыто темными тучами, но волнение уменьшилось, утих как будто и ветер. На палубу стали выползать бледные, измученные пассажиры. Всех успокоило то, что качка стала спокойнее, и пароход не бросало с вершины чудовищных волн в зияющую бездну. — Кажется, выбрались? — весело потирая руки, спросил угрюмого капитана его молодой помощник. — Да, если на вашем языке выбраться и попасть в когти к самому дьяволу — одно и то же. — Но ведь качка детская… — Стыдитесь! Так могут говорить они, вот это баранье стадо пассажиров, а не моряк. Кто же боится качки? Иногда в тысячу раз хуже, когда ее нет. Я, старый волк, только второй раз в жизни наблюдаю такое падение барометра. Это признак того… — Капитан! — подбежал боцман. — Судно не слушается руля. — Я так и знал! Мы — в центре циклона. Качка еще уменьшилась. На черно-лиловом фоне туч показалось белое, медленно движущееся пятно. — Как это красиво! — говорили женщины и улыбались мужчинам. — Если бы они знали, что это «глаз бури!» Я не ставлю за «Океанию» ни гроша! — Что же делать, капитан? — Ничего! Ждать! Вернее — смерти, в лучшем случае, — чуда. Обманчивое спокойствие длилось недолго. Буря завыла, как сто дьяволов, вырвавшихся из преисподней, чтобы мстить ненавистному человеческому роду. Пароход стало кидать, как щепку. Весь корпус его трещал, и, казалось, сейчас он разлетится на куски. Волною смыло несколько матросов и помощника капитана. Вода проникла в каюты. Раздался вопль страха смерти, истерические рыдания женщин, зверские ругательства мужчин, борющихся за жизнь. Теснили друг друга, душили, топтали под ногами детей. Забыли все человеческое, и спасение готовы были купить ценою преступления, ценою десятка чужих жизней. Буря не унималась и несла пароход с головокружительной быстротой. Вдруг раздался страшный треск. Судно стало неподвижно. Огромный вал перекатился через него. Казалось, что это последний удар бури. Волнение затихло. — Нарвались на скалу! — сказал капитан боцману, силясь рассмотреть что-нибудь в хаосе разорванных туч и танцующих волн. — Что-то чернеет там. Надо спустить шлюпки и всем высадиться на землю. Еще порыв бури, пароход сорвет с камня и он пойдет ко дну. Шлюпки брались с бою. Многие при этом потонули. Но только что отчалили, за кормой парохода показался вал чудовищной высоты. Он шел стеною, а вершина его зловеще белела пеной. Пароход вновь подняло, стремительно понесло, шлюпки исчезли в волнах. Новый треск и судно крепко засело на остриях целой группы скал. Все пассажиры и экипаж погибли. На «Океании», пригвожденной ураганом к утесам, не было живого существа, кроме быков, баранов и птиц. Животные блеянием, мычанием и криком выражали свое беспокойство. А бур я, покончив с людьми, выкинув их судно на высоту утесов, со злорадным хохотом и диким воплем понеслась дальше, разнося ужас и смерть…II
На «Океании» не было живых людей. Ведь все погибли при безумной попытке высадиться на землю. Но, когда взошло солнце на безоблачном небе, из люка показалась белокурая головка, полудетское испуганное лицо, и на палубу вышла молодая девушка. Яркий солнечный свет ободрил ее, и она веселей оглянулась кругом. Море бурно волновалось, как женщина, еще не примирившаяся с насилием. Но ясная лазурь надолго обещала мир и покой. Девушка посмотрела через борт. Невозможно было вообразить себе, как волны подняли пароход на такую страшную высоту. Вокруг судна высились острые, словно отточенные скалы, словно зубы гигантского чудовища. И только глубоко внизу бились волны о вековые каменные ребра. Пароход сидел твердо и пройдет, может быть, не один десяток лет, пока повторится такой же ураган и донесет волну к пригвожденному кораблю. Девушке захотелось есть. Молодость беззаботна. В огромном товаро-пассажирском пароходе отыскать пищу было нетрудно. В буфете она нашла все, чтобы приготовить утренний кофе с английским печеньем. Вышла опять на палубу. Полюбовалась на утихающий океан. Кроме нескольких одиноких скал, кругом ничего не было. Вздохнула, поплакала о погибшем дяде, но потом утешилась, вспомнив, что он о ней забыл, когда садился на шлюпку: — Он не любил меня! И от скуки пошла осматривать пароход. Бродила по всем закоулкам. Пожалела голодных животных, но не знала, как их накормить. Добралась, наконец, до трюма. Прошла узкий, полутемный коридор. Что это? До слуха ее ясно долетели звуки человеческого голоса, заглушенные стоны. В запертую дверь кто-то стучался. Человек! На пароходе, кроме нее, есть и другое живое существо. Постучалась в ответ. Кто-то радостно вскрикнул. Раздался шипящий звук. Не сразу догадалась она, что заключенный говорит через замочную скважину. Кое-как сговорились. — Идите в капитанскую каюту. Там ключи от моей тюрьмы. Скорей! Меня забыли. Я умираю от голода. Когда, после долгих поисков ключа, узник был освобожден и, гремя ножными кандалами, вышел на свет, отступила в страхе. Перед ней стоял огромного роста матрос. Руки его были длинны, как у гориллы. Стан полусогнут. Трудно было поверить, что это лицо принадлежит человеку. Маленькие хищные глаза далеко ушли вглубь впадин. Скулы выдались вперед. Нижняя, чисто звериная челюсть обросла мхом седых волос. Над толстыми губами торчали щетинистые усы. Нос был расплющен, быть может, от удара, когда-то полученного в пьяной драке. Рассечена бровь и по левой щеке тянется шрам. Уши, как огромные заслонки. А оно еще улыбалось, это гнусное чудовище.III
Узник оказался матросом из экипажа «Океании». Однако, его поведение нисколько не соответствовало страшной наружности. Узнав все, что произошло, морской волк проявил необычайную деятельность. Осмотрев корпус парохода, лазил по скалам, осмотрел все запасы и товары, и сказал девушке откровенным, серьезным тоном, что их ждет. — За судно опасаться нечего. Сидит, как на гвозде. Пищи у нас хватит надолго. Все есть. Запас угля большой. Да и он понадобится нам только для кухни. Жилье — лучше требовать нельзя. Главный вопрос: где мы находимся? Но я в этих картах и инструментах не понимаю ни черта… Может быть, пройдут недели, может быть, месяцы, может быть, годы, пока пройдет близко какое-нибудь судно. Надо животных порезать, мясо посолить, провялить, прокоптить. С этого дня пароход надолго обратился в бойню. Матрос резал и свежевал животных. Девушка, несмотря на отвращение к крови, деятельно помогала ему в солке и копчении. Вместе готовили они и обед. Трудились целый день и на ночь расходились. Она в одну из лучших кают 1-го класса, он — в капитанскую. За работой время шло незаметно. Но в свободные минуты девушка выходила на палубу и жадно смотрела на горизонт в ожидании, не покажется ли дым или парус. Но бирюзовое море было пустынно. Наконец, все мясо было заготовлено впрок и убрано. — Никогда еще на свете не было таких потерпевших крушение, — радовался матрос, — у нас запасов года на четыре. Но с этого времени он резко изменился. Целый день почти ничего не делал. Валялся на бархатном диване в кают-компании. Курил трубку и пил бутылку за бутылкой. Лицо его пылало, глаза наливались кровью. Девушка ловила на себе его взгляд, в котором чудилось что-то страшное, угрожающее. Она стала избегать матроса. Забивалась в дальний уголок и читала. Писала свой дневник, который вела с начала путешествия, или ходила по палубе, все ожидая парохода-спасителя. Когда же вечером матрос пьяным голосом орал песни, — запиралась на ключ и тревожно прислушивалась к шагам в коридоре. Раза два матрос и в дверь толкался, и она слышала его гнусные ругательства. Но и трезвый, он стал относиться к ней все фамильярней. По кудрявой голове погладит или ущипнет. Боязнь неизбежности угнетала девушку. С тоской вспоминала о далекой родине — России. Собрался кружок семейных. Бабушка с вечно трясущейся головой, мама, такая красивая, несмотря на ее годы. Гимназист Коля. Карапузик, кадет Вячеслав, хвастается мундирчиком и всех презирает. Маленькая Женя, в кудряшках, болтает без умолку и всем надоедает. Старый папа сидит в вольтеровском кресле. За чаем вспоминают, верно, о ней. Дядя, объехавший не раз весь свет, склонил ее отправиться с ним путешествовать. Много пришлось воевать с папой и мамой. Но она, Нина, общая любимица, одержала победу. Сколько она видела нового, интересного! Сколько накупила подарков разных. А теперь… Распахнулась дверь, которую Нина забыла запереть. Грузно ввалился человек-горилла. — Эге, красоточка, о чем загрустила? Все у нас есть. Ешь, пей — не хочу! На 4 года, слышишь, на 4 года хватит. Мы богаче миллионеров. Ни забот, ни хлопот. Вина вволю. Табак — первый сорт. Одного, милочка, не хватает. Знаешь, чего? — Не знаю, — робко отвечает Нина. — Хе-хе! Неужто? Ты не жеманься. Женихов-принцев тут не дождешься. Полюби меня. Что? Неказист? Стар, думаешь? Молодого за пояс заткну, ты на лицо не смотри. Уж такой уродился. Ну, поцелуй! — Оставьте меня, уйдите! — Нет, уж пришел, так не уйду. Ишь, принцесса-недотрога! Все равно тут пропадать, на этих камнях. Матрос грубо обнял Нину. Она почувствовала на лице толстые губы. Ударило отвратительным запахом вина и табака. Внезапно вспыхнуло в мозгу число, которым она пометила сегодняшнюю запись дневника. — Опомнитесь, сегодня святая ночь… канун Воскресения Христова… Матрос задумался. В его темной душе блеснули искорки каких-то воспоминаний. — А не врешь? Нина поклялась. Матрос долго на нее смотрел. Нина с ужасом видела, что лицо опять стало звериным. — Все равно! Опять потянулся к ней. Могучий рев потряс воздух. Матрос отпрянул в ужасе. Ревело и гудело неведомое чудовище. И — вдруг, оба бросились на палубу. — Сирена! Пароходная сирена!Черное
I
Появление на палубе парохода негра в ливрее служило сигналом для поклонников мисс Клары Вуд, дочери американского миллиардера Абрагама Вуда. Черный лакей становился за спинкой длинного соломенного кресла, мужчины толпились по бокам. Всякий спешил первым пожать узкую руку, которую Клара подавала по-мужски, первым поймать улыбку приветствия. Раскинувшись на кресле, девушка обводила взглядом толпу поклонников, словно спрашивая: «Кто из вас сегодня скажет что-нибудь интересное?» Начиналась скачка с препятствиями… Сегодня первым к призовому столбу неожиданно пришел молодой человек с гладко выбритым лицом, длинными льняными волосами и задумчивой синевой глаз. Он обыкновенно молчал и его прозвали Мечтателем. Говорили о новой победе негра при последнем чемпионате бокса в Америке и об избиении черных. — Какой позор! — громко крикнул Мечтатель. На холодном скучающем лице Клары появилось выражение любопытства. — Почему? — Я европеец! Америка с детства была моей мечтой. Страна свободы и равенства, как я любил тебя заочно на моей суровой родине, где человек стеснен в каждом движении бессмысленными условностями, опекой над личностью, обидным, принуждающим недоверием! Наконец, мечта осуществилась. Много разочарований ждало меня, мисс Клара, в вашей прекрасной стране, много иллюзий разбито! Но сохранилось уважение к энергии, к силе, к смелому дерзанию вашего народа. Теперь и это чувство готово исчезнуть. Я знаю, что и в Америке равенство — призрак. Вы создали денежную аристократию. Власть золота и рабство труда — у вас подчеркнуты еще сильнее, чем в Европе. Дочери американских богачей стали гоняться за мужьями с титулами. Вы ценою золота возрождаете феодализм, вы окружаете себя толпою раболепных слуг. Вам недостает только гербов и вы, американки, готовы за них отдать молодость и красоту титулованному дегенерату, продающему свое имя ради ваших миллионов. Но пусть, деньги развращают и губят повсюду людей, — как вы, весь народ, и богатые, и трудящиеся, можете так зверски ненавидеть целое племя только ради того, что эти люди другого цвета? Это ужас, это позор для целой нации!II
Клара лениво потянулась и заложила руку за голову. — Разве негры — люди? Это грязные, грубые животные с жадными инстинктами. После освобождения — их надо было всех выселить обратно в Африку. Это проказа нашей страны! Посмотрите на Джо, который стоит за креслом и боится больше всего моего хлыста. Разве это человек? Можете вы вообразить меня женой этого джентльмена? Все оглянулись на черного лакея. Он стоял неподвижно, как статуя. Толстые, точно вывороченные губы обнажали полоску белоснежных зубов. Нос кончался двумя широкими раструбами и пугали белки бессмысленно ворочающихся звериных глаз. И невольно овладевало чувство злобной ревности от одной мысли, что это гнусное животное может коснуться, как мужчина, прекрасной девушки, лежащей на кресле, опозорить поцелуем розоватый фарфор нежного лица, смять черными руками светлый шелк, струящийся по сладострастным изгибам тела…III
Абрагам Вуд был страшно потрясен известием, что во время ужасного циклона, пронесшегося в нижней части Тихого океана, погиб пароход «Aguilega», на котором Клара ехала в Австралию. Никому из экипажа и пассажиров, по-видимому, не удалось спастись. Вуд напрасно тратил огромные деньги на целые экспедиции, которым было поручено разыскать следы погибшего судна. Прошло больше года… Когда горе с новой силой овладевало миллиардером, он шел в одну из комнат своего дворца, всегда запертую. Там стояла прикрытая гробница и седой Абрагам обнимал дивное изваяние Клары и слезами орошал холодный мрамор…IV
На берегу маленького острова, не обозначенного на картах, под мягким навесом из пальмовых листьев сидела Клара. На коленях ее кувыркался здоровый, черный ребенок. Она оглянулась, услыхав скрип песка от чьих-то шагов, и улыбнулась навстречу подходившему полуголому негру: — Смотри, Джо, он совсем похож на тебя!Остров кораблекрушений Рассказ-загадка
I
Издавна замечено, что по одному из трактов, проходящих через Тихий океан, происходит наибольшее количество исчезновений судов. Такие аварии являются в последнее время довольно редкими, и пароходным обществам обыкновенно известно, при каких условиях среди водной пустыни погиб корабль. Беспроволочный телеграф почти совершенно исключает возможность таинственных исчезновений. А все-таки нет-нет, да и появится объявление в конторе океанского пароходства, что такое-то судно, вышедшее оттуда-то такого-то числа и месяца, не прибыло к месту своего назначения даже после месячной просрочки, что исчезнувшее судно видели суда такие-то и такие-то, и что есть некоторая надежда, что исчезнувшему пароходу, вследствие аварии, пришлось где-нибудь пристать около малонаселенного берега или даже к безлюдному острову, а потому не все еще потеряно, и можно ожидать известий через один-два и даже несколько месяцев. Пароходная компания примет, конечно, все зависящие от нее меры и т. д. Но проходит и несколько месяцев и даже годы, а об исчезнувшем судне нет ни слуха, ни духа. Такие несчастия случаются теперь все реже, но возможность их далеко не исключена. Именно не далее, как в прошлом году, товаро-пассажирский пароход «Аквилега» исчез совершенно бесследно в Тихом океане и о судьбе его решительно нет ни малейших известий. Высказывается предположение, что пароход погиб во время страшной равноденственной бури, разыгравшейся приблизительно в то время, когда «Аквилега» совершила уже полпути. Беспроволочный телеграф почему-либо бездействовал, так как ниоткуда не поступало заявлений о тревожной депеше с «Аквилеги». На исчезнувшем пароходе, среди других пассажиров, были, между прочим, несколько американских богачей, немецкий профессор-зоолог, какой-то принц из не царствующего дома и русский путешественник Калистратов с дочерью Ниной, девушкой 20-ти лет. Все эти люди, а также и простые пассажиры, команда и экипаж записаны ныне в список безвременно погибших. В действительности, однако, погибли не все.II
«Аквилега» попала в сильную бурю, потеряла курс и три дня носилась по гигантским волнам обезумевшей в своей ярости стихии. Но пароход был новый, построен весьма хорошо, и положение безусловно нельзя было назвать угрожающим. Капитан сохранил бодрость духа и, как мог, успокаивал пассажиров, отчаянно страдавших от морской болезни. На четвертый день буря улеглась, и яркое солнце озолотило еще взволнованную водную поверхность. Надо было подумать о том, чтобы вернуться на прежний путь. Капитан произвел вычисления и дал курс пароходу. Машина работала превосходно. Никаких существенных повреждений на судне не было, и матросы занялись приведением его в прежний блестящий вид. Так прошли целые сутки. Определив местонахождение судна, капитан только руками развел. «Аквилега» находилась совсем не там, где должна была очутиться, принимая во внимание курс и количество пройденных узлов. Больше того, пароход как будто не шел вперед, а пятился назад, уходя еще далее на запад вместо того, чтобы подвинуться на восток. Конечно, это могло произойти лишь по одной причине: судно попало в морское течение, по-видимому, не отмеченное на карте, и притом неслыханной силы, так как «Аквилега» шла на всех парах. По двум пунктам — вчерашнему и сегодняшнему — капитан определил направление этого могучего морского потока и решил перерезать его в перпендикулярном направлении. Через сутки, однако, пароход оказался еще далее на запад, на следующее число он почему-то повернул на восток и на четвертые сутки оказался почти в том же месте, где был четыре дня тому назад. Другими словами, «Аквилега» описала полный круг весьма большого размера, причем во второй половине шла с неслыханной быстротой, так как одновременно действовали и сильное течение, и восточное направление корабля при полном ходе. Началось что-то невероятное: при совершенно тихой погоде пароход перестал слушаться руля и, несмотря на все принятые меры, подчинился могучей стихийной силе, которая заставляла его описывать крути все уменьшающегося диаметра. Капитан, старый морской волк, понял, что пароход попал в водоворот, наподобие Мальстрема у берегов Норвегии, но только гигантского размера. «Аквилегу» со все возрастающей скоростью несло к неведомому центру. Что ожидает там злосчастное судно? Вернее всего — гибель! Капитан не мог скрыть истины от своего помощника. Экипаж тоже вскоре узнал, что с судном творится неладное. Постепенно слух этот разнесся и среди пассажиров. Капитан был вынужден рассказать все. — Молитесь! Бог может совершить чудо! Началась паника, люди обезумели от страха, несколько человек моментально сошли с ума и побросались за борт. Иные бесновались, оглашая воздух рыданиями, другие молились часами, не вставая с колен, многие впали в состояние полного отупения и неподвижно сидели в ожидании своей участи. Матросы с частью пассажиров предались необузданному пьянству, и было несколько попыток насилия над женщинами. Наконец, перед глазами погибавших показался довольно большой остров, огражденный скалистыми рифами, наподобие крепостных фортов. Сильное течение создало здесь прибои и повсюду взлетали к вершинам скал чудовищные горы белоснежной пены. — Там наша смерть! — сказал вполголоса капитан своему помощнику. И все хмельные матросы, измучившиеся от ожидания смерти пассажиры поняли, что конец наступит через какой-нибудь час. Кому-то взбрела в голову дикая, шальная мысль: — К шлюпкам! Люди бросились исполнять этот, неведомо кем данный приказ, который мог только ускорить гибель. Предостерегающий голос капитана терялся в грохоте прибоя, в завываниях безумной толпы. Шлюпки были быстро переполнены и, как более легкие, понеслись вперед и скоро исчезли из глаз. А еще через несколько минут раздался ужасный треск… «Аквилега» со всего размаха налетела на груду скал и, взброшенная на них, вся разбитая, упала дальше, на какой-то пустынный берег…III
К разбитому пароходу по тихой заводи, находившейся между берегом острова и скалистыми рифами, подплыли две лодки. В одной сидел кряжистый старик и могучими взмахами весел то и дело опережал другую, где гребли двое: среднего возраста красивый брюнет с изящными чертами и белокурый юноша, розовый, как херувим. Приставши к развалинам «Аквилеги», все трое выскочили на камни. Старик расправил свои могучие плечи и сурово произнес: — Богатая будет добыча. Это вроде того парохода, который достался нам два года тому назад. — Какая в этом польза! У нас и так всего много! — возразил ленивым голосом брюнет. — Может быть, там есть что-нибудь новое с земли, что-нибудь очень интересное, — волновался юноша. На разбитом судне было множество вещей и припасов. Островитянам хватит работы по одной перевозке не на одну неделю. Обошли весь пароход, видели полураздавленные трупы капитана и его помощника. Старик откупорил какую-то пузатую бутылку и с удовольствием глотнул из нее, громко крякнув: — У нас еще такой нет! Брюнет продолжал брезгливо смотреть на все и лишь несколько оживился, увидав газеты и книги. Юноша с детским любопытством лазил по всем закоулкам, разглядывал каждую мелочь. Вдруг раздался его молодой, призывный крик: — Идите сюда! Идите скорей! Брюнет и старик поспешили на зов. Нина Калистратова лежала на полу каюты, но, по-видимому, не потерпела во время аварии никаких повреждений. Лицо ее было спокойно, глаза закрыты, и только мертвенная бледность заставляла думать, что она покончила счеты с жизнью. — У нее сердце бьется! Она живая! — торопливо вскрикивал юноша. Брюнет стал перед девушкой на колени, долго выслушивал грудь, потом поднялся и начал делать обычные приемы для искусственного восстановления дыхания. Прошло уже немало времени, а девушка не приходила в себя. — Постой-ка, я попробую свое средство, — сказал старик и, разжав Нине зубы, влил в рот несколько капель крепкого вина. Щеки девушки слегка зарозовели, грудь высоко поднялась, она тяжело вздохнула и открыла глаза…В уютном домике, построенном среди чудной тропической зелени, брюнет рассказывал только что спасенной девушке о том, куда она попала. Старик и юноша сидели тут же. — Мы все трое, как и вы, — потерпевшие крушение. Я, как видите, русский. Он — старый матрос, англичанин, а этот попал с нами вместе еще совсем мальчиком, да и теперь ему всего двадцатый год. Он — из немцев. Шесть лет тому назад нас выбросило сюда. Остров был необитаем, хотя мы нашли на нем вот этот самый дом, а невдалеке от него валялись человеческие кости. Очевидно, что кто-то жил здесь раньше и умер от болезни или старости. Наш остров находится в необычайных условиях: он помещается в центре громадного водоворота, в который иногда затягивает корабли, и тогда гибель их неизбежна. Редко кто спасается. За шесть лет вы первая. Выбраться отсюда совершенно невозможно. Разве на воздушном корабле, чтобы перелететь всю пучину водоворота. Мы нашли здесь огромный запас. Целый склад оружия и всевозможных вещей. На острове водятся звери и птицы, в небольшом озере мы ловим прекрасную рыбу, каждое кораблекрушение доставляет нам вина, чай, кофе, сахар, муку и всевозможные припасы. Однажды мы нашли на погибшем пароходе пару молодых поросят, и они развели на острове целое стадо. Мы ни в чем не нуждаемся, но мы умираем от скуки и безделья. Быть может, вы внесете новую живую струю в наше сытое, глупое и пошлое одиночество, в наше жалкое, бесцельное существование… Нина за несколько дней успела хорошо узнать, с кем свела ее роковая судьба. Старик был представителем грубой физической силы, но честный и прямой. Он едва ли особенно скучал, так как любил физический труд, заботился о хозяйстве и всегда находил, чем занять свое праздное время. Брюнет — русский интеллигент, богато одаренный, талантливый, глубоко во все вдумывающийся и способный понимать все переживания чужой души. Третий — немецкий юноша, заброшенный на остров тринадцатилетним мальчиком, весь полный жизненных соков и неиспытанных сил. Юноша, не помнивший других женщин, кроме матери, двух теток и сестры, и впервые, в расцвете сил, встретивший чужую, красивую девушку. Так прошло несколько лет, и все трое почувствовали, что их властно влечет к женскому молодому существу. Все трое высказали девушке откровенно свои чувства. Возник роковой вопрос: кого из троих выберет Нина своим мужем?
P. S. Предлагается читателям решить эту психологическую задачу. При этом следует принять во внимание, что Нина — девушка современная, образованная, понимающая жизнь и перевидавшая много людей благодаря путешествиям с погибшим отцом. Надо взять в расчет также национальность, возраст и умственное развитие каждого из островитян. Кого же, по мнению читателей, избрала Нина своим мужем, и что вообще случилось на острове после появления девушки?
Париж под водой
I
— Да, сударь, вода все прибывает и подвалы нашего министерства наполовину залило, — говорил сторож Жозеф чиновнику Виктору Голуа, явившемуся на службу, несмотря на воскресный день и страшное наводнение. — Ужасное бедствие, сударь, и мы с женою опасаемся, что Сена нанесет визит и нашей квартире в нижнем этаже. — Переберитесь на время во второй, хотя бы в пустую комнату, которая находится за регистратурой. Если начальник спросит, сошлитесь на меня. Отпускаю вас до утра следующего дня. — А вы как же, сударь? — Обо мне не беспокойтесь. Я поработаю часа три в архиве, а потом уйду, заперев входные двери. Ведь у меня, как вам известно, имеются дубликаты ключей. Виктор Голуа считался образцовым чиновником и пользовался особым доверием. На руках его находился отдел, называемый коротко — «секретным». В трех комнатах архива, совершенно изолированных от остального помещения, были сосредоточены документы, добытые через тайных агентов и содержащие сведения об иностранных державах. О Голуа начальство говорило: — Это не человек, а ходячий бюрократический механизм. Он был холост, не ходил в театр, не имел любовных связей и жил буквально отшельником. Днями просиживал в министерстве и даже в дни, свободные от службы, копался в архиве и делал извлечения из бумаг для доклада министру. Иногда на улице в душе Голуа при встрече с вызывающим взглядом женщины пробуждались смутные желания, но он их легко прогонял, возвращаясь к обдумыванию донесения агента о германских патриотических ферейнах[3] или о греческой военной лиге… В министерстве решительно никого не было. Отпущенный сторож удалился на другой конец огромного здания. Голуа отпер тяжелую, обитую железом дверь архива и потом следующую, ведущую в «секретный отдел». Сюда не долетали никакие звуки жизни и чиновник в полной тишине занялся разбором документов, делая выписки и отметки. Так прошло около часа. Быть может, там гибнут люди и тщетно молят о помощи, быть может, уже рухнула Эйфелева башня и не удалось отстоять Лувр от наводнения — Голуа нет ни до чего дела, для него во сто раз важнее донесение за № таким-то и справка по делу за № таким-то. Где-то громыхнула дверь, другая. Голуа вздрогнул и прислушался. Звонкой дробью раздались в пустых комнатах мелкие, торопливые шаги. Приближаются к «секретному отделу». Полуотворенная дверь распахнулась и сейчас же захлопнулась со звоном самозапирающегося замка. Перед Голуа стояла молоденькая хорошенькая женщина. Левая рука высоко подняла платье, но сапожки и чулки были совершенно мокры и в грязи. Плотно обтянутая, выпуклая грудь быстро поднималась и опускалась от учащенного дыхания. Лицо раскраснелось и пунцовый ротик был полуоткрыт, обнажая полосу влажного перламутра зубов. — Это ужас что такое! — заговорила она быстро. — Вода хлынула внезапно на улицу, залила магазин, где я была. Я выскочила на тротуар и бежала. А вода гналась за мною по пятам. Это ужас, это ужас! Безопасно ли здесь? — Сударыня! — сухо ответил Голуа. — Здесь секретное помещение министерства и вход частным лицам безусловно воспрещен. Я сейчас отопру дверь, которую вы захлопнули так неосторожно, и провожу вас к нашему сторожу. Его жена поможет вам в смысле костюма, а Жозеф известит ваших домашних по телефону, если только провод не испорчен. Голуа стал шарить в жилеточном кармане, потом в пиджаке, в брюках. Руки его заметно дрожали, лицо побледнело… Ключа нигде не было.II
— Что случилось? — Большое несчастье, сударыня! Я, очевидно, оставил ключ в замке снаружи, а вы захлопнули дверь. — Позовите сторожа! — К сожалению, сударыня, отсюда не проведено ни звонков, ни телефона. — Вот это мило! Не оставаться же мне здесь с вами запертой, быть может, три-четыре часа, пока придут. — Положение гораздо хуже, сударыня. Вспомните хорошенько, не захлопнули ли вы и предыдущей двери? — Да, мне все казалось, что за мною кто-то гонится. — Ну, в таком случае нас может спасти только чудо. — Как? Что вы сказали? — Я говорю, сударыня, что время, когда нас отсюда выпустят, совершенно неизвестно. Вся надежда на то, что сторож, которого я, кстати сказать, отпустил до утра, обратит внимание на ключ, торчащий в замке. Но, так как захлопнута и главная дверь, ведущая в архив, от которой ключ у меня в кармане, то Жозеф подумает, конечно, что я ушел, и не будет беспокоиться. — Но ведь в архив ходят и другие? — Очень редко. Иногда сюда не заглядывают по неделям. — Ах, Боже мой! Но постойте, постойте: вас непременно хватятся дома, прибегут сюда… — Я холост и одинок, сударыня! — Но на службе? Вы не являетесь, вас будут искать. — Едва ли. Отсутствие объяснят наводнением. Возможно, что чиновники и совсем перестанут ходить в министерство до спада воды. — Надо звать, кричать, стучать! — Бесполезно, сударыня, нас никто не услышит. Дама закрыла лицо руками. Послышались рыдания. Голуа не мог бы вспомнить, когда он видел близкоплачущую женщину, и женские слезы произвели на него сильнейшее впечатление. Решительно не зная, чем помочь, чем утешить, он стал гладить ее осторожно по плечам, приговаривая: — Успокойтесь, сударыня, успокойтесь. Дело как-нибудь уладится. Немножко терпения. Голуа придумывал слова утешения, но деревянный сухой голос парализовал все его усилия. — Я вспомнил, что завтра наверняка зайдут в архив по одному важному делу, — сочинил он с места. Дама встрепенулась, опустила руки, на ее заплаканном лице блеснула надежда. — Вы не обманываете? — О, нет, нет! Весь вопрос в том, как вы проведете здесь ночь? Дама немного подумала и вдруг звонко расхохоталась, по-детски всплескивая руками в черных перчатках. — Боже мой, как это все смешно и весело! Точно на необитаемом острове! Голуа было вовсе не весело, но он обрадовался, что кончились эти рыдания, от которых у него самого щипало в горле. — Ну-с, теперь расположимся как дома. Помогите мне снять жакетку. Так. Положите куда-нибудь. Только не на ваши противные бумаги. Возьмите еще шляпку. Как вас зовут? Виктор? У меня есть кузен Виктор, он служит в алжирских стрелках. А меня зовут Мадлен. Хорошенькое имя? Теперь я от вас потребую огромную услугу. У меня совсем мокрые сапоги и чулки. Вы должны их снять и повесить сушить. Мадлен села на груду связок деловых бумаг и протянула ноги. И Голуа, высокий, худой, как палка, несгибающийся, должен был стать на колени и первый раз в жизни расстегивать бесконечные пуговки дамских сапожек. Кое-как он управился с этой трудной работой, постоянно понукаемый Мадлен: — Скорей, мне холодно, я простужусь! Оставались чулки, но перед этой задачей Голуа прямо стал в тупик. Мадлен сама помогла ему, приподняв край платья: — Отстегните там! Голуа вспомнил, что у женщин, кажется, бывают подвязки и стал искать, путаясь длинными сухими пальцами в кружевах dessous[4]. — Я не нахожу подвязок, — заявил он отчаянным голосом. — Как, вы думаете, что я ношу подвязки? Да вы с ума сошли или приехали с Сандвичевых островов? Неужели вы никогда не видели, как раздевается женщина? — Никогда в жизни! — мрачно ответил Голуа. Мадлен нагнулась, рассматривая бритого чиновника, как диковинного зверя. Потом вся откинулась назад и суровый архив огласился неудержимым, захлебывающимся хохотом. Когда чулки, наконец, были сняты и перед глазами Голуа мелькнули бледно-розовые ноги, обнаженные немного выше колена, он с трудом поднялся, чувствуя себя усталым и разбитым, а по спине бежали струйки горячего пота. Мадлен быстро подобрала ноги и уселась на бумагах по-турецки, продолжая хохотать. Голуа, развешивающий длинные дамские чулки на шкафу с секретными документами, был так смешон! Но скоро надоело сидеть. Попробовала ходить босиком. Пол каменный, холодный. — Снимите ваши штиблеты, а сами можете ходить в носках. — Но, сударыня, мой ревматизм… — Пустяки, пустяки! Бог знает, когда просохнут мои чулки и сапоги. Голуа снял штиблеты и подал Мадлен. — Я должна прежде чем-нибудь обернуть ноги. Что это там за бумага на столе? Дайте ее сюда. — Но, сударыня, это секретный доклад министру. — Пустяки, давайте скорее! Штиблеты оказались страшно велики для маленьких ножек Мадлен и она шлепала ими, как кот в семимильных сапогах. Но это было так смешно! — А знаете, мне страшно захотелось есть. — К сожалению, сударыня, я располагал сегодня работать недолго и не взял с собою ничего. Обыкновенно же я приготовляю сам завтрак на спиртовой горелке. Личико Мадлен затуманилось, но у нее сейчас же блеснула новая мысль. — Я придумала. Это будет отлично! У меня здесь в свертке сырые каштаны. Мы их испечем. Несите скорее вашу горелку. — Я советовал бы, сударыня, печь в третьей комнате. Там большой вентилятор. Будет запах. В третьей, почти пустой комнате началось приготовление каштанов. Горелый запах заставил Мадлен смешно сморщить нос, но она была вся увлечена мыслью, что это похоже на необитаемый остров и очень весело. Оказалось, что спирта в горелке немного, а бутылка пустая. Каштаны не допеклись. — Ах, я придумала! И, сбегав в первую комнату. Мадлен принесла связку бумаг. Быстро сняла полку, рассыпала документы по полу и, присев, стала жечь их под треножником горелки. Голуа с ужасом видел, что это донесение с Крита тайных французских агентов, а товарищ министра говорил о готовящемся конфликте между Грецией и Турцией и приказал сделать доклад. Но чиновник чувствовал, что он катится по наклонной плоскости и будет совершать преступление за преступлением. — Пожалуйте обедать, ваше превосходительство! — шутливо доложила Мадлен, перенося готовые каштаны в первую комнату. Горячую закопченную сковороду она поставила на раскрытую копировальную книгу и как раз на ту страницу, где было оттиснуто конфиденциальное письмо министра. Но Голуа был окончательно выбит из колеи. Перед ним мелькало раскрасневшееся женское личико и в голове неотступно стоял мимолетный образ обнаженных бледно-розовых ног, окруженных волнами кружев. Он угрюмо и размеренно чистил каштаны и ел их. Мадлен грызла, как молодая белка, и все повторяла: — Какая прелесть!III
Начинало темнеть и Мадлен сделалась скучной. Тоска охватила и сердце Голуа. Как он доложит министру о разгроме документов в «секретном отделе»? И вместе с тем заползла тревога за себя и за эту молодую, хорошенькую женщину. Вода все поднималась, министерство будет пустовать, и они оба, заключенные в мрачных комнатах архива, обречены на голодную смерть. — Я хочу пить! Какое счастье, что сюда проведен пожарный кран водопровода! Но действует ли он? Вода полилась тонкой, захлебывающейся струйкой и не скоро наполнила стакан. Значит, грозят и муки жажды. Мадлен совсем приуныла, когда он ей сказал, что электрическое освещение не действует. И в сумерках архивной комнаты раздалось женское всхлипывание. — Сударыня, вы, может быть, уснули бы? Утром все выяснится. Да, если больше нечего делать, она предпочитает уснуть. Из связок бумаг он устроил ложе и покрыл своим пальто. — Дайте мне жакет под голову! Сам прилег в последней комнате, но не заснул. Мучили мысли, да и ноги заныли. Встал и прошелся. Там, где лежала Мадлен, уже слышалось тихое, сонное дыхание. — Спит, как ребенок, — нежно прошептал Голуа. Наконец, и его стало клонить ко сну, ревматическая боль стихла, сознание постепенно уходило… — Ай, ай! Отчаянный крик разбудил Голуа и он бросился к Мадлен. — Ай, ай, что это? Кусает!.. Голуа зажег большую восковую спичку. С ложа прыгнуло что-то, грузно шлепнувшись о пол. Еще и еще. Спичка догорела, но при последней вспышке блеснули злые красноватые глаза на хищных мордах. Да, сюда пробрались огромные крысы, выгнанные водой из подвалов министерства. Голуа тоже вскрикнул, почувствовав укус в ногу, и сбросил толстое, жирное тело, взобравшееся на грудь. Он зажег вторую спичку. Крыс было множество и они плотной толпой, оскалив зубы, готовили нападение на людей. Голуа вспомнил о револьвере. Он всегда носил его с собою, но ни разу в жизни не пускал в дело. Вооружиться посоветовал начальник: — На вас, как на заведующего агентурой, всегда может быть сделано покушение. Теперь чиновничий мозг, столь чуждый мысли о физической борьбе, стал усиленно работать перед лицом смертельной опасности. — Мадлен, возьмите спички и зажигайте их одну за другой. Гулко раздался выстрел и одна крыса завертелась на полу, вся окровавленная. Голодные хищники растерзали ее в одно мгновение. Другие выстрелы были также удачны, но у Голуа всего шесть патронов. Выпустил последний. — У меня нет больше спичек! — в ужасе закричала Мадлен. Крысы сейчас бросятся. Голуа зажмурил глаза, хотя все равно ничего не видел в воцарившейся тьме…Дверь «секретного отделения» с грохотом отворилась. Ослепительно-яркие лучи ворвались в комнату. Испуганные крысы разбежались, но Голуа похолодел от нового ужаса. Перед ним стоял сам товарищ министра, сопровождаемый сторожем Жозефом и отрядом полицейских с электрическими фонарями. — Как, вы здесь, господин Голуа?.. Начальник запнулся, потому что увидел нечто поразительное. На груде секретных донесений сидела, поджав ноги, хорошенькая молодая женщина. Бросились в глаза развешанные дамские чулки и пара сапожек. Голуа, без пиджака и в одних носках, внушал самые ужасные подозрения. — Так вот в чем заключаются ваши воскресные занятия, господин Голуа! Я прибыл сюда, чтобы убедиться лично, не грозит ли опасность от воды «секретному отделу», а вы… вы, милостивый государь, обманув доверие начальства, принимаете здесь женщин. Потрудитесь немедленно очистить помещение вместе с вашей любовницей. А завтра я жду вашего прошения об отставке. Товарищ министра круто повернулся и ушел. И в первый раз со времени далекого детства Голуа зарыдал и полицейским показалось, что это не человек плачет, а жалобно воет и лает избитая собака. Товарищ министра поверил объяснениям Голуа и оставил его на службе. Узнав историю гибели донесений с Крита, он тяжело вздохнул, вспомнив собственные любовные приключения. — Да, милый друг, женщины всегда ведут мужчину к преступлению и вы счастливы, что не имеете с ними дела. Но Голуа не походил уже на прежнего Голуа. В поспешном бегстве из архива он не спросил ни фамилии, ни адреса Мадлен. А соблазнительный образ хорошенькой женщины, ее личико, ее обнаженные бледно-розовые ноги не покидают воображения чиновника и в ушах его то и дело слышатся задорный молодой смех и эти восклицания: «Ах, какой вы смешной!» Голуа ходит по улицам Парижа, уже освобожденного от мутных волн Сены и Марны, но не обращает внимания на ужасные последствия наводнения. Он вглядывается пристально в каждое женское лицо и страшно волнуется, когда находит сходство с Мадлен. И готов вновь совершить преступление по службе.
Семейное счастье
I
Трауберг, по обыкновению, поднялся с постели в 6 часов утра. День его был точно распределен и за десять лет он ни в чем не изменял раз заведенному порядку. Спал всегда один, без жены, на жесткой койке и, вставши, принимал холодный душ. Почти час упражнялся с гимнастическими гирями, пока не чувствовал легкой усталости и испарины в теле. Сам варил кофе на спиртовой горелке и, когда он поспевал, ставил кастрюльку, кипятил воду и опускал в нее три яйца, только что снесенных собственными курами. О курах, корове и свиньях заботилась старая преданная прислуга Амалия, потому что фрау Трауберг была постоянно занята детьми и кухней. Яйца варились всмятку. Трауберг намазывал сливочным маслом два куска белого хлеба и завтракал. Выпив кофе, он подходил к окну своей комнаты, отворял его и садился с огромной трубкой. Отсюда, с горы, ему был виден почти весь город. Чистенькие домики, окруженные садами, спускались по скату реки, делавшей здесь крутой поворот. А на том берегу высился огромный собор и желтой нитью тянулись казенные здания. Слева — общественный сад с вековыми дубами и липами тонул в зелени. Справа, почти около самой реки, раскинулись казармы конного полка и Траубергу отсюда было видно, как выводят лошадей солдаты, поят их, чистят и проваживают. За зеленым квадратом сада белел большой дом и Трауберг хорошо знал его. Это была тюрьма, где сотни людей сидели за решеткой и смотрели на голубое небо не с радостью и надеждой, а с проклятиями. Душистый табачный дым вился кольцами из-под светлых густых усов и улетал в окно, подхваченный легким утренним ветерком. В душе Трауберга царили мир и покой, и сознание исполненного долга перед жизнью. Чудная картина природы и красивого города умиляла его и будила теплые чувства. Шел в спальню жены, зная, что она уже проснулась и возится с детьми. В спальне и соседней комнате — детской — было тепло и душно. Фрау Трауберг сидела на кровати в широкой блузе и кормила грудью розового пухлого ребенка. Красивая, полная, с большими серыми глазами, она встретила мужа улыбкой. Ребенок, услыхав шум шагов, бросил грудь, обернулся и, раскрыв беззубый рот, агукнул. — Смотри, Фриц, он стал узнавать тебя. Такой умный! Ни Ганс, ни Каролинхен не развивались так скоро. Подумай, ему ведь всего восьмой месяц. — Да, из Фрица выйдет толк. Он будет добрый солдат. Фрау Трауберг подняла маленького и начала его подкидывать вверх, смешно раздув щеки и оттопырив полные красные губы. — Тру-ту-ту! Тру-ту-ту! Солдаты пошли в поход. Барабаны бьют, музыка играет. Тру-ту-ту! Ребенок сочувственно гукал и пускал слюни. Трауберг со счастливой улыбкой смотрел на радостную семейную картину. А в соседней детской уже проснулись двое старших детей и, услыхав, что мать напевает военный марш, выбежали в одних рубашонках. Ганс успел захватить игрушечное ружье, а Каролинхен удовольствовалась метелкой, и оба, положив оружие на плечи, стали маршировать, подпевая матери: — Тру-ту-ту! Тру-ту-ту! Трауберг любовался здоровыми, краснощекими детьми и красивой полногрудой матерью и по щеке его сбежала слеза, повиснув на длинном светлом усе…II
Семилетний Ганс видел, что к отцу приезжали какие-то люди. Один из них, в блестящем мундире, очень заинтересовал мальчика. Но Трауберг и посетители заперлись в кабинете, а мать увела Ганса в сад и там велела играть вместе с Каролинхен. Сама она сидела на садовом диванчике и тихо двигала взад и вперед колясочку, в которой, под кисейным пологом, спал Фриц. Через полтора часа вышел к семье сам Трауберг. Лицо его было строго, но не выражало никакого волнения. Ганс не понял, о чем говорили родители, но до слуха его долетели слова: — Это очень выгодно! А потом мать стала говорить что-то о необходимых покупках и отец кивал головой в знак согласия. Тут оба обернулись к детям и фрау Трауберг рассмеялась и стала шептать на ухо мужу. — Ну, конечно! — сказал громко Трауберг. — Ты говоришь, он видел у соседей детский аэроплан? — Да. И Ганс догадался, что дело идет о покупке игрушек и сердце его замерло от надежды; неужели отец купит эту красивую штуку, которую соседские дети заводят, и она летает, описывая круги в воздухе? Лицо Трауберга стало опять серьезным и он пошел твердой походкой домой. Ганс любил и боялся отца. Огромный рост, длинные желтые усы и напряженный взгляд серых глаз навыкате производили на мальчика подавляющее впечатление. Чем занимается этот большой, страшный мужчина, Ганс не знал, а спрашивать не смел. Но ему казалось, что он делает что-то очень важное, такое же большое, как сам, и мальчик решил, что и он, когда вырастет, будет во всем, как папа. К вечеру Ганса поразила суетня в доме. Мать, при помощи Амалии, укладывала отцовский чемодан и отдельно корзину, в которую положила свертки с чем-то вкусным и бутылку вина. Трауберг долго возился в своей комнате и вышел, одетый по-дорожному: в длинном, ниже колен, пальто и в цилиндре. Гансу показалось, что отец вырос еще больше и обратился в великана, о котором рассказывала ему в сказке старая Амалия. И еще больше он стал бояться и любить этого страшного мужчину. Вот он нагнулся и поцеловал его, потом Каролинхен, но девочку поднял на воздух и она радостно завизжала. Амалия протянула ему для поцелуя маленького Фрица. И, наконец, родители сами попрощались. Трауберг хотел ограничиться поцелуем в лоб, но жена крепко обняла его шею полными, белыми руками, обнаженными до плеч от скатившихся назад широких рукавов блузы. Провожать себя на крыльцо Трауберг не позволил, и Ганс в открытое окно видел, как он сел на автомобиль и умчался в клубах пыли и бензинных паров, запах которых долетал и сюда, в комнату. На следующий день, пользуясь отсутствием мужа, фрау Трауберг убирала его комнату: выбивала пыль, мыла, чистила. Ганс задумчиво стоял у окна и смотрел на расстилавшийся вид города и далеких полей. — Мама, — спросил он, обернувшись, — куда уехал папа? Фрау Трауберг слегка вздрогнула и испытующе оглянула мальчика. Материнским чутьем она поняла, что эта маленькая головка над чем-то упорно работает. И даже между хорошеньких бровок, на гладком белом лбу, прорезалась морщинка. — Он поехал, милый, в один большой прекрасный город и скоро вернется. — Зачем поехал папа? — За игрушками, — поспешила успокоить мать, — он привезет много-много прекрасных игрушек и тебе и Каролинхен. — Аэроплан? — Да, и еще красивую лошадку. И еще кирасу и каску, и длинную-длинную саблю. Ты оденешься и будешь совсем военным. Тру-ту-ту! Тру-ту-ту! — А трубу он купит? Я хочу играть зорю. — Купит и трубу. Но мать видела, что какая-то назойливая мысль не оставляет Ганса. Он опять долго смотрел в окно. — Мама, расскажи мне, что такое палач? Фрау Трауберг показалось, что в комнате ярко блеснула молния и вся она сотряслась от удара. Она примирилась, сжилась с ужасом действительности и ее, как и Ганса, слишком подавляет огромный мужчина, холодный, спокойный, размеренный в словах и поступках. Старалась не думать и это спасало. И Амалия никогда словом не обмолвится, ходит за птицей и скотом, будто служит у какого-нибудь чиновника или зажиточного бюргера. От детей обе женщины скрывали. — Что ты сказал, Ганс? — Я спрашивал, мама, что такое палач? — От кого ты слышал? — Мне говорил сегодня утром соседский Вильгельм. Фрау Трауберг не находила слов. — Это… это такая служба, — цеплялась она за надежду, что сын еще не все знает. — Неправда! — резко возразил мальчик. — Вильгельм сказал, что палач вешает людей. Ставятся два столба, а сверху перекладина. А с перекладины спускается петля и туда палач сует голову человека и толкает его. И человек повиснет и не может кричать. А потом умирает. Вильгельм все знает. Ему 11 лет и он читает книги и газеты. Он даже курит и научился пускать кольца. Мать чувствовала, что вся она застыла и в жарком летнем воздухе ей было холодно и дрожь пробегала по спине и что-то крепко сжимало сердце. — Да, — продолжал мальчик, — и еще Вильгельм сказал, что мой папа палач и поехал вешать. Истина открылась. Солгать ребенку нельзя. Он поверит больше Вильгельму, чем ей. Надо спасти хоть что-нибудь. — Папа вешает только очень злых и дурных людей, потому что они делают все очень скверное и убивают других. Они убивают и за то их вешают. И потому ли, что фрау Трауберг жила в городе, где враждуют немцы со славянами, она добавила: — Папа вешает поляков. — Немцев он не вешает? — пытливо спросил мальчик. Фрау Трауберг не могла выдержать вопрошающего взгляда наивных детских глаз, не могла солгать. Она опустилась на диван и горько-горько зарыдала.Живая или труп? Юридическая загадка
I
Нину Бахрушину в кругу знакомых считали первой красавицей. Блондинка, с нежным овалом лица, с роскошными волосами и темными глазами, она производила чарующее впечатление.
Девушка всегда пользовалась прекрасным здоровьем, была весела, жизнерадостна. Но с восемнадцати лет у ней обнаружилась странная болезнь, ставившая в тупик врачей. Безо всякой видимой причины, девушка чувствовала слабость, полный упадок сил, который переходил в глубокий обморок. Затем наступала спячка, длившаяся сутки и больше. После припадка Нина чувствовала себя так же хорошо, как и раньше и даже не помнила, что с нею случилось. Со временем приступы этой редкой болезни, которую медики не умели даже назвать, стали чаще, обморок и спячка продолжительней. После одного особо сильного припадка больная уж больше не просыпалась. Всевозможные возбудительные средства не дали никакого результата. Жизнь оставляла это прекрасное молодое тело и сон медленно, но верно переходил в смерть. Наконец, наступили все признаки того, что с жизнью покончен расчет. Правда, не было трупных пятен и запаха смерти, но тело окоченело, температура опустилась ниже предела. В глазах удостоверено омертвение. Кровь не шла из пореза. Консилиум врачей в один голос решил, что девушка умерла. В доме Бахрушиных наступили дни безысходного горя, слез и той особой гнетущей тоски, которая овладевает всей семьей, когда в доме покойник. Какая-то пустота чувствуется в душе. Все не нужно. Обычные потребности жизни кажутся чуть не оскорблением памяти умершей. Почему-то стыдно есть, пить, спать на мягкой постели, заботиться об одежде, исполнять все, что издавна вошло в привычку. А тут еще несносные посетители с своим соболезнованием. Хлопоты о похоронах. Чужие люди, ворвавшиеся в семейную жизнь. Панихиды, переговоры со священником. Покупка «места». Около дорогого трупа слетается воронье, жадное, настойчивое. Все это рассчитывает на плату за услуги, на чайки, все это питается за счет смерти… На третий день Нину похоронили на загородном кладбище. Над тем, что было прекрасной девушкой, одна улыбка которой волновала воображение мужчин и влекла тайной, могущественной властью пола, — вырос могильный холмик, весь покрытый венками, с увядающими уже цветами…
II
Кладбищенский сторож Степан жил в своей хибарке одиноко. Он овдовел несколько лет тому назад. Дочь «загуляла» и он с ней не видался. Не знал даже, жива ли. Сын пошел по торговой части и уехал с хозяином в Сибирь, откуда изредка присылал письма с сыновним почтением и поклоном и маленькой суммой денег — «вам, папаша, на табачок». После смерти жены пробовал Степан взять стряпку, молодую бабенку. Да стали говорить зазорно, а батюшка прямо указал: — Ты хоть и не церковного причта, да все же в некотором роде при святыне состоишь и охраняешь ниву смерти. Должен ты поэтому себя соблюдать и соблазна не сеять. Да и самого Степана угнетала Василиса своим разбитным характером. Так и рвалось у ней наружу бабье нутро. И во всех движениях, и в ухватках, и в вечном хохоте, и в больших бесстыжих глазах. А Степан был человек угрюмый, ушедший в себя, всегда о чем-то думающий. Постоянная близость к мертвецам наложила на него особую печать замкнутости, но в тайниках его души зародила и совсем новое, страшное чувство, сама мысль о котором ужасна и отвратительна для всякого нормального человека. Василису сторож прогнал и стал жить совсем один. Полная отчужденность развила в нем болезненно-острую фантазию, а сверх того, он начал страдать тайным пороком.
Один, в тиши ночи, сидя у окошка и глядя на холмики, кресты, памятники, озаренные луной, Степан медленно рюмка за рюмкой тянул водку. Выпивал бутылку, две. Не пьянел, а входил в какой-то особый экстаз. Шел бродить по кладбищу, присаживался и вел беседы вслух с безмолвными могилами. Мысли его принимали совершенно случайный характер, в зависимости от того, кто здесь похоронен. — Ну, ваше сиятельство, пожили всласть, лошади, автомобиль, дворню целую держали. Иван, подай! Петр, принеси! Теперь-то каково? А? Сказано: прах! А ты гордился. И Степан плевал на сиятельную могилу. — Да, был купец. С живого и мертвого драл. Нищему копейку жалел. Небось, не раз в гробу перевернулся… Так Степан обличал покойников по силе своего разумения. Но иное чувство он проявлял к умершим молодым. Плакал на их могилах: — Пташка ты малая. Херувимчик! Жить бы тебе да жить… И Степану хотелось открыть могилу, снять гробовую крышку, приласкать, приголубить этих преждевременно погибших. Особенно жалел он девушек. — И радости на свете не видела! Ребенка свово на руках не качала. В темной, одинокой душе Степана, в больном мозгу, отравленном алкоголем, поднимался призрак, властно охватывающий все его существо, всю его волю. К умершим молодым девушкам и женщинам он чувствовал то, что чувствует мужчина только к живым. Степану мерещились красивые женские лица, бледные, с закрытыми глазами, маленькие прозрачные руки, и тайная сила влекла его к могиле, ко гробу. И он едва боролся с искушением, с соблазном чудовищного греха. Похороны Нины глубоко его потрясли. Он пробрался в церковь и не спускал сверкающих глаз с прекрасного лица покойницы. А в ночь, наступившую за похоронами, Степан уж не мог владеть собою. Стояла холодная осенняя погода. Ветер шумел в вершинах кладбищенских деревьев и крутил в воздухе пожелтевшие листья. Облака неслись в безумном беге, то открывая луну, то задергивая ее темной завесой. Где-то на краю города мучительно выла собака. Слышалась колотушка ночного сторожа. Прячась за деревьями и памятниками, скользила темная тень человека… Вот и свежая могила, и холм из комьев желтой глины и завядающие венки. Степан сбросил их и с лихорадочной поспешностью начал разрывать могилу. Быстро мелькала в руках лопата. Рос вал выброшенной земли… Лопата стукнулась о что-то твердое и выглянувшая луна осветила белую глазетовую крышку гроба и крест… Степан вскрыл жилище смерти и вытащил покойницу. В белом платье лежала она на траве… Странно, что руки трупа свободно подались и раскинулись.

Но Степан ничего не видел, ничего не понимал. Он весь ушел глазами в прекрасное лицо. Дикая, неистовая страсть овладела им и он заключил мертвую в свои преступные объятия… Пронзительный крик пронесся над кладбищем. Крик боли и ужаса… Случайно проходившая у ограды кладбища компания подвыпивших рабочих замерла в оцепенении. — Братцы, режут кого-то! Смелая молодежь, подогретая вином, стала перелезать через железную решетку…
Прокурор совещался со следователем о деле кладбищенского сторожа. — В каком же преступлении мы будем обвинять Степана Иваненко? — Я полагаю, что в кощунственном осквернении могилы и трупа. — Позвольте! Трупа не было. Нина Петровна Бахрушина похоронена была заживо в летаргическом сне. — Сторож этого не знал. Он решился на осквернение трупа под влиянием, вероятно, полового извращения. Но ниоткуда не следует, чтобы он был способен на изнасилование живой девушки. Я почти уверен, что нет. Пробуждение от летаргического сна Бахрушиной произвело на него потрясающее впечатление. Он часто рыдает в камере и твердит: «За что я ее, красотку, погубил, бесчестной сделал?» Злая воля считалась с трупом, а не с живой девственницей. — Значит, по вашему, нужно судить лишь по намерению, а не по фактам? В действительности произошло изнасилование девушки, да еще при отягчающих обстоятельствах — при бессознательном состоянии потерпевшей. Далее, не забудьте, что осквернения трупа не было, потому что не было и объекта преступления, то есть трупа. — Это какой-то лабиринт. Юридическая загадка! Как-нибудь обвинить все же нужно. Я продолжаю держаться квалификации преступления в смысле кощунства и осквернения. — Что говорят эксперты? — Нашли повышенную нервность, алкоголизм, но в общем признали нормальным. — Конечно, ваша мысль недурна. Надо же сбыть это дело с рук! Но ведь преступление совершено против личности. Бахрушина по закону имеет право выступить и как гражданская истица, помимо вопроса о насилии и потере девственности. Ведь адвокаты нас непременно подведут. — Обвиним в изнасиловании. — Тогда скажут, что его не было, так как преступник имел в виду труп. Я уже не беру другую сторону дела: Нина Бахрушина должна благодарить сторожа за спасение ее жизни. — Что же нам делать? Прокурор безнадежно развел руками.
Как убивают?
I
— Главное: помните, что вы не имели никакого намерения убить и для этой цели не доставали револьвера. Оружие вы носили по привычке… ну, хоть потому, что живете за городом и часто возвращаетесь ночью. С Пискуновым вы встретились случайно, отвели его в сторону, чтобы объясниться. Он отвечал вам дерзко, вызывающе, а вы под влиянием аффекта выхватили револьвер и стреляли в упор. Так учил адвокат Бобровского, убившего любовника своей жены. Бобровскому были разрешены свидания в тюремной камере с защитником Вересковым, еще только начавшим адвокатскую карьеру и ухватившимся обеими руками за дело, нашумевшее в газетах. Защитить Вересков вызвался даром, да и нечем было заплатить Бобровскому, еле сводившему концы с концами при неустанном тяжелом труде. Неудачный инженер, он зарабатывал средства к жизни составлением популярно-научных брошюр и сейчас в тюрьме корпел над книжкой по воздухоплаванию, чтобы доставить жене Зиночке и маленькому сыну сто рублей на время следствия по его делу. Вересков говорил знакомым: — Удивляюсь равнодушию и хладнокровию этого человека. Убил своего друга, с которым виделся чуть ли ни каждый день, а говорит об этом, словно о чужом деле — размеренным, монотонным голосом. Подумаешь, что он совершил что-то необходимое, справедливое и теперь обсуждает спокойно последствия. Я скажу вам откровенно, боюсь его и он почему-то мне крайне несимпатичен. Бобровский действительно не проявлял никаких признаков душевных мук, как это полагается случайному, да еще интеллигентному убийце. Был всегда ровен, внимательно выслушивал адвоката и во всем с ним соглашался. Конечно, самое важное доказать на суде, что убийство совершено не с заранее обдуманным намерением, а под влиянием аффекта. Бобровский и следователю дал показание в этом смысле. Вересков может быть спокоен: он на суде сумеет держать себя и на оправдание большая надежда. Все это говорилось так равнодушно, почти небрежно, словно дело касалось не целого будущего человека, а он, Бобровский, делал одолжение адвокату, обещая способствовать успеху его защиты. Выходило так, что не ему, а защитнику нужен оправдательный приговор. Волновался слегка Бобровский лишь в тех случаях, когда просил Верескова съездить к жене и что-нибудь передать.II
Зал суда был переполнен. Преступление на романтической почве всегда привлекает массу любопытных, особенно «уголовных дам». Все искали глазами жену подсудимого, виновницу преступления, но она не явилась, и ее письменные показания читались во время судебного следствия. Дело, в сущности, было очень простое. Пискунов был другом дома Бобровских, часто ходил к ним запросто, обедал, проводил у них целые дни, как холостяк, пригрелся у чужого тепла, входил даже в интересы семьи. Так тянулось не один год и Бобровский ничего не подозревал, да и не в чем было упрекать жену. А тут вдруг началось охлаждение между супругами. Бобровский заревновал к неизвестному, стал следить, шпионить и, наконец, узнал, что «неизвестный» — его самый близкий друг Пискунов. Потрясенный изменой жены, обманом и предательством друга, Бобровский через несколько дней разыскал Пискунова в ресторане в компании приятелей, отвел его к отдельному столику для каких-то объяснений, но, не обменявшись ни одной фразой, вынул револьвер и двумя выстрелами уложил соперника на месте. С юридической точки зрения, весь вопрос состоял в том, было ли совершено убийство в состоянии запальчивости и раздражения или с заранее обдуманным намерением. Прокурор приводил веские данные в доказательство последнего. Ничем не доказано, что подсудимый носил с собой оружие, напротив, все говорит за то, что револьвер он достал исключительно с целью убийства. Узнав об измене жены, Бобровский продолжает принимать у себя Пискунова и не показывает ему вида, что знает все. О том, что Пискунов будет в ресторане, подсудимый знал заранее и случайность встречи исключается. Наконец, прокурор указал на необычайное хладнокровие подсудимого в момент совершения убийства и после него. Свидетели показывают, что, убив Пискунова, Бобровский подошел к столику, где сидела кампания, бросившаяся к убитому, и выпил несколько рюмок коньяку, а потом закурил папиросу и безучастно относился к аресту, давая на предварительном следствии короткие показания сухим, деревянным голосом. Ни в один момент совершения убийства подсудимый не выказал волнения, не был поражен видом окровавленного трупа, не жалел убитого друга, не мучился сознанием, что лишил жизни человека. Все это явные признания, что убийство совершено заранее обдуманно, со строгим расчетом шансов успеха в преступном деянии. В легкой, как пена шампанского, речи защитник доказал совершенно обратное мнению прокурора. Револьвер подсудимый носил всегда с собой в целях самозащиты, так как живет с семьей за городом, а известно, что окраины столицы кишат хулиганами. Встречи с Пискуновым не искал — она произошла случайно. Вздумал объясниться по поводу жены, но Пискунов ответил дерзостью, подсудимый не выдержал и стрелял. Его видимое спокойствие и равнодушие — признаки скрытного характера, огромной силы воли, закаленной в тяжелой борьбе за существование: «Судьба вела Бобровского по тернистому пути и он приучил себя не вскрикивать, не обнаруживать боли при уколах острых шипов». Речь Верескова произвела сильное впечатление на присяжных и публику. Прокурор возражал бесцветно. Надежда на оправдательный приговор становилась уверенностью. Оставалось последнее слово подсудимого.III
Бобровский встал, по обыкновению со спокойным каменным лицом, только глаза его горели странным внутренним огнем. «Когда меня привели сюда, в зал суда, я думал об одном: необходимо, чтобы оправдали! Необходимо для моей семьи, для меня самого. Буду работать для жены и сына. Быть может, верну ее любовь. Но, по мере того, как шло следствие, мне становилось все тяжелее на душе, стыд какой-то охватил душу. Зачем люди лгут? Зачем обман? Почему нельзя сказать правды? Сказал свою речь прокурор. В ней много правды, но много и лжи. Глубоко благодарен защитнику: он старался обелить меня, хлопотал о моем оправдании и тоже лгал… И вот я подумал: я убил человека, кто знает, прав я или виноват, но был человек и нет его… по моей вине. Теперь все старание — уйти от суда, чтобы оправдали… Оправдают, будут писать в газетах, в статьях, фельетонах, трепать мое имя и имя моей жены и лгать, лгать и лгать… Мертвый требует, чтобы я сказал правду, и я скажу ее. Раньше я думал так же, как прокурор и защитник, что убийство совершается в состоянии аффекта или с заранее обдуманным намерением. И только теперь знаю, что это ложь. И то, и другое. Если бы меня раньше спросили, способен ли я убить человека, я ответил бы правду: нет, ни в каком случае, разве в борьбе, при самозащите. Убийство рисовалось мне в воображении, как что-то ужасное, огромное, подавляющее… Оказалось, что это совсем просто, то есть сам акт убийства. И дело совсем не в том. Описывают состояние убийцы перед преступлением и лгут. То бешенство, зеленые круги в глазах, не помнит, что делал. То решил, обдумал, колебался, мучил голос совести, но преступная мысль осилила. И это вздор. Когда я узнал, какое несчастие свалилось мне на голову, я пережил страшную ночь. Меня трясло беспрерывно, подкидывало на постели. Ни на минуту не мог сомкнуть глаз. В мозгу стучало, мысли вихрем неслись и ни на одной нельзя было остановиться. Принимал какое-то лекарство, пробовал напиться, только бы избавиться от этой омерзительной дрожи, от страшной карусели мыслей… Ничего не помогало! К утру вдруг мысли остановились в своем беге, сознание прояснилось, перестало подкидывать на постели и внутри меня властный голос сказал: ты должен убить! И как только я пришел к этой мысли, так и успокоился. В жизни явилась определенная цель, а раньше я думал, что и жить больше нельзя. Правда, больше ни о чем, как об убийстве, я думать не мог. И когда я эти несколько дней отвлекался от главного, предстоящего мне дела, разговаривал со знакомыми, занимался текущими делами, мне внутренний голос напоминал: „Все это не важно… главное — надо убить!“ Трудно мне описать свое внутреннее состояние. Это вот на что похоже: если взять длинную трубу, широкую с одного конца, узкую с другого. И я смотрел с широкого конца, а в узкий видел одного Пискунова, которого непременно должен убить. Стенки же трубки предохраняли мой мозг от внешних впечатлений и ненужных мыслей. Потому что была одна нужная: убить! Прокурор говорит: заранее обдуманное намерение. Да я ничего не обдумывал, я просто ни о чем, кроме убийства, думать не мог. Была власть мысли. Было что-то выше и сильнее меня. Против чего я не мог, да и не хотел бороться, потому что смотрел в широкий конец трубы, а в узком видел одного Пискунова, которого я непременно должен убить. И никакой запальчивости и раздражения у меня тогда не было. Напротив, я был спокойнее, чем когда-либо. Словно застыло все в груди и нет в ней чувств, словно я застраховался от всяких ощущений. И когда я стрелял, старался целиться, как меня года два тому назад учил на даче один офицер. Вы скажете: навязчивая идея, временное умопомешательство? Но тогда безумие — каждое твердое решение. Вы скажете: человек не имеет права на самосуд? Да! Но если я украду вещь стоимостью в несколько копеек, меня будут судить судом присяжных. А если человек украдет мою жену, украдет ее тело и душу, его не будут судить за кражу. Если человек, которому доверяли, окажется обманщиком и предателем, его не осудят, как мошенника. И есть случаи, когда человек имеет право на самосуд. Я сказал все по правде, ничего не скрывая — судите!» Слово подсудимого произвело тяжелое впечатление на всех и отвратило от него зародившуюся было симпатию. Прокурор потребовал, ввиду новых показаний Бобровского и необходимости исследовать умственные способности подсудимого, обратить дело его к доследованию…Его превосходительство
I
В квартире генеральши Беженцевой царила тишина. Повсюду были загашены огни и только в спальне старухи теплилась лампадка перед большой старинной иконой. На широкой кровати покоилось маленькое сухое тело, обозначившееся под стеганым шелковым одеялом безобразным зигзагом. Сморщенное, злое лицо выглядывало из чепчика, украшенного оборками и кружевами. В ногах лежал белый, как снег, кот, тихо шевеля широким пушистым хвостом. То поднимался, выгибая спинку, зевал розовой пастью, моргал, то разваливался, представляя застреленного кролика, и нежился в тепле и шелке. Трепетный свет лампады отбрасывал причудливые движущиеся тени по стенам. Был третий час ночи… В коридоре раздался едва слышный шорох. Ощупывая в темноте руками стену, тихо кралась страшная фигура. Вот она заглянула в полуоткрытую дверь спальни. Еще два шага, и она вступила в полосу света. С головы до ног белое одеяние, из-под капюшона смотрит ужасный голый череп. Несколько прядей выпущенных волос, синева на щеках, тусклые, словно вставленные, глаза, пучок шерсти на выдавшейся нижней челюсти, — создают иллюзию мертвеца, еще не совсем расставшегося с остатками тела. Фигура остановилась около кровати, поднялись костлявые руки в широких рукавах, зашевелилась безобразная челюсть и тихий, неземной стон раздался в спальне генеральши Беженцевой. Первым проснулся белый кот, сел и вытаращил огромные черные глаза на привидение, не проявляя ни малейшего страха. По-видимому, кот даже был рад новому впечатлению среди скучной, монотонной жизни в качестве любимца полумертвой старухи. Привидение застонало громче. Это был крик, полный несказанной, загробной муки. Это была потусторонняя жалоба, безнадежная скорбь об утрате земного существования… Тихое, сонное посвистывание, раздававшееся из сухого горбатого носа Беженцевой, внезапно прекратилось. Открылось одно веко и затрепетало другое. Зашевелились кружева чепчика. Приподнялась голова. Высунулась из-под одеяла иссохшая рука, согнулась острым углом, оперлась… Вот уже села на кровати старуха. Раскрылись бескровные губы, зияет черная дыра с двумя длинными, желтыми зубами. Горбом поднимается старческая грудь, когда-то, в молодости, сведшая с ума генерала Беженцева красотой девственных, упругих форм. Силится крикнуть старуха и не может, руками ловит воздух, смертельный ужас отражается в круглых сонных глазах. А привидение подошло ближе. Тянутся костлявые руки… Забеспокоился белый кот, почуял неведомую опасность. Подошел к старухе, трется пушистой шерстью, вздрагивает хвостом. То на хозяйку посмотрит, то на страшное привидение. Не знает, как быть, чем помочь. Шире раскрылся беззубый старухин рот и с громким воем, с неожиданной для этого слабого тела силой, понесся призыв о помощи. Привидение отпрянуло, словно само испугалось. Потом бросилось вперед, повалило на подушку старуху, впилось когтистыми пальцами в дряблую шею. Свистящий хрип раздался в спальне. Кот спрыгнул на пол и тревожно ходил у ног привидения. Вспыхнула ярче лампадка, блеснул серебряный венчик, кроткий лик иконы исказился пробежавшей тенью… — Ваня, Ваня, скорей! В дверях стояла полная, грудастая кухарка. Как-то нелепо взмахивала обнаженными руками. Полусмятая сорочка открывала толстые, обрубками, ноги почти до колен. Волосы растрепаны. Глаза — вертящимися колесами. Раздуты смешные, глупые ноздри. На шее выступил клубок ужаса. — Ваня, Ваня, скорей! Из темноты вынырнул здоровый крепкий мужчина в одном белье. Длинные усы, бритый подбородок, привычно суровое лицо солдата. Не струсил. Раз, два! — бросился на привидение. Схватил его поперек тела, да как шваркнет об угол стола. Лежит на полу, стонет привидение. По-собачьи воет генеральша Беженцева. Бестолково мечется полуголая кухарка. Цыкает на нее солдат. — Телефон где, дура? Звони в участок!II
Следователь Афросимов, прочитывая протокол предварительного дознания, только руками разводил. Совершенно неправдоподобное преступление! Что могло заставить почтенного статского советника Петрова одеться в маскарадный костюм мертвеца, забраться ночью в спальню Беженцевой, смертельно перепугать старуху и даже покуситься на ее жизнь? «Для раскрытия преступления прежде всего необходимо выяснить его мотивы. Генеральша Беженцева — богатая старуха. Она занимает одна огромную квартиру, в которой живет после смерти мужа уже восьмой год. У нее превосходная обстановка, масса дорогих, художественных вещей. Она дома держит немало драгоценностей, но наличных денег у нее всегда было немного. Резала купоны от процентных бумаг, меняла их и вновь клала в банк на текущий счет. Скупая, копила и копила, неизвестно для чего и для кого. Держала двух прислуг: старуху чуть не семидесяти лет, которая так и не проснулась, вследствие глухоты, в момент преступления, имолодую кухарку Малашу, любовник которой, конногвардеец Иван Васюков, и спас Беженцеву от смерти. Теперь переходим к Петрову. Он живет на той же лестнице, занимает квартиру всего в четыре комнаты. Жена, пятеро детей, из которых старший сын — студент, потом дочь — гимназистка, мальчик-гимназист, девочка с параличом ног и двухлетний ребенок. Держат кухарку, горничную и няню. Петров служит в департаменте неокладных сборов. Жалованья получает около четырех тысяч. По службе аттестован превосходно, ожидалось повышение. Два месяца тому назад жена его получила наследство в десять тысяч рублей. Самое подробное расследование не дает никаких данных предполагать, чтобы Петров имел какие-нибудь увлечения на стороне. Да он уже человек пожилой, болезненный. В карты не играет, не пьет. По всем отзывам, хороший семьянин, любящий муж и отец, трудолюбивый чиновник. Как же объяснить его преступление? На все вопросы он резко отвечает: „Судите сами, как хотите, говорить я не буду“. Вот уже третий месяц, как он сидит в доме предварительного заключения. Предполагалось внезапное помешательство с навязчивой идеей, но эксперты в один голос решили, что Петров — человек совершенно нормальный. Положительно, не знаю, что делать. Никаких нитей, никаких сколько-нибудь вероятных предположений». Следователь ерошил волосы и беспокойно ходил взад и вперед по комнате. «Вот и вчера допрашивал Петрова. Молчит, как пень. Лицо серое, унылое, каменное. Типичный представитель петербургской бюрократии. Холоден, строг, исполнителен. Как-то даже неловко его допрашивать. А ведь какую штуку выкинул! Оделся в саван, напялил маску мертвеца, до смерти перепугал старуху, да еще душить ее бросился. Каким-то образом добыл французский ключ от входной двери. Явно: преступление с заранее обдуманным намерением. Неужели с целью грабежа? Просто голова ходит кругом. Ведь это черт в ступе, сапоги всмятку. И приговор ему грозит очень серьезный. Беженцева не нынче-завтра умрет. Врачи объясняют нервным потрясением. Пробовал допрашивать жену Петрова, детей, прислугу, швейцара, дворника. Все в ужасе, все в недоумении. Петров живет в одном и том же доме уже пять лет. Все его кругом хорошо знают, все хвалят. Просто верить не хотят, что он был способен на убийство». В прихожей раздался звонок. Прислуга ввела курьера с рассыльной книгой. Следователь расписался, вскрыл пакет и невольно ахнул. «…Числящийся за вами арестант, статский советник Федор Иванович Петров, прошлой ночью лишил себя в камере жизни посредством задушения веревкой, свитой из полос разорванной сорочки. На столе была обнаружена посмертная записка, которую при сем честь имею препроводить…»III
«Господин следователь! Обстоятельства жизни, приведшие меня в тюрьму, до того неправдоподобны, что ни вы, ни судья, конечно, не поверили бы моей искренней исповеди. Из ваших расспросов я понял, что меня на старости лет стараются обвинить в покушении на убийство с целью грабежа. Имя мое будет опозорено, жена и дети проклянут преступного отца, правительство лишит жену мою права на пенсию, заработанную мною многолетним трудом. Если же я открою истину, и мне даже поверят, то ведь стыдно, господин следователь, сознаться пожилому человеку в таких вещах. Вчера вечером я окончательно решил лишить себя жизни. Так будет лучше. Я не хотел оставлять никакой записки. Пусть думают, что хотят! Но в последний раз, когда вы меня допрашивали, я искренне пожалел вас: до того вы были обеспокоены, до того искали разгадки таинственного преступления. Ну, что же! Я вам расскажу истинную правду. Вы, наверное, ждете необычайных разоблачений, а их-то и не будет. Глупая, пустая причина того, что я сделал. Вы, пожалуй, скажете: это письмо писал сумасшедший! А между тем, я в здравом уме и твердой памяти. Все это сложилось как-то незаметно. Не сумею вам изложить последовательно, как пишут господа литераторы. Живу я с семьей в этом доме шестой год. Привыкли мы к дому, к улице, к лавкам, к швейцару, к старшему дворнику. Городовой, что стоит на углу, мне и жене честь отдает. Привыкли мы ко всему этому. Жалованье мое и сторонние заработки — все увеличивались, но прибавлялось и семейство. Теснота получилась ужасная, а с рождением последнего ребенка так прямо и жить стало невозможно. Верите ли, господин следователь… я все-таки не так еще стар, и жена у меня в полном здоровье и требует жизни. Но мы совершенно вынуждены были забыть о том, что мы супруги, ибо людно у нас в квартире до чрезвычайности, и нет никакой возможности найти уединенный приют и отдохновение. Много раз затевали мы с женою разговоры о переезде, о новой, более поместительной квартире, но очень привыкли к дому и трудно было выехать. Когда же жена получила наследство, — стала меня еще сильнее упрекать. Начался у нас здесь разлад семейственный. Заметил я даже как бы охлаждение со стороны супруги, женщины еще не старой и жизнерадостной. Даже как будто и на сторону стала заглядываться моя жена. И все это единственно из-за тесноты квартирной. Нанимай и нанимай другую квартиру, а из дома выехать нельзя, то есть оно и возможно, но очень мы привыкли. Стал говорить тут старший дворник: „Генеральша Беженцева на ладан дышит, вот помрет — ее квартиру и займите“. Шутка — шуткой, а мысль эта у нас гвоздем засела. Дали мы на чай прислуге, да в отсутствие генеральши квартиру ее осмотрели. Жене страшно понравилась, и все она по комнатам мысленно распределила. Только и разговора, что о большой квартире. Жена меня целует, об отдельной супружеской спальне нашептывает. Вот ждем-ждем, когда же генеральша Беженцева помрет? А как старуха все жила, то жена меня опять возненавидела. „Ты мужчина — ты обязан“. — „Переедем, — говорю, — в другой дом“. — „Вот, у вас всегда один глупый ответ!“ А в спокойные минуты опять затевается разговор об удобствах генеральшиной квартиры и об отдельной супружеской спальне. „Котик“, — говорит и за ухом меня пальцами щекочет… Эх, господин следователь, не понять вам всего этого, молодой человек. Выжить решился я генеральшу. Старуха мертвеца испугается, с квартиры съедет. Только всего, что попугать думал… Впрочем, уж сознаваться, так сознаваться: надеялся, с испугу помрет… А как закричала, сам не понимаю, что сделалось со мной. Душить бросился… Только и всего, господин следователь: из-за квартирной тесноты все вышло… Старый я дурак — вот что!..»Двуликий
I
В пригородной слободке Настя Перцова считалась первой красавицей. Но как ни ухаживали за ней местные молодые люди, она не нашла среди них избранника. Только шутила, смеялась, плясала, а в руки не давалась. Красавицей Настя была на простой вкус этой полудеревни. Высокая, грудастая, с широкими бедрами и крутой поясницей. Румянец во всю щеку. Вечный оскал блестящих белых зубов между полными губами, словно выкрашенными кровью. Глаза огромные, под зонтиком длинных густых ресниц, глаза — «рекой». Коса ниже пояса. Походка с перевальцем. Радость жизни так и брызжет из всего этого здорового, молодого тела. И когда случайно увидел ее поэт-декадент, забредший в слободу, долго пил пиво бокал за бокалом, молча трудясь над какой-то мыслью, и наконец, разрешился: — У ней смеющееся тело!.. Никто из слобожан не знал точно, откуда явился матрос Васька Полоз. Так сократили в трактире «Сигнал» фамилию Полозов. Ваську полюбили за веселый нрав, ухарство, а еще больше за то, что сорил деньгами, не считая, угощал всех. С треском играл на бильярде, катал шары на кегельбане, пил, не отставая, и к удивлению почти не пьянел. Пел песни, и русские, и привезенные им из далеких стран. Умел так рассказывать о своих путешествиях, что заслушивался весь трактир и граммофон уныло торчал на буфете и никто из публики не требовал «Вяльцеву» или «Шаляпина». Было известно о Ваське Полозове, что он служит на грузовом пароходе какой-то компании. Совершает иногда долгие, а то и короткие поездки, но всегда возвращается с деньгами, которые и прокучивает весело в слободе. Васька всегда брал верх над слободской молодежью благодаря своему умственному превосходству, но на него не обижались. Интрига пошла с той минуты, когда Полозов в первый раз засмотрелся на Настю и проговорился: — Эка красавица! Тут все и ощетинились. Сказалась старая обида на равнодушие девушки. — Красавица, да не для тебя рощена! Смотри, брат, ноги переломаем! — Ишь, плашкет, туда же! А более скромный из других подошел к Ваське и сообщил таинственно: — Ты, в действительности, не забалуй! Мы насчет своих девок — ох! — люты. Пойдешь вечером, еще ножичком пощекочут. Еще ничего не было с Васькиной стороны, а все уже спешили его предупредить: «Смотри да смотри!» Матрос только зубы оскалил и ус подкрутил. — Дураки вы, погляжу я на вас! Сами взять девку не можете, чужого человека боитесь. Я вот никого не боюсь, сколько ни грозите. Эй, выходи, кто хочет драться. — Да у тебя, небось, нож или леворверт? — Есть. Только я их на стол положу. Выходи драться голыми руками. Васька Полоз подмял без передышки четырех парней. А пятый, падая на пол, кольнул его ножом в грудь. Васька озлился и долго, размеренно избивал предателя. — Склизь ты, гадина, сволочь морская! Рана оказалась неопасной, но другим стало конфузно и они сами пошли на мировую. — Молодец, Васька! Дай ему, сукину сыну, рвань! Чтобы клочья летели! Ишь ты, подлец, ножик подсовывает! Нет, ты попробуй честно, благородно! На этот раз помирились и выпили, конечно, на Васькин счет. Но, когда матрос стал ходить с девушкой и видно стало, что оба льнут друг к другу, возгорелась вновь артельная ревность слободских парней: — Наша девка! Пробовали на Полозова делать облаву во время вечерних свиданий его с Настей, да разбросал он богатырски трусливых завистников.
Отца у Насти не было. Жила со старухой-матерью. Та долго косилась на матроса и не сдавалась на его любезность и образованность. Наливку пила и изюмом закусывала, а сама все на окна оглядывается, не видно ли на стеклах приплюснутых носов подглядывающих парней. Но Васька Полозов вдруг открыл капитал. Прикупил на имя Насти соседнее пустопорожнее место, выстроил новый, поместительный дом. Купил три коровы, свиней. Запрыгала на цепи огромная собака, охраняющая собственность до истерики и падучей. Упокоила на мягкой перине старые кости Настина мать. Наняла батрачку Степаниду и заставляла ее ставить в день десять самоваров. Чай без сладенького не пила, без «бальзама» за стол не садилась. Совсем растолстела старуха и в живот пошла. Парни хотели новые ворота дегтем мазать, да случилось тут совсем неожиданное. Василий Степаныч Полозов, старший матрос грузовика «Надежда», сделал форменное предложение Анастасии Ивановой Перцовой, получил согласие и материнское благословение. На свадьбе была вся слобода и никто угощением не был обижен. — И откуда только у Васьки деньги такие? Ну, да это «дело сторона», «наша хата с краю», «в чужом кармане не считай»… Пили, ели, молодых славили. Пожил Полозов с молодой женой недели две. — Пора на службу! Вернусь через два месяца. Идем в недальние порты. Жди меня, душа моя! Скоро вернусь, привезу обновки из заграницы. Не нашим чета. Расцеловал жену, чмокнул и старухины слюнявые губы. Денег оставил вволю. И был таков. — Только его и видели! — злобствовали парни. — Деньги не иначе, как награблены. Побаловался с девкой, да и к стороне! — Да ведь в церкви венчался! — Велика штука! Приехал невесть откуда. Всех закупил. А по нынешним временам «очки»[5] пять целковых. Первый сорт. — А место купил? Дом выстроил? Деньги оставил? — Грабежом взято — не жалко! Но ровно через два месяца Васька вернулся. Настины щеки расцвели маком, глаза заблестели гордым блеском удовлетворенной любви. Старуха совсем запила на радостях. И опять слобода угощалась в трактире за счет Полозова и слушала его россказни. Так и пошло с тех пор. Уезжает Васька в плаванье, приезжает на побывку с деньгами, крепко любился с Настей. Она в нем души не чаяла и растила первого ребенка, девочку тоже Настей назвали. И все, наконец, привыкли к тому, что не живет Полозов с Настей, а налетает, как сокол, временами. Кому какое дело?! Настя была верна мужу, терпеливо ждала и вся изнывала от страсти в его объятиях, когда он возвращался…
II
— Телеграмма вашему сиятельству! Ливрейный лакей, склоняясь и вздрагивая толстыми икрами в чулках, подал на серебряном подносе неопрятный телеграфный бланк. С кушетки, обитой серебристо-серой шелковой тканью, вскочила молодая женщина. Тонкими, нервными пальцами она быстро разорвала пакет. «Приеду курьерским. Целую и люблю. Твой Костя». — Наконец-то! Графиня Зборовская — царица великосветских балов, прославленная красавица, — вышла замуж по любви. Брак этот считался счастливым, что далеко не часто бывает в аристократическом кругу. Граф, молодой, красивый мужчина, был известен, кроме своего богатства, страстью к спорту во всех его видах. Он был членом множества спортивных обществ, участвовал в состязаниях, брал призы. В последнее время стал увлекаться авиацией. Кто не видал фотографии сиятельного пилота, снявшегося на «Фармане» вместе с женой? Одни восхищались мужественной фигурой графа, его открытым, ясным лицом, черными алмазами его глаз и гордым ртом под черными шелковистыми усами. Другие заглядывались на молодую женщину, стоящую за графом и ухватившуюся обеими руками за стойки аэроплана. Белокурые волосы выбились из-под круглой вязаной шапочки, глаза смотрели наивно-доверчиво на весь мир; дивные формы торса плотно облегал спортсменский костюм и вся она, казалось, стремилась в одном порыве и говорила каждому: — Посмотрите, какой у меня прекрасный муж!
Одно, что беспокоило и огорчало молодую женщину — это продолжительные отлучки графа, которым трудно было подыскать объяснение. Он говорил просто: — Зина, я еду на охоту! Или: — Зина, я еду по делам! И пропадал по неделям. Жена, верящая в него, как в Бога, никогда не расспрашивала, а он, вернувшись, молчал о своей поездке. В дни одиночества графиня утешалась маленьким сыном, бойким, красивым мальчуганом. Впрочем, отлучки мужа имели и свою прелесть. Они освежали страсть и, когда приходила телеграмма о скором приезде графа, Зина чувствовала волнение, словно в день свадьбы, в боязливо-страстном предвкушении первой ночи. Вернувшийся муж был так нежен, проявления страсти так сильны и искренни… И Зина забывала тоску временного одиночества, купаясь в волнах горячей ласки. Однажды, когда граф уехал, по обыкновению не сказав куда, Зину навестил старый друг ее отца, Иван Димитриевич Телешов, которого она знала еще ребенком. Старик, как всегда, привез букет редких орхидей, напился кофе и попросил разрешения закурить сигару. Зина с удивлением видела, что Телешов, всегда спокойный, уравновешенный, как будто волнуется, что-то скрывает, не знает, с чего начать. — Зина, где твой муж? Графиня вздрогнула, но через минуту улыбнулась. — Как где? Стреляет рябчиков, охотится на диких кабанов, плавает в море на яхте, пробует новый автомобиль. Я в эти его дела не мешаюсь. — И совершенно напрасно! — Разве вы что-нибудь знаете, Иван Димитриевич? В голосе Зины звучала тревога. Телешов затянулся сигарой и долго смотрел куда-то вдаль. — Видишь, Зина, я говорил покойнику, твоему отцу: «Не отдавай дочь за Зборовского, вся их семья — какие-то ненормальные, неспокойные люди, не как все». Мне твой отец не поверил и ты вышла замуж. А я был вполне прав. — Говорите, не мучьте! — Зина, будь готова выслушать то, что, может быть, разобьет твое сердце. Граф Константин Петрович Зборовский, твой муж, женат одновременно на другой женщине, слободской мещанке, под именем Василия Степанова Полозова, матроса дальнего плавания. К ней, ко второй своей жене, он и ездит, обманывая и тебя, и ее. У него там ребенок, девочка… Телешов не кончил и бросился приводить в чувство графиню, лежавшую на ковре в глубоком обмороке…
Зина ничем не показала мужу, что знает его роковую тайну. И граф продолжал жить странной, двойной жизнью, обращаясь временами из «аристократа с головы до пят», как его звали друзья, в веселого матроса Ваську Полозова, и после нежных, душистых объятий графини находил особую прелесть в грубоватых, могучих ласках Насти. Но наступил день, изменивши всю жизнь двоеженца. Войдя в будуар жены, он остановился в трепете ужаса. Сердце его перестало биться. Воздуха не хватало для дыхания… Рядом с Зиной на шелковой кушетке сидела Настя и обе женщины смотрели на него в упор. И в их взгляде он не узнавал ласковых глаз своих милых жен. Зина встала и, величественно вытянувшись во весь рост, произнесла торжественным голосом: — Костя, я знаю все. Не говори, не оправдывайся! Я обо всем переговорила с Настей. Не нужно сцен, не нужно слез, обмороков. Мы обе нашли единственный исход из того ужасного положения, в которое ты нас поставил. Ты должен подчиниться нашему решению. Слушай…

От автора
Я так и не узнал точно, на чем порешили жены графа Зборовского. Прошу читателей, и особенно читательниц «Синего журнала» откровенно высказаться по этому поводу. Стоит ведь только мужчине поставить себя мысленно на место графа, а женщине — на место одной из жен, чтобы почувствовать, как они сами поступили бы в данном случае. Свод мнений и более удачные отдельные ответы будут напечатаны в ближайших №№ «Синего журнала». С. С.Кто звонил?
I
Домик всего из трех комнат. Две побольше, третья совсем маленькая. Кухня, сени, чуланы. На дворе подгреб, сарай. Фруктовый садик. Все маленькое, но свое. Вот это и дорого. Купил за бесценок. Продали наследники какого-то старика. Спешили, а покупателей нет. Кому нужна лачуга на глухой окраине уездного города? Кругом огороды, пустыри. А дальше городское кладбище. Улица немощеная и заросла травой. Покойников не носят мимо окон, но летом слышно иногда похоронное пение. И кажется, что вдали надрывается рыданием чья-то грудь. На меня это нагоняет тихую грусть. Вера всегда пугливо жмется ко мне. Мы ушли вдвоем от всех, нам никого не нужно. Чтобы любить свободно друг друга, мы перешли через трупы. Она бросила мужа, я расстался с целой семьей. — Когда поют, мне кажется, что отпевают тех. Милый, я хотела бы забыть… Я тоже не могу забыть, но скрываю. И целую ее, долго целую, пока не разгорится тлеющий костер нашей чувственности. И всегда порывистые объятия дают покой нашим душам. И нам не страшны трупы, оставленные позади… Мы решили жить без прислуги. Я — большой и сильный. Она — здоровая, молодая женушка. Ей весело трудиться. Не устает, грудь дышит ровно. Хохочет, как девочка, играющая в хозяйство. Иной раз мне совестно. Моет полы босиком, высоко подвязав юбку, как делают бабы. Мне жалко этих голых до плеч, нежных рук, отжимающих грязную тряпку. Бегу скорее на двор колоть дрова и стараюсь сильнее ударять топором, и радуюсь, чувствуя усталость. Мы трудимся оба. Но я вовсе не хочу убогой обстановки. Купил двуспальную кровать с никелированными колонками, мраморный умывальник. Большое зеркало стоит в спальне и отражает безумие нашей страсти. Когда Вера спускает ноги с кровати, каждый раз шаловливо смеется, ощущая прикосновение мягкой шерсти белого медведя. Мы с Верой унесли деньги из наших брошенных гнезд. Я запретил ей носить бриллианты, подаренные мужем. Мы их продали. Что будет дальше, когда истратим последнюю копейку? Не знаю и не хочу думать. Пока хватит на несколько месяцев. Мы приносим из единственного в городе большого магазина сладости и вина. Нас знают и удивляются нашей жизни. Черт с ними, пусть думают, что хотят! У нас нет знакомых. Заходят торговцы. Вера покупает совсем ненужные вещи, торгуется из-за копейки. А после мы смеемся. Приходила старуха с молоком и яйцами. Заглянула в открытую дверь зала. — Ишь, богато живете! Неужели все сама, барынька, делаешь? — Я и муж. — Чудеса! Оно, конечно, прислуга нынче пошла прямо никудышная. Одни-то живете, лучше поедите. Их, прорв этаких, не накормишь. У вас, когда ни придешь, все на тарелках что-нибудь да есть. Видно, хорошо едите. Купили рыбы. Мне торговец страшно не понравился. Когда я вынимал деньги из бумажника, глаза у него стали мутные. И Вера говорит, что он противный… Надоело, что все эти господа стучатся в калитку, громыхают кольцом. Проведу электрический звонок от ворот. Сам этим занялся, да помешала Вера. Так и бросил. Кончу когда-нибудь. Что за беда: нам спешить некуда! Так и остались висеть в сенях концы проводов.II
Но отчего сегодня днем цепная собака вдруг завыла, заметалась и издохла? Рот у нее раскрыт, язык черный, глаза стеклянные. Я видел в юности волка, хватившего отравленную стрихнином падаль. Он, тоскуя, лежал на боку, и язык тоненький, будто обожженный. Сказал Вере, что собака умерла от старости, и зарыл труп в углу сада. Около конуры сиротливо валяется на земле цепь с ошейником. Не знаю почему, но мне стало не по себе, жутко. — Отравили! Оглянулся. Быть может, из щелей забора за мной наблюдают? Вспомнились помутневшие глаза рыбного торговца. Ну, что же! Завтра куплю новую собаку. У меня есть револьвер. Попробуйте, суньтесь! И целый день я храбрился. Пока Вера готовила обед, в сарае разобрал револьвер, вычистил, смазал и зарядил. Я стреляю недурно: в тридцати шагах промаха не дам. Мой дом, моя женщина — завоеванные, награда за тяжелую борьбу и страдания! Буду защищать свою берлогу, как дикарь. Гордо подойду к Вере. — Ты меня спас, милый! Тебе я обязана жизнью. Во время обеда она была такая маленькая, так нуждающаяся в моей мужской защите. Я не скажу ей ни слова о моих подозрениях… Но вечером несколько стал волноваться, и вместе с длинными тенями и серыми сумерками углов, беспокойство все росло. — Милый, ты что-то грустен сегодня? — Какие пустяки! Тебе показалось! — Знаешь, когда у тебя такое лицо, я начинаю думать, что придет день, и ты разлюбишь. Будешь ходить, молчать, не приласкаешь. Позову тебя, подойдешь, поцелуешь, нехотя, через силу… И мне станет от ласки твоей холодно… Мы сжимали друг друга в объятиях, и большое зеркало отражало безумие нашей страсти, когда она вдруг вся встрепенулась: — Милый, ты слышишь? Я вспомнил все и насторожился. За стеной, в кухне, слышалось шуршание, будто кто проводил рукою по стене. — Может быть, крысы? В кухне что-то упало, со стуком и звоном. — Куда ты? — Револьвер в зале. В глазах Веры промелькнул ужас. Полумрак зала… Я делаю шаг, другой… Меня хватают за плечи, за руки… Силюсь крикнуть… Грубая, мозолистая ладонь зажимает рот…III
Я сижу в кресле, в спальне, как был, в одной сорочке. Всего меня окрутили веревки и больно режут голое тело. Во рту грязная, вонючая тряпка. Их трое. Лица измазаны сажей, но я узнаю в одном торговца рыбой. Вера на кровати, закуталась до самого подбородка и смотрит испуганными глазами из-под спутанных золотистых волос. Они возятся в моем платье, обыскивают карманы. — Бумажник у него красный, — сиплым голосом говорит торговец: — во! Чур, делить пополам. Мы переглядываемся с Верой, и я читаю ее мысли: «Возьмут деньги и уйдут». В этом вся надежда. Но им, кажется, мало. — Говори, где прячешь деньги? Большая волосатая лапа схватила и крутит волосы на моей голове. Тряпку вынули. — Крикни только! Перед глазами жуткая синева острой стали. — В столе… левый ящик… — Ключ давай! Вера вскакивает. Одеяло скатилось. Мелькнуло розовое колено. Прыгает с кровати. Достала в туалете ключ. Подает им. Двое ушли. Рыбный торговец не спускает глаз с обнаженных плеч Веры, и губы его кривит подлая усмешка. Видно, на что-то решился. Медленно, с перевальцем подходит ко мне и втискивает грязную тряпку в рот… Вера борется молча. Сорочка расстегнулась на плечах. Корявой лапой он почти рвет нежную высокую грудь. Схватил и валит на кровать. Бьется в последней судороге сопротивления, вся обнаженная, полная нога. А он ревет диким голосом: — Нет, погоди! Нет, не уйдешь! Я грызу вонючую тряпку. Напрягаю все мускулы, чтобы разорвать веревки. Резко, переливчато зазвонил колокольчик в передней. В зале послышался топот ног. Вбежали оба, испуганные. — Ванька, брось! Ванька, беги! Хватают торговца, одурелого от похоти, толкают его в спину. В кухне слышен звон разбиваемых стекол. Колокольчик перестает звонить. Все стихло. Вера медленно поднялась и села на край кровати. Рот полуоткрыт. Не может отдышаться. На правой груди длинная царапина, сочится кровью. Взглянула, бросилась ко мне. Старается развязать веревки. Руки дрожат, путаются. Догадалась сорвать тряпку. — Перережь ножом! Я свободен и держу в объятиях рыдающую Веру. — А если те вернутся? Проснувшийся зверь заставил смолкнуть трусливые колебания мыслящего человека. Я не боюсь, я выйду бороться один на троих. Револьвер и коробка патронов у меня в руках. Я жажду встречи. Свалю выстрелом. Пусть корчится, стонет, обливаясь кровью. Попадись мне в руки торговец, я бы сумел отомстить. Не око за око — сторицей! Этот гнус, осмелившийся тронуть тело Веры!.. Из разбитого окна кухни я вижу чужой пустырь в полумраке звездной ночи. Да, они еще не ушли. Стоят под кривым деревом. Должно быть, совещаются. Я видел огонь моего выстрела. Черные фигуры метнулись в разные стороны. Большой и грузный бежит наискось к забору соседнего сада. Мои выстрелы гремят особенно внушительно. Чувствую, что попаду. Черный вскинул руками и упал ничком. Ага, голубчик, попался! Я хочу выскочить из окна, гнаться за другими. Вера не пускает, обвилась вокруг моего тела. Я продолжаю стрелять. Тявкнула где-то собака и залилась лаем. За ней другая, третья. Глухая окраина города пробудилась и наполнилась звуками. В ворота загромыхали удары кулака. — Э-эй! Отворяй!.. Полоса света из ручного фонаря запрыгала по двору. Топот ног, людской говор. Наш одинокий домик наполнился людьми…IV
Наконец, мы остались опять одни. Целый день заходили чужие. Блестели пуговицы полицейского мундира. Тайна ночи вышла на улицу и поблекли огневые краски одиночной борьбы… А я-таки подстрелил торговца. Видел его измазанное сажей лицо и сбегавшие по нему слезы страдания… На дворе гремит цепью новая собака. Два сторожа ходят с дубинами. После всего пережитого нами овладевает животный покой, и тела наши нежатся в сознании безопасности. Вера любит рассказывать и болтать о том, что случилось. Женщине не дано гордой молчаливости. Вспоминает все подробности, жмется ко мне, когда страшно. Потом смеется, откидываясь на спину. — Ты бегал с револьвером, такой смешной. Рубашка совсем короткая! Пришла полиция, а ты все еще не оделся. Вера вдруг задумалась, поднялась на локте, в больших серых глазах отразилось беспокойство. — Послушай, а кто же звонил? Только теперь понял я, что все наше спасение было в этом звонке. Но ведь я не успел провести его к воротам, провода так и болтаются в сенях. Ночью кругом все было заперто. Те влезли в окно. — Произошло случайное соединение проводов. Я объяснил подробно Вере устройство звонка, но видел по глазам, что вся эта электротехника мало убеждает. — Милый, если бы провода соединились случайно, звонило бы без конца. Кто же их разъединил? Она права. Мое предположение ничего не объясняет. Вера, испуганно оглядываясь на открытую дверь в темный зал, прошептала: — Я знаю, кто. Это они… Недаром сжимается сердце, когда слышу панихиду. Так и стоит в ушах: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего…» Кто-нибудь умер. Мой муж… Нет — твой ребенок. Он — чистый. Пожалел нас… И сразу все кругом настроилось таинственно. Пришел страх неведомого, связал по рукам и по ногам, одурманил мозг. Нет, надо это сбросить. Я — мужчина. — Вера, я пойду в сени с лампой и посмотрю. — И я с тобой, я боюсь! Мы — в прихожей. Берусь за дверной ключ. Невольно смотрю на колокольчик. Что это? Он тихо брякнул, второй раз. И залился длинным звонком. Судорога ужаса пробежала по телу. Таинственный звон звучал уныло, настороженное ухо ловило в нем радостную ноту похоронного пения. Но я поборол себя и сразу отворил дверь. Черная бездна разинула свою пасть… — Боюсь, милый, не ходи! Не пущу тебя! А звон внезапно прекратился и, казалось, сейчас на темном четырехугольнике открытых дверей обрисуется фигура звонившего. Но тьма не давала ответа. Свет лампы дрожал, скользя по бревнам сеней. Я ступил через порог и поднял лампу выше головы. Ничего! Кругом запертые двери. Проверил замки. Все цело. — Вера, иди, не бойся! Осветил провода. Они висели по-прежнему и тускло поблескивали обнаженные медные концы изолированных проволок. И в то же время на босой ноге я ощущал прикосновение чего-то теплого, пушистого. — Курлы, курлы! Опустил лампу. У ноги терся, высоко подняв хвост и нежно мурлыкая, большой серый кот. Я нагнулся и погладил его. И, как бы желая дать объяснение всему случившемуся, он подошел к стене, поднялся на задних лапках, а передними, выпустив когти, стал скрести бревно. Вот он зацепил провода, колокольчик брякнул и оглушил звоном. Мы с Верой радостно улыбались друг другу и любили уже этого пушистого зверя с огромными желтыми глазами. Но, вспоминая потом ужасы этой ночи, Вера смотрит куда-то вдаль и говорит тихо: — А все-таки я не понимаю, почему кот позвонил именно в эту минуту? И я согласен с нею и, по совести, не знаю до сих пор: — Кто звонил?Солнечный зайчик
I
В 19** г. я провел лето в Петербурге, задыхаясь от жары и пыли. Особенно мучил ремонт дома, в котором я поселился. Окна моей маленькой квартиры в четвертом этаже выходили на двор, казавшийся сверху огромным колодцем. Здесь царила своя особая жизнь задворков большого дома, закулисная, интимная сторона больших и маленьких квартир. Посредине двора стоял сарай для дров и в нем же помещалась прачечная. Около фундамента этого здания расположились помойные ямы. Постоянными обитателями двора были дети и коты. Дети — бедноты, ютившейся в подвальном этаже. Коты — неведомо кому принадлежащие, худые и вечно голодные. Дети возились по грязному двору, играли, дрались, оглашали воздух то радостным криком, то душераздирающими воплями. Коты тоже часто дрались и, выбрав укромное место, садились друг перед другом и по правилам кошачьей дуэли начинали с перебранки, в которой грозное рычание соединялось с жалобным, трусливым мяуканьем. Питались коты, по-видимому, исключительно из помойных ям. Несмотря на лето, только богатые квартиры стояли пустыми, и окна их, замазанные краской, напоминали глаза слепого. Большинство же квартир населяли люди, ограниченные в средствах, не имеющие средств на дачу. Поэтому жизнь двора не замерла летом, как в других домах. Из окон то и дело выглядывали кухарки и горничные, часто полуодетые, истомленные жаром воздуха и плитой. Это, впрочем, не уменьшало их стремления к флирту и сплетням. Перекликались друг с другом, перемигивались с мужчинами: особенно тянуло их к одной квартире, где жили полотеры и где по вечерам рассаживались у окон бравые молодцы в рубашках-косоворотках. В дни большой стирки из прачечной то и дело выходили освежиться женщины в юбках и сорочках, а кругом юлили дворники и хлопали их по потным жирным плечам и спинам. Начавшийся потом ремонт внес в жизнь двора много стука, пыли, площадной ругани, заунывных песен маляров и новых мимолетных романов у кухонных окон. Наконец, наступил август. Маляры ушли. Двор немного прибрался. Вымыли окна больших квартир. Пришел околоточный и кричал на старшего дворника, указывая рукой в белой перчатке на кучу мусора. Начался приезд с дач. В окнах больших квартир замелькали новые лица. Погода стояла прекрасная. В воздухе уже захолодало, но солнце светило ярко. Меня томила отчаянная скука. Дело, из-за которого я приехал в Петербург, все откладывалось и откладывалось. Знакомых у меня почти не было, а для ресторанов и столичных развлечений — кошелек слишком худощав. Прогулявшись и напившись чаю, я садился с книгой у открытого окна, но скоро бросал чтение, увлекшись своеобразной жизнью огромного двора. Я знал отлично всех кухарок в лицо и догадывался об их любовных делах. Жизнь «господ» тоже не была для меня тайной. От нечего делать я говорил часто с дворниками и понемногу узнал, где кто живет и чем занимается. Так, я отлично знал, что большую квартиру напротив моего окна занимает генеральша Курдюмова, вдова, живущая на пенсию и аренду с небольшого имения, что у нее есть два сына-студента и племянница-девушка. — Красавица редкостная, можно сказать, — солидно сообщил мне старший дворник. И я с нетерпением ждал, когда это семейство переедет с дачи. Уже к концу августа окна в квартире напротив внезапно открылись. Из кухни выглянуло толстое, красное лицо кухарки. Потом из другого окна с презрительной ужимкой розовых губ посмотрела нарядная, хорошенькая горничная. «Господа» пока не показывались… Однажды, подойдя к открытому окну, я увидел напротив что-то белое, кружевное, копну золотых волос, розовый фарфор щек… Но не успел я вглядеться, как меня ослепил яркий солнечный луч и через двор послышался звонкий девичий хохот…II
Я скоро догадался, в чем дело. Племянница генеральши держала в руках зеркальце и заставляла солнечный зайчик прыгать по противоположной стене. И когда ей удавалось ослепить кого-нибудь, выглянувшего из окна, отражением луча, она смеялась, как ребенок. Дворник не польстил ей: девушка была, действительно, очень хороша. Нежный румянец, который бывает только у блондинок, прелестный овал лица, слегка вздернутый задорно носик и огромные синие глаза под темными бровями, что составляло изумительный контраст с совершенно светлыми волосами. Любоваться чудным лицом и стройной фигурой девушки вошло у меня в привычку. Удивляло меня одно: она регулярно, каждый день, когда светило солнце, становилась у открытого окна с зеркалом и забавлялась игрой «зайчика», который прыгал по темной стороне двора, по крыше прачечной, по стенам дома, забирался под самую крышу или бегал по мостовой двора. Для девушки девятнадцати лет такая шалость казалась не по возрасту. Ну, раз, ну, два, но почти ежедневно… Одиночество развивает наблюдательность — и я стал следить за эволюциями с зеркалом. В них мне почудилась какая-то система. Сначала «зайчик» прыгал беспорядочно, но потом останавливался на углу прачечной и здесь долго прыгал с маленькими промежутками. Прыгнет раза три, потом небольшой промежуток, опять прыгнет раз пять — и новый промежуток, уже больший, и так далее. Минут десять-пятнадцать играет «зайчик», не сходя с угла прачечной. — Да это световые сигналы, а вовсе не шалость. Такое открытие вызвало во мне крайнее любопытство. Кому и о чем она сигнализирует? Какой ключ? Я знал телеграфную азбуку, но она не подошла. Тогда я решил прыжки «зайчика» перевести на цифры. На следующий день я имел такую запись:3-1, 1–6, 3–5, 3–2, 2–6, 3–1, 1–6, 1–3, 1–1, 5–6, 3–5, 5–5, 1–3, 2–6, 3–2, 1–6, 5–6, 2–5, 5–4, 1–2, 1–3, 2–3, 2–1, 1–5, 2–3, 3–6, 1–6, 3–4, 3–3, 1–6, 2–5, 2–3, 1–3, 3–2.Весь день и часть ночи я посвятил разгадке этой криптограммы и не мог ее разгадать. Только рано утром, лежа в постели, я вспомнил, что, будучи еще студентом, был арестован и просидел три месяца в тюрьме. Там я научился перестукиваться с товарищами по заключению. Но здесь ли разгадка? Вскочил босой и подошел к письменному столу. Конечно, конечно, так! Я легко прочел цифровую запись. Тюремная азбука для перестукивания на особой таблице:

Каждая буква обозначается двумя цифрами по горизонтальным и вертикальным столбцам. Так, например, 3–4 — р, 5–5 — я, 1–4 — г, и т. д. Вот что сигнализировала племянница генеральши неизвестному лицу: «Не сомневайся в моей любви, жди терпеливо». Я рассмеялся. Обычная история! Какой-нибудь бедный, но прекрасный молодой человек. Дачное знакомство. Тетка, конечно, и мысли не допускает о браке. Может быть, молодого человека даже выгнали из генеральского дома, и он поселился теперь в меблированной комнате и смотрит влюбленными глазами на свою Джульетту, а она ободряет его ласковыми словами, переданными световыми сигналами. Мне стало даже совестно, что я вмешался в эту интимную историю и разгадал чужую тайну. Дня два я не делал записей, но на третий любопытство превозмогло. Девушка сообщала своему возлюбленному: «Твой план никуда не годится. Предоставь все мне. Я сообщу, когда будет время. Получение состоится не раньше, как через неделю». Последняя фраза указывала, что, кроме любви, девушку и неизвестного связывает еще какое-то дело. «План», «получение»? Конечно, получение денег. Я чувствовал, как во мне просыпается сыщик Шерлок Холмс. Преследует человека назойливая мысль: «Разгадай тайну»! Я перестал даже думать о собственных делах. До того увлекся сыском. «Зайчик» просигнализировал: «Радуйся, милый. Скоро, скоро. Баронесса пригласила меня к себе погостить. Когда будет нужно, зайду к тетке и дам тебе знать. Жди терпеливо». Первой моей мыслью было узнать, кто возлюбленный девушки. Но это оказалось не под силу моим сыскным способностям. «Он» мог наблюдать сигналы с двух фасадов дома и даже частью с третьего. Разыскать «его» в вереницах окон шестиэтажного дома было непосильным подвигом. Хорошо писать Конан-Дойлю о необычайных умственных способностях Холмса, а попробуй-ка он на деле. Мне казалось, что легче узнать, кто такая баронесса. И я не ошибся. Дворник любезно сообщил мне, что «генеральша не так, чтобы богата, а вот ихняя сестра двоюродная, баронесса, точно миллионерша, и от нее они ожидают». Узнать фамилию и адрес баронессы не составляло уже никакого труда; через два дня племянница генеральши исчезла, и сигналы «зайчиком» прекратились. Тем не менее, я аккуратно каждый день занимал свой наблюдательный пост у окна.
III
Наконец, в один яркий солнечный день девушка вновь появилась и «зайчик» запрыгал на углу прачечной. Световая телеграмма на этот раз была длиннее обыкновенных. Я не нуждался в записи, но все же перевел на цифры, чтобы иметь в руках документ. «Время настало, милый. Сегодня ночью у соседей этажом ниже — бал. Парадные двери не будут заперты до утра. Приходи от двух до трех ночи и стань у дома напротив, около третьей колонны слева. Жди сигнала свечкой из квартиры баронессы. Иди по парадному. Дверь будет отперта мною». Нет, это не любовное свидание! Девушка нашла бы тысячу других способов, чтобы видаться наедине с возлюбленным. Здесь что-то не то. И в голове замелькали выражения из прежних криптограмм: «Сообщу, когда будет время. Получение ожидается через неделю». Запомнились слова дворника: «Баронесса — миллионерша, от нее ждут»… Миллионное наследство! Готовится грабеж, быть может, убийство. Мною овладела смелая, безумная мысль. Я пойду и стану у третьей колонны, против дома, где живет баронесса. Дождусь сигнала и войду. Преступление будет предупреждено. Так и сделал. Я стал на место в половине второго. Если «тот» придет и увидит место занятым, испугается и убежит. Сердце тревожно билось у меня в груди, когда я очутился против дома баронессы. Гости еще съезжались на бал. Фыркали лошади, гудели автомобильные сирены. Я нашел на фасаде дома окна квартиры баронессы и не сводил с них глаз. Они были темны и представляли резкий контраст с ярко освещенными окнами следующего нижнего этажа. Вдруг мелькнул в мрачной, черной раме крохотный огонек. Раз, два и три. Сигнал подан. Я смело вошел в подъезд. Швейцар не обратил на меня внимания. Мимо открытых дверей, из которых неслись звуки музыки, поднялся я выше, к дверям квартиры баронессы. Взялся за ручку. Дверь подалась. В темной прихожей мою руку схватила горячая, трепещущая женская ручка. Нежный, шелестящий шепот: — Тише, милый, осторожней! Меня ведут куда-то. Тихое: «Стой!» Ручка исчезла. Я остался один в непроглядном мраке. Опять зашелестело около женское платье. Чуткий слух ловит прерывчатое дыхание. — Она спит крепко. Вот ключи. Идем в кабинет. Холодная связка ключей прикосновением своим заставила меня опомниться. — Сударыня, я не тот, за кого вы меня принимаете. Молчание — долгое, испуганное. — Кто вы? — Я разгадал тайну солнечного «зайчика». Живу в том же доме. Я знаю все.Но я не сумею описать последовательно, как все произошло потом. Помню, что она меня горячо поцеловала, и до сих пор чувствую прикосновение упругих девичьих губ. Помню, что я ходил с нею в кабинет баронессы, отпер письменный стол и достал огромную пачку денег. Потом она их завернула в газетную бумагу и сунула туда свою записку. Потом проводила меня до прихожей и опять поцеловала. И я вышел через парадный подъезд, пересек улицу и отдал пакет высокому человеку, стоявшему около третьей колонны. Тот посмотрел на меня испуганно, торопливо пошел к перекрестку и, наняв извозчика, быстро уехал. А я все стоял и смотрел на окно комнаты племянницы генеральши, пока не скатилась тихо белая штора, пока я не понял, наконец, что совершил преступление по приказу незнакомой мне девушки и отдал украденные деньги ее любовнику.
Гениальное расследование
Всякий видит то, что хочет видеть.
I
Известный сыщик Станислав Иосифович Броневский после раскрытия виновников ограбления N-ского банка получил награду и месячный отпуск для отдыха от трудов. Во время «дела» он готов был терпеть всякие лишения, но раз уж отдыхать, так отдыхать, с комфортом, ни в чем себе не отказывая. Жил Броневский холостяком в маленькой, но уютной и прекрасно обставленной квартире. Повсюду изящные вещицы, множество картин по стенам с преобладанием наготы, пианино, виолончель… По мягким коврам кошачьей походкой скользит неслышно красивая, белокурая Ванда с пышным станом… Все знакомые Броневскогодивились: «Откуда вы достали такую прислугу?» Но Броневский в ответ только улыбался углом рта: агент сыскного отделения да не разыщет! Сыщик на отдыхе почти не интересовался уголовной хроникой и едва просматривал газеты. Утром принимал холодную ванну, потом делал гимнастику, потом пил кофе и совещался с Вандой о завтраке и обеде. Прогуливался, посещал выставки, музеи. Вечером — концерты, театр. Словом, жил вовсю. Благополучие это, однако, внезапно оборвалось на десятом дне отпуска. Только что Броневский вышел из душистой ванны и хотел приняться за гимнастические гири, как Ванда подала ему письмо, написанное слишком знакомым почерком. Сыщик выругался: — Черт бы их взял! Он нервно разорвал конверт и погрузился в чтение мелко исписанного листка.
— Никак не научусь разбирать эти каракули! Наконец письмо было прочитано: «Дорогой мой! Крайне сожалею, что вынужден беспокоить вас, но я без Броневского, как без рук. Дело вот в чем. Пять дней тому назад в Балабинском лесу найден труп молодой, красивой женщины, по виду интеллигентной и принадлежащей к обеспеченному классу. Одета убитая в богатое бархатное платье. Бриллиантовые серьги, кольца, браслет и брошка ясно доказывают, что убийство совершено не с целью грабежа. Женщина была, по-видимому, убита в другом месте, а затем труп перенесен в лес, так как ни кругом на снегу, ни на меху ротонды, в которую труп завернут, не заметно следов крови. Личность убитой до сих пор не выяснена. Ни чины уездной полиции, ни дворники не дали никаких указаний. Труп, выставленный для обозрения в Балабинском полицейском управлении, никем из обывателей опознан не был и затем перевезен в город, где к нему тоже допускались желающие. Вчера вечером в сыскное отделение явился хорошо одетый молодой человек, по-видимому, страшно взволнованный. Он просил осмотреть труп и был допущен. При первом взгляде на убитую неизвестный дико вскрикнул и, бросившись к телу, долго рыдал, припав к груди убитой женщины. Из бессвязных слов, вырывавшихся у него порою, можно было уловить лишь следующие: „Изверги!“ — „Маня, несчастная Маня!“ — „Добились!“. — „Будьте вы прокляты!“… Затем молодой человек поднялся и, выхватив револьвер из кармана, приставил к левой стороне груди. Самоубийство не удалось предупредить, раздался выстрел и неизвестный упал, обливаясь кровью. Наш агент Карасик, усмотрев в самоубийце некоторые признаки жизни, нагнулся над ним и спросил: „Как зовут убитую? Кто убийца?“ Умирающий сделал усилие и произнес, едва внятно: „Маня… Халютина… дача № 23…“ Кровь хлынула из уст несчастного и он скончался. Подробный осмотр одежды самоубийцы не дал никаких результатов. Найдены только: бумажник с двумястами рублей, кошелек с мелочью на три рубля семьдесят пять копеек, золотые часы, серебряный портсигар с инициалами „К. С.“ и серебряная спичечница. Никаких документов или записок, визитных карточек и т. п. при неизвестном не оказалось. Так вот, дорогой мой, прошу вас убедительно заняться этим делом. Сенсационно и таинственно, как раз в вашем вкусе. Я предполагаю, что помянутая дача находится в Балабине. Надзора еще не учреждал, боюсь без вас испортят. Располагайте по своему усмотрению агентами и денежными средствами, авансом. Советую взять с собою Карасика. Не нужны ли собаки? Все к вашим услугам. Заходите в сыскное за полномочием. Крепко жму вашу руку. Весь ваш, Трефов».
Броневский скорчил небольшую гримасу, хотя в душе был крайне польщен доверием и любезностью начальства. — Однако, наш начальник сыскного отделения не отличается литературным слогом, а писать любит длинно. «Кровь хлынула из уст несчастного». Словно из хроники уличного листка. «Без Броневского, как без рук». Вот то-то! А в прошлом году кто говорил: «Бездарность! Хвастунишка! Воображает себя Шерлоком Холмсом!» Ну, да кто старое помянет… Надо уважать старика! Прежде всего, составим план. И Броневский, к удивлению Ванды, не обратил никакого внимания на новый роскошный капот, в котором она щеголяла в это утро, кофе пил черный, не дотронулся до вкусных домашних печений (а Ванда ждала похвалы) и глубокомысленно курил сигару за сигарой. Когда же Ванда попробовала спросить о завтраке и обеде, сыщик страшно рассердился и даже затопал ногами. Наконец, план был выработан…
II
В буфете станции Балабино за столиком сидели сыщики Броневский и Карасик, тщательно загримированные. Они пили водку, закусывали, требовали того-другого и говорили громко, на всю залу. Несмотря на зимнее время, были заняты и другие столики. Дачи в Балабине были нарасхват и нанимать их ездили с января. — Что-то разыщет наш Прохор? Я положительно отказываюсь месить снег по этим проклятым переулкам! — громко заявил Броневский. — Но ведь надо же найти дачу. Анна Павловна, твоя жена, а моя дорогая сестрица — особа нервная. «Хочу в Балабине!» Вот ее бы заставить потаскаться здесь зимой. А не удовлетвори, выйдет такой карамболь… — Н-да! Дело серьезное! Семейный Тавриз! Одна надежда на Прохора. А, вот и он! Прохор, он же сыщик Тютрюмов, был одет в короткую меховую куртку, шапку с ушами и высокие сапоги. Подходя к столу, он снял шапку и вытер пот с лица большим клетчатым платком. — Устал! — снизошел к нему Броневский. — Ну, ничего. Садись! Эй, стакан водки, три бутерброда с ветчиной! Согрей душу и рассказывай!
Прохор «согрелся» и стал говорить тихим, простуженным голосом. Броневский делал вид, что слушает невнимательно и выразительно поглядывал на молодую даму, сидевшую через столик. — Справка, — хрипел Прохор: — на даче 23 живут внизу, верх пустой. Чиновник Облесимов с семейством — жена, двое маленьких детей. Две прислуги — женские. Комнату отдают жильцу, Тригольскому. По профессии художник и гравер. — А-а! — многозначительно протянул Броневский. — Дворник сообщил, что гости бывают из города. Мужчины и дамы. Иногда с детьми. К художнику ходит какой-то плохо одетый человек. Раз ночевал. Каждый раз при этом посещении посылается за водкой. Свет в окне виден за полночь. Еще к художнику ходит девушка, молодая, в платке, видно из простых. Кажется, из крестьянок соседней деревни. Дворник видел, как она, выходя, плакала. Все! Прохор налил себе второй стакан и сразу вылил в горло. — За дело! — прошептал губами Броневский и прибавил громко: — Ну, Анна Павловна, кажется, будет довольна!
Около забора дачи № 23, выходящего в поле, в глубокой снеговой яме сидели двое в белых шапках и куртках с белыми меховыми воротниками. Ночью, даже при лунном свете, не отличишь их на белом снеговом фоне. Сидящие тихо перешептывались. — Убийца несомненно Тригольский, этот художник. Верьте моей наблюдательности. У него явно преступная физиономия. Сообщник — этот оборванец, который к нему ходит. Убийство произошло, конечно, не на этой даче. Облесимовы здесь ни при чем. Почва едва ли романическая, вернее — необходимость устранить наследницу. Это мы еще расследуем. Тригольский — блудный сын весьма почтенного и богатого отца, живущего в Москве. Единственный сын вдовца. Может быть, грозит завещание не в пользу сына. — Но позвольте, Станислав Иосифович, ведь убитая — Халютина? — Так что из того? Незаконная дочь. — А вы имеете данные это предполагать? — Вы глупы, Карасик! Броневский слова на ветер не бросает. — Вы — гений, я перед вами преклоняюсь. — Тсс! На расчищенной дорожке сада около дачи показались две фигуры. Одна — в пальто с каракулевым воротником. Другая — в жиденьком демисезоне, порыжелой шляпе — вся олицетворение привычной дрожи.

Прошлись взад и вперед и сели на скамью, как раз против засады сыщиков. — Так значит, с отцом теперь на мировую? — заманивающе начал оборванец. — Да, брат, делать нечего. Надо подслужиться. Противно иметь дело с этим черносотенцем, да что поделаешь. На ладан дышит старик. Того и гляди, откажет все… Как ни напрягал слух Броневский, но конец фразы унес порыв ветра, предвестник метели. При тихой погоде возникнет вихрь неведомо откуда, поднимет белое снежное привидение и побежит оно по полю, пока не рассыплется, а там опять все тихо. — А Маня? — донесся опять голос оборванца. — Мане, брат, капут! Жаль ее, конечно. Но сила необходимости. Ты понимаешь: я должен был это сделать. Болезненная, до крови болезненная операция. Мне ее очень жалко! — Сентиментальный негодяй! — прошипел Броневский в своей засаде. Сидящие на скамье замолчали. — Костя! — надорванным голосом заговорил оборванец. — А что же со мною будет? Ты уедешь, разбогатеешь, забудешь своего друга. Куда я денусь? Был талант — вы говорили! Прошел. Ты еще меня поддерживаешь. Духовно. Знаю, что есть, куда прийти. Уедешь! И этого не будет. Костя, не забудь обо мне. Вспомни, ведь я тебе всегда, во всем помогал. Душой для тебя покривил. Ведь и у меня есть совесть. А это последнее дело, когда я… Вновь пробежало белое привидение и унесло на краях своей длинной одежды конец фразы. — Чудак ты! Уже заныл! Да смотри на жизнь веселей. Разумеется, не забуду. Папахен недолго протянет. Приеду с мошной. Заживем. Да и раньше тебе пришлю. — Забудешь ты меня, забудешь! Ведь я и сейчас без гроша. — Возьми — вот. Что могу. И ожидай! А знаешь, не пройтись ли нам по лесной дорожке? — Холодно. Впрочем, для тебя… Обе фигуры поднялись и вышли через заднюю калитку к лесу. — Слышал, Карасик?! Что? Не прав я был? Не предугадал? Мог ли привести так расследование Стрижневич? Однако, надо ковать железо, пока горячо. Беги за Тютрюмовым! Вскоре трое сыщиков расположились на опушке леса. Тютрюмов держал собаку в наморднике. — Дай ей хорошенько понюхать этот кусок платья убитой. Стой! Они возвращаются. Спускай! Собака бросилась вперед, остановилась потянула воздух и помчалась навстречу художнику и его оборванному приятелю. — Ав! Ав! — звонко раздался лай на чистом морозном воздухе. Сыскная собака выходила из себя. Лаяла, выла, визжала, бросалась на грудь преступников. Они едва отбивались от этой бешеной атаки. На опушке обоих перехватили сыщики. Художник, не на шутку струсивший, выхватил кавказский кинжал и замахнулся на Броневского. Но преступника тотчас обезоружили и связали. Связали и дрожащего оборванца. — Вот, — торжественно произнес Броневский, поднимая кинжал, — вот оружие, которым убита Мария Халютина!..
— Ну-с, дорогой мой, поздравляю, от души поздравляю с полным успехом! — говорил начальник сыскного отделения, не выпуская из своей потной руки руку Броневского. — Расскажите мне подробности ваших похождений. — Что же рассказывать? На основании вашего письма я установил надзор за дачей № 23. — № 25, мой дорогой! — Позвольте… в вашем письме… Да, смотрите сами. — Смотрю, милый, и вижу цифру 25! — Черт!.. Черт разберет ваши каракули!..
Кинулись на дачу № 25, но жильцы там уже два дня как съехали. На столе в кухне красовался лист бумаги: «Гениальный сыщик Броневский! Мы с восторгом следили за вашими расследованиями. Но, к сожалению, тайну смерти провокаторши Марии Гроссман, она же Халютина, вам не открыть».
Конец Шерлока Холмса
Доктор Ватсон, верный друг великого сыщика, объяснил в весьма неудовлетворительной форме, — почему Шерлок Холмс прекратил свою деятельность навсегда и занялся огородничеством и пчеловодством. Что побудило, однако, великого человека прекратить так внезапно самоотверженную борьбу со злом? Одно имя Шерлока Холмса заставляло дрожать от страха и ненависти врагов человечества, и то же имя вселяло благомыслящей части общества надежду, что защитник мещанского благополучия неизменно стоит на страже. Такие личности, как Шерлок Холмс, Наполеон, адмирал Нельсон, Ричард Львиное Сердце, Александр Македонский никогда не останавливаются и не обращаются в бегство с поля битвы. Только смерть или полное поражение ставит роковую точку в длинной повести их подвигов. Но Шерлок Холмс жив, он удалился в добровольное изгнание. Не пережил ли он какого-нибудь Ватерлоо? Доктор Ватсон молчит. И я ему вполне сочувствую: друг не должен выдавать позора своего друга. Но я, случайно узнавший грустное происшествие, сломившее железную волю великого сыщика и, не будучи связан клятвой или узами дружбы, считаю своим долгом поведать миру истину.I
Поздно вечером д-р Ватсон сидел в своем кабинете и просматривал документы, которые должны были послужить материалом для нового тома похождений знаменитого сыщика. В доме все уснули и было совершенно тихо. Черная ночь смотрела в окна коттеджа. Д-р Ватсон довольно часто отрывался от своей работы, чтобы еще раз полюбоваться на новую оттоманку, обшитую превосходной персидской материей. Только накануне он сделал это прекрасное приобретение и оттоманку доставили из магазина мебели сегодня утром четыре дюжих молодца. Тишина прерывалась лишь шелестом бумаг и громким тиканьем больших старинных часов. Часовая стрелка стояла на двух, минутная приближалась к двенадцати. Д-р Ватсон вздрогнул: ему показалось, что сиденье оттоманки слегка приподнялось. Привыкший ко всяким неожиданностям, он не растерялся и придвинул к себе ближе браунинг, всегда лежавший на письменном столе.
Сиденье продолжало подниматься и в зияющей щели показалась человеческая рука с длинными тонкими пальцами. Ватсон открыл предохранитель браунинга и направил дуло на оттоманку в ожидании появления злоумышленника. Часы гулко пробили два удара… — Дружище! — раздался знакомый насмешливый голос. — Уберите ваше скорострельное оружие и опустите на окнах железные шторы. Ватсон поспешил исполнить приказание. — А теперь посмотрите хорошенько, нет ли кого-нибудь за дверями. После этих необходимых предосторожностей сиденье окончательно поднялось и из внутреннего ящика ловко выскочила худая фигура Шерлока Холмса. Ватсон бросился к своему другу и крепко пожал ему руку, изобразив на лице радостное изумление. — Дружище, избавьте меня от расспросов. Просидев целый день в вашей оттоманке, я чувствую адский голод. Накормите меня чем-нибудь, не беспокоя домашних. — Но почему?.. — Вы хотите знать, почему я не вылез раньше из этого проклятого ящика? Ватсон, я должен был повидаться с вами, но за мной следит двенадцать пар глаз, не менее проницательных, чем мои. Само Провидение внушило вам счастливую мысль купить оттоманку, а попасть в нее для вашего покорнейшего слуги, конечно, детская забава. Кормите меня, Ватсон, если не хотите видеть умершего голодной смертью… Только истребив холодную закуску и запив ее стаканом виски, Шерлок Холмс получил способность говорить. Он закурил свою знаменитую трубку с крепчайшим табаком и растянулся на кресле-качалке. — Никогда еще, Ватсон, ваш друг не находился в более странном положении. Победа и поражение — в одно и то же время. Вы, вероятно, обратили внимание, что в последние два года в Лондоне, Париже, Вене, Берлине, Амстердаме, Нью-Иорке, Сан-Франциско, Токио, Владивостоке, Петербурге и во многих других городах совершен ряд дерзких преступлений, оставшихся безнаказанными? Какие это преступления? Ограблено несколько касс банков и акционерных обществ. Похищено несколько красивых девушек лучших аристократических фамилий. Без вести исчез наследник американского миллиардера. Убит и ограблен старый еврей Ионас, имевший привычку хранить в своем уединенном доме огромные ценности. Около Варшавы произошло крушение европейского поезда, в котором ехали чрезвычайно богатые пассажиры и везли бриллианты общей стоимостью в миллион фунтов стерлингов. Недавно ограблен Ватикан. Из сокровищницы одной царствующей династии исчез алмаз, равного которому нет в мире. Произошло нападение на трансваальские алмазные копи. Английское морское министерство тщетно ищет пропавшую миноноску № 107… Продолжать ли, Ватсон? Вы спросите, какая же связь между этими преступлениями? По-видимому, никакой. Так думал и я. Долго было бы рассказывать, как я, неустанно работая целый год, сверяя малейшие подробности преступлений и совершив несколько раз кругосветное путешествие, пришел к заключению, что все это — дело одной преступной международной шайки. Вы знаете мой метод? Мне достаточно ухватить конец нити и клубок в моих руках. Я знаю поименно и в лицо всех двенадцать главарей этой опаснейшей шайки. Всем руководят три женщины. Ватсон, это настоящие дьяволы, воплотившиеся в женские тела безукоризненной красоты! Шайка замыслила грандиозное ограбление банка — 10.000.000 фунтов стерлингов, Ватсон! Я знаю, что для осуществления своего гнусного замысла им не хватает одного сведения. Ватсон, время идет, через пятнадцать минут я должен исчезнуть! Надо нанести последний удар и красивые дьяволы очутятся за решеткой. Вот пакет! В нем все подробности. Если через двое суток я не явлюсь к вам, передайте пакет властям, но… не раньше! Если арестуют не всю шайку… Шерлок Холмс не договорил. Электричество мгновенно погасло и Ватсон ясно расслышал среди наступившей внезапной тьмы шипящий звук. Он почувствовал приторный, одуряющий запах, дыхание захватило, сознание его оставило… Когда Ватсон очнулся утром, он увидел открытое окно. Шерлок Холмс исчез. Исчез и пакет с обличающими документами.
II
— Ха, ха, ха! — раздался смех трех прелестных женщин. Веселым переливам женского хохота вторил бас брюнета атлетического телосложения. — Здравствуйте, великий сыщик! Смуглая красавица блеснула на Холмса черными звездами глаз и, закруглив обнаженную до плеча руку, точно вылитую из бронзы, послала воздушный поцелуй. Холмс сидел в кресле, весь опутанный веревками. Рот его был заткнут куском гигроскопической ваты.
Великий сыщик нисколько не тревожился за будущее, так как не раз бывал в положениях, совершенно безнадежных. Великолепная блондинка с роскошными формами пристально посмотрела на Холмса своими небесно-голубыми глазами и откинула золотистые волосы, которые локонами вились до самой земли. Перед равнодушными глазами сыщика засверкал снежной белизной глубокий вырез черного бархатного корсажа. Блондинка отдала какое-то приказание царственным движением полной руки. Мужчина атлетического телосложения подскочил к Холмсу и вынул у него изо рта клок гигроскопической ваты. Заговорила третья красавица. Это было прелестное создание. Огромные глаза наивно смотрели на весь мир под ровными, точно рисованными, дугами бровей. Носик был задорно вздернут и маленький рот словно выкрашен свежей кровью. Все обличало в ней парижанку. — М-сье Холмс, поверьте, что я с огромным удовольствием читала о ваших дивных похождениях, описанных д-ром Ватсоном. И даже многому научилась из бесподобных методов, применяемых вами при сыске. Когда в «Совете Трех» обсуждался вопрос о смертной казни, которую вы, строго говоря, давно заслужили, я первая подала голос за вас и убедила председательницу оставить вам жизнь. Я против смерти… — А еврей Ионас и жертвы железнодорожного крушения под Варшавой?! — замогильным голосом прогудел Холмс. — Не будем спорить! С вашим проницательным умом вы, конечно, догадались, зачем мы вас похитили? — Вы собираетесь ограбить банк в одну из ближайших ночей. Чтобы открылась дверь бронированной кассы, необходимо знать три последовательных слова для комбинации кнопок секретного замка. Вам известно только первое слово: «Альсинорт». Остальных двух вы не знаете и надеетесь выпытать у меня тайну. — Вы удивительно хорошо осведомлены. Это избавляет нас от излишних разговоров. Ваши условия? — С грабителями и убийцами я не вхожу в переговоры. — Прекрасно. Другого ответа мы и не ожидали. Все же мы считаем своей обязанностью попытаться окончить дело мирно. Что вы скажете о 20 % с добычи? Это ведь составит 2 миллиона фунтов! — Богатство никогда меня не прельщало. — А если мы укажем место, где находится английская миноноска № 107? Вернем похищенного наследника? Отдадим сокровища Ватикана и королевский бриллиант? — Все это я разыщу без вашей помощи. — Но вы забываете, милейший м-сье Холмс, что выйти на свободу вам удастся, лишь сообщив нам два слова. В противном случае… — Я не боюсь смерти! — гордо блеснул серо-стальными глазами великий сыщик. — Это мы знаем, но неужели вы думаете, что умрете так просто — от револьвера, яда или кинжала? Вам знакома пытка огнем? — Меня жгли до костей раскаленным железом пираты Темзы. — Водой? — На Сандвичевых островах шайка Хуареса влила в меня бочку воды. Царственная блондинка подняла руку. — Довольно. Призовите Яди-Самагата. Через минуту явился юркий, жилистый японец. Он подошел к Холмсу и, вытянув свои цепкие руки, начал последовательно сжимать ими мускулы рук и ног сыщика. Потом он проделал что-то над шеей. Перебирал пальцами по груди и животу. И наконец, оставив свою жертву, безнадежно развел руками. — Этот человек прошел школу японской пытки, называющейся у нас «Пляской Смерти». Каждый кусок его тела сопротивляется «адскому массажу». — В таком случае, — сказала блондинка, — применим электричество. Брюнет атлетического сложения надел на голову Холмса металлический шлем и опутал его тело проводами. Блондинка повернула ручку выключателя… Только закоренелые злодеи могли смотреть без ужаса на пытку электричеством. Холмс испытывал нечеловеческие страдания, все тело его сводило мучительной судорогой, казалось, голова сейчас разорвется на части. Несмотря на то, что сыщик был привязан к креслу, его подкидывало до самого потолка. Блондинка выключила ток. — Вы скажете два слова, Холмс? — Никогда! — произнес сыщик задыхающимся голосом и потерял сознание. Когда он очнулся, в комнате царил полумрак. Адские женщины — главари шайки — и их помощники куда-то скрылись. Внезапно открылась дверь и к Холмсу тихо стала приближаться женская фигура, вся закутанная в покрывало. Белая пелена спала и перед сыщиком предстала блондинка во всем блеске своей царственной красы. Единственной одеждой для красавицы служила густая волна ее собственных золотых волос. Она прильнула к Холмсу и покрыла лицо его страстными поцелуями. Призывный запах молодого женского тела, соединенный с ароматом цветка лотоса, дурманил голову. — Милый, скажи два слова и я буду твоей. Я напою тебя сладкой отравой безумной страсти, которую ты никогда не испытывал. Красавица развязала сыщику руки и уже торжествовала победу, чувствуя, как сильные мужские руки обняли ее обнаженный стан. В комнате раздался сухой треск стальных наручников, которые Холмс с быстротой молнии вытащил из бокового кармана и защелкнул на руках блондинки, отведя их за спину. — Именем закона я тебя арестую! — крикнул он громовым голосом и быстро освободился от веревок, связывавших его ноги. Но блондинка в то же время успела отскочить к стене и, не владея руками, нажала кнопку электрического звонка своим прелестным носиком. В комнату ворвались пять негров чудовищного роста и, схватив Холмса, повалили его на пол. Один из них отстегнул манжетку на его левой руке и обнажил ее до локтя. Вошли другие главари шайки и шторы взвились кверху. Комнату залили солнечные лучи. — Обыщите его! — раздался властный голос. Все карманы сыщика были выворочены. — Сахира-Нагиб, делай свое дело! Бронзовый индус подошел к Холмсу со шприцем Праваца и вспрыснул что-то под кожу.

Негры откинули сыщика с силой в угол и в то же время раздался грохот опустившейся решетки, перегородившей комнату на две части. Холмс очутился в клетке, совершенно пустой. По другую сторону расселась важно на стульях вся шайка… и три красавицы впереди всех. На этот раз заговорила брюнетка, в которой Холмс, по свойственной ему проницательности, узнал мексиканку. — Великий сыщик, вы, конечно, убеждены, что вам вспрыснут смертельный яд и мысленно прощаетесь с жизнью. Успокойтесь! Это всего только настой из индийского корня suambo. Известно вам это средство? Действие его начнется через десять минут. Скажите два слова и позади вас откроется в стене дверь. Первый раз в жизни Шерлок Холмс весь содрогнулся от холодного ужаса. Он знал действия настоя suambo, вспрыснутого под кожу, и сам применил однажды это средство к кафру, проглотившему в Трансваале дивный бриллиант голубой воды. Именно таким образом овладел он знаменитой «Южной Звездой». Никакая пытка не могла сравниться с тем, что чувствовал Холмс. Его ожидали позор и унижение и… в присутствии дам, хотя бы и преступниц. — Дункан! — крикнул Холмс не своим голосом. — Третье слово? — Леди… леди Мильсборо! Позади сыщика мгновенно открылась дверь.
В ту же ночь банк был ограблен. — Друг Ватсон! — с поникшей, когда-то гордой головой сказал великий сыщик. — Я навсегда отказываюсь от профессии эксперта по уголовным делам. Есть сила, перед которой пасует и британское мужество. Эта сила называется: «Шокинг».
Приложения
Читатель-страус
Страус, или страфокамиль, охотно глотает камни и оные весьма переваривает.Жили-были два человека: писатель и читатель. Скоро, скажете вы? Верно. Что же, однако, делать: и стареньким приходится пробавляться, когда новенького нет. Писатель был, конечно, фантазер и постоянно мечтал. Вставши утром, он постоянно надеялся, а к вечеру разочаровывался и впадал в отчаяние. Дело все в том, что он был приставлен волею судеб или по прихоти всемогущего Аллаха к страусу, сидящему в клетке. И в предвечной книге было начертано: «Сидеть писателю при страусе, пока тот не заговорит человеческим голосом и не начнет проявлять человеческих поступков». А страус был читатель. Он сидел в своей клетке и оной был даже очень доволен. Когда однажды дверцы случайно остались отпертыми, все страшно испугались: «Наш страус непременно убежит». Тот, однако, повел себя вполне благонамеренно. Высунул из дверцы длинную шею, повел кругом маленькой головкой, похлопал глазами и сейчас же сконфузился. И до того почувствовал себя виноватым, что, забившись в угол клетки, сейчас же головой зарылся в песок. Так, по наблюдению ученых-естествоиспытателей, поступают и настоящие страусы в пустыне Сахаре. Почуют опасность, — тотчас голову в песок, а грузное тело, по несказанному легкомыслию, а может быть, и глупости, оставляют наружу, так что охотник может спокойно прицелиться и выстрелить в самое чувствительное место. Может даже поступить и проще: заряда даром не терять, а подойти и выщипать те перья, из-за которых и ведется охота на неразумных страусов. Перья сии идут, как известно, на украшение дамских шляп. Также из них делают боа. Бывает, что и роскошные бальные платья отделываются страусовыми перьями. Хотя страус и не бежал из клетки, однако, высовываясь из нее, совершил все-таки поступок легкомысленный, человеческого же ничего не проявил, а поступил так, как и надлежит обыкновенному страусу, то есть голову зарыл в песок, а чувствительные части оставил наружу. Решено было поэтому страуса все-таки наказать, и его по чувствительным местам больно высекли. Тут в первый раз страус заговорил человеческим голосом, и писатель уже надеялся, что наступил момент. Но надежда сия была напрасна. Страус, вынув голову из песка, произнес: — Это точно, виноват я, и за дело меня наказали. А потому позвольте поцеловать ручку. И больше ничего человеческого страус не совершил и стал жить по-прежнему. Однако же, сей случай навеки лишил спокойствия писателя. — Хотя страус и не человеческие слова произнес, но все же человечьим голосом. Значит, может быть, когда-нибудь он и разумное что-нибудь скажет и разумные поступки совершать начнет. И стал придумывать писатель, как выполнить написанное в предвечной книге всемогущего Аллаха. И стал писать и думать: — Не иначе, как надо его гражданской слезой пронять. Плакал писатель сорок дней и сорок ночей, наплакал целую бочку слез и споил ее всю страусу. А потом стал ждать, что из сего воспоследствует. Воспоследовало, однако, не многое. Писатель, впрочем, радовался и, показывая страуса зрителям, всегда говорил: — Видите, он уже научился вздыхать и плакать. Погодите еще немного, — и он сделается разумным существом. И точно — страус и вздыхал, и плакал, но никак нельзя было сказать, от какой причины: от гражданских ли чувств, или от расстройства пищеварения. Писатель, однако же, не унывал. — Ежели плакать начал, то и смеяться может. И мы узрим невидимые для мира слезы сквозь видимый смех. Не иначе, как его сатирой пробрать нужно. И вот писатель ежедневно становился перед страусом и начинал ему внушать: — Ведь ты — пошехонец! Ты рака с колокольным звоном встречал! Ты реку толокном месил. Ты щуку на яйца сажал. Ты в трех соснах заблудился. Ты Бога во щах слопал. Сначала страус ко всякой сатире относился совершенно равнодушно и, думая, что дело идет по-прежнему о гражданской скорби, вздыхал и плакал. С течением же времени как будто нечто уразумел. Стал смотреть внимательно, поворачивал голову направо и налево, даже ногу одну поднял. А у писателя сердце замирало: вот-вот начнет совершать человеческие поступки! И действительно, начал нечто совершать. Вытянул шею, приподнял коротенькие крылья, стал в позу, да как загогочет: — И-го-го-го-го! Писатель даже оторопел. — И-го-го-го-го! Зрители, однако же, говорили, что страус научился не по-человечьему, а по-гусиному. И опять задумался писатель: — Плакать и смеяться он научился. Непременно теперь его надо реальной наукой пробрать, чтобы, значит, в разум вошел. И стал писатель кормить страуса реальными науками, тот же с охотою раскрывал рот, проглатывал, крякал, а по истечении некоторого времени и переваривал. Писатель подал ему и Дарвина, и Спенсера, и Молешотта, и Бокля, и Адама Смита, и Родбертуса, Карла Маркса, Энгельса, Лассаля… Страус все кушал с охотою и весьма изрядно переваривал. Человеческой же речи не научился, а человеческих поступков тем паче не совершал. Писатель начал приходить в отчаяние. Чем же ему, наконец, кормить страуса? И начал писатель с горя бросать в рот этого странного животного все, что ни попадет: прованское масло, перец, серную кислоту, гашиш, дурман, духи опопанакс, деготь, мед, газетные фельетоны. Потом вымазал его всего либеральным вазелином и напоил патриотическим квасом. До того дошел писатель, что просто возненавидел читателя-страуса и в безнадежном огорчении изготовил самую убийственную петарду и бросил ее в открытый зев. — Чтоб тебя разорвало! Страус, однако, поступил согласно естественной истории Горизонтова и ужасную петарду преспокойно переварил. Писатель совершенно теперь не знает, чем же ему еще накормить страуса: Валерием Брюсовым или Максимом Горьким? А посему писатель запил мертвую. Было, однако, замечено, что все сии эксперименты не остались без следа, и страус в некоторых случаях получил способность членораздельной человеческой речи. И всегда это случалось, когда страуса собирались посечь за некоторые провинности. Сейчас он зароет голову в песок, а все чувствительные места предупредительно подставит руке наказующей. После же экзекуции неукоснительно возглашает: — Укажи мне такую обитель… — Волга, Волга, весной многоводной… А потом начнет читать из Щедрина и показывает всем невидимые миру слезы сквозь видимый смех. Далее же начинает бормотать: — Железный закон… Теория приспособляемости… Естественный подбор… И кричит петушиным голосом: — Экономический материализм! То, что меня высекли, представляет не более, как надстройку к юридическим отношениям! Потом задумается. — Переоценка ценностей! Но что такое изображает переоценка телесного наказания? Потом успокаивается и впадает в совершенствование: — Не противься злу насилием! Потом разнеживается и, присевши наземь, тихо мурлычет: — После розог я всегда впадаю в лиловые чувства и оранжевые настроения. Я чувствую, ясно чувствую сладострастный изгиб наказующей лозы. Человеческих же поступков, однако же, не совершает.Едва ли из Брэма, но, быть может, из естественной истории Горизонтова[6].
Последняя колонна
— Сдайся, сдайся! Этот голос, — он становится все громче, звучит все увереннее. — Нельзя жить без веры в жизнь. Верь в нее, люби ее! Ты хочешь истины, а все отрицаешь. Ты смеется, издеваешься над всем. Ты разрушаешь все. Что же останется? Посмотри кругом: одни обломки, развалины. Где же здание, где твой приют? Ты вышел в путь бодро и с оружием в руках, и увидел всюду ложь и неправду. Ты стал разрушать… разрушать храм Ваала и Молоха? Нет, ты разрушаешь собственную жизнь, собственную свою веру. Что же осталось у тебя, бедный? От пышной одежды — одни лохмотья. Взор твой, ясный и гордый, потускнел. Где твоя сила, твоя мощь? Безумец! Ты делаешь последние усилия и обломком копья бьешь по последним колоннам старого храма. Ну, упадут они. Хорошо! Ты одолеешь последнее препятствие, разобьешь последнюю амфору и столетним вином напоишь мусор и грязь — трофеи твоей победы. Но чем же ты-то, жалкий безумец, будешь жить на развалинах старого храма? Чем? И страшно мне, и боюсь я, что вот сейчас рухнет последняя колонна старого храма, и останусь я один, совсем один. Не будет уже самозабвения и злобы, и радости, и гордого торжества борьбы… И останусь я, мнимый победитель, одиноким в пустыне, которую создал сам вокруг себя. Тогда придется услышать мне страшный голос смерти, тогда почувствую я ужас одиночества, тогда пожалею я о старом храме, о торжественной декорации, о благовонном курении, о стройном хоре, славословящем жизнь… Жизнь! Но я тебя победил, а ты, мощная, непоколебимая, раздавила меня. Я поражал картонным мечом и убивал призрачного неприятеля. Этот храм — стоит по-прежнему и курится фимиам во славу земного бога, и гремят литавры, и хор звучит, и торжественные звуки несутся ввысь… Но я уже ничего не слышу, я не способен слышать. Я разрушил все и остался один. Куда же теперь? За борт? Я плачу… Поздние слезы. Не вернешь. Из мусора и гнили не возродятся стройные колонны, изукрашенные фронтоны, и поверженный идол не воспрянет, в холодном камне не увижу я более божественных черт. Но ведь то была ложь и неправда. И не я ли ополчился на нее? Не я ли вызвал ее на бой? Не я ли победил? Я горд, я силен! Все это минутная слабость! Прочь! Я должен разрушать, строить будут после меня! Вперед! Еще не все разрушено, еще жива во мне злоба, еще сильны руки, еще губителен размах… Боже мой!.. Я боюсь… Я не могу… Я не дотронусь до этой последней колонны… Я сяду у подножия ее и буду думать о старом храме… Как полон он был неразгаданных чудес, как живительна была его прохладная тень под вековым сводом, и каждый камень шептал мне старую сказку, чудную сказку былого, невозвратного… Пусть то была ложь, но как хотелось ей верить! И когда жрецы в белых ризах возносили к небу молитвы, я падал ниц и холодных плит касался лбом, и так тепло становилось в душе моей, и накипали слезы… Я верил и жил. Но вот я поднялся и боязливо оглянулся кругом. И тут впервые что-то коснулось меня и стал я прозревать. И сказал я самому себе: жрецы обманывают народ, и идол тот каменный, а не бог. Испугался я своей мысли и хотел вернуться к старой наивной вере, к каменным плитам, охладившим мое воспаленное лицо, к слезам умиления, к миру души… Но не мог. И смелее стал смотреть я вокруг. И увидел, что все ложь и обман. Обман эти белые ризы, эти клубы жертвенного дыма, этот холодный и бездушный мрамор божества. Обман порфира и виссон. Обман красота дев, принесших цветы для брачного обряда к подножию идола. Обман и взоры, казавшиеся мне раньше звездами, взятыми с синего полога вечного неба. Все обман и ложь! И впервые на уступах моих зазмеилась насмешливая улыбка и хриплый от волнения голос произнес слово осуждения и отрицания… А жизнь шла по-прежнему, никто не хотел верить моей правде, все смотрели на меня, как на врага, и грудью отстаивали свою неправду, свой обман. И ополчился я и вызвал на бой жизнь. И стал глумиться и разрушать, и радовался победе своей. Ликовал при громе и треске падающих зданий и оглашал воздух победным криком при зареве пожара. Я ликовал и жил борьбою. Несчастный, я разрушил мой собственный храм, храм моей души и вот… жалею теперь о последней колонне и готов молиться на нее, как на святыню. О, приюти меня! О, дай мне живительную тень, дай скрыться от палящих лучей. Ты так прекрасна, дай мне смотреть на тебя, чтобы только не видеть всех обломков, оставленных мною в жизни. Ты ведь у меня одна осталась. Все, все разрушено. О, как бы теперь ушел я под сень старого храма, как благословлял бы его холодные плиты, как бы молился… — Сдайся, сдайся! Вернись. Победи самого себя. Поверь. Примирись с жизнью, и храм возродится из облаков. Поздно! Я сижу у подножия последней колонны, обнимаю ее и трепещу в страхе, что буря и гроза разобьют этот последний мой идол, одиноко стоящий среди развалин мусора и грязи — трофеев моей победы над жизнью.А. Куприн С. Я. Соломин
А. И. Куприн и русские писатели
Через несколько дней исполняется годовщина смерти талантливого газетчика и фельетониста, некогда сотрудника «Биржевых ведомостей» Сергея Соломина. Книжка его рассказов, изданная после его смерти, давно успела разойтись. В скором времени выходит ее второе издание, новый сборник, собравший его последние рассказы. Этой книге предпосылается предисловие А. И. Куприна, очень характерное столько же по оценке писательского и человеческого облика С. Я. Соломина, известного представителя русской литературной богемы, сколько и по выраженному общему взгляду талантливого автора «Поединка» и «Ямы» на положение русского писателя вообще. Приводим полностью эти строки нашего известного беллетриста, посвященные участи менее удачливого собрата.У широкой русской публики слабое и какое-то странное противоречивое представление о своих писателях. С одной стороны, мы гордимся русской литературой, чтим и мучаем своим вниманием ее представителей, а с другой стороны, нам ставят чуть ли не в кровную обиду, если писатель умирает не на чердаке или не в бесплатной больнице. Разве не укоряли мы Толстого его усадьбой, Некрасова — картами, Пушкина — камер-юнкерством, Гончарова — чиновничеством, Чехова — дачей в Ялте, Андреева — моторной лодкой, Дорошевича — автомобилем, Бунина — академией?!.. Но надо сказать правду: все — от удачи счастливцев, избранников по роду и исполнительному таланту. В громадном же большинстве наш писатель влачил и продолжает влачить зыбкое и тяжелое положение злосчастной русской богемы. Здесь и необеспеченное положение, неуменье налаживать свою жизнь, изнуряющая ежедневная работа ради куска хлеба, равнодушие к завтрашнему дню, широкое гостеприимство, невозможность отказать в просьбе и многое другое. Типичным представителем этой богемы был и остался до конца своих дней покойный С. Соломин (Сергей Яковлевич Стечькин). Этот хмурый, высокий, сутуловатый, рыжекудрый человек, с всегда поникшей головой, с мрачным взглядом исподлобья, отличался необыкновенной трудоспособностью, был ценим редакциями газет, любим публикой и… скончался совершенным бедняком. Он писал злободневные фельетоны, передовые статьи, рассказы, романы, даже специальные сочинения по военной истории. В последнее время, после двадцатилетней работы, его властно потянуло к научно-фантастической повести, и он с энергией и наслаждением отдался этому влечению. Предлагаемая вниманию читателей книга почти вся состоит из произведений этого жанра. Несомненно, на них отпечаталось влияние Г. Ж. Уэльса, но надо помнить, что подчиниться влиянию большого ума и таланта не значит рабски подражать ему. Повсюду — в живописи, музыке, литературе, в сценическом искусстве — мы видим, что ученик некоторое время идет по следам учителя и постепенно находит самого себя, до тех пор, пока не откроет своей собственной тропинки, по которой он пойдет один. Очень жаль, что смерть безжалостно оборвала жизнь нашего друга. В его последних романах: «Под стеклянным колпаком», «Необычайное приключение Оскара Дайбна и Кондратия Невеселова», в прелестных рассказах «Освобожденные звери», «Завтра», «Чертов кузнец», <нрзб.> и еще много других, — ясно сказывается большой ум, ученость, громадное знание жизни, наблюдательность, широкая эрудиция и почти нерусская увлекательность сюжета.
В. Регинин Тихий писатель
Если бы этот тихий писатель пришел в литературный лагерь не в годы особой приниженности и растерянности русской журналистики… Если бы его первые строки увидели свет в те дни, когда критикой и обществом так щедро раздавались почетные ордена и звезды каждому выступавшему на поле литературной деятельности… Если бы имя его зажглось в печати в те крикливые, шумные годы, когда автор, еще не освободившись от литературных пеленок, уже становился прославленной знаменитостью, когда даже бессвязный беллетристический лепет встречал восторги окружающих, а первый шаг писателя превращался в триумфальное шествие во главе с газетными церемониймейстерами, интервьюерами, услужливыми критиками, кружковыми демагогами и славословящим хором лекторов… Если бы свой первый шаг Соломин сделал не в девятисотых годах, а на пять лет позже, когда, точно сказочного царевича Гвидона, бурные общественные волны выбрасывали на литературный берег одного за другим фантастических принцев пера… Если бы в это счастливое для нынешних авторов время Сергей Соломин не был уже сгорблен, сломан и смят голодными и тоскливыми днями, убившими многих тихих тружеников пера, — то смерть его где-то в Новой Деревне заставила бы вздрогнуть и окутать печалью сердца не двух-трех близких друзей покойного, снесших в могилу его гроб, а огромной читательской толпы, потому что она должна была его любить, и не могла неувлекаться его творчеством, — ведь он так близко подошел к ней и часто так свежо и просто отвечал на те вопросы дня и многих лет, которыми читатели обильно забрасывают писателей-публицистов. Недели за две до смерти он приготовился собрать свои многочисленные рассказы и статьи и выпустить их отдельными книжками, — тогда бы вполне ясно и законченно обрисовывалось его значение в журналистике за последние годы. Но неудачная жизнь оборвалась внезапной смертью и ничего не осталось после нее, кроме обрывков бумаги, среди которых была найдена страшная предсмертная исповедь писателя. В ней, между прочим, он просит издать после смерти свои воспоминания… Но воспоминаний, о которых упоминается в этой исповеди, он также не успел написать… Как много нового и важного для общества открылось бы на этих страницах! Многие не знают, что Соломин был близок к Гапону, помогал ему составлять воззвания и подсказывал этому до сих пор для истории загадочному священнику манифесты: «Братья, спаянные кровью» и другие. За три дня до смерти мною было получено от Соломина письмо: — Я напишу для «Аргуса» рассказ о том, как жил и умер русский интеллигент. Но этот рассказ за него написали другие… Не полностью написали… Продолжение следует…Об авторе

Сергей Яковлевич Соломин (Стечкин, Стечькин) родился 29 июля 1864 г. в семье потомственного дворянина Я. Н. Стечкина, в родовом имении Плутнево, впоследствии проигранном отцом в карты. Брат консервативного журналиста и критика Н. Я. Стечькина, двоюродный брат авиаконструктора H. Е. Жуковского. Учился в Тульской классической гимназии (до 1879), затем в 5-й московской классической гимназии (до 1883). Еще в гимназии увлекся чтением нелегальной литературы. Из-за неуспехов в учебе не был допущен к выпускным экзаменам, сдал экзамены экстерном в реальном училище. В 1884 году поступил в Петровскую земледельческую и лесную академию. В декабре 1884 года совершил неудачную попытку самоубийства, долго лечился. В академии вступил в народовольческий кружок, участвовал в подпольной деятельности. В 1886 году женился на фельдшерице земской больницы М. Е. Пановой. Способствовал вхождению в революционную среду провокатора и будущего знаменитого деятеля охранки С. В. Зубатова, своего соученика по московской гимназии. В 1887 г. был арестован по доносу Зубатова, исключен из академии и в июле 1888 года выслан с женой на пять лет в Холмогоры Архангельской губернии. В 1890 году дважды обращался с прошениями о помиловании и получил разрешение отбыть оставшийся срок в Тульской губернии. Поселился в деревне Труфаново Тульской губ., занимался сельским хозяйством. В 1892 г. был освобожден от гласного надзора. В 1894 г. поступил канцеляристом в Тульскую казенную палату, начал сотрудничать в разных газетах и журналах. Проживая в Одессе (1896), помещал статьи в «Южном обозрении», затем начал сотрудничать в столичных газетах. Писал статьи, очерки и фельетоны в «Новостях», «Неделе», «Биржевых ведомостях» и др. Приобретя известность как публицист, в 1898 г. поселился в Петербурге на Гороховой улице. С 1901 г. постоянный сотрудник «Биржевых ведомостей». В 1902–1903 гг. жил в Нижнем Новгороде. С сентября 1904 г. сотрудничал в «Русской газете», где писал под псевдонимом Н. Строев статьи по рабочему вопросу. Сблизился со священником Г. Гапоном, которому помогал в написании черновика Рабочей петиции и, очевидно, революционных воззваний. После событий 9 января 1905 г. был привлечен к дознанию и подвергался допросам. В 1906 г. под псевдонимом Н. Строев выпустил два небольших томика статей «Исторический момент». В 1907 г. выпустил единственный номер журнала «Пережитое», где начал печатать свою автобиографию. Разойдясь с первой женой, женился гражданским браком на своей машинистке Н. А. Беллингер. В 1910 г. был сослан за Урал. В 1910–1913 гг. публиковал рассказы и повести в жури. «Аргус», «Синий журнал», «Всемирная панорама», «Волны», «Жизнь и суд» и др. Хотя в литературе часто встречаются попытки представить С. Стечкина как писателя, целиком посвятившего свое творчество научной фантастике, их нельзя признать состоятельными — в числе его произведений много «просто» фантастики, уголовных и детективных рассказов, мрачных этюдов на темы взаимоотношений мужчин и женщин и т. п. После возвращения из ссылки писатель много болел и работал только урывками. Успел подготовить к изданию сборник своих рассказов «Разрушенные терема», вышедший в 1913 г. (дополненное изд. в 1914). Выступал в печати под псевдонимами Н. Строев, С. Суходольский, Мерлин, Вер, Гулливер и основным — С. Соломин. Скончался от катарального воспаления легких в июне 1913 г. в Новой Деревне Петербургской губ. Некоторые произведения были изданы посмертно в 1914–1915 гг. Сын С. Соломина-Стечкина Б. С. Стечкин стал советским ученым, академиком, создателем теории воздушно-ракетных двигателей, внук С. Б. Стечкин — известным математиком, другой внук И. Я. Стечкин — конструктором стрелкового оружия, создателем пистолета Стечкина.
Примечания
Все включенные в настоящий том произведения публикуются по означенным ниже источникам с исправлением наиболее очевидных опечаток; орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Сокращением РТ-1913 обозначен авторский сборник «Разрушенные терема: Эпизоды из великой войны между мужчинами и женщинами» (СПб., 1913), РТ-1914 — дополненное издание того же сборника (СПб., 1914). Все иллюстрации взяты из первоизданий. Подстраничные примечания принадлежат составителю.Мертвый муж // РТ-1913. Убийца // Волны. 1913. № 14; РТ-1913. Доктор-дьявол // Всемирная панорама. 1912. № 3 (144). Роковая страсть // Волны. 1913. № 10. На скалах // Модный свет. 1915. № 6, с подзаг. «Посмертный пасхальный рассказ». Черное // Синий журнал. 1911. № 3. Остров кораблекрушений // РТ-1914. Париж под водой // Всемирная панорама. 1910. № 42. Семейное счастье // Всемирная панорама. 1910. № 46 (под загл. «Палач»); РТ-1913. В журнальной публ. эпиграф: «Казнь совершил специально приехавший из Бреславля палач за баснословный гонорар в 1200 марок; он жил в Кенигсберге в первоклассной гостинице и имел штат служащих из 4-х человек. Из газет». Живая или труп? // Жизнь и суд. 1911. № 7; РТ-1913. Илл. В. Сварога. Как убивают? // РТ-1913. Его превосходительство // РТ-1914. Двуликий // Синий журнал. 1911. № 44, с подзаг. «Рассказ Сергея Соломина для конкурса читательской находчивости и остроумия». Илл. В. Сварога. Читательские ответы были опубликованы в № 48. Кто звонил? // Летучие альманахи. 1914. Вып. 17. Солнечный зайчик // Волны. 1912. № 11. Гениальное расследование // Жизнь и суд. 1912. № 8. Илл. В. Сварога. Конец Шерлока Холмса // Синий журнал. 1911. № 26. Илл. Лебедева.
Приложения
Читатель-страус // Урал (Екатеринбург). 1902. 3 марта. Последняя колонна // Север. 1902. № 14. 7 апреля; РТ-1914. A. Куприн. С. Я. Соломин // Биржевые ведомости. 1914. № 14179, 31 мая. Публикуется по: Куприн А. И. Пестрая книга: Несобранное и забытое. Пенза, 2015. B. Регинин. Тихий писатель // Аргус. 1913. № 7.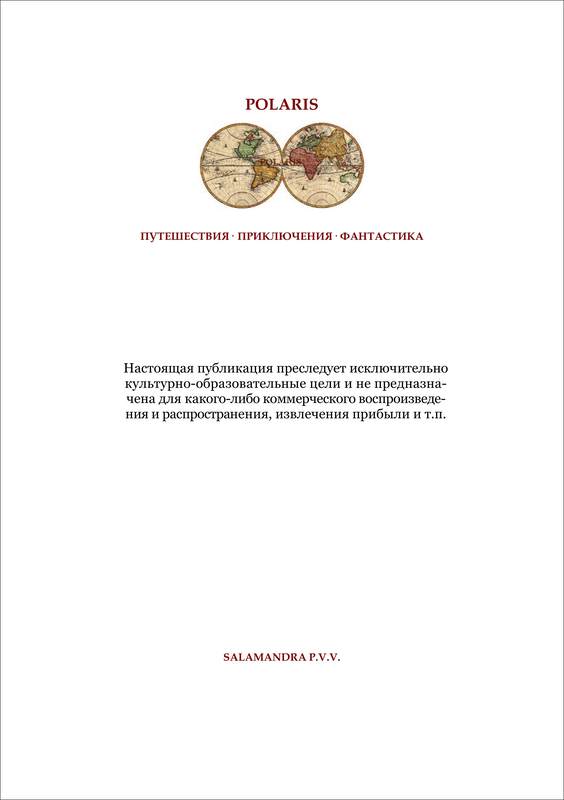
Последние комментарии
4 часов 16 минут назад
4 часов 17 минут назад
11 часов 18 секунд назад
11 часов 8 минут назад
17 часов 20 минут назад
17 часов 24 минут назад