Владимир Викторович Колесов СЛОВО И ДЕЛО. Из истории русских слов
Издательство С.-Петербургского университета 2004
Рецензенты: д-р филол. наук Ф. П. Сороколетов (Ин-т лингв. исслед. РАН), д-р филол. наук О. А. Черепанова (С.-Петерб. гос. ун-т)
Колесов В. В. Слово и дело: из истории русских слов. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. — 703 с. — ISBN 5-288-02027-2
ОТ АВТОРА
Эта книга сложилась из работ разных лет, написанных для читателей — как профессионалов, так и любителей русского слова, пытливо и въедливо изучающих русский язык и его историю. По этой причине стилистическая, а иногда и концептуальная сторона изложения не совпадают от статьи к статье, тем не менее я включаю их в сборник. Лишь совместно они отражают подступы к проблеме, которая всегда интересовала меня как представителя петербургской — ленинградской филологической школы. Эту проблему трудно обозначить простой формулой, ибо сама проблема непроста. Ведь речь идет о семантике языка в речевом общении как проявлении содержательных форм культуры. Это то, что сегодня связывают с когнитивной лингвистикой, культурологией, семиотикой и другими направлениями металингвистического постижения языка как системы знаков, с помощью которых осуществляются ментальные (мыслительные) действия. Основным подтекстом книги и является установка на триединую формулу исторического изучения слов, творчески представленную, например, Б. А. Лариным: слово изучается в трехмерном пространстве истории языка, развития стиля и формирования культуры (культурной парадигмы, как говорят сегодня). Такова причина, почему основные свои работы в этой области я располагаю в логической последовательности анализа, а не даю как результат исследования (что вообще более характерно для петербургских ученых, в отличие, например, от московских, являющих в публикации весь процесс своего творческого усилия). Хотелось бы представить и методологическую базу изучения лексических систем (историческая лексикология) и текстов (историческая стилистика) в их отношении к культурным процессам в русской истории («Теория слова» и «Слово в тексте»), и конкретные лексикологические разработки («История слов»). Все это вместе подходит под средневековую формулу русского права — слово и дело — поскольку, как увидит читатель на истории многих символов русского языкового сознания (ментальности), слово без дела пусто, как и дело без слова — уныло и плоско. По-видимому, не удастся избежать повторений в иллюстрациях, в примерах, подвергнутых разбору в тексте книги. Это отчасти сделано намеренно, для того чтобы показать всесторонне, четко и выпукло — через различные источники, материалы, суждения и факты — объемность того культурного явления, которое называется словом. Возвращение к одним и тем же примерам не есть повторение, но — как это было присуще средневековым текстам — углубление в то же самое с постоянной редукцией случайного или поверхностного — в целях овладения сущностью. В предлагаемой книге собраны работы, наиболее полно отражающие концепцию автора в духе обозначенной уже научной школы; в сборник вошли и не опубликованные прежде, а также значительно переработанные после первой публикации статьи — в соответствии с общим замыслом издания. В библиографических ссылках читатель найдет указания и на другие исследования автора по затронутым здесь проблемам. Предназначенные объяснять и доказывать определенные положения, статьи в этом сборнике по возможности избегают критических высказываний, которые остались в журнальных публикациях как живой отклик на дискуссии прошлых лет. Богу благоволящу читатель сможет понять и оценить те особенности научного направления, которые вместе с самим направлением долго оставались в тени филологических разысканий, и, быть может, своими усилиями присоединится к исполнению исследовательского проекта, над которым вот уже два столетия трудились выдающиеся филологи России.ТЕОРИЯ СЛОВА
ЯЗЫК КАК ДЕЙСТВИЕ: КУЛЬТУРА, МЫШЛЕНИЕ, ЧЕЛОВЕК*
Язык есть разновидность человеческого поведенияЛ. П. Якубинский
*Вводная лекция по специальности для студентов первого курса. См. также: Колесов В.В. 1) Русская ментальность и развитие русского языка // Russistik / Русистика (Berlin). 1995. №1/2. С. 20-25; 2) Слово живет в нас // Лит. в школе. 1995. №4. С. 87-90, а также некоторые статьи в настоящем сборнике.
Когда мы говорим о языке, немедленно возникает мысль о слове. Но слово многолико. Оно содержит в себе глубины неимоверные, до конца не раскрытые, пугающие. На радость нам: значит, профессия филолога бессмертна, пока жив человек. Прежде всего в слове мы замечаем образ: сказано дом — и я представляю себе какой-то дом, и у каждого будет свое представление о доме. Но кроме образа в слове заложен символ. «Дом» Федора Абрамова — это символ, восходящий, может быть, к старинному дом-о-строю, а может быть, использованный совершенно в другом смысле. В конце концов, дом — это всегда символ. Символ отчего крова, защиты, родных и близких. Но главная содержательная форма слова все-таки понятие. Понять значит «схватить», «по-яти». «Схватить» сознанием и памятью заветный смысл, сокровенно заложенный в слово, его существенный концепт, а «схватываем» мысль мы всегда в суждении. Таким образом, есть понятие, которое воплощено в имени, в слове. И есть суждение, воплощенное в предложении. Понятие и суждение как формы мысли свойственны разным народам, если не всем, а слова и предложения в разных языках различны, языками мы отличаемся друг от друга, это формы воплощения сознания и мышления. Целые научные школы различаются тем, на что они обращают преимущественное внимание. Неслучайная вещь, что петербургская и московская филологические школы постоянно спорят на разные научные темы. Для москвичей важнее предложение, поэтому в Москве почти все — синтаксисты, по каким-то своим причинам смыслу слова предпочитающие дискурс высказывания. В высказывании формируется мысль... Для петербургской школы уже полтора столетия важнее понятие, а не суждение, поэтому филологи Петербурга в своем анализе языка исходят из слова. И знаменитые составители словарей, академики А. X. Востоков, И. И. Срезневский, К. Я. Грот, А. А. Шахматов, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, Б. А. Ларин (я называю только русистов), и многочисленные их ученики и последователи. Все словари России, имеющие какую-то ценность, составлялись и составляются (или проектируются) именно в Петербурге. Школа семантическая, для которой смысл важнее формы, — школа петербургская. Понятие дано — суждение возникает по нашей милости; скажем иначе: понятие дано — суждение задано. Простая эта противоположность формирует научные школы, определяет различную идеологию познания, дает все новые импульсы для филологических разысканий. Смысл познания определяется предметом. Ясно, что именно является «материальным» в познании нового с точки зрения «вещи»: это отношение вещи к понятию и к слову. Но и с точки зрения мысли возникает такая же двойственность, отношение понятия и к вещи, и к слову. Осталось сказать о слове, которое указывает на вещь и обозначает понятие о вещи. Все знание, т. е. сознание вещи и познание понятием, оказывается связанным со словом, собирается со слова. Вот такая матрёшка: наше co-знание основано на языке, а по-знание осуществляется в понятии, тоже связанном с языком (понятие в слове, через слово); полученное знание собирается и хранится в том же слове. В этих «трех соснах» и обретается постоянно язык: в кольце слово [знак] — понятие [идея] — вещь [предмет]. Семиотики такую связь окрестили «семантическим треугольником», древние мудрецы — логосом. Термин «слово» многозначен, поэтому не существует всеми признанного, единого определения слова. Словом мы назовем и речь, и литературный жанр, высказывание, отдельную лексему и даже отдельную словоформу. Словом мы назовем и ах в пушкинском: Вскричала: ах!.. и пала на траву. Ах — тоже слово, хотя и особенное слово, за ним нет ни вещи, ни мысли, одна только эмоция испуганной женщины. Все это одинаково слова, которые фиксируют в себе весь опыт поколений и тем самым определяют ментальность данного народа. Ментальность... Слово сказано. Сейчас все говорят о «русской ментальности», о «менталитете» и т. п. Для тех, кто незнаком с термином, скажу, что латинский корень mens (в косвенной форме mentis) значит множество разных вещей: и ум, и рассудок, и способ мышления, и образ мыслей, и склад характера, и даже просто настроение. Поэтому так расплывчат сам термин ментальность, им обзывают все на свете, что подходит к характеристике человека, чем-то отличающегося от других. О ментальности «совков» стали говорить только теперь, о ментальности папуасов вообще говорят все кому не лень. Все осуждают чужую ментальность, а своей словно не замечают. Из этого можно заключить, что ментальность — что-то нехорошее. Но это неверно. Ментальностью филологи называют мировосприятие через категории и формы родного языка. Каждый человек по-разному смотрит и не одно видит. Но это на уровне образа. На уровне символа, через язык, он воспринимает мир в национальной своей окраске. Например, европейские языки не все различают понятия «совесть» и «сознательность», они не могут понять различия между «реальностью» и «действительностью» и т. д. А русский человек все это различает. Я могу быть очень сознательным гражданином, но совершенно бессовестным в отношении к девушкам. Или, скажем, могу со свечкой во храме стоять, такой хороший и совестливый, но буду абсолютно несознательным в отношении к своим согражданам. Человек живет в ментальном пространстве своего языка. А русская ментальность отчасти и состоит в удвоении сущностей, это как бы двойная жизнь: у нас есть не только «истина», но и «правда», есть не только совесть, но и сознательность, вообще всего по паре. И тогда оказывается, что нас легко обмануть, нам легко «вешать на уши лапшу». С одной стороны, моя правда все- таки отличается от общей истины. С другой — и слово само по себе понимаем по-разному. Вот кого-то обозвали фашистом. Мы знаем, что слово фашист обозначает определенное, конкретно-историческое понятие, но одновременно это и символ, который имеет нежелательные коннотации. Если я своего супротивника обзову фашист, то все оглянутся и подумают: «Ух, какой негодяй!» А может быть, он и не фашист, а очень добрый человек, кошек, например, любит. Мы «схватили» не понятие, а символический образ, т.е., иначе говоря, мы ничего не поняли, каков он, этот конкретный человек. Потому что не раскрыли в суждении смысл понятия, не дали ему предварительно определения. А символ — всегда с нами. Символ, порождение культуры. Строго говоря, с точки зрения понятия, фашистов у нас сейчас не так уж и много. Исторически определенная форма существования человека в общественной среде, создаваемой разлагающимся капитализмом, — вот понятие о фашисте. Кто признается, что его капитализм разлагается? Слово становится ярлыком. Это — тоже проявление ментальности. Мы живем в мифах, оперируем символами (полагая, что это — понятия). Хорошо это или плохо? Все зависит от обстановки и реального наполнения жизни содержанием. В конечном итоге вещь в широком смысле слова определяет смысл слова, энергию его использования, его соответствия истине. Абсолютной истине, а не личной или даже партийной правде. Изменяются не слова, а их содержательные формы (образом, символом или понятием заряжен словесный знак) или правила их распределения, их ценность. Не значение слов (оно постоянно), а значимость... Вот обычный пример. Обнаружили: этот чиновник — вор. Если он — сторонник моей партии, значит он не вор; если же ворует представитель партии, мне враждебной, — это коррупционер. Для древнего человека такое распределение ролей было бы непонятным. Он мыслил просто и даже составил поговорку: вор есть вор. Язычник пользовался равнозначными для всех критериями, потому что всякая противоположность для него реальна и существенна, вещна. Правое столь же ценно, что и левое, низ не хуже, чем верх. У всего свой смысл и своя цена. Средневековый христианский принцип, принцип иерархии, тоже отличался от нашего. Это градуальное скольжение признака объекта от одного к другому, от очень интенсивного до совершенно слабого. Для язычника добро и зло равноценны, для христианина зло есть просто отсутствие добра. Современная мысль в оппозиции качеств предполагает четкий ответ: да или нет, плюс или минус. В конце-то концов: брито или стрижено? черное или белое? Привативность жестко распределяет права и обязанности. Что отмечено (маркировано) как важное? Правильно, права. Именно поэтому они наверху, а тяжеловесные обязанности сваливаются вниз, на головы подданных. Язычник свободен и волен, свободен в обществе и волен сам по себе; средневековый человек свободен, но вовсе не волен, он вынужден делать все, что предписано. Мы с вами не свободны и не вольны, ни лично, ни в обществе. Потому что в личных своих предпочтениях мы связаны обществом (свобода), а в отношении к самому обществу невольны и совершаем невольные проступки. Все такие расхождения в восприятии даже старинных слов диктуются особенностями родного языка. Это — факт культуры, традиции, ментальности. Теперь я перехожу к изложению тех особенностей нашей культуры, которые связаны с влиянием античности и христианства на все европейские народы. Все, что с нами случается, все, что установлено нашим сознанием, — не случайная прихоть и не судьба обделенного родителями сироты. Не мы живем в языке и в культуре, как кажется нам, а язык и культура живут в нас. Мы только воспроизводим то, что было, воплощаем то, что пришло от предков, и, уточняя это знание, передаем его потомкам. Вот особенности европейской культуры, свойственные и нам, русским. Европейцы признают тождество логического и языкового, логика и язык в нашем сознании совпадают. Логические структуры соответствуют языковым структурам. Мы уже видели: суждение — это предложение, понятие — это слово и т.д. Мы не можем думать иначе, как в языковых формах. Со времен Аристотеля мы знаем, что категории сознания суть категории языка (или наоборот?). Мы живем в логике понятий, выраженных в языке частями речи. Кстати, русский человек быстрее думает, для него как раз характерно отсутствие законченных силлогизмов (умозаключений). Классический силлогизм гласит: «Все люди смертны. Сократ — человек. Следовательно, Сократ смертен». Так думает, например, англичанин. Он человек занятой, но у него есть время подумать именно так. Нам думать некогда, нам надо «строить новую жизнь». Поэтому и мысль скачет так: «Сократ смертен, ибо он человек». Что мы пропустили? «Все люди смертны». А зачем это нужно? каждому ясно, незачем и говорить. Вот уже одна из особенностей русской ментальности: мы говорим не силлогизмами, а энтимемами, мы не доказываем, а показываем; показываем, сообщая нечто в сложном предложении. Зря слов на ветер не бросаем. Зачем говорить об очевидном? Говорить следует только о новом, прежде неизвестном. Вторая особенность европейской культуры в том, что для нас основой информации является текст. Вот причина, почему с принятием христианства все народы озаботились переводом Священного писания на свой язык; а кто не успел это сделать сразу, потом устраивал Реформации. Мудрость веков собиралась в тексте, со всеми символами, образами и понятиями его. Основой жизни культурного человека является, что ни говори, культура, а культура — порождение культа. Через культурные тексты человек выходит из природной среды и становится человеком культуры. Через образы личного восприятия и через символы культа он создает понятия своей культуры. Именно текст сохраняет культурную традицию. Можно многое рассказать о том, какую роль в становлении славянских культур сыграл текст, когда-то переведенный Кириллом и Мефодием, а затем и их учениками на славянский язык. Вокруг этого перевода завязывались очень многие понятия, символы, роились образы, оплодотворившие великую литературу, возникали новые слова и синтаксические структуры. И все это совместно создавало литературный язык, отличный от «профанного», бытового. По мере того как у народа формировался литературный язык, народ вступал в семью европейских наций. Он получил язык, необходимый для творчества в слове. Литературный язык — это язык интеллектуального действия. Освященный текст, образцовый, всеми принимаемый, помогает формировать структуры мысли, суждение и умозаключение делает всеобщим достоянием. Народ растет духовно. Если я вам скажу, что в нашем обороте сотни поговорок или идиом, восходящих к тексту Библии, вы можете мне не поверить, может быть потому, что на самом деле их было гораздо больше, если учитывать те модели строения слов и сочетаний, по которым создавались и собственные славянские выражения. Третья особенность, присущая европейской культуре, — это вера в личность. Вот где самое болезненное и чувствительное место европейца. Почему? Потому что здесь возникают рефлексии, угрызения совести, проблемы чести и прочее. Личность выходит из-под контроля общества, но остается в миру, поскольку язык-то один! Общий для всех. Личного языка не создашь, кому он нужен? Идея личности имеет большое значение и для русской ментальности, но тут она понимается как-то иначе, с неким уклоном, вызванным историческими особенностями нашего развития. Хорошо об этом писал философ П. А. Флоренский. Человек существует как бы в трех ипостасях: есть бессмертный лик его души, есть его физическое лицо, но является он нам на людях в некоей маске — в личине: это социальная роль, которую он играет в обществе, иногда и помимо своего желания. Этим ипостасям соответствует все в человеческой жизни, даже сама жизнь как бы рас-траивается по образцу человека. Человек живет и духовной жизнью, и физически животом, и социально — житием или просто житьем. Где же личность? Понятие о личности сложилось в прошлом веке из этих трех образов. Личность — то, что относится к личному, индивидуальному, к субъективно своему. Русская ментальность не приемлет личности как о-соб-ы, которая существует сама по себе (особа — калька с латинского слова persona). Соборность всех, разделенное множество — вот наш идеал. Идея разделенной множественности содержится в самом языке. Это наша форма множественного числа у имен, противопоставленная собирательности. Ср., например, по смыслу три формы: волосы — волоса — волосья. Четвертая особенность культуры европейцев — любовь к универсалиям любой природы. Универсалии — самые общие понятия, самые абстрактные категории, которые только могут быть. Их нельзя даже называть понятиями, это, конечно, символы. Что такое любовь? благодарность? благо само по себе? Да существует ли эта любовь? Одни говорят — существует: значит, это не символ. Другие уверяют, что «нету любви». Об этом у каждого свое собственное «понятие», т. е. на самом деле представление образа или традиция символа. Та же любовь... Сколько видов ее известно, но каждое время в качестве символа проносит только одну ее ипостась. В средние века апостольски говорили Бог есть любовь, а сегодня я слышу девичий голосок на автобусной остановке: «Любовь, а по-русски сказать секс». Другие времена... В средневековье развивалось метонимическое мышление, все поверялось подобием смежного, сродного или как часть и целое. Это так далеко зашло, что все изменения языка до XVII в., известные нам из истории, можно объяснить только метонимическим сдвигом значения. Более того, и в современных словарях вы найдете только те переносные значения слов, которые связаны с метонимией. Символические значения, даже метафорические, с помощью которых создавались новые символы, в словарях не даются. Современное наше мышление, преимущественно метафорическое, раскрепостило и текст, и слово, создало искусство, развило философию. Метафорическое мышление — мышление творческое, оно не объясняет старый символ, как метонимия, а созидает новые символы. Метафора построяет культуру, создавая ее символы и облагораживая ее мифы. Вы понимаете различие между метонимией и метафорой? Понимаете. А различие между лингвистикой и философией? Сложнее. Согласен. Но философия вырастает из надобности истолковать через слово самые общие связи и отношения, в которых мы с вами живем. Философия есть раскрытая тайна слова. Или Слова. Или Логоса. Вот почему развитие национальной формы философствования идет рука об руку с развитием литературного языка и литературы. Даже об одном и том же на разных языках говорят по- разному. Русский философ Владимир Соловьев о совести говорит совсем не то, что говорит о ней, например, немец Кант. У них совершенно разная совесть, и они не могут понять друг друга во многих вопросах. Потому что основой их философствования были разные языки, а в тех языках заложено различное отношение ко многим категориям сознания. Пятая особенность самая важная. Все индоевропейские языки суть языки флективного строя; к корню у них прибавляются различные флексии, что определяет и особенности нашего мышления. Мы мыслим как бы квантами, клочковато кусочками присоединяя все новые оттенки мысли. Мы «лепим» понятие из обрывков образов и символов, которые у нас под руками. Возьмите любое слово, что́ оно собой представляет в действительности? Де-й-ств-и- тель-н-ост-ь — веками накапливались морфемы в этом, как кажется, искусственном слове (все термины кажутся искусственными): здесь их восемь в последовательности наложения на исходный корень -дѣ- со значением ‘касаться, говорить, делать, совершать’ и т. д. Например, какие особенности флективных языков мы видим в языках славянских? Главная их черта заключается в том, что для них характерна вариантность форм. Все существует в вариантах, тогда как сущность категории предстает как абсолютный ин-вариант (смысл формы). По-русски мы можем сказать: вот слово мужского рода, именительного падежа, множественного числа — инвариант как смысл. Но один и тот же корень может получить различные флексии: есть волоса, есть и волосы; мы говорим города, но и столы, и даже черти соседи — с разными окончаниями в одном и том же грамматическом смысле. И подобное многообразие форм при общности значения буквально простегивает весь язык. Ведь язык существует в речи, а речь многолика. Как только начинаем мы осваивать родной язык (а морфологическую парадигму мы осваиваем примерно в 7-8-летнем возрасте), мы отдаем себе отчет в том, что существует много возможностей употребить слово в самых разных его про-явлениях; в этом наша свобода, свобода выбора. То, перед чем мы в таком случае встаем со своей свободой выбора вариантов, — это проблема стиля. Наличие вариантов дает нам возможность подбирать стилистически нужные формы. Например, я могу сказать волоса или волосы — ведь это не одно и то же? У девушки прекрасные волоса — так не скажешь. Вымой волосы или вымой волоса? Даже на бытовом уровне возникает стилистическая проблема, поскольку и стиль связан с различением смысла. А вот в «Руслане и Людмиле» у Пушкина: и щиплет волосы порой — волосинку за волосинкой, и седые вяжет волоса — тут уж сразу все хватает в длань. Очень тонкое различение в поэтическом тексте. Сначала оно как бы проходит мимо нашего внимания, когда мы читаем, но при этом разницу мы сознаем, она остается в нашем образном восприятии. Мы видим, что символически это разные выражения: волосы существуют сами по себе, предметно, тогда как волоса — это символ Черномора. Если же мы станем раздумывать над этим соответствием дальше, окажется, что мы уже пытаемся понять все прочитанное или услышанное, облекая его в форму понятия. Это только один пример, но вся наша речь состоит из подобных оттенков смысла, облеченных в стилистические формы. Оказывается, если язык предоставляет нам варианты, на них мы можем строить стиль, обогащая текст незаметными оттенками смысла. Это прекрасно. Но такая свобода выбора из вариантов, которая как бы отчуждает нас от нашего языка, небеспредельна. Стилистическими вариантами мы можем пользоваться до известных пределов, и всегда свобода ограничена. Я могу назвать женщину и моя супруга, и моя жена, и моя баба. Сразу будет видно, что́ я за человек, да и скажу я так или иначе в определенных обстоятельствах, как говорят, в определенном контексте. Стиль определяется контекстом, свобода выбора ограничивается нормой. Бесшабашное манипулирование речевыми формами в конечном счете и порождает необходимость в установлении нормы: важно не только то, как сказать красиво, но и то, как сказать правильно. Литературные языки ориентированы на стилистически нейтральный средний стиль речи и представляют собою норму. Литературно значит правильно. Норма — это ответ на вопрос: как правильно? Например, как правильно: мышле́ние или мы́шление? Когда я был студентом в вашем возрасте, один из старых профессоров, учившийся еще у Бодуэна де Куртенэ, язвительного вообще человека, сказал нам раз и навсегда: «Мы́шление говорят те, у кого мо́зги, а мышле́ние — те, у кого мозги́». И больше я уж не путался, потому что мо́зги — это ведь что-то совсем из другой «оперы». К голове отношения не имеют. Обеспе́чение или обеспече́ние? Все дикторы правильно произносят обеспе́чение, но при этом иногда запинаются. Потому что все люди «с улицы» говорят только обеспече́ние, как все вы, видимо, произносите это слово. Почему? Потому что великий закон аналогии и смыслового единства требует подравнивания под обычное ударение таких слов: стремле́ние, движе́ние, давле́ние, терпе́ние, обеспече́ние... Если вы хотите подчеркнуть оттенок действия в отглагольном имени, вам и нужно говорить обеспече́ние. Но если у вас уже все есть, и вы не нуждаетесь, тогда вы обеспе́чены и говорите обеспе́чение. Если вам нужно что-то «доставать», тогда, конечно, обеспече́ние. Мы все живем в таких оттенках стиля, незаметно переходящего в различия по смыслу, не замечая этого по своей нелюбознательности к языку и речи. А филолог такие оттенки замечает и пытается как-то упорядочить их системно, описать как норму. С этого и начинаются лингвистические открытия. В начале века один наш коллега заметил различие между фразами типа по ком звони́т колокол и Маня весь день зво́нит и показал, что ударением здесь различается интенсивность действий, данная как один из грамматических способов действия. Особых формантов для такого противопоставления нет, тут как раз и выручает ударение: ку́рит, но кури́тся и десятки других. А мы удивляемся вульгарному ло́жит! В обыденной речи все изменения языка доходят до логического конца, и норма для нее не указ. Ло́жит в пару к поло́жит — вот и всё. А как иначе? С точки зрения простого человека, должно быть то же самое слово, а под словом здесь понимается корень слова, несущий в себе содержательные свои формы (коренной смысл). Вы видите, что и здесь на первый план выходит слово. Слово — основная единица речи, потому что совмещает в себе сразу многие признаки языка: тут и лексическое значение корня, и грамматическое значение аффиксов, и словообразовательное значение суффиксов, и содержательное значение, которое мы определили как смысл слова: образ, понятие, символ. Глагол пить в прямом значении — ‘поглощать жидкость’; таково понятийное значение слова: пить пиво. Но если пиво неплохое, в жаркий день его можно ‘поглощать с жадностью’ — вот и переносное значение, образное. Он пил из чаши бытия, и не обязательно пиво. Но может быть еще и символическое значение, произрастающее из образа. Если я просто скажу: пил — в каком смысле пил? из чаши бытия? из источника под горкой? Ну, каждый знает, что значит пить... Говоришь одно, подразумеваешь другое: пить горькую — символ. То же: гулять... брать... И кто же на Руси не берет? — знаменитая фраза, которую может понять только русский человек. А все вместе значения и составляют то, что можно было бы назвать концептом национальной речемысли, содержащимся в слове. Слово — не просто знак, это целый мир. Опять сравню его с матрешкой, в которой еще одна, а за нею опять матрешка, потом совсем маленькая, а когда до нее дошел, там уж и нет ничего. Так вот, то место, где «уже ничего нет», — это самое главное место. Тут и «сидит» то смысловое зернышко (по-латыни conceptum), которое все время порождает новые и новые значения и оттенки смысла, оставаясь невидимым и недвижимым. Фонему, морфему, сему тоже никто никогда не видел, а всякий филолог о них знает. Это сущностные признаки определенных речевых форм, которые представляют различные варианты их — фонемы, морфемы, семы и прочее. Семантическая доминанта, неизменный капитал словесного знака, концепт и является интимной частью национального сознания, таинственно зашифрованного в слове. А все остальное — только от него производное. Укажу несколько особенностей русского языка, которыми этот язык отличается от других европейских. Вы увидите, что некоторые особенности присущи всем вообще славянам, так что это особенности славянской речемысли, отраженные в языке и в слове. В русском языке нет артиклей. В западноевропейских языках есть, а у нас нет. Я говорю по-английски a table, выражая понятие о столе, или the table — это уже указание на конкретную вещь, на этот стол. Вещь и понятие о вещи в сознании никогда не смешиваются. А у нас все едино. Я сказал: стол — это сразу и вещь, и понятие о вещи, так что лучше я пристрою сюда свой образ стола и буду думать о знакомом мне столе. Вы, говоря, имеете в виду одно, я воспринимаю другое, в результате мы не понимаем друг друга. Обязательно нужно уточнить: этот стол, это стол, сел за стол и пр. Русский язык требует контекста, языкового или реального, а английский, например, — это язык рационально-рассудочный, строгий, немного суховатый, но точный. Наш язык ближе к синкретизму Логоса, неопределенно-нечеткий, но красивый в своей многократно-образной обратимости. Это даже удобно. В случае чего можно сказать, что тебя неправильно поняли. У нас несколько обозначений категории времени. Три точки отсчета. У нас есть объективное время, которое выражается формами глагольного вида: всегда видно, завершилось действие или продолжается. У нас есть субъективное время — это собственно глагольные формы времени, — которое отсчитывается с точки момента речи. Сейчас я скажу вам а! — и это будет настоящее время, настоящее в русском смысле: реальное, стоящее время. То, что предшествовало этому а! — уже прошедшее, а будущее — вот как раз сейчас оно и наступит. Термин настоящее есть преобразованное старинное настающее, т.е. будущее. Таковы же и наши глаголы: иду да пойду — время разное, а форма-то одна! Одновременно и настоящее и будущее. Будущее рождается из настоящего — это так понятно и просто. Прошедшего же уже нет, есть состояние в настоящем как результат прошедшего действия (старая форма перфекта без связки: шел, пришел); будущего еще нет — это всего лишь модальность пожелания: то ли будет, то ли нет. До XVII в. у нас не было единой сложной формы будущего времени, оно передавалось описательно различными средствами: стану сказывать я сказку... начну... хочу... буду... — говори как сможешь. В точке настоящего сходятся результат прошлого и пожелание будущего. Значит, и само настоящее время, эта точка а! — всего лишь моя точка зрения. Есть еще и конкретное время, которое обозначается лексически, представая как способы действия, есть еще и таксис, правила передачи последовательности действия в различных конструкциях, и добавочное время, которое мы передаем с помощью деепричастий или причастных конструкций. Вот как предстает время в нашем языке. Время как бы расплывается в сознании. Времени нет — и оно существует. Вспомните все оттенки глагольного времени, тщательно разработанные в системах западноевропейских языков, и вы сразу увидите различия. Правда, в разговорной речи не вся эта сложная система англичанами, например, используется, но она существует как норма литературного языка. В русском языке один вспомогательный глагол, и этот глагол — быть. Еще одно отличие от западноевропейских литературных языков с их вспомогательными глаголами типа иметь или хотеть (to have, haben и пр.). Русские философы даже построили на этом теорию о сущностном признаке русского характера: одна бытийная присутственность в мире для русского как бы важнее всякого приобретательства и индивидуализма. Тоже характерное свойство ментальности. Наличие в русском языке полных имен прилагательных восхищало славянофилов, которые на этом основании утверждали, что качество для нас важнее количества. Вы можете судить об этом и по тому, что до сих пор у нас множатся самые разные формы имен прилагательных, появляются новые суффиксы, слова, ударения у имен прилагательных. Все новые признаки окружающего мира вещей и явлений постигаются сознанием (мыслью) и выражаются с помощью этой части речи. Домово́й, домо́вый... дворово́й, дворо́вый, а теперь уже и джи́нсовый, джинсо́вый или запа́сный, запасно́й. Наоборот, с именами числительными у нас очень сложно. Мало того, что все время запинаемся: было убито около пять тысяч триста семьдесят пяти человек — диктор и тут запинается, но так и всегда было. Риторики, грамматики, пиитики, изучавшие прилагательные и их функции в речи, у нас известны с XIII в., а арифметики появились едва ли не в XVI. В речи нашей много особенностей, поражающих иноземцев. Приехали в Петербург американцы, изучают русский язык и всё удивляются: «Вот вы говорите прямо так, не подчеркивая, что это ваше личное мнение: как можно?!» Да, мы редко пользуемся конструкциями, излюбленными в английском языке: я думаю, я полагаю, мне кажется... Вот Каренин был англоман, так он всегда говорил: «Я полагаю также, что Анна Аркадьевна...» У нас этого нет, мы сразу же скажем по-простому: Анна Аркадьевна такая-сякая... Категоричность высказывания, конечно, характерная особенность нашего речевого поведения, и она тем удивительнее, что в русском языке нет настоящего императива, выражающего повеление, даже приказ. Во всех славянских языках форма повелительного наклонения восходит к древнему оптативу — пожелательному наклонению, выражающему мягкую просьбу, а не приказ. В переводе на современный язык это примерно так: «Позвольте вам выйти вон...», и ни в коем случае не «Пошел вон!» Такая смягченная повелительность то и дело возобновляется в нашем общении в виде выражений не хотите ли, было бы неплохо... и т. д. Мы как бы застенчиво уклоняемся от грубости, от покушения на чужую волю. Сам я могу быть предельно категоричен в своих утверждениях, но приказать другому... нет уж, увольте. Я мог бы перечислить и другие особенности, отличающие русскую (и славянскую) ментальность в формах языка (таких особенностей до сорока, и не все они приятные), но главное, надеюсь, уже ясно. В центре внимания европейца находится суждение: он сам и самостоятельно судит в своем суждении, что правильно, а что нет. Рациональность у него — главное качество, и грамматики у них появились первые под названием «Рациональная грамматика». У нас в том же XVII в. «Грамматики славенския правилное синтагма» — не рациональная, а речевая и нормативная («правилное — синтагма»). У нас в центре внимания всегда находилось слово как символ — Логос. На Западе логика побеждает язык, это латинское logicus; и слово логос вроде бы родственно логическому, однако наше логическое предстает совершенно в другом свете. Тут наоборот, в борениях языка и логики язык побеждает логику всюду, где удается, потому что греческое logos — это слово-мысль, законченная в самой себе и завершенная во всех своих значениях как цельное и целое. Основой говорения для нас является диалог. Я видел в американском колледже, там есть подстриженные лужайки, и ходит студент, сам с собой разговаривает. Мышление в монологе. Вы представляете себя в таком положении? Это совершенно невозможно. Потому что монолог, да еще для себя самого, для русского человека — это информация помешанного или всхлипы юродивого. Один для себя и слова лишнего не скажешь, да и зачем? Слово как символ (логос) разворачивается в понятие только в общении: диалог заменяет суждение. Между прочим, сложноподчиненные предложения складывались у нас на основе диалогов, некоторые из них в XVII в. записаны и сохранились. Но все, о чем я только что говорил, все-таки вполне укладывается в особенности, присущие флективным языкам. Время сказать и о следующей, шестой, их особенности. Она также весьма характерна для средиземноморской нашей культуры. Именно эта особенность сформировала мировую (читай: европейскую) науку. Не искусство, не культуру, не философию, которые были и раньше, а именно положительную науку нашего времени. Это — проблема генезиса, развития, становления, изменения, в конечном счете — прогресса. Для этой культуры важно знать, что из чего произошло, где начало, в чем причина и т.п. Это важно, поскольку в связи с этим возникает проблема субъект-объектного отношения. Кто что познает. Кто — кого. Если человек находится в общении — с миром ли, с другими людьми, то возникает проблема их соотношения, проблема причины. И вот тут мы снова видим некоторые отличия русской ментальности: для русского человека причина не имеет никакой силы; за нею не признается той ценности, какою дорожит западный европеец. Сам термин причина впервые встречается в словарях XVIII в.; это время, когда Петр Великий вводил нас в дружную семью европейских народов, понадобилось уоднообразить некие стандарты понимания и взаимодействия. Философ Н. А. Бердяев как истинно русский человек иронически относился к этому иноземному новшеству, совершенно правильно (этимологически) передавая написание слова как притчина. Что такое притчина? Это притка, то, что вам попритчилось, померещилось: задним умом ищет человек в том, что случилось, какое-то там начало. Но причины нет, потому что начала нет. Известный пример, вроде притчи. Шел человек, и, поскольку он шел спокойно, ему на голову упал кирпич. А поскольку ему на голову упал кирпич, он неловко оступился и упал в яму. А поскольку он провалился в яму, он неожиданно сел на какой-то сундук. А поскольку он сел на сундук, то поинтересовался (что же делать?), что́ это там в сундуке, а там оказалась горсть золотых монет. Так в чем же причина того, что стал он богатым человеком? В чем? Вот вам попритчилось, т. е. померещилось, что вы идете по улице и смотрите, не падает ли где кирпич. Если повезет, и он падает, начинается цепочка причин, и на каждой вы можете остановиться как на конечной. Но в любом случае это будет ваше личное мнение, а личное мнение, как мы знаем, — это всего лишь образ действительности, для языка не единственный, а для других так и вовсе необязательный. Причинами интересуются позитивисты, озабоченные поисками причинно-следственных отношений в последовательности событий. Мы же воспринимаем мир не логически, а в логосе: объемно и в цельности. Вот почему и причинные придаточные, с помощью которых мы теперь пытаемся выразить причинно-следственные связи, у нас развиваются позже всех остальных придаточных, прорастая из условных, потому что всегда русский человек под причиной понимает условие. Но главное для него — цель, т.е. конечная причина. Ради чего он шел под кирпич? Ради богатства. Вот отношение к причине — и вот отношение к науке. Наука хороша не знанием причин, а красотой результатов. Русский человек это выразил в словах Козьмы Пруткова: «Где начало того конца, которым кончается начало?» ...Вот уже и звонок. Время мое исчерпано, и я умолкаю. Из тех экспрессивно, быть может, поданных фактов, беглых замечаний и разных примеров попробуйте составить общую картину того, о чем шла речь, — и дайте смысловой инвариант моей интерпретации бесконечно великой темы: темы язык и мышление, язык и культура, язык и — человек. И всё это — филология, любовь к слову, которой, как я надеюсь, вы посвятите свою жизнь.
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКИ
Принято считать, что стилистика изучает средства речевой выразительности в аспекте функционирования языка. Тем самым все характеристики «функции» приписывают стилистике как дисциплине, единственно и изучающей функциональный аспект языковой системы. Предлагаются и другие, более широкие определения стилистики, но они не годятся, поскольку всю проблематику художественных форм речи еще более втягивают в границы стилистики. В историческом аспекте положение сходное, но при отсутствии достаточно разработанных материалов здесь всё видится нагляднее. История литературного языка изучает становление и развитие нормы, которая преобразуется путем последовательного осознания системы языка и ее развития (предмет изучения исторической грамматики в широком смысле). В таком случае можно было бы полагать, что историческая стилистика изучает средства речевой выразительности, в совокупности организующие стиль (стили). Но это было бы неточно, поскольку на самом деле стилистика в исторической перспективе изучает не функционирование (что тоже является задачей истории литературного языка), а становление и развитие стилистических средств языка — всегда на фоне нейтральной нормы и в связи с развитием системы языка. Стилистика — не «маленький уголок» в историческом материале и проблеме в целом, а просто новый поворот проблемы, всё в той же исторической проекции, но с изменением точки зрения: не соотношение «система — стиль — норма» (как в истории языка), не норма как стабилизированные противоположности стиля — на фоне системы (как в истории литературного языка), а стиль как результат развития системы на фоне нейтральной нормы. Сложность исторического изучения стилистики в том, что на некоторых этапах развития стилистические варианты приходили не из системы языка, а навязывались извне — через образцовые, обычно переводные тексты. Хотя такие навязанные стилевые ресурсы в момент, пока система не «наработала» еще собственных, и были в известной степениобщеславянскими чертами (архаическими или в данное время неактуальными), тем не менее они приходили извне, обслуживая параллельный ряд изобразительных словесных средств: иные принципы переносов (тропы), новые текстообразующие элементы, словообразовательные модели, не свойственные живой речи, и т.д. Сложности в уяснении соотношения между «своим» и «чужим» на конкретных этапах развития стиля ощущаются постоянно; так, метафора древнерусского текста в XII и в XVI вв. — и генетически и по существу совершенно разные метафоры, потому что обслуживают исторически разные системы стилей. Сложность и в том, что норма чем далее от нас во времени, тем все неопределенней по очертаниям. «Широкое понятие средневековой нормативности» смущает умы многих историков языка. Чем шире норма и чем доступнее в качестве возможного нормативного варианта любой архаизм — тем уже возможности стиля. Стиля в нашем понимании нет в раннем средневековье еще и потому, что не существует индивидуальной творческой потенции: стилем является штамп, который по традиции неизменен. Варьируются всего лишь семантические нюансы содержания текста, но это не вызывает варьирования форм, которые как раз и выступают в качестве индивидуально-авторских (сравнивая тексты Илариона и Кирилла Туровского, легко обнаружим расхождения такого рода). Таким образом, содержание понятия «стиль» постоянно изменяется, и задача исторической стилистики — качественные преобразования стилей изучить, определить и описать. В средние века стилистика текста определялась не личным отношением к тексту, а общественной, культурной, государственной необходимостью. Чем дальше в глубь веков, тем больше: не личность организует текстовые особенности, а общество навязывает личности традиционный трафарет. Движение в развитии стиля напоминает воронку: по направлению к нашему времени все больше сгущается индивидуально-личностное, навязывающее себя обществу, и снижаются уровень и степень влияния традиционного трафарета (речь, разумеется, идет о творческой работе с текстом). В проблемах стилистики, особенно исторической, много неясного. С точки зрения языкового знака стилистика должна заниматься коннотациями, но любое вторичное в слове или в высказывании осталось бы непонятным, не находись за коннотациями основного значения, соединяющего понятие с реальной действительностью. Получается, что исследование возникновения коннотаций как неслучайных «co-значений» есть задача исторической стилистики. Коннотации определимы лишь в общекультурном контексте, который актуализирует «созначения» эмоционально-эстетического плана, а ведь и текст — категория историческая. И в этом отношении исторической стилистике есть что сказать. Любая многозначная единица языка может стать стилистическим средством, но в древнерусском языке как раз очень мало многозначных в современном понимании слов. Это в лучшем случае архаический синкретизм семантики, актуализирующий то или иное «созначение» в определенном сочетании. «Созначения» рассыпаны в контекстах, их следует собрать — и только после этого станет ясной эстетическая ценность языковой единицы в целом. Если усомниться в стилистической функции многозначной единицы (как раз она могла использоваться в самых разных жанрах литературы и, следовательно, представлять собою своего рода стилистическое распределение в текстах), то семантический синкретизм древнерусского слова становится интересным объектом исследования: ведь именно из него исторически развиваются и многозначность современного слова (со стороны семантики), и синонимия (со стороны формы).[1] И синонимии в древнерусском языке нет, и эмоционально-экспрессивных средств достаточно мало (например, частицы в многочисленных своих формах — более позднее приобретение), и разного рода эффекты стиля древнерусские писатели не стремились создавать, если не считать нескольких расхожих фигур, которыми вооружили их переводные риторики. Отношение к тропам в древнерусской литературе также своеобразное (преобладает метонимия, метафоры нет, символ раскрывается в перифразах, эпитеты в начальной стадии разработки, зато глагольные формы варьируют в широких пределах), так что и в этом направлении мало что можно найти для изучения традиционных объектов стилистики. По-видимому, имея все это в виду, и заявил в свое время Шарль Балли, что «стилистика... не может быть наукой исторической»,[2] — точка зрения синхрониста, не постигающего, что кроме количественного разнообразия в языке могут быть и качественные преобразования, которые в корне изменяют и самый объект, и исследовательские принципы какой-то науки. О качественных преобразованиях в стилевом ряду языка и толкует историческая стилистика. Непонимание этого порождает двусмысленные оценки текущей научной литературы. Если исследователь, занимаясь историей литературного языка, не ограничивается выявлением форм языка с точки зрения их структуры и происхождения, но распространяет свое внимание и на изменяющуюся семантику таких форм, на функционирование вариантов в средневековом литературном языке — говорят, что он изучает не историю литературного языка, а историческую стилистику. Стоит сказать, например, что в каком- то тексте встречаются полногласные (русские) и неполногласные (славянские) формы, — это история литературного языка; если же определяешь семантическую дифференциацию подобных форм, обнаруживая при этом, что и неполногласные формы оказываются объективно «русскими» (как наполненные семантически), рискуешь получить обвинение в неисторичности, поскольку такая постановка вопроса вводит в ересь стилистическую: стилистика по определению не может быть исторической. Стоит указать, что в тексте встречается варьирование форм типа ветр / ветер или огнь / огонь, и это будет факт истории литературного языка, но наблюдение семантических расхождений между такими формами опять-таки внушает подозрение в склонности к стилистике. Может быть, потому мы и не имеем до сих пор научной истории русского литературного языка (особенно в отношении к древнейшим его периодам), что не проработали материал с точки зрения стилистики, которая, конечно же, является динамической частью истории литературного языка. Все это заставляет с особым вниманием отнестись к исторической стилистике, в данном случае — русского языка, и хотя бы предварительно обрисовать предмет описания и объект исследования, основные единицы исторической стилистики и стоящие перед нею задачи. Теоретические работы по современной стилистике нам мало полезны. Их трудно назвать теорией. Например, в духе времени толкуют о парадигмах и синтагмах стилистических единиц, либо производя подмену понятий (для М. В. Панова, например, синонимический ряд глаза — очи — гляделки — стилистическая парадигма, или норма языка, т. е. система), либо отклоняясь в сторону идеалистических представлений: поскольку стилистические единицы по природе своей не системны в отношении друг к другу, они и не могут строиться в парадигмы; под парадигмой в таком случае понимают не системные отношения единиц по общему (системному) признаку, а систему знаний о предмете. Возникают внутренние противоречия следующего типа: с одной стороны, «потенциальные стилистические средства проявляют себя в конкретном коммуникативном задании» (т.е. в синтагме, а не в парадигме!), с другой же — утверждается «речевая система»[3]. Смешением понятий о языке и речи, о стиле и функции и т.д. удваивается мир объектов, причем содержательная суть понятий типа «стиль» переносится на уровень признака («стилистическая функция», «стилистическая норма», «стилистическая синтагма» и т.д.), возникает своего рода «символическое языкознание», подобное знанию эпохи средневековья. Исходным понятием исторической стилистики должно быть следующее: стиль — исторически образовавшееся усложнение системы языка на основе функционально оправданного использования вне- нормативных вариантов (в средневековом языке — «архаичных», отработанных системой, в современном — «вульгарных», только что возникших в языке; язык культуры в поисках выразительных средств ориентирован на прошлое — в прошлом, и на будущее — в настоящем). Исходя из этого, в принципе стилистика и возможна только как историческая научная дисциплина, ибо «стиль — понятие историческое»[4]. В таком случае упрощается аппарат науки, снимаются все схоластические споры о понятиях и терминах. Не станем обсуждать и классификации стилей, их типов и видов. Весь спектр стилей, возможный на любом этапе развития литературного языка, всегда укладывался в трехчастную схему, отражающую различные сферы общения, но вытекающую из принципиальных установок самой системы языка, а именно: логичность — образность — эмоциональность как три компонента языкового знака в процессе развития языковой культуры дифференцируются, последовательно актуализируясь на уровне сначала текста, затем жанра, теперь — стиля. В современной классификации: научный — художественный — бытовой с промежуточными между ними (официально-деловой и публицистический). Таковы стили современного литературного русского языка, тогда как ситуации, последовательно складывавшиеся в истории этого языка, надлежит еще выявить и описать. При этом, однако, сомнительная для многих принадлежность «делового языка» к числу древнерусских литературных сфер, естественно, оказывается формой существования литературного языка, тем более что именно благодаря ему в XVII в. расширялась «зона литературности» — развитием нового литературного языка по характерным для него признакам: точность, логичность, стандартность, «модальность волеизъявления» и т.д. — полное совпадение с «научным стилем» нашего времени. Для лиц, почему- либо забывших предысторию родного литературного языка, следует, видимо, напомнить основные этапы развития культурного языка средневековья. Первые священные тексты были записаны в переводе с греческого, составив в основной массе результат переводческих усилий Константина, Мефодия и их учеников (Западная Болгария, Паннония); последовавшие затем переводы святоотческой и житийной литературы были сделаны в Западной Болгарии, в совершенно новых исторических условиях и в другой диалектной среде; оригинальные тексты и компиляции составлялись уже на новой основе; светские, нарративные, иногда сугубо деловые тексты переводились в основном уже у восточных славян и опять-таки под сильнейшим напором местной диалектной среды. Таким образом, уже на заре «литературности» литературный язык оказался разведенным в своих вариантах по разным в коммуникативном отношении текстам, каждый с различием по языку (условным, конечно) и по жанру. С самого начала трехчастность функционально-жанрово-стилевых рядов осознавалась и сохранялась в традиционных для средневековой литературы формулах; она и поддерживалась различием в социальном статусе каждой группы переводов-источников- образцов, скрыто развивая в своих границах и различия в стиле (соответственно: высокий, средний и низкий). Межжанровые столкновения были маловероятны, но все новации соединялись именно в текстах «среднего жанра», в котором работали выдающиеся художники слова эпохи средневековья, — повествовательного «жития». При этом постоянно приходится соблюдать дистанцию между определениями современной науки и пониманием «стилей» в древней Руси. До XVII в. действовала средневековая традиция: интерес к сходному, стремление уподобить одно другому, чтобы познать новое глубже. Современному исследователю интересны различия, различительные признаки или, как мы видели, «парадигмы». Поляризация разных совокупностей одностилевых элементов также характерна для нашего времени, в средние века отношение к стилю было иным и различие не воспринималось столь остро, чтобы в результате можно было достичь абстракции «стилистические уровни языка». Таким образом, на основе топики сходств не только происходило постепенное накопление стилистических ресурсов языка и изменение стилеобразующих факторов, изменялись и коммуникативные задачи, стоявшие перед специальным «языком культуры». Изменение «стиля жизни» (Д. С. Лихачев) приводило к преобразованию стиля языка. Поворотным в отношении к современному пониманию стилей стало совмещение в сознании двух прежде самостоятельных признаков слова: его происхождения и семантической дифференциации. Стиль создается на контрастах, которые постоянно организуются в оригинальных текстах, как это можно видеть и на взаимоотношении между прямым и переносным значениями слова в зависимости от жанра-стиля:
Первая «стилевая» противоположность, возникавшая в средневековых текстах, есть противоположность между устаревающим архаизмом (который закреплялся за конфессиональным жанром) и «всеми остальными» стилистическими ресурсами. В норме обычна метонимия,[5] в архаизующихся контекстах возникает контекстная метафора. Синоним приходит из другого стилистического ряда, поскольку в процессе длительного бытования традиционного текста составляющие его слова подверглись семантической «деформации», покрылись своего рода «семантическими трещинами» и воспринимаются не столь однозначно, как в момент создания или перевода этих текстов. Таким образом, синонимы — исторически факт стилистического варьирования, а стиль можно понимать как удвоенное по различительным признакам и вариантное в отношении к общему языку образование. Семантический перенос поначалу исполняет вовсе не «украшающие изложение» функции, хотя и осуществляется при столкновении в одном тексте «разностильных» форм общего значения (типа длань — ладонь — лапа и др.), в процессе которого усреднение семантики происходит по нейтральному среднему члену (ладонь). Самое общее выражение — это первоначально слово родового значения в отношении к видовым (частным по смыслу); например, ладонь в отношении к длань или лапа с более широким содержанием понятия (не только собственно ладонь, но и вся кисть руки) и, следовательно, более узким по объему. Последовательное развитие семантических рядов такого рода в их логической зависимости (например, гипероним как своего рода абстрактное обозначение более частных значений, родо-видовые соотношения приведенного типа и т. д.) и приводит к развитию переносных значений в слове: лапа и длань на основе метонимических переносов понимаются как ‘рука’ в целом, изменяется внутренняя форма слова (его этимологический «образ»), логическое закрепляется в образном как результат предшествующих изменений и гарантия сохранения вновь достигнутого в языке уровня абстракции[6]. Итак, стилистический эффект синонимического ряда возникает в результате утраты прежде важных семантических отношений; стиль — отработанный материал интеллектуальных потребностей речи, зафиксированных в формах языка. Первоначальная направленность словесного ряда всякий раз на логически ориентированный процесс мышления определяет вторичность собственно стилистических форм; стиль — всегда следствие состоявшихся изменений по линии «язык — мышление». Цель коммуникативного задания состоит в подравнивании близкозначных слов разного происхождения под нормативный вариант, самый «логичный» по содержанию (т. е. по признакам понятия). Историческая стилистика должна тщательно описать, какие синонимические ряды, представленные в текстах, не организовались в семантические блоки, т. е. при соотнесении друг с другом слова не сужали и не расширяли своих значений в момент подведения к ключевому слову ряда по известным признакам, почему в результате совмещения некоторые из них стали вариантами, а то и дублетами ключевого слова, так и не выйдя на уровень синонима; каковы средневековые представления о логике порождения синонимического ряда (если исходить из действовавших тогда установок на иерархические последовательности в самых разных процессах, служивших для выявления и номинации вновь открытых признаков)[7]. По вопросу о принципах исторической стилистики в нашем распоряжении остается классическая работа В. В. Виноградова[8]. По мнению этого ученого, в исследовательской процедуре следует выделять три «стилистики»: стилистику языковых единиц, стилистику текста (речи) и стилистику художественной речи, — чтобы вплотную подойти к действующей сегодня «функциональной стилистике» (система стилей в отношении друг к другу в их целом), которую В. В. Виноградов еще не выделяет. Принципы отбора словесных средств в процессе анализа каждого текста устанавливаются такие: 1) символика— система авторских символов и способы их эстетического преобразования (эвфония, ритм, формулы, цитаты, «потенциальные слова» и т.д.) и 2) композиция (или синтактика) — принципы расположения слов, их организация в синтагме, их единство, принципы организации текста и т.д. Рассмотрим обе проблемы как основные в нашем случае. Иллюстрации приводятся в кратком виде, но отсылки помогут полнее раскрыть излагаемые положения. Историческая стилистика изучает слово, постигая текст, историческая лексикология, наоборот, изучает текст, исследуя слово. Предмет и объект зеркальным образом меняются местами в зависимости от того, что́ является источником и материалом как данное, а что, напротив, становится целью исследования, что следует определить, открыть, истолковать. Для исторической лексикологии важны семантические характеристики изменяющегося в контекстах слова — это объект ее исследования. Материалом ее становится древнерусский текст, например, написанный Зиновием Отенским. Мы выясняем, что этот текст, созданный в XVI в., отражает тот уровень развития слова, когда зелие значило ‘овощи’, а овощи — ‘фрукты’, заимствованного же слова фрукты еще не было; когда сок — ‘жидкость’, а варение — ‘вареная пища (супы и щи)’, и только для мясного или рыбного отвара существует самостоятельное слово уха. По прилагательным, сопровождающим нужные нам слова-существительные, мы можем определить дополнительные признаки соответствующих понятий, выраженных именем; в данном тексте — различные характеристики испеченных «хлебов» или разновидности «ухи». По соотношению русских и заимствованных слов мы установим степень включенности тех или иных понятий или реалий в культурную среду изучаемого исторического отрезка. Например, по формальным признакам слов типа корка, гвозди, постила сможем определить недавнее (к моменту создания текста) заимствование слов и понятий о корице, гвоздике и пастиле и т.д. К этому можно добавить словообразовательные и близкие к ним языковые процессы, тоже отраженные в тексте. Тексты могут чередоваться и заменяться один другим, мы подбираем их в зависимости от целей и задач исследования, они — переменная в нашем поиске, тогда как слово — задача и цель, постоянно определяющие такой поиск. В результате исследования происходит постепенная объективация нужного нам словесного ряда, из совокупности исследовательских операций мы строим свой объект. Совсем иное в исторической стилистике. Здесь переменной является не текст, а слово (также и со стороны его формы, например грамматической). В отличие от исторической стилистики, которая идет от целого к части, в таком исследовании движение мысли обратное: от частей к качественно новому для их совокупности целому (контексту данного текста). Нужно тщательно изучить текст Зиновия Отенского, чтобы дать ему стилистическую характеристику и определить задачу — художественную или познавательную, которую автор перед собою ставил. В результате мы определим, что на общем фоне церковнославянской языковой стихии возникают и стилистически новые для высокого слога особенности, которые выступают в качестве маркированных единиц текста. Вторжение со стороны стилистически инородной языковой массы проявляется как раз только на уровне лексики (словообразование, заимствование, архаизм или неологизм и т. д.). Конечно, в содержание обеих указанных дисциплин входят и другие, относящиеся к тексту и слову единицы и их соотношение (например, особенности в построении тропов и употреблении топосов), однако слово и текст совместно создают самое главное, опорное для исторической стилистики и исторической лексикологии звено изучения предмета и моделирования объекта. При этом предмет материализован и заранее известен, тогда как объект познается в результате исследования. Парадокс в том, что от средневековья не дошло никаких следов индивидуально-авторской рефлексии относительно стиля и слова, но мы знаем, почему так случилось. В научной традиции средневековья и вплоть до XVII в. слово — синкретически воспринимаемое единство звучания и написания, формы и значения, термина и стиля. Это Логос, т.е. триединство формы, смысла и вещи, которое конкретизируется, раскрываясь, только в конкретном тексте. Образ — понятие — знак воплощены в слове одновременно, и для символизирующего средневекового сознания такое их единство нерушимо: одно познается через другое, более истинное или наиболее наглядное. Термина нет в современном понимании, и, следовательно, смысл термина и значение слова также не различаются. Можно сказать и наоборот: каждое имя было термином, а это значит, что средневековая наука в качестве объекта познания признавала значение имени, а не смысл термина. Как это понимать в отношении к нашему сюжету? Современные философы[9] подчеркивают, что в смысле термина фиксируется не предмет («вещь») реальности (это функция значения имени, т.е. слова), а лишь отдельные свойства или конкретное свойство объективной действительности. Это позволяет понять сущность средневекового способа познания. Оно чрезмерно укрупняет объект исследования, стремясь увидеть «вещь» целиком, но вместе с тем в отторжении от массы сходных вещей, т.е. механистично. Устрожение форм научного познания происходило в связи с терминологизацией объекта исследования (в научных концепциях XVIII в.). Сам объект, говорят нам философы, никогда не проявляет свои свойства полностью и все сразу, эти свойства проявляются постепенно, в процессе познания. Так наряду с предметным полем изучения — «вещами» в их взаимных отношениях — возникает объект исследования, т.е. свойства, качества и отношения предметного мира, зафиксированные в терминах. Объект оказывается реконструкцией предмета, возникающей по мере «объективирования» предметного мира в человеческом сознании. Сам язык препятствовал средневековому сознанию дифференцировать слово и термин, т.е. различать предмет и объект изучения. Другой сложности мы также уже коснулись. Текст является и объектом исследования исторической стилистики, и — ввиду неразработанности исторической лексикологии — ее предметом. Путанице способствует и многозначность термина «текст»: текст как законченное целое (произведение) и текст как ближайшее окружение интересующего нас слова или формы (контекст). Применительно к древнерусскому периоду нам приходится прибегать к понятию «контекст» и включать его в предмет исторической стилистики. Семантика и образность каждого отдельного слова не существовали в эпоху средневековья сами по себе, всегда определяясь ближайшим контекстом, традиционной формулой-речением, в составе которого находится слово. Слово не автономно, оно проявляет себя в контексте; только на уровне сочетания-формулы возможна конкретизация смысла, и только в формуле слово проявляет одно из своих значений. Красна девица и сродные выражения — вовсе не эпитет, а контекстная конкретизация понятия, поскольку понятие могло быть представлено лишь в образе: «красавица». На материале древнерусского текста одновременно изучая и значение слова, и его стилистический ранг, мы по-разному отнесемся к контексту в исследовании каждого из этих компонентов, но только в контексте объективно представлены все вариации интересующего нас слова как бесконечный ряд стилистических переходов от самого возвышенного к наиболее низкому. Именно средневековые представления об иерархии как основном классифицирующем принципе препятствовали осознанию и созданию четкой системы стилей; к тому же средневековых филологов интересовали не различия, а подобия. Теория стилей была известна из переводных риторик, однако практически множественность контекстно обусловленных «стилевых» вариаций не сгущалась еще в отвлеченные различия по «стилям». Средневековая научная рефлексия не выделяла стилистику как самостоятельную дисциплину; с научными дисциплинами вообще дело обстояло непросто, поскольку, например, риторика включала в себя всё — от этики до красноречия, стилистические фигуры и синтаксические правила построения речи. Нужно признать, что разбиение предметного поля средневековой науки было иным, чем в наши дни. Синкретизм предмета, еще не расчлененного научным анализом на дифференцирующие компоненты-признаки, не нашел воплощения и в терминах, поскольку и язык не давал еще готовых средств для выражения подобной специализации научного знания. Язык как самостоятельный объект научного изучения также не существует в полном объеме. Все это, разумеется, затрудняет работу в области исторической стилистики: объект изучения постоянно усложняется начиная с того момента, который доступен нашему изучению, — с XI в. Да, скажет противник самобытности древнерусской художественной культуры, эти тексты дошли до нас от XI в., но как бы ни были они просты по языковой форме, все же составлены они по образцам византийского красноречия и только перелицованы на славянский лад, их переводят с греческого и пользуются расхожими моделями; ничего нового и оригинального в таких текстах нет. Историческая стилистика — и именно она — начисто отметает сомнения подобных скептиков. Общий тип древнерусских текстов домонгольского периода отчасти заимствован — из традиций византийской книжности, прежде всего сочинений отцов церкви. Странным было бы, если бы внешне церковные писатели не подражали высоким образцам красноречия в ту эпоху, когда была авторитетна (обладала престижем «достоинства») именно цитата-«образец». Это тип ораторского воздействия на слушателя: слово, поучение, увещевание. Однако, углубляясь в изучение предмета — слова в близком контексте, мы сталкиваемся с удивительной особенностью этих ранних текстов. Историческая стилистика позволяет выделить группы формул, свойственных традиционным текстам, и отграничить их от цитат, которые в обязательном порядке следовало приводить, поскольку на их основе строилась композиция произведения. Судя по краткости текстов-цитат (7 слов ±2), по их повторяемости у разных авторов (существовал набор излюбленных цитат, особенно из Псалтыри), по их связи с наиболее важными частями Писания, по некоторым случайным вариациям слов в таких цитатах, можно полагать, что приводились они по памяти, в обычной речи бытовали подобно современным идиомам (и впоследствии стали таковыми: «камень преткновения», «краеугольный камень», «во главу угла» и многие другие). «Влияние» церковнославянского языка на древнерусский, о котором иногда говорят, происходило именно через такие сочетания, становившиеся устойчивыми. Переосмысление в значениях исконных славянских слов, развитие переносных значений, поэтическое осмысление их в контексте также происходили под давлением широкоизвестных образных выражений, в которых афористически были сформулированы основные нравственные принципы христианской этики и вероучения. Тем не менее основной частью древнерусского текста оставались сочетания славянских слов, и судить об этом можно, сравнивая внешне сходные «Слова» различных авторов. Например, сравнение «Слова о законе и благодати» Илариона и «Слов» Кирилла Туровского показывает, что исходные для литературного языка «квазисинонимы» жизнь, житие, животъ в их лексико-семантическом распределении изменялись от XI к XII в., но авторская самостоятельность каждого из писателей диктовала им прямо противоположные распределения по смыслу только что соединенных в общем тексте слов[10]. Объектом исследования исторической стилистики становятся и различные принципы создания текста, текстообразующие (переменные) элементы, семантические принципы развития слова. Историческая стилистика изучает начальные, связанные с собственно языковыми переносами, этапы развития образности в слове. Последовательность развертывания коннотаций (т.е. внепонятийных сем) в слове определяется интеллектуальными потребностями данной культуры. Специфика средневековья заключается в том, что формы познания в языковых средствах еще не дифференцировали понятийное и образное и образное подавляет понятийно-логическое. Семантический и формальный синкретизм языковых единиц соответствует «синтетическому», а не аналитическому мышлению. Долго сохраняется неизбежность, даже обреченность интеллектуального развития только через образные, т. е. художественные, формы, доступные пониманию всех членов общества. Материалом и проводником новых идей является язык. Рассмотрим некоторые примеры. Символизирующее сознание средневековья[11] в качестве основной единицы знания имеет символ. Неизвестное постигается уподоблением известному, и процесс познания оказывается бесконечным, будучи разбит на множество мельчайших переходов от менее известного к более известному, от непонятного признака к понятному и т.д. Средневековый символ становится инструментом познания, и очень удачно сказал о нем А. Сеше: «Символ — это не знак, выбранный произвольно с целью передачи уже существующей идеи, а лингвистическое условие, необходимое для психологической процедуры формирования вербальной идеи»[12] (разрядка моя. — В. К.), — «символ как развернутый знак»,[13] а еще точнее — «знамя», которое служит оправданием идеи, ее замещая[14]. Таков именно символ в древнем тексте. Слово-символ включает в себя все возможные (в принципе) значения, поскольку в данной системе слово, по существу, синкретично. В нем нет конкретных значений, равных значениям слова в современном языке (который вооружен словарями), «значения» актуализируются каждый раз в отдельном контексте в данной формуле-клише. Соотнесенное с сакрально высоким понятием, оно с самого начала является уже самым общим, родовым по отношению к столь же возможным — и бесчисленным — видовым понятиям-образам. Пример — любое общее слово Писания или народной поэтики, например солнце или Бог. Подобные слова — свернутый миф, вынесенный из прошлого. Принципиальная возможность последующего совмещения христианской символики с народно-языческой объясняется как раз совпадением в характере ее воплощения и сходством в наборе символов. Этого не следует забывать, когда мы говорим о «наложении» христианской культуры на славянскую языческую. Редупликации типа «солнце — свет» и «радость и веселье», помимо того, что они раскрывают причинно-следственные связи в выражаемых «понятиях», стали возможными только при таком совмещении: для язычника «солнце», а для христианина «свет»; в таком же отношении «радость» (личное чувство, выраженное высоким словом книжного происхождения) и «веселье» (коллективное переживание радости, выраженное разговорным словом) и т.д., — все это примеры «наложения» гетерогенных символов в результате компоновки новой синтетической модели мира. С точки зрения теории познания, языка и художественного образа, представляемых этим синтезом, христианство вовсе не «победило» язычество и его художественную культуру — оно обогатило ее. Однако длительность существования символа не способствует его утверждению в последующих поколениях людей или в другой культуре. Символ следует раскрыть для непосвященных. Это можно сделать в подробном рассказе («сказъ» и есть раскрытие «тайны», истолкование символа: рассказати — раскрыть) или посредством обычных для языка переносных значений слова. По существу, вся древнерусская литература в ее книжном варианте представляет собою раскрытие библейской символики средствами славянского языка — начиная от Илариона и кончая Аввакумом в XVII в. Задача исторической стилистики — проследить, как изменяются словесные формы в этом процессе, каким образом расшифровывается чужеродная культура, перенесенная в новую интеллектуальную среду, и с помощью каких художественных средств адаптируется. Иларион в «Слове о законе и благодати» работает еще на уровне символа. Столкновением символов, извлеченных из Писания, он строит нужную ему концепцию о противоположности ветхого «закона» и новой «благодати» (философский смысл этой противоположности, как всякого символа, обладает глубинными возможностями). У него уже встречается простейший прием расшифровки непонятного славянину символа — перифраза, но окончательно этот способ распространится в XII в., например, у Кирилла Туровского, ср.: «Ратай слова, словесная уньца к духовному ярьму приводяще и крестьное рало в мысльнехъ браздахъ погружающе...» Выделенные разрядкой слова-имена являются символическим описанием обряда крещения (пастырь — пастух — апостол) и заимствованы из греческого оригинала. Определениями и формой род. падежа Кирилл уточняет смысл символа, «переводя» его на язык образа (родительный качества — дань византийской традиции, на которой Кирилл не удерживается, переходя на более свойственный славянскому языку способ выражения признака — прилагательное); глагольные основы в причастных формах служат текстообразующими элементами (понятны из более широкого контекста). Извлечение из ключевого имени-символа неких случайных признаков, обозначенных именем прилагательным, составляет уже индивидуально-авторский компонент текста; признаки не существуют реально, они приписываются данному символу и только в конкретном тексте могут быть представлены. Однако способ раскрытия символа найден, им станут пользоваться и в дальнейшем, все ближе подходя к открытию типичных, а затем и существенных признаков имени. И тогда символ станет, наконец, осознанным термином. Сопряжение родового слова («гиперонима» в современном понимании) с уточняющим видовым соотносит высказывание с денотатом и проясняет образный смысл выражения. Создаются условия для закрепления подобного рода новонайденных признаков стилистических рядов. По существу перед нами параллелизм, хорошо известный и народной поэтике (поэтому он и понятен славянину в таком виде). Внешнее сопоставление в грамматически соподчиненной форме (ратай слова) служит для выявления контекстно важного признака. Полный репертуар подобных древнерусских перифраз, собранных по всем источникам, мог бы отразить и логические типы возможных сопряжений слов, и границы возможных в тот или иной период логических соотношений по родо-видовому признаку. Однако во всех таких соединениях сочинительного (радость и веселье) или подчинительного (ратай слова) характера не выявлен общий признак, о нем можно только догадываться. Это уподобление, но не сравнение. Сравнение с выделением найденного признака в русских текстах появляется в конце XIV в., например, в сочинениях Епифания Премудрого, который широко пользуется метафорическим сравнением, различным образом выраженным грамматически. Ключевые слова-символы подвергаются словесной обработке с целью выявить типичный признак как семантическую доминанту символа, перевести художественный символ в плоскость языкового факта. Здесь, во-первых, используются библейские метафоры, которые становятся основой сравнения; это процесс, известный всем европейским языкам, впитавшим в себя христианскую символику[15]. В результате у Епифания, например, дрѣво предстает как ‘жизнь’ («яко древо плодовито... наполнено разумомъ»); посредством определения он ищет наиболее точный признак слова-символа: звѣрь — дивий, лютый и т.д. в символическом обозначении «дьявола» (из Псалтыри) — врагъ. Извлечение из слова-символа его типичных и постоянных признаков, т.е. метафоризация, отныне последовательно материализуется в прилагательном, и это также не случайно[16]. Восходящее по происхождению к синкретичному имени, полное прилагательное окончательно как грамматическая категория формируется незадолго перед XIV в. и как самостоятельная категория речемысли уже в состоянии оказывается исполнить основную свою функцию — выявлять типичный признак слова-символа. До тех пор выражения типа красна дѣвица того же рода, что и простые редупликации типа человек-зверь или стыд и срам, но выделение форм красна, красная в качестве самостоятельных позволяет уже построить семантическую перспективу словесного сочетания, так что формула красная девица, с одной стороны, по-прежнему содержит уточняющий признак (красивая девушка — в отличие от любой другой), а с другой — уже и образ, поскольку логическая перспектива высказывания вне словесного образа пока еще невозможна. Также и у Кирилла в XII в. словесная уньца еще не метафорический признак, а истолкование зависимым именем (прилагаемым к символу). Классификация постоянных эпитетов, отмеченных в произведениях фольклора, наглядно показывает, каковы исходные потенции древнерусского слова в отношении к постоянному признаку слова- символа, какие из признаков отмечаются и фиксируются прилагательным прежде всего. Набор эпитетов[17] ограничен самыми абстрактными признаками, их логическая соотнесенность с определяемым словом постоянна и устойчива. Нет сравнения со случайным (т.е. видовым) признаком, потому что символ по определению является обозначением самого общего смысла, таковы же при нем должны быть и характеристики. Уровень абстрактности в представлении средневекового человека восстанавливается по такому перечню довольно четко: это метонимические в своей основе определители, выросшие из древних тавтологических сочетаний типа белый свет, красно солнышко. Однако накопление постоянных эпитетов со временем дало толчок свободной сочетаемости имен с любым случайным признаком, выраженным в прилагательном. Эпитет стал важным средством постепенного выявления самых разных признаков для последующей проверки их в опыте и в соотнесении с реальностью. Украшающего, т.е. узко «художественного», эпитета древнерусская литература не знает (как и устное народное творчество). Так, эпитет у Епифания Премудрого — это последовательное нагнетание близкозначных определений при одном имени (но иногда и имена при этом варьируют в своей неоднозначности), поскольку сознательно ставится задача: выявить наиболее достойный и точный признак, выражающий сущность символа (имени) в характеристике Сергия Радонежского:
Како да таковый святый старецъ, пречюдный и предобрый...
Како тихое и чюдное и добродѣтелное житие его...
Житие его чистое и тихое и богоугодное...
Традиционное сочетание чюдо-диво или дивится-чюдитися в тексте Епифания как бы расколото пространством текста, переводом описываемого в слова другой части речи (здесь — в прилагательное, обозначающее признак), выделением из постоянного признака (=постоянный эпитет) чюдный вторичных, видовых по соотнесенности с ним признаков (святый, добрый и др.), т.е. происходит построение определений на базе постоянного эпитета, который в результате утрачивает свой отвлеченный смысл. Поскольку каждая «связка поляризации сем» в контексте Епифания всегда трехчастна (это общая особенность поэтики Епифания), первым стоит определение святый (высшая степень качества этого рода в христианской символике), и тогда все последующие в трехчастном построении уже не могут быть стилистически «ниже», чем святый, и происходит усиление с помощью префикса: пречюдный, предобрый. В каждой из последующих триад (возникающих по мере развития темы на фоне прочих тем) заменяется один из приведенных эпитетов, а два остающихся связывают новый рефрен с предшествующими; но одновременно с тем последнее определение в каждой триаде еще раз усиливается сложением (добродѣтелное, богоугодное). Говоря о создании церкви, Епифаний описывает ее качества также общими словами, которые не вышли за уровень эпитета, но в сводном перечне исходных «парных сочетаний» создается уже описание определениями:
…юже сотвори высоку и хорошу,
юже устрои красну и добру,
юже изнаряди чюдну и дивну...
В сущности, именно этот способ выявления ведущего признака и называют по старинке «плетением словес», имея в виду форму текста и опуская его смысл. В действительности же перед нами вынужденный обстоятельствами поиск устойчивого определения и жизненно важного термина; и то и другое скрыто еще в неопределенной массе символа. В частности, после такой необходимой работы привычными стали терминологические сочетания типа святой отец, доброе дело, чистое житие и др. (терминологический характер их подтверждается и инверсией: определение перед определяемым именем). Увеличение адъективных словосочетаний создает модель порождения терминов и образных выражений: серый волк — эпитет вследствие эмоционально представленного типичного признака (другой масти волка нет); серая лошадь — термин (логическое определение) на основе внешне важного определения; серый человек — образное (переносный смысл) выражение, свойственное новому времени. Таким образом, мы рассматриваем последовательность смещения значений «в направлении к эпитету»: символ растолковывается уподоблением в перифразе, раскрывается сравнением в метафорическом сравнении, и наконец, текст полностью освобождается от символа в различных проявлениях эпитета-определения. Чем ближе такой эпитет к художественному украшению, тем меньше он относится к проблематике историческойстилистики, становясь предметом поэтики. Но в действительности только лишь «украшающего» нет ни одного определения — и как только троп теряет связи с собственно языковым процессом, он перестает быть предметом исследования стилистики. Придуманный, авторский эпитет — тенденция развития образности «на излете», собственно штамп художественной образности. Модель создана языком, и историческая стилистика изучает становление сменяющих друг друга моделей образного развития словесных значений, но частичные, частные проявления этой модели уже неинтересны. Точно так же исторической стилистике важно установить последовательность и способы образования метонимических и метафорических значений, возникающих в тексте. Точно так же и здесь сталкиваемся прежде всего с определенными этапами развития понятия, выраженного в слове. Обнаружено, что русская эпическая культура, как и вообще оригинальная древнерусская литература в целом, широко использует метонимию, почти не прибегая к метафоре (если не считать заимствованных в результате перевода и пока не раскрытых посредством перифразы метафорических сочетаний)[18]. Основные отличия метафоры от метонимии известны. Комбинирование смысла слов на основе соединения или разделения (части и целого, рода и вида, смежных позиций и т.д.), т.е. синтагматический процесс в речи, дает метонимию, отбор значений на основе сходства или контраста, т.е. парадигматическое соотношение признаков в контексте, дает метафору. Если метонимия в смещениях смысла затрагивает объем понятия (сколько денотатов можно указать с помощью выражающего его имени) и приводит к сужению смысла, то метафора, наоборот, связана с расширением смысла, поскольку в переносном значении затрагивает содержание понятия (сколько признаков включает в себя понятие о денотате). По этой причине метафорическое слово узнается по контексту, а метонимический перенос системен: например, каждое слово, обозначающее вместилище, в принципе может обозначать и наполняющих его особей, ср. дом, гнездо, аудитория и т.д. Метонимия ближе к символу, чем метафора, поскольку метонимия — знак, заменяющий опущенное («все флаги в гости будут к нам» = иноземные корабли), а у метафоры устранена не только зависимость двух членов сравнения (как у метонимии), но и сама двучленность (ср.: «горит восток зарею новой»). Но всякую метафору можно развить в сравнение, восстановив второй член («горит восток, как пожар»), а метонимию — нет (флаги — кораблей). Вот почему совершенно прав Б. А. Ларин: «Того, что когда-то называли поэтичностью (древнерусских текстов. — В. К.), а мы теперь назовем метонимической символикой языка, в пространной редакции (Правды Русской. — В. К.) меньше, чем в краткой»[19]. Так, выражение «даться на ключ» — пример символики, а не литературный образ, это древняя черта языка, характерная для конкретного мышления: поскольку в языке нет терминов отвлеченного характера, суть дела выражается «предметно», т. е. следует привязать к поясу хозяйский ключ и служить «дому»[20]. Когда синкретизм формулы, понятия и ритуала (действия) со временем распадается, возникает символ с ключевым словом (ключ) и требуются средства для истолкования символа. Возникает некая образность выражения, но, как правило, метонимического характера. Относительно образности древнерусского текста — вопрос особый. В древности такой образности могло и не быть в слове, которое с течением времени изменило свои значения, так что в традиционной формуле, сохраняющей исконное значение ключевого слова, создается видимость переносного значения. Примеров обратной метафоризации довольно много в древнерусских текстах, которые мы воспринимаем как «образные», но которые в момент их сложения образными не были. «Живописными» выражениями почитали историки литературы такие, например, «метафоры»: «имѣниемъ кипяше», «память его с шюмомъ погыбе», «враномъ играющимъ» и др. Прямое значение слова сохраняется в архаических выражениях, т.е. кипети — быть в избытке, в излишестве; с шумомъ — с отголоском, с молвой (собственно — с эхом); играти — издавать звук (если здесь не искажение текста: «и грающимъ»). В древнем тексте сквозной развернутый символ мог стать текстообразующим элементом (как в «Слове о законе и благодати» символика «закона» и «благодати»); метонимия же, которая призвана развить символ, такой функции не имеет. В современных художественных текстах, напротив, метафора может стать текстообразующей единицей (развернутая метафора). В древнерусской поэтической системе метафора первоначально не играла особой роли как способ создания оригинального образа, поскольку (как показано на развитии эпитета) характер языка не готов был к выражению признаков отвлеченно от определяемой вещи. В символических сопоставлениях важно отождествление (подобие), а не сравнение, на основе которого развивается метафора (в Слове о полку Игореве герои отождествляются с природным миром, а не сравниваются с его силами). Для осознания метафоры необходимо четко разграничивать абстрактное и конкретное, чего древнерусские языковые формы еще не могли предоставить; уровень абстрактности представлен в древнерусском языке отвлеченными признаками типа «белый свет». Наконец, для восприятия и конструирования метафоры необходимо уже сознательное разграничение одушевленного и неодушевленного, а в русском языке категория одушевленности сформировалась к XV в. Те же самые условия формирования метафорического мышления свойственны всей европейской культуре эпохи средневековья[21]. Последовательные этапы специализации признака в исходном символе, данные в образных формах (перифраза — эпитет — сравнение — метафора), явным образом пересекаются с развитием понятия, содержание которого также является определенным набором признаков. Метафорический эпитет через сравнение также порождает метафору, ср. жемчужные зубы — зубы как жемчуг — жемчуг (т.е. зубы)[22]. Метафора вообще многообразнее метонимических переносов именно потому, что метафоры связаны с изменчивостью признака. Иерархия метафор выстраивается не только благодаря отмеченной здесь тенденции к совпадению с эпитетом, но и по существу: простые, развернутые, сложные и полные метафоры. Историческая стилистика, исследуя текстовые формулы, должна определить, нет ли исторической преемственности и последовательности их возникновения, какие признаки в то или иное время предпочтительны как основа сравнения, какие из них допустимы в сравнении, а какие находятся под запретом в данной культуре, какова, наконец, базовая метафора данной языковой культуры. Важное отличие метафоры от метонимии и переориентация с формулы-штампа, обслуживающего символ, на «живой» троп обусловили развитие мыслительной деятельности средневекового человека: метонимия распространяет уже известное на все новые и новые объекты, не увеличивая при этом суммы знания о них (ср. «дом» — с постепенным увеличением числа объектов, которые можно именовать этим словом в связи с опорными его признаками). Наоборот, метафора фиксирует открытие нового признака, поиск нового в неведомом, следовательно, и развитие семантики слова. Становится возможной индивидуально-авторская позиция в выборе слов для принципиально новых сочетаний из них, индивидуальный стиль — и литература нового времени. «Слишком рассудочная метонимия» не без пользы существовала в древнерусском тексте. Только посредством метонимических переносов оказался возможным и осуществился процесс сопряжения неизвестных славянам культурных коннотаций в момент восприятия богатой византийской культуры, метафора привела бы к разрушению образных потенций славянского слова. Как соотносятся между собой типы и способы образования переносных значений слова — на этот вопрос также должна ответить историческая стилистика. Итак, устремление от символа к эпитету и от символа к метафоре — два пути в развитии тропов, так или иначе связанных с семантическим обогащением слова и открытием текстообразующих элементов. Первый путь — это способ перехода от значения к образу, второй — от образа к значению[23]; это разный ход к одному и тому же: к познанию нового и фиксации его в слове. «Когда современный человек, — говорит А. А. Потебня, — пользуется поэтическим образом лишь как средством для нового и нового построения и преобразования мысли, то он этим обязан в известной степени своей способности к научному мышлению, то есть способности к анализу и критике»,[24] в средние же века подобной возможности осмысления не существовало, следовало еще развить такую способность мысли, только подходя к современному нам восприятию образа как стоящего над простым следованием логически организованной мысли. Однако для всех случаев справедливо, что «поэтичность есть образность в слове»,[25] а именно исследование подобной образности и является задачей исторической стилистики.
СЕМАНТИЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ КАК КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКА
Современные представления о языковом знаке, о его происхождении, функции и смысле ставят перед лингвистами несколько новых проблем, прежде не обсуждавшихся. Часто, употребляя одни и те же термины, мы не можем сговориться по существу, поскольку индивидуальные представления о предмете дискуссий не сведены в приемлемые для всех (или многих) понятия и определения. По-видимому, не всех удовлетворит и решение, предложенное здесь историком языка, однако на строго логическом уровне понятие семантического синкретизма пока трудно определить и обосновать. Синкретизм, понимаемый как «нерасчлененность», свойствен мифологическому сознанию, представляющему «вещь» как целостность со всеми ее атрибутами и функциями, включая также и «имя» вещи. Поэтому аналитическая процедура определения вида через род, присущая научному познанию, тут мало чему поможет. Кроме того, элементы мифологического сознания свойственны и современному бытовому сознанию, а философы говорят даже о «мировоззренческом синкретизме», восходящем к «двоеверию» средневековой русской культуры[26]. В действительности же компонентов духовной культуры всегда было больше двух, даже в отношении к языческой (поскольку имелись не только собственно славянские, но и вынесенные из античных источников элементы того же «язычества»). Однако как диалектическая противопоставленность противоположным образом маркированных духовных сил именно язычество и христианство стали двумя релевантными полюсами мифологического сознания древней Руси — с присущей им синкретической мыслительной традицией. Устойчивый дуализм славянского сознания определяется подобным его раздвоением, однако формы выражения такого сознания в языке долго сохраняли свой семантический синкретизм. Это был, безусловно, семантический синкретизм, поскольку каждый языковой знак («слово») одновременно и воплощен в соответствующей контексту форме (выполняет известную функцию, определяясь данным действием) и связан с конкретной ситуацией речи. Причина семантической нерасчлененности слова-символа-реакции заключается в форме существования словесного знака — и устно-речевой традиции; это система, во-первых, чисто «слуховая» (не зрительная, как в формах письменной речи) и, во-вторых, привязанная к диалогу. Содержательная сторона подобного синкретизма определяется характером древнерусского «слова» — тем, что совершенно справедливо называли Логосом. Дело синхрониста определить остатки такого восприятия слова как «знак знака» (развернутый знак, т.е. символ) в современном обыденном сознании. Тут могут оказаться полезными такие факты, как проявления энантиосемии или постоянная устремленность языковой системы к образованию гиперонимов путем устранения гипонимов естественной речи (именно так из формул естественного языка и сгущаются формы языка литературного). Имплицитно в любом слове современного языка, особенно у глаголов или прилагательных, мы находим реакцию на энантиосемию. В действительности на протяжении длительного времени синонимы русского языка зеркальным образом переменили свои значения, так что взаимно изменились значения слов типа твердый — крепкий, ясный — быстрый, легкий — пустой и многие другие, которые со временем либо вступили в гиперонимо-гипонимические отношения, либо уточнили свои значения, калькируя заимствованные термины. Ср., с одной стороны, противопоставления любопытный (объект) — любознательный (субъект), которые разрушаются путем обобщения прилагательного любопытный (любопытная мысль, любопытный ученый — одинаково и как субъект, и как объект наблюдения); с другой же стороны, синкретизм прилагательных типа страшный (‘устрашенный’ и ‘пугающий’ одновременно) дифференцируется посредством включения производных (страшный — страшливый). На основе развития переносных значений исходный синкретизм порождает конкретные контекстные смыслы слов — в системном столкновении собственных слов или под давлением альтернативной культуры (синонимы могут стать антонимами и наоборот). В каждой данной культуре, по-видимому, всегда существует конечный список семантических синкрет, которые и составляют семантическое ядро этой культуры, например, в соотношении порядков «субъект — объект», «внутреннее — внешнее», «часть — целое», «субстанция — признак» и пр., т.е. обычно на метонимической основе, поскольку именно объем понятия в сознании скорее всего сопрягается с денотатом. В отличие от поэтически обусловленных движений семантики (например, метафорических) метонимические являются собственно языковыми, внутренними признаками системы языка. Не боясь упреков в преувеличении, можно сказать, что метонимическая цельность современного слова является таким же остатком древнего его синкретизма, как и энантиосемия, и тенденция к гиперонимизации. Таким образом, синкретизм языкового знака — естественное его свойство, поскольку языковой знак любого уровня — это символ, который требует интерпретации. «Единое комплексное значение» древнерусского слова подчеркивают все специалисты по исторической лексикологии начиная с Б. А. Ларина[27]. Исторически происходила постоянная перемаркировка языковых форм с целью эксплицировать и фиксировать в слове ту или иную сторону знака- символа. Оставаясь одним и тем же, он постоянно изменяет свой смысл, под давлением ли контекста (семантическая компрессия) или в связи с изменением семантики смежных словесных знаков. Текст создает для знака контекст, а референт — его подтекст. Возникает постоянное натяжение слова-знака между синтагмой (текстом) и парадигмой (системой). Символ одновременно отзывается и на изменения в культуре, и на категориальные преобразования в языке. Понять формально-логически этот процесс невозможно, поскольку здесь никогда не возникает тождество по формуле А=А; диалектические противоречия между языком и речью «снимают» с семантики символа только те смысловые оттенки, которые оказываются релевантными в данный момент развития системы, и «смысл» синкреты материализуется в «значении» слова. Таким образом, вторая причина существования семантического синкретизма состоит в отношении этого символа к его референту, независимо от того, каким образом подобную относительность объяснять (субъективно как отражение познания или как существующую объективно); возможны несколько объяснений, которые и выставлены в разное время: это отношение отвечает слитности чувственных восприятий с помощью одних и тех же слов (как полагал А. Н. Веселовский) или «единство предметной основы различных качеств» определяет синкретизм значений в определении-эпитете[28]. Все это отражено и в терминах, основанных, правда, на внутренней форме различных языков: греч. συν-χρητισμός ‘соединение’, ‘объединение’, лат. con-cretus ‘густой, уплотненный’, т.е. реально представленный. Синкрета проявляется только в конкретном контексте, из суммы смысла эксплицируя точное значение. С семиотической точки зрения синкретизм предполагает эквиполентное отношение синкрет, поскольку все символы данной культуры равноценны, и только конкретное, контекстное значение может вступать в строгие привативные оппозиции по заданному дифференциальному признаку. Следовательно, выстраивая очередную «систему», структуралист отражает схемы, свойственные познающему субъекту. Прежде чем дать определение синкреты, приведем два примера. В средние века воплощение синкреты — это только имя в собственном контексте. Представление о таком имени дает любой древнерусский текст; ср. первые слова одного из поучений Иоанна Златоуста по тексту «Измарагда» (сб. XIV в.):Надобѣть всяку человѣку чисто жити.
В древнерусском все модальности — глагольного характера, они постоянно преобразуются в контексте, переходя иногда в свою противоположность. Результаты последующих преобразований исконно синкретической формы показывают направление специализации смысла, в данном случае стяжение в наречие надобѣть — надобѣ — надо // нужно. Семантика глагольной формы фиксирована в данном тексте, но уже одно то, что употреблена именно данная форма (не достоить, не надълежить, не довълееть и т.п.), подчеркивает значение глагола, исходящего из синкретического смысла его корня: доба — ‘время, пора’, удобные для совершения действия. Местоимение всяку синкретично по определению, в данном случае оно одно заменяет цепочку в принципе возможных усилительных форм: и всякий, и всегда, и везде (например, в древнеславянском переводе толкований Афанасия Александрийского на Псалтырь именно эта цепочка и эксплицирована словесно в одном тексте: всякому — етеру — всегда...). Здесь говорится о человеке, поскольку подчеркивается его уникальность (не люди, не народ и т.п.), но и само это слово в своем семантическом синкретизме уже выражает идею избранной единственности (отсюда поздне́е парадигма я человек, но мы люди с устранением форм типа чловѣци в обозначении личности). Прилагательное чисто — наиболее общее по значению слово текста, поскольку оно обозначает амбивалентный (и энантиосемичный по происхождению) признак. В зависимости от контекста речь может идти о духовной или физической чистоте, жить чистосердечно, достойно, по-божески и т. д. Выбор глагола жити также не случаен (не быти, не существовати и пр.), это не существительное, выбор глагольной формы подчеркивает активность существа в развитии; хотя сам по себе глагол корнем (=смыслом) соотносится с целым рядом имен (жи-вотъ — биологическая форма жизни, жи-тие — социальная, жи-знь — духовная) и все-таки сознается как синкретичное. Итак, и в конкретном контексте степень экспликации значения для разных его компонентов остается различной. Для глагола важно предпочтение данному из ряда синонимов, у имени синонимов нет; глагол сохраняет своего рода многозначность, имя существительное всегда максимально однозначно. Прономинализация всегда сохраняет свойства синкретизма, имя же — основной объект семантической экспликации в контексте. Смысл текста при всей его (намеренной) неопределенной многозначности является производным от семантического синкретизма составляющих его слов, прежде всего имен. Отсюда проистекают одновременно и образность, и символическая обобщенность его содержания; но все древнерусские тексты, особенно переведенные с греческого языка, таковы. В них зашифровано знание об объекте, который еще непонятен или неизвестен; цепочка славянских слов, семантически близких оригинальному тексту, наводит на значение слов, исходя из смысла текста путем установления неустойчивых связей между смыслами исходных синкрет. Взглянем на ту же проблему с точки зрения современного исследователя, который пытается установить смысловое ядро какого- то имени, скажем — брат. Относительно этого имени одни говорят, что исходно в нем содержится термин родства (отражает семейные отношения), другие — социальный термин, третьи — термин, выражающий отношения дружбы и взаимности. В историческом словаре мы, действительно, отыщем все значения данного слова: 1) ‘брат’, // ‘родственник в одинаковой степени родства к общему предку’; 2) ‘собрат’ (‘равный в каком-либо отношении’), // ‘различные степени старшинства среди князей’ (которые часто и на самом деле были родными братьями); 3) ‘монах’ (в отношении к другим монахам); 4) ‘ближний’. Итак, в исходном распределении это слово-знак, которое внутренней формой своей («образом») было неопределенно синкретичным и выражало: а) близость, б) отношение или в) родство. Поставленное в определенный контекст, на современные нам понятия одно и то же слово братъ переводится как одно из данных, ведь тогда, когда слово возникло, сам брат (кровный — это родство) реально был и родственником, и близким, и соплеменником, и собратом, и в определенной (социальной) степени старшинства — родной, и сводный, и названый сразу, хотя при всех номинациях референт неизменен: это один и тот же человек. Из этого простого примера (а число их равно числу слов-символов древнего языка[29]) ясно, что в процессе развития языка изменялось не значение слова (поскольку значение — это отношение символа к референту, и это отношение постоянно изменяется), изменялся социальный и культурный контекст — уровни, стиль, характер жизни, причем изменялись они в действии, в свершении, в становлении новых отношений, которые по-прежнему обслуживались все теми же словами-символами. Характерно, что преобразование культурного фона постоянно требовало специализации значений, однако специализация семантическая не распространяется на все без исключения формы слова, и это помогает нам формально вычленить семантические компоненты состоявшейся дифференциации; в данном случае при общности символа в форме ед. числа (брат) возможна его дифференциация в формах мн. числа: брати, браты, братие, братия... братцы... Отсюда вывод: в нашем понимании, основанном на происхождении и функции слова-символа, синкрета есть сложное понятие, представленное как образ и воплощенное в символе (языковом знаке). Но ведь понятие как представление свойственно и современному обыденному сознанию: то, что для одного понятие, для другого просто образ. Из этого можно вывести заключение, что синкретизм языкового знака существует объективно как выражение определенной формы сознания и является универсальным его свойством. Один и тот же символ может восприниматься и как образное представление, и как производное от него терминологизированное понятие. Одно другому не противоречит и в различных ситуациях проявляется по- разному. Однако сама возможность словесного знака обслуживать сразу несколько уровней познающего сознания не доказывает ли (обратным образом) смысловой синкретичности этого знака? В древнем тексте экспликация смысла синкреты в значение слова определялась формулой ближнего контекста, и это верно также для калек, значение которых связано с общим смыслом данной формулы, а не передает лишь основное значение у слова чужого языка; ведь при заимствовании оно всегда является контекстным, поэтому обычно как раз имеет место ориентация на переносное или второстепенное значение, возможное в принимающем языке; относительно старославянских ка́лек это прекрасно показано в специальном исследовании[30]. Вопрос заключается в том, что и сегодня работа со словом, извлеченным не из контекста, а из готового словаря, определенным образом препарировавшего семантическую структуру слова, кажется бесперспективной в лингвостилистике, психолингвистике, при решении других прикладных задач лингвистики. На основе подобных омертвелых «созначений» невозможно создать карту «психоглосс русофона», как это пытаются сделать[31]. Контекст по-прежнему остается источником; поскольку символ раскрывается в тексте, максимальная совокупность последних и дает надежный материал для реконструкции самой синкреты. Мы все время говорим о семантическом синкретизме. Синкретизма формы, по-видимому, в принципе не существует — или это явление иначе называется. Совпадение значений числа, падежа и типа склонения в одной флексии -омъ (столомъ, а не стѣною, не столы, не стола, не звѣри и пр.) — это также синкретизм значений. То, что мы называем синкретизмом падежных форм, есть всего лишь перемаркировка форм, возникающая в целях наилучшей специализации конкретных значений грамматической формы; они по-прежнему различаются в контексте, отсюда и их сходство с семантическим синкретизмом. В современном произношении русской флексии презенса [эво́(н’ьт)] совмещены формы 3-го лица ед. и мн. числа (а также различных орфоэпических норм: зво́нит, зво́нят, зво́нют). Фонологически возникает изолированная позиция, никак не проверяемая в устном воспроизведении, если сравнить их со старым произношением форм (звони́т, звоня́т), «Совпадение» диалектных форм от горы, к горы, о горы также не создает синкретизма форм, поскольку предлог функционально заменяет флексию и не разрушает исходную парадигму склонения (здесь всего лишь снимается избыточность формальных средств языка, переход к аналитизму не создает синкретической формы). Вдобавок, сегодня мы можем просто иначе понимать ту же форму, которая была возможной и в средние века. Каждый раз конкретный символ отражает системные (смысловые) отношения в точном соответствии с точкой зрения своего времени, но независимо от реальной связи объективно существующих оппозитов. Синкретизм онтологичен и связан в своих проявлениях с маркированным членом оппозиции[32]. Синкретизм вообще является универсальной характеристикой маркированного значения, это морфологический коррелят фонологической нейтрализации. Между прочим, лексикализуются, фиксируя одно из специальных своих значений, только маркированные (синкретичные) морфологические формы[33]. Сами по себе, не имея семантической ценности, фонемные единицы не создают никакого синкретизма. Таков крайний случай, доказывающий отсутствие синкретизма формы. С философской точки зрения, следовательно, имеет место интуитивно феноменологическое восприятие общего символа, первоначальный этап его осознания. Чем отвлеченнее по смыслу слово кажется нам сегодня, тем ближе оно к синкрете и тем охотнее современное анализирующее сознание различным способом пытается специализировать его значения. Такая работа анализа в процессе познания и откладывает именно то, что мы называем открытием (формулированием в слове состоявшегося извлечения еще одного смысла из семантической совокупности синкреты). Например, все древнейшие отглагольные имена одновременно имели значение действия, субъекта, объекта действия и результата этого действия (ср.: ровъ, ловъ, садъ и пр.). Перед нами безусловно семантический синкретизм имени, который исторически устранялся последовательным наращением производных со специализированным значением (ср.: ловъ — ловъкъ, ловъ, ловитъва, ловище, уловъ, уловъка и т.д.). По-видимому, каждое двоичное разделение прежней формы создавало возможность одновременно фиксировать два значения, из которых новое (=в новой форме) было маркированным как однозначное, ср. последовательность выделения имен: ровъ → действие рытье → качество ровьнъ → предмет ровьница ‘ров’; мовъ → действие мытье → качество мовьнъ → предмет мовьница ‘баня’ (или мовьня) и т.п. Параллельные ряды связаны с качеством имени — отглагольного, возможны причастные формы (рытье, мытье, качества рытъ, мытъ, а в ст.-сл. рыенъ, мовенъ, последующее развитие отпричастных типа мовение). Столь древний этап деривации трудно подтвердить материально, самостоятельными словами, такие слова затерты последующими изменениями системы. Однако следы подобных раздвоений обнаруживаются в древних текстах (ср. уникальную форму жить наряду с житъ, жито и пр. в старославянских текстах; позднее это имя получило суффикс и теперь представлено как житье). Познание осуществляется путем углубления в синкрету и порождения сети терминов, внутренней формой связанных с исходным корнем — носителем синкретического значения. Форма актуализирует значение, выделенное из общего смысла, вот почему (еще раз) не может быть синкретизма формы: у формы другая функция. Исторически последовательно происходило «снятие» синкретизма у большинства имен, именно посредством специализации значений в производных. Примеров множество — по существу, в этом процессе и состоит «история слов». Из числа описанных в литературе укажем: образъ — образ/образы и образ/образа — образец — образчик; ликъ — лице — личина — личный — личность...; дѣва — дѣвъка — дѣвочька... и пр.[34] Общая семантическая доминанта сохраняется постоянно и тем самым способствует созданию словообразовательных парадигм[35], которые, в их совокупной цельности, по-прежнему являются своего рода синкретою. Сама последовательность снятия специальных значений с синкреты знаменательна: сначала это обычно происходит в контексте как чисто стилистическое варьирование (поиск контекстного значения: «стиль» определяется окружением), затем под давлением общекультурного контекста в отношении к референту происходит семиотическое преобразование смысла в устойчивых границах значения слова (слово по видимости не изменилось) и, наконец, в словообразовательных потенциях языка возникает отдельное (и по форме — новое) слово. Образъ как синкрета общего смысла (‘вид; внешность; изображение; образец’ и пр.) — дифференциация по значениям в определенном контексте (может получать формальные маркеры, например, во второстепенной для слова грамматической форме мн. числа: образи, образы, образа) — наконец, выделение специального словесного знака для самого резкого отличия в значениях (образ — образец). Вся история древнерусской лексической системы есть последовательный процесс расширения словесно оформленных понятий и образов, каждый из которых основан на конечном списке исходных синкрет-символов:
образъ — 1) ‘очертание, вид’ — впоследствии слово вид, 2) ‘подобие’, т.е. изображение (икона — образа), 3) ‘форма воплощения’ (способ; вид в отношении к роду), 4) ‘образец, тип, прообраз’.
С лингвистической точки зрения следует размежевать этапы развития семантического синкретизма. Содержательным условием сохранения семантического синкретизма обычно признается связь с мифологическим сознанием[36], но легко найти и другие основания. Нерасчлененно-целостное восприятие действительности увязано с генетической идеей происхождения и синтеза, тогда как современное (научное) направлено на анализ и интересуется функцией (важна цель, а не причина). Являются ли эти два типа познания последовательным развитием сознания — сомнительно, поскольку диалектика цели/причины, субъекта/объекта, функции/стиля, образа/понятия и пр. в слове как знаке предполагает непременную их совместность. Речь, таким образом, идет о предпочтении одной из сторон двуединого объекта в каждой конкретной культуре. Попробуем дать предварительное объяснение этапов развития семантики в слове по основе толкования семантического треугольника (известная связка вещь — понятие — слово). Синкретизм предполагает совпадение в сознании слова (знака), понятия и предмета (вещи) в едином. Отсюда важность ощущения в восприятии и эквиполентности как единственной возможности противопоставления равнозначных объектов. Мифологический характер сознания вытекает из подобного восприятия слова-символа. Далеко — синкрета, выражающая одновременно и пространство, и время, и условие, и всякие иные значения в общем смысле имени. Отдельное слово тогда — одновременно и речь, и фраза, и предложение, и лексема. Для мифологического сознания слово есть вещь, и имя вещи — тоже вещь, которая свои смыслы проявляет только в контексте-образце; но одновременно связано и с действием, в процессе совершения которого все слито в сознании (признак, качество, сущность и пр. еще не различаются по степеням отвлеченности). Для синкреты существенны смыслы, а не индивидуальное значение и не системная значимость современного слова. Средневековый этап постижения символа, скорее всего, отражает диффузность восприятия, основанного уже на представлении, а не на ощущении; вещь воспринимается как самостоятельно существующая, но «имя» вещи (т.е. слово и понятие) еще не расчленено, и всегда понятна относительность вещи (имя важнее вещи; разные направления средневековой философской мысли — реализм, номинализм и концептуализм — объясняются различным отношением к взаимодействию вещи, слова и понятия). Далекий при наличии прежних форм типа даль, далеко и пр. становится специализированной формой имени, выражающей только пространственные отношения. Противопоставления градуального ряда (с постепенным переходом семантики по определенным признакам) возникают на основе выделенных сознанием признаков различения. Такое — символизирующее — средневековое сознание неоднократно моделировалось, основным содержанием этого процесса развития становится словообразовательный процесс: новое значение формально сосредоточено обязательно в новом слове. Современная многозначность слова-символа определяется относительностью компонентов знака: слово — понятие о... — и самой вещи. Развиваются переносные значения слова, причем не только в отношении к объему понятия (метонимия), но и к его содержанию (метафора), хотя всегда это происходит на основаниях привативности и притом в контексте, ср.: недалёкий город — недалёкий человек; зелёная поросль — зелёная молодежь — зелёная тоска... Попарные противопоставления на основе системно заданного признака способны порождать бесконечную цепь контекстно обусловленных «co-значений» имени. На основе четких противопоставлений по нескольким дифференциальным признакам строится «сеть» семантической парадигмы, почему и возникает представление о полисемии. На самом деле актуализируются и потенциальные значения слова-символа, обусловленные вхождением этого слова в общую систему знаков данной культуры. Если в средние века символом выступал каждый отдельный знак сам по себе, сегодня принцип реализации синкреты совершенно иной: синкретична система в целом. Полисемию современного слова можно толковать: как совокупность омонимичных знаков[37] (в каждом формальном слове только одно значение, самая логичная интерпретация, исключающая проблему синкретизма); как собственно многозначность в традиционном смысле (лексикографически удобная форма подачи семантики слова, но некорректная в отношении к объекту-символу); как обычный синкретизм слова-знака. Последнее утверждение является наиболее спорным, поскольку синкретизм предполагает ряд условий (энантиосемию, отсутствие метафорических связей по сходству — они парадигмальны, а не синтагматичны, отсутствие известных степеней отвлеченности), а эти условия здесь не отмечаются. В целом же различение синкреты и многозначности ясно. В синкрете денотат дан в его цельности (но объем понятия важнее его содержания), а многозначность определяется по сумме признаков (объем и содержание понятия одинаково важны); сколько бы ни было контекстных «значений», в синкрете они равноценны, тогда как многозначность предполагает иерархию выявленных значений; синкрета не допускает коннотаций (отсюда отсутствие в прошлом «co-значений» типа «уменьшительно-ласкательных»), тогда как полисемия построена на их движении; эквиполентные отношения синкрет при многозначности сменяются привативными оппозициями. Другими словами, синкрета — это символ в синтагме, тогда как многозначность, скорее всего, обслуживает метафору как порождение парадигмы. Последовательное развитие гиперонимов путем обычного для языка метонимического переноса, калькирования, заимствований, словообразовательных моделей, семантической компрессии и других активных семантических процессов все больше приводит к сгущению семантической структуры слова (прежде всего имени), а это все же демонстрирует устремление языка к развитию синкрет- символов, хотя и нового типа. Если в эпоху средневековья основное содержание текстов заключалось в том, чтобы раскрыть данный уже символ культуры, современная культура нацелена, скорее, на создание символов. Направление процесса диктует и характер языковых единиц, и их научную интерпретацию. Независимость научного сознания от этого процесса мнима: мы открываем только то, что синкрета в ее системных связях позволяет нам открыть сегодня. Таким образом, и синкретизм является проблемой языка, а не речи. Синкрета — символ, а свойства символа известны[38]: это неконвенциональный знак культуры, который уже существует объективно (и, в принципе, существовал всегда, пока существует система знаков — язык) как знак знака с иррациональным содержанием, архаичный на любом синхронном уровне, существует в свернутом по информации виде и актуализируется в текстах культуры как один из возможных вариантов. «Только в силу того, что содержание слова способно расти, слово может быть средством понимать другого»; в представлении А. А. Потебни этот символ — направляющий культуру идеал, а поскольку «мысль направлена словом»[39], то становится ясной мировоззренческая функция синкреты-символа. Итак, перемаркировка «co-значений» в границах синкреты, постоянно происходящая в языке, отражает своего рода «пульсацию культурного текста», который отзывается на категориальные изменения языка. Понять этот процесс можно лишь в историческом развертывании системы и в осознании диалектических противоречий между языком и речью, но никак не посредством механистических констатаций на синхронном или типологическом уровне, не посредством логических выкладок типа А=A, не допускающих изменения качеств, свойств и отношений в структуре синкреты-символа. Другими словами, синкрета есть понятие, данное как представление, т.е. не логически, а психологически; это не сам знак (слово), а его содержание, которое сосредоточено только на признаке (одновременно и образ, и содержание понятия), причем признаке сущностном, который для удобства можно было бы назвать концептом. Являясь одновременно и мировоззренческим признаком речемысли (термин Потебни), концепт-синкрета способствует, между прочим, наложению культурных коннотаций путем заимствований, но также и созданию собственных семантических ценностей путем развития самой синкреты. Семантический синкретизм языковой формы можно понимать как выражение динамических тенденций в языке — это диалектика раздвоения смысла и удвоения форм, преодоление избыточности форм в специализации значений посредством контекстов. Можно понимать как семантическое усложнение языкового знака, как его эмансипацию от контекста — создание своего рода семантической парадигмы на фоне грамматических синтагм. Синкретизм языкового знака как символ культуры служит основанием для синтеза всех уровней языка и связи всех его значений. Однако этим не ограничивается смысл синкреты. Она представляет собою средостение, посредством которого слово и язык выходят за пределы языка, а точнее — делают язык частью культуры. Методологически это важный вывод, он позволяет взглянуть на язык извне. И тогда оказывается, что вне культуры нет языка, как нет культуры без языка.
КОНЦЕПТ КУЛЬТУРЫ: ОБРАЗ — ПОНЯТИЕ — СИМВОЛ
Непосредственным поводом для написания статьи стал выход в свет сборника «Логический анализ языка: культурные концепты»[40]. Материалы и суждения авторов сборника так или иначе соотносятся с работой над «Словарем русской ментальности», которая ведется сейчас в С.-Петербургском университете; обсудить возникающие в ее ходе сложные проблемы представляется настоятельно необходимым. Много вопросов возникает и при чтении книги. Прежде всего неясно, почему речь заходит о «логическом» анализе языка. Логика ведь не интересуется понятиями о конкретных вещах или явлениях, ей нужны понятия, суждения и умозаключения вообще и в связи с «общечеловеческими» принципами мышления. Совершенно иное находим в статьях сборника. Здесь, скорее, исследуются ментальные характеристики конкретных понятий национальной речемысли, отраженные в слове и в образцовых текстах. Аналогичными исследованиями в рамках когнитивной лингвистики сегодня заняты многие лингвисты, и объединяющим все подобные работы принципом является именно установка на исследование национальной ментальности в слове — объекте изучения, а не метод или способ, какими такое исследование ведется, логический или какой иной. Напротив, именно логически ориентированный подход к теме часто подводит исследователя, поскольку поверхностно позитивистское отношение к материалу мешает увидеть глубинные тенденции семантических изменений языка. Позитивизм эмпиричен — это главный его недостаток, а не всякий объект можно потрогать руками. Ошибок на этом пути совершено множество. Если, например, из «Русского семантического словаря»[41] извлечь материал по особенно любезному авторам нашего сборника концепту «истина», окажется, что на 112 слов, включенных в дескриптор на основе словарных контекстов, отмечается 21 семантический множитель (= дифференциальный признак — ДП), четко распределенные по четырем основным группам: 1) субъективное «понимание» (основы понима-, позна-, зна-), 2) субъективное «утверждение» (утвер-, провер-, опыт-, наук-, сужд-), 3) субъективное жепредставление о «соответствии» истинному (соотв-, отраж-, прак-, житей-, правд-) и 4) объективное, но тоже с точки зрения наблюдателя, соответствие «действительности» (действит-, сущ-, объект-, правил-, точн-, настоящ-, несомнен-), кроме собственно истин-, в котором нейтрализуются все указанные признаки и «множители». Ясно, что нам предлагается не характеристика самой «истины» как концепта и даже не значение слова истина, а весьма поверхностное описание одновременно и того и другого с точки зрения «информации» об истине как явления плана «пользы» — важного компонента в процессе коммуникации. Коммуникативный принцип исчисления концептов определяется исходным материалом: готовыми клише информации; никакого познания или нового знания такие характеристики не дают и, следовательно, не исчерпывают признаков самой истины. В словаре не представлены противопоставленные истине концепты и параллельные ей, не учитываются коннотации слов и не вводятся поправки к тем случайным контекстам, на основе которых описываются «психоглоссы русофона». Верно, что присутствие «логического» в анализе языковых форм выражения концептов необходимо, но имеет смысл только как «философское», причем и анализ языковых фактов, и само философствование следовало бы понимать в духе русской философии, т.е. как экспликацию в философском тексте содержательных структур речемысли. Философия и есть в известном смысле раскрытие национальной ментальности, представленной в структурах родного языка. Философское в таком случае предстает не как прием или метод, т.е. как узкологическое, но как материал для воссоздания ментальных характеристик русского сознания в слове. Еще в начале XX в. русское языкознание и русская философия сошлись для совместных исследований в этом направлении: о концепте в 20-е годы одновременно говорили и Л. В. Щерба, и С. А. Аскольдов (Алексеев)[42]. Тогда же образовалось устойчивое расхождение между петербургскими и московскими учеными о сущности подобного исследования. Одинаково опираясь на идею «внутренней формы» А. А. Потебни, москвичи подчеркивали важность «формы», а их оппоненты — «внутреннего»; достаточно сравнить высказывания о концепте Г. Г. Шпета[43] и того же С. А. Аскольдова. Расхождения между школами обозначились по сферам преимущественного внимания: к семантике системы («значение формы») в ее функции и динамике (петербургская школа со свойственным ей некоторым преувеличением роли семантики) или, соответственно, к языковой форме в лингвистической модели («значимая форма»), статически представленной как стиль (московская школа с присущим ей игнорированием семантики). Выбор одной из составляющих в антиномиях «семантика — форма», «функция — стиль», «статика — динамика», «система — модель» определялся исторически и был важен на известном этапе разработки философски ориентированной проблемы языка; однако сегодня, когда наметились попытки продуктивного синтеза этих двух направлений, странно для историка науки видеть научный подход к проблеме только в рамках собственной школы[44]. Ценность сборника в том, что его статьи помогают определить расхождения между научными направлениями и в отношении к обсуждаемой теме. В изучении концептуального поля языковой системы для авторов характерна ориентация на западноевропейскую традицию, от Спинозы до Бергсона и т.п.; имеются переклички со структуралистами, с аллюзиями на темы Ролана Барта и т. д. Случайные отсылки к П. Флоренскому и В. Розанову, а также странное препарирование идей Вл. Соловьева положения не меняют: предпринимая изучение русской ментальности, в качестве философского обеспечения своей работы исследователи используют чужеродные результаты, вследствие чего и возникает убеждение вроде того, что «слова-концепты народной культуры, как и большинство культурных слов”, вряд ли могут получить четкую дефиницию»[45]. Московские коллеги по-прежнему системе предпочитают модель, которая в их представлении может быть только реконструкцией «общечеловеческих», т.е. логических, ценностей. В своей реконструкции они исходят из конкретных значений слов, представленных в изученных ими контекстах (по словарям и картотекам), но среди таковых много оказывается синтаксических и семантических ка́лек; вот с их-то помощью и создается «когнитивная карта слова». Подход к слову и концепту как к «эргону» (знание в полученной информации), а не как к «энергии» (сознанию в речемыслительном акте) выдает застарелое пристрастие к статике форм в ущерб развитию значений в исторически изменяющихся формах. Подобные реконструкции неисторичны и поэтому не могут нести национальной окраски. На русских словах конструируется нерусская ментальность (ср., например, перевернутое до «наоборот» представление о соотношениях между «порой» и «временем», «человеком» и «личностью», в известном смысле также между «правдой» и «истиной»). Наконец, сама реконструкция часто носит случайный характер, не являясь системно ориентированной. Изучены контекстные значения слов, а не их значимость в семантических системах: «свободы» в связи с «волей», «радости» не в отношении к «удовольствию» (западноевропейская ментальность), а в отношении к «веселью» и т. п. Изучаются не парадигматические отношения по существенным семантическим признакам, а синтагматические связи словоформ, обычно синонимичных друг другу, и притом вне национальной традиции словоупотребления, только литературные тексты. Похоже, что форма по-прежнему кажется более важной, чем семантика, которая в данном случае является все-таки объектом изучения. Таким образом, то, что прежде являлось методологической установкой московской филологической школы, в наше время обернулось погрешностями методических приемов в определенной сфере научного исследования; таков предел, егоже не преидеши, который мистически (ментально?) влияет на результаты новейших исследований. Между тем семантические экспликации, содержащиеся в работах русских философов (а не простые отсылки к ним), интуитивно чутких к содержательному смыслу слова, в подобной работе обойти невозможно. Н. Д. Арутюнова, кажется, это сознает. В ее лингвистических квалификациях истины[46] неявным образом присутствует классификация П. Флоренского[47]. На уровне «трех священных языков» и славянского исторически безупречно П. Флоренский раскрыл национальное своеобразие в представлении «истины»: непосредственно личное отношение по содержанию (славянская «истина» как преимущественно онтологический концепт: абсолютная реальность живой истины — «то, что дышит») или по форме (греч. αλήϑεια— преимущественно гносеологический концепт как ценность «личного памятования») — в их совместном отличии от концептов, понимаемых лишь опосредованно, через общество либо по содержанию (еврейск. эмет — преимущественно теократический концепт, выражающий надежность слова и/или общения), либо по форме (лат. veritas — концепт, скорее, юридической силы: справедливость понимается как правота истца). Сопоставляя с этой четкой системной дифференциацией данные «Русского семантического словаря», находим, что этот словарь на самом деле отражает «семантические множители» греческой и еврейской ментальности не потому, конечно, что в римской или в славянской ментальности нет гносеологически-теократического компонента (они присутствуют во всех ментальностях, в этом все дело: слишком продолжительны были взаимные влияния культур), а по той причине, что для этого словаря только они и имеют силу, являясь ключевыми, выделены как основные, определяющие русский менталитет. Классификация же Н.Д. Арутюновой, хотя и исходит из реконструкции П. Флоренского, как бы намеренно размывает национальные признаки ментальности в сторону традиционных признаков еврейской и латинской традиции восприятия «истины». В таком случае, конечно, получится, что «связь истины с религиозным сознанием очевидна» (с. 24) или что «религиозная Истина и рациональная истина различны по природе. Различен и способ их познания» (с. 25), — в чем опять-таки заметно разложение признаков концепта по тем же национальным компонентам («истинное противостоит недолжному, а не ложному», см. с. 23 и др.). Ср. это с окончательным утверждением о том, что «представления об истине — религиозное и эпистемическое», а это также возвращает нас к эллинистическим воззрениям на сущность данного концепта. Национально-славянское Арутюнова, похоже видит только в «правде», но и этот концепт оказывается связанным с языком права. Нам напоминают о знаменитом противопоставлении правды- истины и правды-справедливости (со ссылкой на Н. Бердяева, хотя это — выражение Н. К. Михайловского), которое обсуждалось почти всеми русскими философами, добавившими сюда аналитические пары: правда-мощь, правда-сила, правда-камень (краеугольный) и т.п. Учитывая подобные детализации признаков «русской правды», можно было бы и дальше дифференцировать славянскую синкрету с помощью уже эксплицированных философским сознанием подобных признаков. Нам важно отметить, что в обсуждаемой книге схемы неявно строятся на скрываемых от читателя философских экспликациях, но наполняются некритически выбранными контекстами. В действительности же «правда» вовсе не есть своего рода «отражение» «истины»; для русской ментальности она важнее холодной и рассудочной «истины». Нам кажется, что и вообще привативные оппозиции, на основе которых строится изложение, не всегда годятся для такой работы. Мало того, что они обычно эквиполентны: «подлинный — мнимый», «вечное — временное» и т.п., они еще и малоинформативны. Слова-концепты скорее уясняются только последовательностью градуальных оппозиций, одна за другою снимающих с синкреты «правда» органически присущие ей ДП. Таких признаков много, но авторы сборника отмечают лишь те, которые нашли выражение в определенной форме; в частности, намечено различие между «правдой» и «правильностью», между «истиной» и «истинностью» и т. п. Разграничение онтологических и гносеологических характеристик происходило с помощью словообразовательных моделей, возникающих довольно поздно; экспликация «гносеологического» во вторичных производных сама по себе факт удивительный! Учитывая все сказанное, было бы полезно для начала провести предварительное описание всего наличного материала, установив относительную ценность слов, содержащих ментальные характеристики. В первом приближении, говоря пока лишь о традиционно узком понимании концепта (как объема понятия) и учитывая различие между референтом R (предметом: что́ значит его значение) и денотатом D (предметным значением в слове: что означает — смысл), устанавливаем, что теоретически возможны четыре сочетания из двух ДП: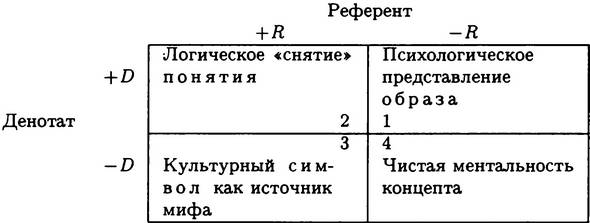
Из четырех возможных манифестаций концептуального значения образ и понятие получают толкование в словарях, поскольку имеют предметное значение, тогда как символ и концепт требуют особых словарей, которых пока нет. Смысл символа в процессе все большего отторжения от исходного значения слова вообще не связан с семантикой самого слова, а неоформленная ментальность концепта мыслимым своим содержанием может быть представлена одинаково актуализированным и референтом, и денотатом, т.е. опосредованно. Исторически каждое ключевое слово национального языка проходит путь семантического развития от туманного «нечто» (как С. Аскольдов назвал концепт) к культурному символу, со все усложняющейся специализацией ДП и с одновременным преобразованием содержания понятия, сигнификатов семы и пр. Например, «вода» или «рука» входят в любой из четырех «семантических квадратов», но с различным содержанием. Концептуальное значение исходно может быть связано с этимоном слова (= результат предыдущих культурных движений смысла, дошедший до нас). В таком случае «вода», реализованное в слове вода, — это ‘бьющая (потоком)’ с исходным концептом-этимоном (0), затем это ‘водная поверхность или пространство, покрытое водою’ (воплощение образа — 1), с последующим семантическим сжатием в понятие ‘прозрачная бесцветная жидкость’ или ‘химическое соединение водорода и кислорода’ (2) с выделением символического значения «печаль пустоты» (3) или как окончательное представление собственно концепта — знак содержательно животворной сущности (4). «Рука» в слове рука — ‘собирающая/хватающая’ (исходный концепт — 0), данная как орудие деятельности и труда с возможными образно-переносными значениями (которые вообще и организуют всякий образ — 1) и, наконец, законченное понятийное ‘одна из двух верхних конечностей человека от плеча до конца пальцев’ (2), как символ власти (3) и понятый как знак владения/владычества (собственно новый концепт — 4). Обогащение смыслом начинается в первой форме — в образе (русалка — это форма вне системы, сконструированная по случайным признакам реального плана), оформляется в понятии (женщина — это уже форма в системе, созданной по сущностным признакам различения) и отливается в символе (богиня — здесь качества, которые сами по себе создают систему, на основе которой и выявляется в конце концов концепт современной культуры: он эксплицируется, а не актуализируется, как образ, и не выявляется, подобно понятию). По мере развития семантики слова, приращения его смысла образное значение начинает соотноситься с символическим, а понятие — с концептом, поскольку в отношении к R и D они попарно находятся в дополнительном распределении. Это накладывает ограничения на квалификацию соответственно образа и символа или понятия и концепта: теперь их можно легко смешивать друг с другом. Последнее связано даже с происхождением терминов. Conceptus — это суждение, понятие, даже представление (о предмете), а conceptum — зародыш, зерно (смысла, в нашем случае). В русской форме эти слова — омофоны. Вполне возможно, что и установка на «логический» анализ концептов определяется подобным же неразличением терминов. Но связь понятия и концепта имеет и сущностное оправдание. Оба они, каждое по-разному, являются семантическим стержнем системы и «держат» всю парадигму отношений. Если слово в своем семантическом развитии «не прошло второй квадрат», т.е. не стало выражать понятия в узком смысле слова, то образное его наполнение, каким бы оригинальным и ярким оно ни было, не крепится ни к какому четко структурированному смыслу и распадается по самым различным «co-значениям», соединенным до времени только исходным концептом-этимоном (0); однако и этимон получает все более общий смысл из-за отсутствия фиксированного в понятии содержания и объема. Например, в отличие от «русалки», «кикимора» — это: домосед, нелюдим (человек, все время сидящий дома за работой); тихий и скромный трудяга; беспокойный, неуживчивый; непоседа, юркий и проворный человек; хитрый и настойчивый при всей своей невзрачной наружности; худощавый, т.е. и в этом отношении чем-то увечный; чучело, пугало; лихорадка; летучая мышь и т.п.[48] В основе всего этого — рассыпанного от времени — ряда лежит неустойчивый исходный образ, связанный с ночным кошмаром (при котором привидится все что угодно, в том числе и изучающему концепты). Таким образом, понятие оказывается восполнением исходного концепта на новом и, очевидно, на более высоком уровне развития речемыслительной деятельности. Понятие оформляет разведенные по традиционным текстам-формулам образы, тем самым и организуя средства для нового уровня познания. Общепринятое суждение гласит, что вся русская философия есть философия образа, а не понятия (не логических систем); сами философы не отрицали этого, добавляя, что — и философия символа также. Последнее означает, что в своих поисках русские философы просто преодолели понятийный уровень, уравняв при этом образ с символом, так что понятие как момент развития смыслового содержания словесного знака не интересует их среди тех вечных проблем, которые подлежат философской разработке. Смысл понятия они понимают так, что понятие омертвляет вещь, вещь исчезает из «жизни», поскольку она уже понята, т.е. схвачена мыслью и перенесена в сферу пустых логических операций над минимальным числом выделенных признаков, которые к тому же постоянно могут меняться, тогда как в символе они постоянны. Минимум точно установленных сознанием признаков различения увеличивает объем (предметное значение) и, создавая термин, являющийся пределом развития семантики слова на гиперонимическом уровне, грозит остановить дальнейшее насыщение слова смыслом. «Схвачено» то, что вышло за пределы чувственного, всегда конкретного переживания в образе и фиксируется как момент снятия предметного значения в его развитии — обогащение референтом. Но только отчуждаясь от образа как от предшествующего этапа (= формы) развертывания смысла, понятие и осознается как самостоятельная ценность в содержательном объеме словесного знака, ответно эксплицируя и дифференциальные признаки самого образа. Понятие отрицает образ, но символ, в свою очередь, отрицает понятие, и вновь — в пользу образа, представляя символ как знак знака. Семантический синкретизм концепта в образе оформляется, а в понятии анализируется, в символе представая уже как единство «мысли-чувства», и потому может замещать и понятие, и образ; символ — понятийный образ, или образное понятие. Всегда заметен только пройденный путь: как понятие выявляет образ в его законченных границах, так и символ делает понятным понятие, а все они вместе, т.е. образ, понятие и символ, позволяют опосредованно и по различным признакам, сохраняющим исходное свое содержание, в конце концов осознать и концепт, который, согласно своим признакам (не отражает ни референта, ни денотата), есть то, что его нет — конечно, не содержательно, а в форме. Только в системе соответствий ключевых признаков данной культуры, шифрованной в слове, лишь парадигматически можно воссоздать концепт, объективируя его по следу (треку) его движения в преобразования форм, через образ, понятие, символ. Культурный концепт в современном его виде (т.е. 4, а не 0) создан исторически путем мысленного наведения на резкость понятийного объема (денотат через понятие) и содержания (сигнификат через образ и символ). Итак, концепт — исходная точка семантического наполнения слова (0) и одновременно — конечный предел развития (4), тогда как понятие — исторически момент снятия с накопленных сознанием образов сущностной характеристики, которая немедленно «с-брасывается» (συμβάλλω) в символы, в свою очередь служащие для соединения, связи между миром природным (образы) и миром культурным (понятия) — σύμ-βολον. Символ как «идейная образность», как образ, прошедший через понятие и сосредоточенный на типичных признаках культуры, как знак знака находится в центре внимания русской философской мысли. Для нее традиционно важны концы и начала, а вовсе не промежуточные точки развития, в том числе и развития мысли, приращения смыслов в слове и т.п. То, что явилось началом, в результате развития смыслов слова как знака культуры, становится и его концом — обогащением этимона до концепта современной культуры. Концепт потому и становится реальностью национальной речемысли, образно данной в слове, что существует реально, так же, как существуют язык, фонема, морфема и прочие выявленные наукой «ноумены» плана содержания, жизненно необходимые всякой культуре. Концепт есть то, что не подлежит изменениям в семантике словесного знака, что напротив, диктует говорящим на данном языке, определяя их выбор, направляет мысль, создавая потенциальные возможности языка-речи. Этот вывод ставит перед нами ряд актуальных задач при исследовании концептуального поля русского сознания. Отрицательные характеристики по «отсутствию денотата и референта» напоминают, во-первых, апофатический способ истолкования осознанной сущности — концепта. Апофатический способ объяснения бытия Божьего, при котором определение дается через серию отрицательных характеристик, есть не что иное, как попытка свести распространенные в средние века градуальные оппозиции к привативным путем последовательного предъявления признаков различения (ДП), причем чем выше ранг «существа», тем больше таких признаков и тем чаще оно определяется отрицательными признаками, т.е. предстает как немаркированный член оппозиции (ни по данному частному признаку, ни вообще по какому-нибудь признаку). Отсюда в нашей традиции и устойчивый интерес к проблеме концепта, отрицательно отмеченного по всем различительным признакам (ДП). Сама по себе отрицательность всех в принципе возможных признаков различения — на уровне явления — выступает в апофатическом богословии гарантом благости и одновременно реальности этого объекта. На секуляризованном уровне то же следует принять и в отношении к концепту. Это проблема Логоса, прямым образом соотносимая с интуитивно осознаваемой «софийностью» русской философии и ориентацией на семантику русской лингвистики. Второе следствие не менее важно. Если концепт в узком смысле, как концептус, соотносится с объемом понятия, то наряду с определением ДП концепта и параллельно этому следует воссоздать последовательность усложнения содержания понятия (признак — качество — отношение и т.п.), т.е. совместимость в едином блоке признаков словесного знака не только подобие, но и образ концепта как концептума (отражение мира по образу и подобию одновременно). Задача ответственная и важная, но как раз ее и не решает «логическая лингвистика», поскольку она находится в плену логики и ее определений, сводит проблему концепта только к объему понятия; это и снижает объяснительную силу подобного подхода к проблеме концепта. Третье следствие неожиданного свойства. Если верна обозначенная линия приращения смыслов в слове, то, следовательно, и древние мифы, отложившиеся некогда в каких-то символах, также представляют собою всего лишь остатки законченного в свое время цикла движения смыслов через образ и понятие, причем понятия, являясь случайными формами организации образного пространства слова и только «на время», потому и не сохранились до нашего времени, что в конечном счете отлились в символах своей культуры, тем самым давая начало новому витку развития словесных смыслов. По-видимому, и от нашего времени останутся только законченные символы, тогда как всякое отработанное конкретное понятие — наиболее хрупкое порождение формы познания в слове — исчезнет. Из этого следует, что во все времена существовал этап понятийного мышления, и всякие разговоры о «дологическом мышлении» являются измышлениями. Важно также подчеркнуть неслучайность терминов, выбранных для именования последовательных этапов в процессе приращения смыслов слова. Они значимы уже по своему первосмыслу. Заметим и грамматические признаки: образ — чего? символ — чего? но понятие — о чем? Концепт вообще не сопровождается никаким вопросом, ибо он — точка отсчета и завершение процесса на новом витке семантического развития живого в языке. Концепт — резервуар смысла, который организуется в системе отношений множественных форм и значений: «закругленные объемы» Г. Шпета, «принципиальное значение» А. Лосева, «туманное нечто» С. Аскольдова, «вневременное содержание» С. Франка и пр., включая сюда и целую серию описательных выражений, представленных в «Логическом анализе языка» («конвенциональные ментальные образы» и т.п.). Все они метафорически выражают «внутреннюю форму» А. Потебни, представляя собою попытки открыть и тем самым объяснить неясное содержание концепта. Сам концепт не имеет формы, ибо он и есть «внутренняя форма»; поэтому в рамках формальной школы так трудно отказываться от попыток заменить концепт его вторичными продуктами, прежде всего — образом, но также и логически определенным (и потому удобным для наблюдений) понятием. Концептум есть тот самый «зародыш» божественного Логоса, архетип мысли, который не задан, а дан, но постоянно изменяет свои грамматические и содержательные формы, прежде всего — образные. Образ — концепт, уже «врезанный» в первичную форму (этимологическое значение термина «образ»[49]), получивший предварительную форму воплощения, ставший явлением и давший первое приближение к основному значению, своего рода семантическая синкрета,[50] которая либо развернет затем серию семантических специализированных значений в словообразовательных вариантах, либо путем накопления значений преобразуется в качественно новую содержательную форму — в понятие. Понятие — «схваченное», это не концептум, а концептус; слово на время становится термином, т.е., в соответствии с этимологией слова «термин», границей, по которой проходит точность обозначения в массе расплывчатых синкретичных образных признаков. Символ, в отличие от концепта, не дан, а задан, он сам по себе референт, создающий известную иллюзию удвоения сущностей. Он создает культурную среду с возвращением в национальные формы сознания, но обогащенного рациональностью содержания. Разрушение символов национальной культуры, уже не способных подпитывать концепты национальной же речемысли, — вот опасный предел развития слова. До этого момента все ясно. Движение смысла от «зародыша»- концептума через образ-подобие и концептус-понятие к символу идет круговым вращением у́солонь, «против солнца», сопровождаясь сопротивлением среды, материала, антипатий, враждебности со стороны других культур, понятий и языков. Творчество нового вообще возможно только в борении с косностью традиции и обыденности, тем более это относится к содержательным преобразованиям Логоса. Без такого сопротивления среды приращение смыслов останавливается, прекращается, сам процесс омертвляется, культура выдыхается, как старое вино в забытых подвалах. Сопротивление необходимо, чтобы было на что опереться, от чего оттолкнуться, с чем сразиться, оживляя застоявшуюся кровь. Но правда и в том, что в конечном счете необходимо преодолеть все возникшие препятствия и добиться победы, т.е. сохранить национальные формы речемысли. Если слово-знамя (т.е. образное слово) не останется пустым словом-знаком на уровне термина, обслуживающего понятие, оно непременно должно вернуться к слову-имени, к исходной точке движения, т.е. подтвердить свое национальное своеобразие в имени собственном[51], доказывая тем самым, что и в новых условиях существования данный язык способен не только исполнять функцию передатчика известной уже информации, но также и остаться средством творческого постижения нового. В современных условиях именно эта проблема становится социально важной, поскольку появилось множество способов разрушить национальное своеобразие глубинных языковых систем[52]. Можно догадываться, что и развитие самого языка, прежде всего — литературного, и осмысление этого процесса способствовали постепенному усложнению рефлексии о слове как концепте речемысли. Это также особая тема истории языка, к ней необходимо обратиться как к источнику достоверных сведений о развитии процесса, источнику, способному дать информацию изнутри самого процесса: последовательность восприятия слова как имени — знамени — знака, а также постоянное развитие философской мысли (аристотелевский реализм в переводах и компиляциях Иоанна экзарха — неоплатонические идеи в переводах Дионисия Ареопагита — обоснование роли словесного символа в философии Григория Сковороды). Невозможно представить, как это обычно говорят, что средневековая культура — культура символа, а современная нам — культура понятия (следовательно — и термина). Во все времена были и «понятия», и «символы», и нет науки, пользующейся словесными средствами языка, которая не учитывала бы все три уровня манифестации концепта. Нет, дело в другом. Дело в несовпадении различных уровней постижения знака в его отношении к разным сферам бытия и развития. Этические, например, концепты достигли уровня понятия и даже символа, а онтологические пребывают еще в образной ипостаси. Ипостась — не рамка, не контейнер, не обличие — это сущность в ее максимально отвлеченном от частных признаков виде. А сущности могут пребывать совместно и в одно время, подобно тому, как в словарной статье одновременно даются словарное значение (= понятие) и многочисленные образные значения. Отсутствие теоретических разработок приводит к возможному смешению всех указанных ипостасей слова, а пренебрежение исторической перспективой семантического развития слова усложняет решение чисто практических задач словарной работы. Итак, в каждый данный момент важна культурная установка на определенную ипостась слова, и в этом смысле средневековая культура вовсе не символична по преимуществу. Как и всякая культура, основанная на языке, она вербальна, хотя для нее и характерна особая внимательность к потенциям слова, поскольку именно в средние века в словесном знаке прорабатывались сначала признаки денотата (метонимические переносы уточняют объемы понятий), а затем и сигнификата (в метафорических переносах уточняются и вырабатываются признаки содержания понятий) с исторически очень важным моментом совмещения денотатов и сигнификатов[53]. Как ясно из предыдущих тезисов, сам факт сознательного выделения и расчленения образа, понятия и символа в одном и том же словесном знаке как форме их совместного проявления предстает перед исследователем как конечный результат развития исходного концепта, как глобальное смещение перспективы коллективного «co-знания». В своей совокупности все такие содержательные формы и создают типичные формы и способы познания на основе уже сложившихся форм речемысли. Культурная среда развивается так же, как и природная. Законы ее постижения необходимо устанавливать, исходя из сущностных характеристик самого объекта, не навязывая ему чужеродных схем. «Истинный предмет наших рассуждений — внутренняя жизнь, а не лингвистика», — писал П. А. Флоренский[54]. Да, не лингвистика, но — языкознание. Язык в этом случае предстает как единственная реальность, которая сопровождает и оформляет развитие смысла от начала и до конца. Поскольку концепт — та грань, где концы и начала сходятся, аналитически очень трудно бывает разграничить исходную точку движения и конечный результат развития; такие точки накладываются друг на друга, создавая новые качества, в которых — залог продвижения вперед. В том числе и для языкознания. Все преходяще, но слово живет; именно слово отправилось в путь, чтобы в формах речи и текста вернуться к себе самому.
МЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКОГО СЛОВА В ЯЗЫКЕ И В ФИЛОСОФСКОЙ ИНТУИЦИИ
1. Определение ментальности затруднительно по причине слабой разработанности самой проблемы. Как обычно бывает, новый термин вызывает смутные представления и субъективно осознаваемые образы, которые сразу же становятся символом для определенной точки зрения или научной школы и только со временем могут получить характер понятия, которое требует логического определения. Понятое определение становится заключительным моментом развития научного представления, адекватного соответствующей сущности вполне осязаемого явления. В настоящее время до этого состояния еще очень далеко. Ученые, обращающие внимание на ментальность, обычно сторонятся уже наработанных предшествующей наукой объемов понятия и особенностей его содержания. Они представляют дело так, словно именно они впервые ставят проблему и решают ее — в угодном им направлении. Например, они забывают о В. фон Гумбольдте, а у нас — о А. А. Потебне, и забывают, главным образом, потому, что полностью исключают из рассмотрения ментальности проблему языка. Так, М. Барг толкует ментальность как «совокупность символов, необходимо формирующихся в рамках каждой данной культурно-исторической эпохи и закрепляющихся в сознании людей... путем повторения»; это одни и те же ключевые, т.е. онтологического характера, представления, которые образуют ядро господствующей идеологии, порождают повседневные представления («мыслительные стереотипы»)[55]. По мнению А. Гуревича, «ментальность — уровень индивидуального и общественного сознания... магма жизненных установок и моделей поведения, эмоций и настроений, которая опирается на глубинные зоны, присущие данному обществу и культурной традиции... не какие-то вполне осознанные и более или менее четко формулируемые идеи и принципы, а то конкретное наполнение, которое в них вкладывается — не „план выражения”, а „план содержания”, не абстрактные догмы, а „социальную историю идей”»[56]. «Mentalite означает нечто общее, лежащее в основе сознательного и бессознательного, — продолжает М. Рожанский, — логического и эмоционального, т.е. глубинный и поэтому труднофиксируемый источник мышления, идеологии и веры, чувства и эмоций. Mentalite связано с самыми основаниями социальной жизни и в то же время своеобразно исторически и социально, имеет свою историю»[57]. С этой точки зрения и понятие «менталитет» взято взаймы на Западе, представляет собою моду и скоро отомрет. Такие авторы понимают ментальность как психофизическую социальную силу, почти брутально сосредоточенную в социальном организме народа, русскую ментальность они обычно и описывают фактически одними отрицательными характеристиками как «человеческую стихию» или «переживание стихии как сущности русской души» в «архетипе произвола»[58]. Такова обычная для научной публицистики «актуальность» положений, лишний раз доказывающая, что продуктивное понятие ментальности стремятся приспособить к сиюминутным потребностям политической борьбы с «Памятью» (Гуревич), со «сталинизмом» (Рожанский), с мессианизмом «русской идеи» и т.п. Биологическая сфера коллективного подсознания с выходом в социальное пространство действующей идеологии — причем определенно классового характера (М. Барг) — вот что такое ментальность с точки зрения таких исследователей загадочной русской души. В конечном счете, ментальность в подобных определениях полностью сливается с ее пониманием как «функционально порождающими (прегнантными) структурами и до-предикатным, предпонятийным мышлением»[59] на уровне инстинкта — чистый образ в строгих покоях желтого дома. Между тем ментальные «архетипы» складываются исторически, идеал ментальности — не сиюминутная идея социального наполнения. Трудно судить о чужой ментальности, не укореняясь, например, в духовном пространстве его языка. Складывается впечатление, что громче всех о ментальности говорят люди, утратившие — при незнании своего языка — национальную идентичность. Ментальность — это миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях. Язык воплощает в себе и национальный характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в законченном их виде могут быть представлены в традиционных символах данной культуры. В русской традиции столь широкое понимание ментальности имело свой термин: духовность. Однако было бы ошибочным ментальность сводить только к совокупности устойчивых символов данной культуры. Словесный знак скрывает за собою самые разные оттенки выражения мысли (в смысле mens, mentis), и не только символы, но также образы, понятия, мифы и т. п. 2. Таким образом, мы устанавливаем основную единицу ментальности — концепт данной культуры, который в границах словесного знака и языка в целом предстает (как явление) в своих содержательных формах — как образ, как понятие и как символ. В этом случае под концептом понимаем не conceptus (условно переводится термином «понятие»), a conceptum ‘зародыш; зернышко’, из которого произрастают все эти содержательные формы его воплощения. Описание словарного материала по концептам национального менталитета является принципиально новой формой толкования слов: если воспользоваться терминологией Аристотеля, слово выступает материалом (материей) концепта наряду с содержательной ее формой в виде образа, понятия и символа (см. в настоящем сборнике: «Концепт культуры: образ — понятие — символ»). Исходя из известных характеристик словесного знака, можно определить основные признаки этих форм. Различные компоненты семантической структуры слова в аналитическом их распределении по признакам проявляются в зависимости от цели исследования по-разному. Денотативный аспект значения, т.е. собственно значение, предстает как отношение смысла к предметному миру вещей; прагматический — как употребление слова (его назначение); коннотативный — как отражающий «национальный колорит» (его созначение) и т.п. В принципе, только последний компонент становится целью ментального описания. Из различных типов значения слова: свободного номинативного, синтагматически связанного, окказионального или потенциального — в ментальном описании концептов важно последнее, как выражающее семантическую доминанту языкового знака, способную эксплицироваться и в необычных контекстных окружениях. Из различных функций слова как знака: номинативной (знак обозначает), коммуникативной (знак как средство общения), прагматической (как средство воздействия), сигнификативной (как обобщающий знак, как знак знака, т.е. символ) — для наших целей наиболее важной является последняя, поскольку именно сигнификативная функция значения связана с актуализацией национальных концептов в слове. Таким образом, основная задача ментального описания — выявление и формулирование семантической доминанты, не изменяющейся с течением времени, как основного признака в содержании выраженного словесным знаком концепта. Концепт выражает co-значения «национального колорита», т.е. все принципиально возможные значения в символико-смысловой функции языка как средства мышления и общения. Из основного определения следует, что концепт образуется и функционирует в силовом поле между значением слова и смыслом понятия, где значение слова — отношение словесного знака к содержанию понятия, его сигнификат, а смысл понятия — отношение объема понятия к референту. Определение концепта устанавливается на основе общерусских семантических корреляций, т.е. не ограничивается только литературным контекстом и тем более не создается на основе словарных дефиниций. Концепт как сущностный признак словесного знака грамматически может быть представлен (главным образом) в виде имени, выражающего обобщенный признак. Язык как форма деятельности предполагает постоянное возобновление концепта во всех его содержательных формах; исторически и системно это инвариант всех возможных его «значений», данный как отношение смысла слова к вещи. Функциональные свойства концепта суть: постоянство существования, т.е. развитие семантики слова с развертыванием внутренней формы слова до логического предела (символ или миф) в границах данной культуры; художественная образность, т.е. сохранение постоянной связи с производными по однозначному корню, в результате чего сохраняется семантический синкретизм значений корня как семантический инвариант всей словообразовательной модели, продолжается встроенность в систему идеальных компонентов данной культуры (показано А. А. Потебней на истории слова верста), общеобязательность для всех сознающих свою принадлежность к данной культуре, поскольку проявление концептов культуры в народном менталитете и составляет обыденное сознание среднего человека этой культуры. 3. Исходным моментом экспликации концепта в словесной форме является образное представление («первоначальное представление», в терминологии В. В. Виноградова); отсюда столь важной кажется интуиция философа и поэта, способного осознать и выразить адекватное концепту представление. В истории культуры роль национальной философии и поэзии весьма велика и никогда не будет неважной. Преследование национальных по идентичности восприятия философов или поэтов есть покушение на генную память народа и безусловно должно рассматриваться как одна из страшных форм геноцида. Обсуждения заслуживает вопрос о подделках («русскоязычная поэзия», суррогат «русской философии» в русскоязычной упаковке и пр.). Принимая во внимание особенности русского философствования (это философия образа, а не философия понятия): логика как форма знания, эстетика как форма познания, этика как форма самопознания, — можно определиться в традиционных для русской науки в типичных для русской ментальности образах (представлениях) и в обычных для русской культуры языковых символах, совместно отражающих ключевые категории национальной речемысли. Экспликация таких категорий в художественные образы и в философские интуиции основана на языковом сознании носителей данной культуры и представляет собой обширный материал для воссоздания глубинных структур русского менталитета. 4. Сузив свою тему до конкретного примера, возьмем в качестве такового концепты [честь] и [совесть], попробуем моделировать небольшой фрагмент русского мыслительного пространства в той мере, в какой он представлен в языке, и в той степени, в какой он определен (на основе того же языка) русской философской рефлексией: «Познание есть именование» (С. Булгаков). Нет, совсем не случайно с начала XIX в. русские писатели говорили (и с болью вопияли!) о кающемся дворянине с его «уязвленной совестью» и о разночинце с его «смущенной честью»[60]. Честь и совесть оказывались разведенными по социальным полюсам, определявшим границы различных этик. На переломе эпох обычно и происходит переоценка ценностей, тогда в силу вступает диалектически ясное противоречие: личная совесть или корпоративная честь осилит возникшее затруднение жизни? «Идея чести не всегда и не везде покрывала и покрывает всякого человека», как и «идея совести не брала и не берет под свою защиту всего человекаи тем более всякого человека», — заметил в начале века либеральный публицист, разбирая очерки Глеба Успенского[61]. Именно Успенский первый употребил ставшие крылатыми выражения больная совесть — «чувство собственной виновности, не уравновешенное сознанием правоты», и болезнь чести — «дело чести, не уравновешенное обобщающей работой совести». Чувство — и дело, сознание — и работа, виновность — и совесть. Долг чести и правда совести находятся в постоянном конфликте друг с другом, и линия фронта проходит через каждое человеческое сердце. Неопределенность и размытость в осознании концепта присущи художнику слова, на основе языкового знака и языковой категории построяющему образ, поскольку типичные признаки содержания понятия еще ускользают от его внимания и он не может их выразить в чеканных определениях понятия. «Схватить» понятие, поять его в его целостности по сущностным признакам — задача философа, а использовать полученное знание практически в виде готового символа, выявленного на основе идеальных признаков подобия, — обязанность идеолога (в широком смысле — от партийного до церковного, в любой ипостаси жреческой касты). Изучение ментальности в языке позволяет углубить семантическую перспективу слова вплоть до категориальной его сущности. Вот как понимает признаки чести писатель, вообще тонко чувствующий национальную русскую ментальность: «Странное дело! Этих четырех качеств — чести, простоты, свободы и силы нет в народе — а в языке они есть. Значит, будут и в народе» (Тургенев); сомнения в наличии «чести» в русском народе выражали многие писатели, ср., например, реплику Ремизова: «Но нешто много таких... для кого есть честь?» Действительно, понятие о чести для русского человека устойчиво сохраняет исконное представление (образ) о части, и притом части мирской; это не душа, но тело, однородная масса которого распределяется между достойными своей «чести». Часть- честь слишком заземлена. Являясь у-часть-ю, она не решает проблемы судьбы, не возносится в область высокого духа, именно поэтому «рыцарская честь и заменилась бухгалтерской честностью» (Герцен). Это известно давно, и уже первый наш философ — Г. Сковорода — в XVIII в. заявляет, что «цена и честь есть то же». Русская ментальность — противник жесткой модели, и потому в ее парадигме всегда присутствует возможность выбора: между радостью и коллективным весельем, между собственной правдой и абсолютной истиной, между личным горем и народной бедой... Точно так же обстоит дело и с честью: каждый человек кроме принадлежности к корпоративной чести владеет еще и личной совестью. Возможность выбора, перед которым стоит каждый, определяет степени его свободы, и когда говорят, что «свобода слишком неудобна для стихийного русского человека» (для него предпочтительна воля), по-видимому, просто имеют в виду, что свобода выбора ограничена для русского человека его совестью, которая — в нормальных обстоятельствах — не хочет, не может, не должна расширяться до необъятности чести, поскольку честью можно торговать, а совестью — нет, поскольку честью можно оправдать гораздо больше дурных поступков, вплоть до преступлений, а муки совести до этого не допустят. Другое дело, что исторические обстоятельства жизни сулили народу иную судьбу и участь: «... в России не свободна только русская совесть...» (Вл. Соловьев). Таким образом, при наличии только корпоративно-цеховой чести русская идея целостности как идеала гармонии и лада остается невосполненной. Устремленность к высоким формам бытия — к сущему, а не к его явлению, — в их внутренней цельности и рождает идею совести. Чистая совесть важнее чести, ибо лишь совесть знаменует «цельность духа и цельное ощущение действительности» (В. Муравьев), «испытание ценности лично через себя» (Н. Лосский). Совесть через Бога единит всех людей, опосредованное такое единение и порождает ощущение (не осознание, но чувство) соборности, на которой крепится и этика (личная мораль), и политика (мораль социальная, по определению С. Булгакова). Честь связана с ответственностью и представляет собою ratio экономики, а совесть — с этикой, что предстает как стихия долга, воплощенная в Логосе (С. Булгаков). «Совесть есть глубина личности, где человек соприкасается с Богом. Коллективная совесть есть метафорическое выражение. Человеческое сознание перерождается, когда им овладевает идолопоклонство» такого рода (Вл. Соловьев). Однако честность «не есть убеждение. Честность есть нравственная привычка» (Л. Толстой), которая внушается извне; может быть, поэтому «честность — западноевропейский идеал, русский идеал — святость» (Н. Бердяев). Честность — вообще начало мирское, честность не может стать идеалом, поскольку, являясь средством, не может быть целью. «Русский человек может быть святым, но не может быть честным» (К. Леонтьев), а в сопоставлении признаков, по которым святость и честь противопоставлены друг другу русским сознанием, русские философы выделяют соответственно крайности страсти в их противоположности «нравственной середине» («буржуазная добродетель» — К. Леонтьев), совестливость в исполнении обязанностей — «трудолюбивой сознательности», «отношение к другим» — самолюбивому эгоизму, внутреннюю свободу совести — «партийному рабству», бескорыстие и цельность духа — «вексельной честности» повязанного обязательствами западного человека: «работе совести соответствуют обязанности, работе чести — права» (Н. Михайловский). Но вот что «удивительно: история вся развертывается в два, собственно, ряда людей — истинных зиждителей всего ее узора: юродивых и полководцев. Вы поражены, вы спрашиваете: где же законодатели, дипломаты, политики? где, наконец, князья, цари? сословия, народ? Они идут, но не ведут» (Розанов). Ведут святые и герои, подвижники, свершившие подвиг. «Героическое начало — жестокое начало» (Н. Бердяев), и подвиг совершает — личность: демократически избранное или наследственное «местничество не признавало подвигов» (Ключевский), поскольку личный подвиг необходимо свершить, а зачем это делать, если у тебя есть деньги, знакомства или кулаки? «Жить своим умом и своим нравственным подвигом... отстаивать себя собственными внутренними силами» (Вл. Соловьев) не под силу сильному, неподвластно властному, потому что — не герой. Героизм вообще не «упорство силы», но совершение невозможного «по велению Божьему». Невозможная нынче вещь, несбыточная мечта. Побеждает «воззрение лакеев, для которых не существует героев не потому, что они не герои, а потому, что сами они лакеи», — эти слова Гегеля кажутся бессмертными. Ведь и вообще, даже «при социализме лакей не устраним, но только очень старательно прикрыт» (Розанов). Когда иностранец в XIX в. (Кюстин) утверждает, что «русские любят возводить своих героев в сонм святых», он явно чего-то не понимает, не делает разницы между светским героем и духовным святым, между вожаком и вождем, между честью и совестью. Этого не понимала и революционная наша интеллигенция, активно ломавшая многие корни русской ментальности. Отрицая личный подвиг и личную ответственность на основе совести и заменяя ее сознательностью «класса», такая интеллигенция каждый раз поднималась в напряженные моменты русской истории, в качестве героя представляя несчастненького и жалкого неудачника, как говорил М. Горький; воистину, в такой литературе «герои — не удаются у нас». Иван Грозный — герой в народном сознании, но интеллигентская литература всегда представляет его злодеем. Иногда говорят об «исходной, подлинной честности», с помощью которой русским «еще предстоит воспитать в себе национальный духовный характер» (И. Ильин), но и такая честность воспринимается как «живая воля к совершенству», когда цель важнее условий и причин; более того, это и не просто совесть, но «живая совесть как творческая энергия... энергия любви и воли, направленной на будущее и формирующей духовное достоинство личности — т.е. чувство предстояния, чувство задания и призванности и чувство ответственности» — «зовущая и укоряющая совесть» (И. Ильин). 5. В этом движении мысли рождается другая, производная от указанной противоположности этическая ценность: идея порождает идеал, и идеалом, образцом чести признается не герой, удостоенный чести, но святой как учитель совести. Варианты восприятия такой противоположности различны, вот один из них: «Гений и талант — дары священные, от Бога данные, значение их религиозное... Творчество гения — подвиг, в нем есть свой аскетизм, своя святость» (Н. Бердяев) — явная попытка и героизм свести к святости как основной ценности для русского сознания. Не Димитрий-герой победил на поле Куликовом, но Сергий Радонежский, святой. Таков этот «демонизм национальной гордости („чести”)», ставшей «высшим критерием жизни, даже выше любви» (С. Булгаков). Из общих признаков, выявленных философами, «совесть есть знание добра» (И. Ильин), поскольку святость доблестна, т. е. связана с тем же корнем *dob-, что и слово добро. Как благодать совесть противопоставлена закону чести, представляя собою «центральную силу, созидающую личность» (Шелгунов). «Конечно, совесть есть более чем требование, она есть факт» (Вл. Соловьев), поскольку внутренним напряжением воли постигает не истину, но ищет правду. Личная совесть важнее и сильнее корпоративной чести, как и совесть выше сознательности: только совесть диктует «безусловно должное» (Е. Трубецкой). Русская ментальность чужда представлению о совести как глубинно-бессознательной силе, от которой притом сокрыто сущее; это не личная творческая сила сродни интуиции, обслуживающей индивидуума (как полагают западные ученые), и тем менее она есть «рабская трусость перед мнением других» (Шопенгауэр), поскольку именно на цельности общей правды совесть и основана. Святость же есть символ совести, «путь к свету» (С. Франк), «внутренний путь духа» в душевном труде совести (Вл. Соловьев): «можно быть честным, мало быть добрым, нужно быть чистым, нужно быть святым» (Н. Страхов), хотя это движение к святости и оборачивается выходом за пределы человеческого, это — «уже не человеческое состояние» (Н. Бердяев), почему и является в лике святости со всеми присущими христианству предубеждениями (к науке, к разуму, к земному, к жизни вообще). «Святое есть непорочное; святое есть полная правда; святое — оно всегда прямо. Я не умею иначе выразить, как сказав, что святое есть настоящее» (Розанов), и сам «народ свят отраженною святостью другого высшего, что уже не есть этнографическая масса, а вечные абсолюты, над всеми народами стоящие; вечные звезды в истории. Ну... это совесть, это Бог» (Розанов). Кроме того, и святость — это гениальность особого рода: «Гении творили, но недостаточно были; святые были, но недостаточно творили» (Н. Бердяев). Святому всегда противопоставляется герой (С. Булгаков), который также свят, но свят вспышкой подвига, а не упорной самодисциплиной аскезы, покаянием и вечным служением идеалу. Возводя героя и гения в святые, поклоняясь ему, русское сознание продлевает мгновенье их подвига в вечность, подвиг превращая в подвижничество. Идеал святого воплощается во множестве подобных и становится бессмертным. Герой разрывает и разъединяет, святой — собирает и единит; герой всегда в единственном числе, святой создает соборность. Святой воплощает совесть, герой воплощает честь. Обе ипостаси важны, хотя и отражают различные принципы «образца» этичного поведения и действия. Материальность героической чести, проявленной как часть всеобщего, противопоставлена духовности святой совести, проявленной как всеобщность части. Мирская ипостась совести есть честь; духовная ипостась чести есть совесть. Русские философы призывали к гармоничному сочетанию чести и совести: «Русский человек должен выйти из того состояния, когда он может быть святым, но не может быть честным. Святость навеки останется у русского народа, как его достояние, но он должен обогатиться новыми ценностями» (Н. Бердяев). Современные моралисты «прямо провозглашают, что русский народный идеал требует личной святости, а не общественной справедливости. Личная святость тут, конечно, только для отвода глаз, а все дело в том, чтобы как-нибудь отделаться от общественной справедливости» (Вл. Соловьев). Еще и потому «русский народ оказался банкротом», что «у него оказалось слабо развитым чувство чести. Но не народная масса в том виновата, вина лежит глубже» (Франк). Вина в неразработанности концепта, за что отвечает интеллигенция. Однако если святость не наследуется, как не наследуется и гениальность (Н. Бердяев), значит концепт развивается? Действительно, рассматривая историческое развитие концепта (см. в настоящем сборнике: «Древнерусский святой»), мы неизбежно приходим к выводу, что его содержательные формы развиваются, что свидетельствует о мужании мысли и углублении чувства русского человека. Сегодня, возможно, вопрос стоит именно так: как это «в наши кошмарные дни», когда «совесть издохла» (М. Горький), достичь гармонии чести и совести, избегая стыда и срама? Быть может, синтезом с «третьей ипостасью»? Ведь кроме святости лика и совести личности есть у человека и третья идеальная ипостась — его лицо, его социальный уровень, ранг, его положение в этом мире. Лицо возвышается его достоинством (Вл. Соловьев), т.е. буквально со-стоянием: положением, собственно ценою, какую можно дать за физическое по природе лицо в его социальной ипостаси. Всякое достоинство чего-то стоит, особенно в форме самоуважения, которое в мещанской среде Запада «сделало из всякого простого поденщика и сапожника существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства» (К. Леонтьев). Но «нет ничего более противного русскому духу, чем эта поза, эта крикливость, эта риторика» (Г. Федотов) самоуважения, перерождающегося в самодовольство. Таково соотношение между честью-достоинством и совестью- святостью. Являясь идеалом, святость подпитывает совесть, готовя каждую личность к подвигу. И не сиюминутный интерес, не эта выгода, не служенье чинам и лицам, но высокая духовная сила, завещанная предками. Забыть об этом — значит забыть о будущем. 6. Между тем, забыть легко. Забывается то, что не прошло через горнило ментальности. Один пример покажет, о чем речь. А. Д. Александров склонен совместить в одном представлении честь и совесть: «...наряду с совестью как главной моральной силой можно указать еще честь, выражающую соответствие некоторому стандарту. Но можно отнести честь к совести»[62]. С одной стороны — честь как норма совести (закон, а не благодать), с другой — полное их совпадение в сознании современного философа. Перечисляя признаки личности (которую формирует именно категория совести), академик указывает на все характерные черты чести («руководящие принципы иерархии ценностей»), как бы окутанной сознанием стыда: «Внутренняя моральная сила, направляющая действия человека и судящая его, — совесть; принадлежа самому субъекту, она выступает в нем как бы извне (т.е. теперь уже не как стыд, но как срам. — В. К.), в качестве судящей и понуждающей силы. А понуждение совести переводится в действие волей человека»[63]. Тут необходимо обратиться к языковым и текстовым примерам, чтобы показать внутреннюю противоречивость изложенной точки зрения. Личный стыд и общественное осуждение (срам, срамить), соединенные как идеальный образ-концепт в народной формуле стыд и срам, в исторической перспективе семантического развития был снят заимствованным из Апостольских посланий Павла представлением о «совести»[64], отличающейся от «сознания» западноевропейской модификации этого греческого термина (conscientia). Западноевропейской сознательности соответствует русская совесть — со всеми вытекающими отсюда особенностями национальной ментальности; об этом не раз говорил и Вл. Соловьев. Сознательность ближе к чести, резко отличаясь от совестливости духовно высокого человека. Честь всегда остается на уровне того, что можно сосчитать и вычислить, что можно распределить между другими, подчиняя их тем самым себе (честь и слава). Не прибегая к дальнейшим сопоставлениям лингвистического характера как хорошо известным и на уровне словообразовательном, и на уровне фразеологическом, вернемся к толкованию, данному А. Д. Александровым. Это толкование, смешивая стыд с совестью и совесть подменяя честью, исключает всякое подобие духовного компонента святости в понимании совести. 7. Итак, основания для означенной подмены все же имеются. Философ не виноват, что жизнь предъявляет ему свой счет. Подмена объясняется вторжением в эквиполентную оппозицию честь : совесть третьего лишнего: социалистическая сознательность как раз и была объявлена искомым синтезом личной совести (= языческому стыду) и коллективной чести (= соборному сраму). Сознательность в этом случае есть «умение, способность правильно понимать окружающее, определяющие поведение человека, его отношение к действительности; чувство долга, ответственности» (БАС, т. 14, с. 163). В выделенных нами словах определения, приведенного в академическом словаре, выражены все признаки нового «чувства отношения к миру» как способности или умения — диалектическая связь идеи (понятия: как понимать) одновременно и с реальностью вещного мира (окружающее как объект, действительность в действии), и с выражением его в языке, в способности дать ответ, в ответственности. Слово сознательность известно с середины XIX в. (1847), а сознание — с начала того же века; понятие о сознании восходит к новой кальке с того же греческого слова, что и славянское совесть, через посредство латинского con-scientia = со-зна-ние, связанное с рассудочными представлениями католического мира, с западноевропейским ratio. Таким образом, сознательность есть о-со-знание наряду с сознанием совести и знанием чести. Сознательность есть чисто номиналистическое представление о новом синтезе совести и чести (на фоне «первого синтеза» — стыда и срама), представление, возможное только в общественной среде (в коллективе, а не в соборности), исповедующей в качестве исходной точки всякой рефлексии материализм как отражение вещного мира. Понятие о сознательности заканчивает формирование важного фрагмента народной этики в полном соответствии с присущей нашему сознанию трехмерной корреляцией по признакам физическое — социальное — духовное: сознательность — честь — совесть, т. е. в другом измерении, данном как образец (парадигма) живот — житие — жизнь или, как мы уже видели, лицо — личина — лик. Совесть достоверна в идее, честь — в слове, сознательность — в деле. Здесь есть из чего выбирать, и выбор становится оправданием жизни для каждой личности: действительно полноценная жизнь, житье-бытье или просто животное прозябание. 8. В обществе, о котором мечтают все люди, в обществе действительно равных, действительно свободных, действительно честных по благодати, а не по закону, в таком обществе господствует личная совесть. Если этого нет, если участь своя и «своих» важнее общего блага и каждая часть общества хлопочет о собственной выгоде, там, разумеется, забывают о совести, там ее попросту нет, там процветает цеховая честь. Так понимает это русская мысль в рефлексии философов и русское чувство в сердце каждого; мысль и чувство, живущие между земным и небесным, между тленным и духовным, между бытом и бытием. Согласовать видимые эти противоположности в собственной душе — и значит осознать сущность русской ментальности. «Но мы ждем, когда, наконец, перебирая полученный от предков инвентарь, примеряя на свои плечи царские и дворянские мундиры, новые люди наткнутся на этот побочный продукт старой роскоши — русскую совесть. А наткнувшись, задумаются: не удовлетворяла ли эта, столь основательно забытая ими, „гнилая” совесть какой-либо чрезвычайно важной социальной и национальной потребности?» Этими словами Г. Федотова и закончим наше размышление, поскольку вопрос обращен ко всем нам.СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА И ПРОЯВЛЕНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО ФОНА
Язык представляет собой саморегулирующуюся систему с тенденцией к постоянной перестройке семантических отношений в наличных формальных единицах. Все время происходит своеобразное «перетекание» значений от одного слова к другому, порождение новых словообразовательных единиц, вбирающих в себя частные значения прежде многозначных слов, но самое главное — в соответствии с основными тенденциями данного языка происходят постоянные перенесения значений наличных слов, что вызывается непрекращающимся процессом общения во все новых и новых социальных и культурных условиях. Без преувеличения можно сказать, что и сегодня русский язык, используясь как язык межнационального общения, получил качественно новое состояние, стал совершенно «другим» русским языком, чем он был, например, полвека назад. Постоянное повышение семантической емкости языковых знаков в результате подобных социолингвистических перестроек грозит нарушить коммуникативные возможности языка обилием лингвистических фактов, которые приходится изучать в процессе и научного, и практического овладения языком. В этом смысле реальная противоположность, существующая между двумя функциями языка — дискурсивной (т.е. речемыслительной, связанной с процессом коммуникации, общения) и кумулятивной (т.е. «накопительной», связанной с отражением в языке процессов познания), достигает предела, а фактическая избыточность лингвистической информации превышает возможности оперативной памяти человека[65]. Многочисленные «значения» одного слова, иногда реально и не засвидетельствованные, но потенциально возможные, представленные редкими случаями употребления в тексте, буквально переполняют словари, с которыми приходится работать. В подобной ситуации особенно трудно справиться с языком иностранцу, который тонет в море частных или переносных значений одного слова. Вместе с тем было бы жаль лишиться этого обилия «значений», как их понимают наши современники (наши предки понимали их совсем иначе, а для потомков они станут предметом чисто исторического изучения), — ведь именно эти значения способны отразить длительный процесс познания, его этапы и те затруднения, с которыми сталкивался язык в своем стремлении адекватно отразить творческие потенции человеческого коллектива[66]. Возникает задача определить тот предел семантического варьирования, за которым кончается коммуникативная целесообразность и начинается изощренная тонкость лингвистического анализа. Действительно, довольно легко частные «значения» слова свести к инвариантному, основному, от которого и следует отталкиваться в речевом общении и в процессе изучения языка. Изучение языка прежде всего требует четкого осознания тех динамических тенденций, которые определяют возможности семантической перестройки; тех пределов, до которых возможно развертывание семантического содержания грамматической формы или слова; тех семантических доминант, которые составляют, как правило, общекультурное ядро национальной «речемысли» в ее отличии от подобных доминант в других языках. Назовем семантической доминантой (СД) основной признак (сему) в значении слова, который является инвариантным по отношению ко всем остальным признакам, постоянен во времени и устойчив под давлением контекста. Как правило, это исходное значение конкретного слова посредством переносов и разных степеней отвлечения признака постепенно формирует все новые, соответствующие данному общекультурному фону, значения. Ясно, что подобное изучение, прежде чем его результаты станут материалом преподавания, возможно лишь в исторической перспективе и в связи с историей народа, говорящего на этом языке длительное время. Типологические результаты тут могут быть получены только на путях исторического описания. И в этом смысле сами языковые факты, а не только созданные на этом языке тексты, становятся источником изучения национального сознания, характера и этических норм поведения. Узкометодическая направленность такого рода исследований оборачивается общетеоретической важностью типов познания. Ограничимся здесь рассмотрением нескольких слов основного фонда, обозначающих части тела (соматическая лексика, наиболее древняя и практически уже давно получившая чисто номинативное значение, лишенное различных коннотативных оттенков). Формально, по-видимому, эти слова не изменялись в русском языке в течение столетий, так что сравнением их значений можно обнаружить черты сходства/различия в развертывании СД эквивалентных слов различных языков. Так, СД слова голова является в русском языковом сознании представление о «верхнем» и «главном». В соответствии с этим в течение времени общее обогащение культурного контекста в некоторых литературных и бытовых текстах приводит к возникновению новых значений исходного слова. Сравнение, например, с современными западноевропейскими языками показывает, что для них в последовательном развитии СД эквивалентного русскому слова оказывается важным представление не только о верхнем, но и о переднем, не только о вершине, но и о напоре, давлении и т. д. (ср. англ. а head). В толковых словарях русского языка обычно представлены следующие значения слова голова: 1) ‘голова’; 2) ‘особа, лицо (личность)’ — метонимический перенос основного значения, целое по части; 3) ‘ум, разум’ (иногда в толкованиях конкретизируется содержание признака: ‘воображение, память’ и т.д.), т. е. умственные способности определяются как функция головы — перенос основного значения по функции, что ближе к метафорическим значениям; 4) ‘нрав’, т.е. нравственные качества, вытекающие из предшествующего значения, так что возникает новый метафорический перенос, который, кстати сказать, не отражается в других языках, в том числе и в ряде славянских; 5) ‘начальник, руководитель’, с метонимическим переносом; 6) ‘верх, вершина’ (например, голова горы — метафора по сходству); 7) ‘начало’ — в русском языке обычно начало реки, следовательно, и в данном случае голова, которая определяет все последующие свойства и функции явления (в Словаре Я. К. Грота столетней давности на основе цитат из С. Аксакова фиксируется значение ‘верх, передняя часть чего-то’ — тот же самый смысл, определяющий начало, источник чего-то); 8) ‘главная часть вещи’ или 9) ‘круглой формы вещь’ — это уже совершенно новые значения, связанные и с общим переносом по функции (голова человека — головка вещи) и с каким-то конкретным характером сходства (круглое, сконцентрированное в массе, особого местоположения по отношению к целому предмету и т.д.); внешним средством отсечения двух последних значений и стало новое слово, первоначально с уменьшительным значением, — головка. Посмотрим, как соотносятся с этими значениями слова в других литературных славянских языках. Два первых значения представлены и в польском, и в сербском языках (ограничимся ими), столь же обычно для этих языков и значение 5. Следовательно, метонимические переносы оказываются общими для родственных языков, они определялись и исходной семантикой слова golv-a, и общностью культурной традиции. Этимологические словари подтверждают этот вывод. Остальные значения из числа представленных на русском материале для разных славянских языков оказываются вторичными, внутренне не связанными друг с другом. Например, ‘волосы на голове’ в русском языке (Я. К. Грот) как вторичное значение слова голова дано вообще контекстно («у него голова не в порядке») и потому в последующие словари не включалось. Значение 4 в польском и сербском отсутствует, а значение 8 находим только в сербском языке. Поздний характер значений 3 и 4 подтверждается древнерусскими и русскими диалектными материалами. В русских говорах, взятых суммарно[67], кроме основного значения 1 определенно устанавливаем наличие значения 2: голова говорится о человеке, особенно при счете «по головам», ср. и устойчивые сочетания типа по головам пройти ‘снять головы, уничтожить’, с головы на голову ‘поголовно’. Также в русских говорах присутствует значение 5 — ‘глава семьи, хозяин’ и устойчивые сочетания типа валяй в мою голову ‘на мой страх, на мою ответственность’. Значение 6 в говорах представлено как основное для слова — ‘верхняя часть улья, дома, речного порога, возвышенной части острова’ и т.д., а также и ‘женская головная повязка’, которой в домашнем быту придавалось особое значение. Значению 7 следует уделить особое внимание, поскольку оно также дает представление о начале: в говорах голова — это место, где начинается озеро Ильмень, где находится начало оврага, начало дерева (комель), начало саней (передок, облучок), исток реки или ручья. Устойчивое сочетание в первую голову ‘в самом начале’ как исток всякого начинания указывает на то же значение. Это не передняя часть, как можно было бы подумать на основании современных общеевропейских представлений о начале как помещенном впереди, а именно главная, исходная часть. Это значение слова совпадает со значением 8 — ‘главная часть вещи’ (например, головки у сапог). Какие бы производные от этого слова мы ни взяли, в современном говоре каждое из них в качестве основного представляет значение ‘верхний’ или ‘главный’: ср. слова голован, головач, головяшка, головец, головешка, головизна, головица, головинка, головище и многие другие. Говоры также сохраняют в устойчивых сочетаниях и значение, с которым мы еще не сталкивались, но которое было в древнерусском языке: перед головой, быть голове — значит ‘не к добру’, ‘к смерти’. Действительно, уже в тексте «Правды Русской», сложенном в начале XI в., но отражающем, безусловно, языческую традицию, голова — ‘убитый’; отсюда и юридические термины головьникъ ‘убийца’ (так же и в современных говорах; ср. уголовник) и головщина ‘убийца; плата с головы’ (ср. уголовщина). По-видимому, это северославянское по происхождению значение: оно так или иначе отражено в старочешском hlava ‘убийство; штраф за убийство’, в старопольском glównik ‘убийца’, то же в кашубском и в украинском. Это значение не отмечено ни в каком церковно-книжном тексте, является исконно славянским. Значению голова ‘убитый, мертвец’ в церковнославянском противоположно значение ‘жизнь’. Голова ‘убитый’ связано метонимическим переносом со словом лобъ ‘череп’, т.е. ‘пустая, мертвая голова’. Такое значение отражено в мифологических представлениях славян, знакомых нам по мертвой голове сказок, или по Голове, с которой сразился Руслан; быти голове — быти лбу, т.е. мертвому. Судя по этимологии слова, первоначально слово голова — экспрессивное название шишки, опухоли, всякого нароста и находится в связи с представлениями о мертвой голове[68]. Столь древних значений слова нам не понадобится в нашей реконструкции. В отличие от литературного языка диалекты дают еще один круг значений, связанных с представлением о верхе, — лучший сорт какого-нибудь товара (головка), что-то отборное, высококачественное, по определению В. И. Даля — «отборный товар напоказ, верхи»[69]. Теперь мы определенно все значения слова голова можем свести к двум основным СД — ‘главное’ и ‘верхнее’:
Внутренняя противоречивость первого (голова — живой человек и вместе с тем мертвец) гарантирует древность этого значения. Последовательность развития всех остальных значений легко восстанавливается в результате исторического анализа. Прежде всего характерно разграничение мира человека (‘главное’) и вещного мира (‘верхнее’). По второй линии продолжается развитие семантики слова в русском народно-разговорном языке до такой степени, что и оценочная квалификация явления (а это обычно предел всякого семантического явления) сосредоточена в понятийном поле ‘верхнего’ и ‘не главного’. По линии же ‘главное’ определение основного, источника происходит по признаку действующего, живого, способного к движению — это исток реки, начало озера, оврага, передняя часть саней, изголовье постели и т.д. За пределами этой семантической линии, за идеей живого значение не задерживается и выходит на новый уровень номинации: функционально важная часть вещи называется головкой. От головы до головки — такова амплитуда действия данной СД. ‘Главное’ непременно связано с живым, действующим; это не результат в виде вещи, а постоянный процесс. В подобном развертывании СД не остается места для значений ‘ум’ или ‘нрав’. Чтобы определить источник появления этих значений, сравним два слова, одинаково распространенных в древнерусских текстах. Первое — голова: ‘голова’ — ‘глава, вождь’ — ‘человек вообще’ (как единица при счете, т.е. часть целого) — ‘мертвец’ — ‘вершина (чего-нибудь)’. В литературных текстах XII в. встречаются уже знакомые нам по современному литературному языку значения ‘ум, разум’ (в Киевской летописи, 1187) и ‘совесть, душа’ (в новгородском Софийском временнике). Происхождение этих значений целиком книжное, поэтому они то возникают, то надолго исчезают в фиксациях текста, они не откладываются на органической СД. Второе — глава: ‘голова’ — ‘глава, вождь’ — ‘глава, раздел, часть’ — ‘жизнь’. Русское и церковнославянское слова совпадают, как и ожидается, только в своем основном значении ‘голова’ и в значении ‘вождь, руководитель’. В остальном они не только не совпадают, но и выглядят диаметрально противоположными по значению. Впечатление такое, будто перед нами две разные традиции. Учитывая большое влияние греческих текстов на развитие старославянского языка, можно предположить, что и в данном случае семантика слова глава связана с семантическим давлением со стороны греческих текстов. Греческий эквивалент κεφαλή по разным источникам представлял значения: 1) ‘голова’; 2) ‘глава, вождь’; 3) ‘жизнь’; 4) ‘лицо, человек, душа’ (каждый в отдельности); 5) ‘толстый конец чего-то, головка’; 6) ‘верхний край’; 7) ‘исток, верховье’; 8) ‘насыпь, вал’; 9) ‘головной убор’, а также несколько философских понятий, вытекающих из основного значения слова и употребленных известными авторами, например, ‘итог, завершение’ (Платон) или ‘главное, сущность’ (Аристотель). Максимальная отвлеченность от конкретного представления приводит к прямо противоположному значению: у Платона речь идет не о начале, источнике, а об итоге, результате. В этом устремлении к своей противоположности заключается основная тенденция греческой СД этого слова. Славянские же языки, и русский в том числе, всегда остаются в строгих рамках заданной амплитуды семантического варьирования. Это первое отличие русской СД от греческой (или какого-то другого языка). Второе заключается в том, что сема ‘верхнее’ не развивалась в самостоятельную линию, отсекавшую предметность от живого (от действия). Др. рус. голова ‘деревенский староста’ и глава ‘заголовок в книге’ все-таки разные слова, потому что живое и неживое обязательно разделяется русским сознанием на две несводимые линии, ср. совпадение этих значений в греч. κεφαλή, из которого и возникло путем калькирования слово глава ‘заголовок’. Отчасти это связано и с большей отвлеченностью частных значений в греческом языке: ‘верх’ или ‘вал’ тут понимались достаточно широко как вершина (верхушка) в принципе любого предмета, без частных уточнений типа тех, которые до сих пор сопровождают употребление слова голова в русских говорах. Значения 3 и 4 в греческом слове особенно интересны, потому что посредством церковнославянского глава они проникают и в семантическую структуру русского языка в виде значений ‘жизнь’, ‘душа’, ‘совесть’ и т.д. Впоследствии, оставаясь на периферии СД, они все же обусловили появление поэтических представлений о голове как вместилище разума, души или совести. Обоснование этой части реконструкции потребовало бы привлечения многих средневековых источников, для нас же сейчас главное — установить вторичный, книжный характер указанных значений слова голова. Отсюда их искусственность и, в конечном счете, малая употребительность. Для русского литературного языка вообще характерно отстранение от многозначности слова; как только семантическое развертывание доминанты переходит границы данной (исходной) семы, образуется новое слово. Так, головня, головка, изголовье, голован, уголовник и др. — это образованные на общей СД новые слова. Столкновение русского и церковнославянского языков также не прошло бесследно, но и тут литературный язык «воспользовался» новой формой слова для выражения некоей совокупности значений: голова — ‘голова’, считать по головам, ну и голова, но глава государства, глава книги, главы соборов. Все остальные значения слова голова в литературном языке выступают в качестве второстепенных, производных, в известном смысле контекстных. Историческое развитие этих слов совершенно четко распределило их исходный семантический дуализм между ‘верхним’ (голова) и ‘главным’ (глава), между пространством (голова) и формой (головка) и т.д. В современном литературном языке положение таково, что семантика имени (= понятие) поддерживается и в своем развитии направляется семантикой производных лексем, ср. глава и главный, но голова и головной (т.е. верхний, направляющий), возглавить, но безголовость и т.д. Изучение русского языка, между прочим, относительно легко потому, что каждый новый фрагмент СД, давший некоторое отклонение в сторону, как бы отсекается каждый раз новым знаком, материализуется в самостоятельном слове, все более сужая «многозначность» исходной лексемы (которой, по-видимому, реально и не существовало). Иначе складывалось, как мы уже видели на примере английского слова, положение в современных западноевропейских языках. Англ. а head имеет более двадцати значений, ср.: ‘голова’ — ‘глава’ — ‘ум (способности)’ — ‘головка (верхушка)’ — ‘крышка’ — ‘высшая точка’ — ‘кочан’ — ‘пена’ — ‘изголовье’ — ‘исток реки’ — ‘мыс’ — ‘нос судна’ — ‘рубрика (глава)’ — ‘ударная часть инструмента’ — ‘давление (напор)’ и т.д. Все значения русского эквивалента голова представлены в этом перечне, и, следовательно, общая семантическая цепь обоих слов, на первый взгляд, кажется эквивалентной полностью. На самом же деле здесь имеются расхождения из-за несовпадения СД в обоих языках. Употребление английского слова не распространяется на область нравственной жизни (‘нрав’, ‘совесть, душа’ и т.д.). Это особая сторона жизненного процесса, и обслуживается она другими лексемами. Зато в отличие от русского слова в английском кроме представления о ‘верхнем’ имеется и представление о ‘выдающемся вперед’, о ‘переднем’. Это уже другой принцип развития СД, и он требует самостоятельного изучения. Другое дело, что англоязычный студент, приступая к изучению русского языка, своеобразно (и неверно) будет воспринимать значение рус. голова на фоне англ. а head, и такую разницу ему необходимо сразу же указать. По-видимому, отсутствие представления о ‘переднем’ в значениях русского слова голова определяется уже не только его СД, но и общей системой обозначений пространственных отношений в русском языке. Действительно, в этом значении употребительны (со всеми возможными переносными значениями) слова нос или лицо. Рассмотрим кратко значения этих двух слов в современном русском литературном языке, комментируя их с исторической точки зрения. Лицо — это прежде всего ‘передняя часть головы человека’, т.е. какая-то часть головы, и первоначально (в русских говорах и до сих пор) под передней частью головы понимали не лицо в целом, а наиболее выдающиеся ее части, например щеки. Нужно особо отметить, что чело (лоб) не входило в понятие ‘лицо’, потому что чело в этом смысле эквивалентно слову голова — верхняя, а не передняя часть. Лицо во втором значении обозначает наружную (переднюю) часть предмета, с этим связано и третье значение — ‘индивидуальный облик, отличительные черты’. В таком разбиении снова появляется необходимость разграничить живую (третье значение) и неживую (второе) природу, в обоих случаях обращается внимание на внешний вид, на что-то, что выделяет данную особь (или предмет) из общей суммы равнозначных. Метонимический перенос фиксирует особые приметы, переводя внимание наблюдателя с переднего на внешнее. Мы вообще говорим не о переднем (что само собой предполагается по основному значению слова), а о виде, образе рассматриваемого объекта. Впоследствии, после контактов с церковнославянским языком, в русском литературном языке для одного из значений стали использовать слово ликъ (ср. лицевая часть и личная часть). В древнерусском языке третье значение представлено целой серией заимствований из старославянского языка (полученных там путем переводов латинских и греческих текстов), ср. лицо — ‘маска, persona’ («трии же личеса и три собьства» в Изборнике 1073 г.), ‘цвет, краска’, которую накладывали на лицо, выделяя его из числа равноценных, «маркируя» его знаком, приметой лица; на этой основе и развивалось впоследствии значение ‘индивидуальный облик’, хотя и не без давления со стороны слова ликъ, которое означало совокупность, множество (однородных) лиц. Ликъ — это то, что соединяет индивидуальности в одно общее, нерасторжимое целое, делает лицо участником лика, — верный признак того, что в использующем подобные значения обществе еще нет представления об индивидуальной личности. Поэтому последнее значение слова лицо в современном литературном языке — ‘человек вообще, индивид’ — в древнерусском языке еще не представлено (но имеется юридический термин поличное ‘вещественное доказательство преступления’, ср. тексты Правды Русской). Таким образом, русская СД развивалась как ‘переднее’, ‘(внешний) вид’, как примета индивидуальности. В устойчивых старинных сочетаниях от лица, съ лица и др. передается идеяотталкивания от внешнего предела — это граница, а не движение вперед. Обращаясь к возможным источникам (латинским и греческим) семантического влияния на слово, мы сразу же обнаружим полное совпадение первых двух значений: и греч. πρόσωπον, и лат. facies в качестве основного имеют значение ‘лицо’ и ‘наружность, обличье, внешний вид’. Этот метонимический перенос по части характерен для любого индоевропейского языка и легко соотносится с древнейшими представлениями индоевропейцев о лице. Лат. facies ‘красивый вид, красота’ или греч. πρόσωπον ‘маска, личина’, а также ‘действующее лицо’ (в трагедии) соотносится с церковнославянскими значениями слова лицо (‘маска, краса’ и т.д.), однако, как мы уже видели, в дальнейшем развитие пошло по линии указаний на вид вообще, а не на красоту как примету внешнего вида. Внешняя красота, да еще искусственная, никогда не понималась славянами как собственно красота, так что никаких воздействий со стороны церковнославянского посредника античной традиции русское слово не испытало. Но и другие значения греч. πρόσωπον не оказали воздействия на славянскую СД, как ни велико было давление с этой влиятельной стороны. Лицевая часть головы птиц и животных не стала обозначаться словом лицо, как в греческом (для этого всегда использовалось слово чело), и т.д. Более того, метафорический перенос ‘(внешний) вид’ — ‘поверхность’, характерный для латинского и греческого языков, никак не отражен в современном русском языке — в отличие от европейской традиции, ср. англ. a face ‘лицо’ — ‘внешний вид, фасад’ — ‘поверхность’ (например, циферблата у часов). Отсутствие метафорического переноса — характерная особенность русского слова, дополнительно подтверждающая, что развитие СД слова прекратилось достаточно давно, может быть, в связи с тем, что само это слово (в отличие от слова голова) воспринималось как высокое, книжное. Действительно, в русских говорах ему часто соответствует другое слово, например скулы, щеки и т. д. Сравнение СД этого слова в сербском и польском еще раз подтверждает, что семантическое развитие славянского слова лицо определялось церковно-книжной традицией. В сербском, литературная традиция которого параллельна русской, общие значения слова совпадают со значениями в русском литературном языке. В польском языке, не попавшем под влияние древнего церковнославянского, отмечается ближайшее совпадение с развитием СД в русских говорах и вообще в разговорном языке. Указанной выше последовательности значений в польском нет, и каждое значение, которое мы воспринимаем как определенный этап в развитии СД, представлено отдельной лексемой, ср. osoba ‘лицо’, oblicze ‘облик, вид’, twarz ‘отдельный человек’, przednia strona ‘лицевая сторона’ (но грамматический термин лицо совпадает со словом osoba). Слово lice в польском языке является книжным, поэтическим, эта форма мн. числа, по существу, передает значения (устаревшие) ‘лицо, ланиты’ (т.е. щеки), ‘облик, облицовка’; в форме ед. числа lісо и ‘лицо, лицевая сторона’, и вместе с тем ‘вещественное доказательство’ (устаревшее значение), что подтверждает исходное значение этого слова как родственного восточнославянскому поличное. Развитие СД определяется общностью культуры, в том числе и развитием литературной традиции. В какой-то момент общеславянское развитие СД слова лицо в польском было пресечено новыми фактами, и само слово «рассыпалось» вместе со всеми своими потенциальными возможностями. Теперь, чтобы не множить примеры, рассмотрим еще одно слово, связанное с тем же представлением о выдающемся вперед, — нос. Чрезвычайная стилистическая выразительность исключает его из активного семантического развития, последнее характерно только для стилистически нейтральных слов. Тем не менее кое-какие наблюдения можно сделать и в этом случае. Греч. ρίς лат. nasus — ‘нос’ и ‘обоняние, чутье’, может быть и ‘нюх’, потому что латинское слово иногда выступает в значении ‘остроумие, насмешливость’. Даже передняя часть корабля называется особым словом (в греч. πρωρα, т.е. собственно ‘начало чего- то’). Никаких переносных значений в греческих и латинских словах не отмечается; то же в старославянском и древнерусском языках. В современном русском литературном языке это — ‘орган обоняния’ — ‘клюв птицы’ — ‘передняя часть (лодки, судна)’ — (разг.) носик ‘о выступающей передней части какого-нибудь предмета’ — ‘мыс’. Англ. a nose добавляет сюда ‘носик, горлышко, рыльце’ и т.д. (ср. рус. носик), ‘передняя часть мелкого предмета’ (ср. рус. носок) и др. Таким образом, в русском языке нос — только выдающаяся вперед часть лица, развитие СД слова пресечено не слабыми потенциями самой доминанты и не давлением системы эквивалентных слов (что легко доказать сопоставлением с другими словами данного ряда), но его отмеченностью как стилистической категории лексики. Возвратимся теперь к основным словам нашего перечня и попытаемся определить ведущие направления в развертывании их СД. Оказывается, что голова — верхняя и, следовательно, главная часть чего-то, а лицо — передняя и, следовательно, внешняя часть чего-то. Поскольку эти два слова постоянно взаимодействуют друг с другом на всех этапах развития понятий, они как бы отталкиваются друг от друга, предопределяя тем самым границы активного семантического варьирования. В русском языке невозможно развитие значения ‘передний’ у слова голова, потому что в этом случае мы вступили бы в пределы другой СД. По той же причине главная и внешняя стороны явлений, предметов или лиц никогда не совпадают в русском сознании и, говоря, например, о внешней стороне дела, русский всегда будет допытываться о содержании главного, о сути этого дела. Так было всегда, и всегда это определялось границами двух СД. Ср. приведенную выше цитату из Изборника 1073 г. — тысячелетней давности фиксацию подобного различия: личеса, т.е. внешние маски, противопоставлены собьствам, т.е. внутренней сути. Если что-то имеется налицо — оно предстоит своим внешним проявлением, не больше. От лица, перед лицом, лицом к лицу, в его лице, на одно лицо, не взирая на лица, товар лицом и т.д. — во всех этих случаях подразумевается внешняя граница чего- то в первый момент предъявляемого — как внешний признак, но не внутреннее свойство. Таким образом, опуская подобные тонкости восприятия словоречи, невозможно понять изучаемый язык. Объяснение исходной СД следует искать в общей системе семантических противопоставлений современных литературных языков, а также и в общекультурном контексте, который кристаллизует указанные выше расхождения. Разумеется, невозможно до бесконечности углублять временную перспективу развития СД, потому что в конечном счете, на самом пределе возможной реконструкции, возникнут мифологические представления данной национальной традиции, которые сегодня могут показаться устаревшим балластом, хотя, тем не менее, именно они внутренне организуют общую для языка систему СД. Проявляется это особенно четко на архаической лексике: англичанин небольшие пространства измеряет ногою (foot), а русский — всегда рукой, посредством осязания (пядь, вершок, сажень). Но даже там, где подобные ограничения не лежат на поверхности, направление национального предпочтения всегда легко установить в результате исторического анализа. Например, как в нашем случае: легко заметить постепенную субстантивацию древних предлогов, ограничивавших пространственное распределение предмета, — под, зад, перед стали именами существительными, материализовавшими в конкретных понятиях завершенность данных границ — нижней, задней и передней; предлог на не субстантивировался, потому что и в других отношениях известно, что верхняя граница предметности не была закрытой, законченной, завершенной. Вот причина столь гибкого и разветвленного варьирования слова голова, но строгой замкнутости слова лицо. Вывод, который определяется проведенным сравнением, связан с влиянием культурной традиции одного народа на другой. СД русского слова голова нередко повторяет семантическое развертывание греческого эквивалента; хорошо известно, что многие значения этого слова были перенесены на старославянское глава, а затем и на русское слово голова. Однако эти переносы были мотивированы собственно славянской СД, поэтому некоторые значения греческого слова не восприняты в русском. Вообще история слова голова заключает в себе постоянную борьбу двух семантических тенденций, которые отражают пересечение двух культур: языческое голова как ‘человек’ и христианское глава как ‘душа’. Для первого слова характерны и значения ‘убитый, мертвый (человек)’, для второго — всегда ‘действующий, одушевленный, руководящий (человек)’. Церковная традиция не преодолела славянскую, потому что общим представлением о ‘голове’ и осталась идея о замкнутом, предельном, не развивающемся верхнем и главном. СД, отражая общекультурные традиции, является наиболее устойчивым элементом значения. Это — концепт национальной культуры. Интересной оказывается и последовательность в развитии переносных значений слова (также отражает последовательность в развитии человеческого мышления): метафорические и метонимические значения развиваются не одновременно и как бы откладываются СД в последовательном развитии ее значений. Важно также, что внешнее сходство не становится в центр внимания, соответствующие переносы оформляются новыми словами. Амплитуда семантических колебаний ограничена переносами сначала по функции, а затем и по смежности (никогда не развиваясь еще до отношений причинности) и притом для передачи внутренне существенных, категориальных свойств исходной модели (голова). Таким образом, из ряда возможных объяснений в нашем случае следует предпочесть общность культуры, которая в системе развития вторичных значений определяет направление изменений, и общность системы, которая обусловливает вневременную стабильность СД, и общность исторических переживаний, которая вырабатывает центробежную для данного языка динамическую тенденцию развития. Осознание всей совокупности такого рода фактов на фоне общекультурного контекста, несомненно, повысит разрешающую силу в изучении семантической системы языка.
Postscriptum. Недавно дана философская квалификация нашего концепта — в рамках языка философии.[70] Посмотрим, чем такая интерпретация отличается от сделанной в рамках философии языка. Иронически высказываясь о современном номинализме — научной лингвистике XIX—XX вв., без ее дифференцирования по школам, и утверждая ее полную бесполезность, прежде всего в истолковании ментальных действий в языке, сам автор, мало того что смешивает знак-лексему со «словом-логосом», высказывает и удивительные познания в этимологии. «Голова называется в разных языках горшком... Наше слово „голова” не имеет однозначно установленной этимологии, но состоит в загадочном звуковом, ритмическом и метрическом сходстве со словами короб, череп, греч. κύπελ- λον ‘сосуд’, лат. gubbelus тоже сосуд, средневерхненем. kubbel опять какой-то сосуд...» (с. 63 — следует рассуждение о черном юморе и нелогичности древнего сознания). Затем появляются собственные автора семантические сближения: «В самом деле, голова горшок вовсе не только по внешнему сходству, но прежде всего потому, что она варит»; переработка сырого — всегда связана с тем, что́ варит, вот и «котелок варит», ведь «в каком-то важном смысле вся культура стоит на превращении сырого в вареное», так что возможностей для появления «жареных фактов» сколько угодно; однако какой же именно горшок варит? — ясно, что тот, в котором подают пьянящие священные напитки (бокал, кубок... рюмочка). «Так в голове горшке, голове чаше просвечивает новый смысл: голова — священный сосуд или сосуд с пьянящим напитком, как и ум — то в человеке, что способно к экстазу, восторженному безумию» (с. 65). Философствование в духе Хайдеггера продолжается, «уводящие коридоры смысла мерещатся как в сновидении» (с. 65); вот и слово «человек» оказывается близким по смыслу к слову «голова», на том основании, что в древности счет людей «велся по головам». Так выстраивается ряд: человек — голова — черепок, не столько наблюдение над смыслом слов в их потаенной ментальности, сколько образы из «стихии сна» (с. 66). «Язык дерзко замахивается на раскрытие сути» (с. 67) — и это верно, однако эту суть надлежит усматривать в действительном смысле слов, в их историческом движении по текстам. Интуитивные озарения тоже несут профессиональный отпечаток «ментального действия».
ИЗУЧЕНИЕ СИНОНИМИИ В АСПЕКТЕ МЕНТАЛЬНОСТИ
Трудность иностранного языка особенно заметна в представлении синонимических различий. Синонимы воспринимаются либо как чрезмерное усложнение разговорного языка, либо как избыточная информация о реалиях (референтах), в которой якобы не нуждается иностранец, изучающий данный язык. Разумеется, на разных стадиях овладения чужим языком и отношение к его лексическому составу может быть различным, однако непременно наступает момент, когда основные сведения о языке получены, беглое владение им в бытовом общении освоено, а пассивное восприятие синонимов в беллетристике уже не удовлетворяет — не отражает свойственных художественному тексту глубины и движения образной системы языка. В таком случае необходимо серьезно приступить к изучению синонимии данного языка. В отличие от многих других языков, русский язык чрезвычайно богат синонимическими рядами, что иногда трактуется как особая сила и как богатство языка (Л. В. Щерба); причины такого богатства хорошо известны. Так сложилось исторически, в результате столкновения самых разных по происхождению равнозначных (но не эквивалентных) лексем сначала в пределах одного жанра, а затем и в границах «общего» литературного языка, т.е. объясняется еще и стилистически. Историческая конкретность стилистического средства — главное в проблеме синонимии также и в преподавании иностранным учащимся. Только включение слова в точку пересечения трех координат — семантика (значение слова в контексте), стилистический ранг и историко-культурный комментарий — может способствовать наиболее эффективному и ускоренному обучению синонимическим рядам современного литературного языка. Сложность изучения на эмпирическом уровне определяется, таким образом, тем, что в семантическом плане синонимия ближайшим образом выражает системные связи языка, в стилистическом — обязательно связана с конкретным контекстом (важны и правила сочетаемости), а в историческом — нуждается в полном отчуждении от контекста, что требует развернутого историко-культурного комментария. Внутренняя несводимость всех указанных компонентов усложняет практическую работу с синонимами. Уже эта (весьма предварительная) постановка проблемы показывает, что исходным в методике подачи синонимии развитого литературного языка лежит внимание к слову в тексте, понятому в лингво-культурологическом аспекте. С самого начала необходимо ограничиться рамками литературного языка (с разговорными вариантами, фиксированными в словарях), потому что включение просторечия или жаргонов (а также исторически маркированных лексем — архаизмов и т.д.) бесконечно расширило бы материальную базу этой проблемы. Здесь предлагается ряд разнообразных приемов, которые позволят яснее понять саму проблему, а затем и перейти к обобщениям принципиального характера. Для начала воспользуемся интернациональным рядом внешне подобных форм, так или иначе связанных с осмыслением мира и его объективных закономерностей: мировоззрение, миросозерцание, миропонимание, взгляды, воззрения. В современном русском литературном языке две последние формы неупотребительны, являются разговорными. По существу они вторичны в отношении к первым трем, сложным словам (семантическая компрессия посредством включения на основе устранения родовой для всех части— миро-). Слово мировоззрение сегодня признается основным для данного ряда, а миросозерцание и миропонимание встречаются в книжной речи. Прежде всего возникает вопрос о причине нормативности именно слова мировоззрение. Простое сравнение современных словарей с указаниями Словаря Ушакова (1938) покажет, что полвека назад все слова этого ряда воспринимались только как книжные: мировоззрение, мироощущение, миросозерцание, миропонимание, тогда как слова мировосприятие вообще не было, как, очевидно, слишком архаичного уже для 30-х годов XX в. В современном употреблении также находится не менее десятка слов, аналитически дробящих свойственное современному человеку представление о мировоззрении: миропонимание, миросозерцание, мировидение, мироотношение, мировосприятие, миропостижение и т.п. (два последних с 1982 г.); имеется еще слово миропонятие, которое специалисты по гносеологии вообще признают свойственным современной философской литературе[71]. Итак, в современном употреблении множится количество частных значений общего значения ‘мировоззрение’ и одновременно происходит как бы устранение родовой для них всех части миро-. Тем не менее ключевое слово ряда все-таки сохраняется, и это — слово мировоззрение. Оно нормативно, стилистически нейтрально и уже не является узкокнижным — стало всеобщим достоянием всех говорящих на языке. В публицистике часто употреблялось и слово миросозерцание — в словари оно попало только в 1866 г., а сменившее его слово мировоззрение — в словарь 1906 г. (после революции 1905 г.). Между этими датами происходит как бы отработка важного для революционной мысли понятия, связанная, между прочим, и с внутренним смыслом каждого из этих слов. Какие сведения было бы полезно получить в дополнение к этой справке? Ведь трудно разграничить все тонкости современного словоупотребления, чтобы выделить необходимый минимум синонимов, который следует освоить иностранцу. По-видимому, только исторический комментарий позволит стилистически и содержательно разграничить все слова данного ряда и вместе с тем выдать ту необходимую информацию, которая и связана со страноведческим аспектом проблемы. Выясняется, что взаимное отношение всех указанных слов связано с социальными движениями в русском обществе последних двух веков. Дворянская и буржуазная публицистика второй половины XIX в. различает личное миросозерцание и коллективное мировоззрение (например, класса или партии); множество удачных иллюстраций такой противоположности смысла найдем также у Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. В науке того времени материалистическое мировоззрение (в употреблении И. М. Сеченова или И. И. Мечникова) противопоставлено просто миросозерцанию или созерцанию как явлению личного порядка, которое может быть и ложным, и ошибочным. Уже народники миросозерцанию предпочитают мировоззрение, поскольку (и это очень важно!) только мировоззрение может быть действенным (это «миродействие», по выражению Н. Г. Михайловского, который вообще тонко чувствовал «внутреннюю форму» русских слов и умело вплетал соответствующие рассуждения в свои публицистические работы). Тем временем поэты и художники говорят обычно о мировосприятии, мироощущении, миропонимании, они воспринимают мир в настроениях и неопределенных ощущениях, не имеют ничего сознательно определенного в подобном восприятии. В. И. Ленин по традиции также поначалу использует устоявшийся термин мировосприятие, который был к 1880-м годам философским термином, затем в его лексикон — и уже окончательно — приходит слово мировоззрение. Изучение ленинских трудов показывает, как постепенно переходили руководители революционной рабочей партии к новой терминологии. Чтобы определеннее понять смысл происходивших со сменой слов изменений в культуре и политике, сравним с ними слова других языков. В европейских языках (ограничимся здесь только ими) используется аналитическое сочетание, которое выражает ставший интернациональным термин, ср.: англ. wold outlook, исп. concepcion del mundo, ит. concezione del mondo, фр. conception du monde. Все прочие оттенки смысла, какие бы ни возникли по мере развития языка, уже не могут быть внесены в семантику сочетания, поскольку, во-первых, исходное слово уже само по себе выражает представление, воззрение или даже мировоззрение (из романских языков и слово концепция); во-вторых, именно аналитизм конструкции препятствует осложнению смысла, так что «представление о мире» исчерпывает «внутреннюю форму» и не дает возможностей для множественности номинаций. Это — термин в законченном виде, в отличие от русских слов он предельно идиоматичен. Иначе дело обстоит в немецком языке, в котором имеются два слова: Weltanschauung ‘мировоззрение’ и Weltauffassung ‘мировосприятие’; оба используются и для передачи русских миропонимание и миросозерцание. По-видимому, именно эти два немецких слова и стали основой для калькирования на русский язык двух вариантов, конкурировавших на всем протяжении XIX в. «Внутренняя форма» обоих образований достаточно выразительна, а различие между «наблюдать» и «схватывать» всегда осознается. В результате принимается философский немецкий термин, который становится основным и в русской терминологии. Еще одна сторона вопроса касается вторых частей сложения — слов воззрение и восприятие. В русский язык они пришли из высокого стиля публичной речи, из литературного языка в древнейшей книжной форме: воз-зре-ние и вос-при-ятие. Это привело к тому, что все такие слова долго осознавались как книжные, в разговорную речь они поступили уже в наше время, когда вообще словообразовательных славянизмов стало больше, чем было в прошлом веке. Эту подробность калькирования также необходимо иметь в виду: калькирование высоких иностранных терминов постоянно велось (и сейчас ведется) на основе высоких книжных морфем. Понижение их стилистического ранга происходит в ходе внедрения нового слова в общественный быт, а эта сторона дела по необходимости здесь опускается. Хорошо известно высказывание В. И. Ленина о том, что крестьянские бунты сменились стихийными стачками, которые в среде рабочих постепенно переросли в организованную борьбу пролетариата на основе политических забастовок. Так, В. И. Ленин в статье «О стачках» (1892) около 60 раз употребляет слово стачка и производные от него и только трижды — новое слово забастовка, причем при первом предъявлении поясняя его («забастовки (или стачки)»). В словари слово забастовка попало впервые в 1902 г., и уже как политический термин. В русской публицистике на рубеже веков четко различают «крестьянские бунты», «студенческие волнения (или возмущения)» и «стачки рабочих», а затем и «забастовки рабочих». Смена форм революционной борьбы вполне естественно отмечена и развитием терминологии: бунт — стачка — забастовка. Русское слово стачка — от стакнуться ‘сговориться о чем-то для совместных действий’; забастовка тоже русское слово, но от ит. basta ‘довольно, хватит!’, ср. в англ. от combination к strike или в нем. от Ausstand к streik. Однако в отличие от русского стачка здесь имеется в виду не «сговор», а «сбор»; ср. с этим и другое «отношение» к стихийным формам борьбы в других национальных определениях, выраженных внутренней формой слова: фр. grève, ит. sciopero или исп. huelga с указанием обремененного или бездельничающего (прогуливающего) работника. Эти языки предлагают совершенно другой образ, не выражающий даже идеи активного сопротивления, не говоря уж о стилистической его маркировке как слова одобрительного. Естественно, что в политической терминологии постепенно «побеждает» (т.е. становится термином общего характера) английское слово strike — достаточно многозначное и потому открытое для развития переносных значений образование от глагола со значением ‘бить’ или ‘поражать’. Есть еще одно затруднение, с которым часто сталкивается преподаватель. В любом литературном языке, быть может, как типологическая его закономерность существует неосознанная устремленность к слову родового значения, тогда как конкретные («видовые») проявления такого значения, содержащиеся в других словах, остаются в стороне. Это можно иллюстрировать на следующем примере. Отрицательное качество кого-либо или чего-либо в русском языке выражается собирательными словами недостаток, изъян, порок, недочет, пробел, дефект, теперь еще и (разговорное) минус. Особенно близки в переносном значении друг к другу слова недочеты, недостатки и пробелы (они же обычно употребляются в форме мн. числа). Употребление «частных» по видовому значению слов всегда определяет высокий уровень знания языка, а также стоящие за ним культурные реалии, т.е. такие оттенки смысла, которые обогащают речь обертонами стиля. Древнейшее из трех слов — недостатки (‘нужда’ и ‘бедность’); с конца XVIII в. в торговом языке появляется слово недочеты, которое также вскоре получает переносное значение, сближающее его со словом недостатки; Карамзин тогда же ввел и слово пробелы (пропуски в тексте, совершенно книжное слово), также со временем получившее переносное значение, по которому оно совпало с двумя прочими. В просторечии существует множество синонимов (В. И. Даль отмечал неполадки и нехватки, а в Словаре Ушакова содержится даже слово недохватки), но в общем их назначение только в том, чтобы каждая новая экспрессивная форма своим появлением и затем исчезновением как бы поддерживала постоянство всех остальных книжных слов, которые стали нормой. Сфера экономики, торговли, книжной деятельности, породившая указанные слова, постепенно перестает осознаваться как источник происхождения слов. Поначалу четко осознается хотя бы функциональное различие: в XIX в. пробелы могли быть в образовании, в просвещении, в знании, недочеты — в хозяйстве, в практической деятельности, в промышленности, в характере человека, недостатки — в какой-нибудь программе, в плане предприятия, в организации чего-то. Поэтому и в современном употреблении, отчасти «снимаясь» с конкретности определенных словосочетаний, в границах которых эти слова существовали по крайней мере полтора века, недочеты — недостатки, понятые как ошибка; пробелы — недостатки, понятые как упущение, а сами по себе недостатки понимаются как погрешность. Во всей тонкости, ускользающей от поверхностного взгляда, смысл: ‘небольшое упущение’ — ‘большая ошибка’ — ‘серьезная погрешность’. Ясно, что в этой (национальной!) форме выражения кроме эмоционального отношения имеется и содержательное отличие от интернационального слова дефект. Дефект, по определению, может быть только у самой работы или в готовом продукте такой работы, но не у человека с его недостатками, изъянами и т.п. Снова мы видим некую историческую последовательность в кристаллизации собственно «русского» представления о характере работы и самого работника (они дифференцированы словом, а не смешивают субъектно-объектные отношения, как в слове дефект). Изучая русский язык, носитель западноевропейского языка может впасть в недоумение, поскольку для многих современных языков понятие о недочетах и недостатках совпадает в одном общем слове, противопоставляясь, правда, понятию о пробелах; ср. недостатки и недочеты — в англ. defect, фр. defaut, ит. difetto, исп. defecto, нем. Mangel или Fehler, но пробелы — фр. lacune, ит. lakuna, исп. laguna, англ. blank, нем. Lücke. В этом сопоставлении мы обнаруживаем и источник русских слов — дефект и лакуна. Проникновение безлично-родовых дефект и лакуна (они возможны как термины узкого назначения) в литературный язык может привести к стилистическому усреднению и функциональному ослаблению собственно русских слов в современном общении. Проблема культуры речи оказывается тесно связанной с проблемами стиля и усвоения русского языка иностранцами. История показывает, что чем шире круг говорящих на данном языке, тем чаще происходит упрощение языка путем подстановки видовых определений вместо родовых. Происходит укрупнение масштаба семантической сетки собственно русского языка, а за утратой речевых деталей — и уничтожение характерных для русского языка подробностей речевого мышления. Вот одна из причин, почему мы должны быть заинтересованы в передаче синонимических оттенков носителям других языков. В любом языке существует значительный пласт экспрессивно окрашенной лексики, также важной в речевом общении; такие слова помогают оценивать поступающую информацию и одновременно передавать свое личное к ней отношение. Например, «степени усиления» размера и высоты включают в себя множество определений типа огромный, громадный, гигантский, колоссальный, исполинский, грандиозный и т.п., но только два первых являются собственно русскими и по этой причине остаются стилистически нейтральными, соотносясь с исходной (в ряду усилений) формой большой. Огромно пространство и, следовательно, величина, громадны массы и, следовательно, объем — таково различие между ними. Большой (еще раньше великий) заменяется словом огромный (в начале XIX в. революционные демократы и народники часто употребляли это слово). Громадный вошло в обиход из речи петербургских студентов в 60-х годах XIX в. Первоначально расхождение было не только стилистическим (каждое новое слово в этом ряду последовательно осуждалось пуристами), но и смысловым: громадный — усиление количества, а не качества, именно в таком значении и вошло это слово в обиход в революционно-демократической среде (начиная с народников). В академический словарь слово громадный попало только в 1895 г. «Внутренняя форма» обоих слов совпадает благодаря этимологическому родству (отсюда и народное смешение двух слов, контаминация по семантическому сходству: огромный и громадный = огромадный). Громада — ‘толпа, куча, неразделимое множество’; в некоторых славянских языках это слово использовано для обозначения сельскохозяйственной общины. Иначе в современных западноевропейских языках. Связь с «большим» как исходной степенью величины здесь не осознается, причем во всех языках понятие о «большом» передается одним и тем же корнем: англ. great, ит. и исп. grande, фр. grand, нем. gross. Но точно так же не различаются и громадный, огромный (как и в русских народных говорах), потому что при переводе этих русских литературных слов используются одни и те же лексемы. Эти лексемы, во-первых, интернациональны (потому что в большинстве восходят к латинским корням) и, во-вторых, содержат в себе образ не «нерасторжимой массы», а просто внешне чего-то грандиозного, выходящего за пределы нормы, ср. англ. huge, enormous ‘ненормальный’ (из представления об ужасном), immense ‘неизмеримый’; фр. énorme, immense (что совпадает с английским, но также и colossal от латинского именования грандиозной статуи, колосса); ит. enorme, immenso (но для обозначения громадного как высшей степени величины используется и вторичное по образованию colossale, gigantisco, mastodontico); исп. enorme, colosal; нем. riesig (от обозначения великана), gewaltig (от Gewalt ‘сила’ — тоже внешняя характеристика объекта), ungeheur (от обозначения чудовища) и общераспространенные, ставшие интернациональными enorm, colossal. При истолковании русского синонимического ряда необходимо понять различия между «национальной формой» огромного и громадного и всех остальных, заимствованных из европейских языков и пока еще не очень популярных определений; последние утрачивают «образ» и воспринимаются как родовые. Собственно огромный и громадный пока по-прежнему сохраняют и стилистическую свою маркировку как слова разговорные. Сама «точка отсчета» в словарных определениях постоянно меняется: в Словаре Ушакова (1935) основным словом показано еще огромный (относительно громадный сказано: «то же, что огромный»); в Словаре Ожегова последних изданий, наоборот, сказано, что огромный — «то же, что громадный». Неясно, в какой степени эти перемаркировки связаны с личным пристрастием лексикографа, а в какой — с объективными изменениями в стилистических характеристиках этих определений; но что они несомненно взаимозависимы по принципу «тандема» — это несомненно. Несомненно и то, что семантическая доминанта слов явно указывает на идею «монолитности», а не внешне поразительную, небывалую, ненормальной величины. В подобных различиях и следует искать приемы синонимов для иностранца. Чем древнее словесный образ, который сложился в семантике синонимического ряда, тем он устойчивее, потому что уже воспринимается неосознанно, а все новые синонимы просто «надстраиваются» над ним. Расшифровать же «исходный образ», с течением времени образовавший семантическую доминанту целого ряда (на этом основании строится и семантическая корреляция), изучающему язык совершенно необходимо, иначе утрачивается представление о стилистической или культурной специфике каждого из синонимов. Так, в ряду обаятельный, очаровательный, обворожительный, пленительный, привлекательный первые три являются собственно русскими и все основаны на образе обаяния (от баяти ‘колдовать’), очарования (чары деяти — тоже ‘колдовать’) или просто ворожбы, т.е. на представлении колдовства, которое якобы таинственным образом исходит от объекта поклонения и все покоряет неотразимо. Тот же образ обнаруживаем и в некоторых западноевропейских языках, которые имеют хорошо известные определения, достаточно четко сохраняющие семантическую связь с производящим, ср. ит. affascinante как единственный эквивалент для всех трех русских слов и ammaliante — для двух последних (очаровательный, обворожительный) — от основы со значением ‘околдовать, заворожить, опутать чарами’; исп. encantador и hechicero также связаны с колдовством и волшебником; фр. charmant или описательное plein de charme для обаятельный и очаровательный от основы с тем же значением (восходит к лат. carmen ‘песня’); англ, fascinating (для всех русских слов), charming (для двух первых) повторяют романские корни, но для русского слова обворожительный часто употребляется еще и английское слово bewitching, которое также указывает на связь с колдовством и ведьмой (witch), при этом всегда связано с характеристикой человека; нем. bezaubernd также связано с опасным воздействием чар колдуна (zaubern ‘колдовать’) и обычно употребляется для перевода всех трех русских определений, хотя полным синонимом им является и bezückend ‘поразительный’, для слова обворожительный еще и entzückend ‘восхитительный’. Последнее расхождение важно. Все западноевропейские языки обязательно отграничивают третье русское слово — обворожительный — специальной лексикой, которая уже редко оказывается связанной с исходным образом данного синонимического ряда, ср. исп. maravilloso ‘восхитительный’, ит. attraente ‘привлекательный’, фр. ravissánt и délicieux — ‘восхитительный’, как и нем. entzückend, то же самое впечатление выражает, уже не прибегая к древнему образу колдуна или баяна (колдовство словом), а простым подчеркиванием при-емлемости. Русское привлекательный — калька с этого общеевропейского образца, как и пленительный (известны в дворянской литературе с конца XVIII в.). Таким образом, появление подобных калек есть своего рода «прерыв традиции», однако и новые слова пока укладываются в синонимический ряд общим для них всех отношением к притягательной силе объекта (хотя и понятой уже «со стороны самого объекта» ). Развитие переносного значения и у исконно русских слов (хотя и с книжным, литературного происхождения комплексом -тельн-) происходило достаточно поздно и, видимо, не без влияния со стороны западноевропейских эквивалентов. В XVIII в. известен очаровательный кавалер, в начале XIX в. появился и кавалер обворожительный, и только в пушкинские времена (распространяясь чуть позже) — еще и обаятельный. На этом простом примере легко видеть, насколько тесно переносные значения слов, описывающих новую городскую культуру, зависят от воздействия со стороны чужих языков, которые выработали соответствующий принцип семантической номинации несколько раньше. Тем не менее соотношение двух «образов», накладывающихся друг на друга, — колдовство и личная притягательность — прослеживается все-таки достаточно ясно, чтобы пренебрегать ими и при толковании слова в словаре, и при обучении ему, и даже при переводе с одного языка на другой. При этом высшая степень качества — обворожительный — связывается уже с характеристикой личной неотразимости, и потому все западноевропейские языки переводят это слово словами со значением ‘привлекательный’. На том же уровне происходит и развитие русского образа: от слова обворожительный (единственно русского слова, на что указывает полногласный корень; все прочие — искусственные образования книжной речи) к пленительный и привлекательный. «Прерыв традиции» связан с какой-то общекультурной установкой на объективацию качества и придание ему индивидуальных черт личности. Таково, действительно, современное представление о привлекательном для других. Восполнение синонимического ряда, продолжаясь на старой национальной форме, мало-помалу приводит к современным семантическим характеристикам, и всегда важно подобное направление речемысли выявить и описать. Если мы вообще хотим осознанного владения русским языком, нам придется проделать сложную работу по истолкованию самобытности и оригинальности русской речемысли. Это необходимо сделать хотя бы потому, что именно настороженным отношением ко всякому возможному интернационализму во всех рассмотренных случаях объясняются специфически пуристские оценки новых слов. Проблема диалектически превращается в свою противоположность: теперь важно не просто понять семантическую систему русского языка для наиболее целесообразных форм его преподавания, но и вообще осознать тенденции развития всех взаимно влияющих друг на друга языков, которые сегодня уже не могут не заимствовать интернациональной лексики, тем самым незаметно «искривляя» национальный образ данных синонимических рядов. Несводимость семантики разноязычных слов (эквивалентов) особенно ясно видна на словах многозначных, и основное затруднение в этом случае вызывает соотнесенность переносных значений слов. Скажем, в ряду порядочный, приличный, пристойный представление о «довольно большом», «довольно хорошем» и просто «честном» хорошо выявляется, и особенно в контексте, поскольку распределение значений этих слов синтагматически связано. В других же языках подобный метонимический перенос обслуживается самостоятельными лексемами (например, в указанной последовательности значений для русского слова порядочный в англ. considerable — rather good — decent, honest, respectable). Сопоставляя значения слов, предлагаемых для перевода русских приличный и пристойный, мы обнаруживаем частичное пересечение значений. Так, в англ, respectable — и ‘порядочный’, и ‘приличный’, a decent и proper — и ‘приличный’, и ‘пристойный’ (т.е. неплохой). В немецком для всех трех русских слов годится anständing (приличный в смысле ‘принятый’), а для двух последних — и schicklich (в том же смысле). В испанском все три русских слова совпадают в decente и отчасти различаются как honesto — conveniente — decoroso (т.е. как ‘честный’ — соответствующее и ‘красивый’); во фр. honnête и décent (или любимое выражение аристократов прошлого века — come il faut); в ит. onesto — discreto-decente и decoroso в той же последовательности «образов». Так в основе западноевропейских слов, передающих переносные значения русских слов (в отношении к человеку), фактически используется соответствующий латинский корень: decens ‘приличный, пристойный’ от deceo ‘быть к лицу’ и proprius ‘собственный, лично принадлежащий’. В русском и немецком возможны кальки, поскольку эти языки прямому заимствованию предпочитают калькирование. Однако есть и различие, которое заключается в том, что определения пристойный (нем. anständig) и приличный (лат. decens) появляются в литературном русском языке довольно поздно, а исконным является (и имеет наибольшее число значений) русское порядочный, т.е. в своем особом отношении из ряда не выделяющийся. Национальное представление о приличном отличается от заимствованного путем калькирования в XIX в.: не то, что тебе «к лицу», не твоя особенность, выделяющая лично тебя, и не огляд на модный образец, а точное следование принятым нормам поведения (кто соблюдает порядок и «находится в порядке»). До середины прошлого века именно порядочный и было основным словом синонимического ряда (фактически вступало во все сочетания слов, ныне распределенных между тремя синонимами), хотя с 20-х годов XIX в. известны уже и оба других синонима. На многих исторических примерах можно было бы показать, каким образом семантика заимствований (путем калькирования) накладывается на значения исходного русского слова (порядочный), при этом не заменяя его и нисколько не отменяя, а только перерабатывая его функциональные и стилистические границы употребления, так что именно русское слово и оставалось всегда основой всех изменяющихся (и перераспределяющихся) в данном синонимическом ряду значений. Но и исходное (остается и основным) значение всех трех прилагательных еще довольно четко нами осознается: порядочный — ‘достаточно большой’, приличный — ‘достаточно хороший’, пристойный — ‘достаточно уместный’ — все это различные характеристики дозволенного. Общее для них — понятие о достаточном, принятом правилами, которые обязательны для всех. Представление о пустом — «пустяке» — в русской культурной традиции издавна строится на образе сора, мусора или щепы, остающейся от работы с деревом. Это — ненужность: вздор из съдоръ) так же и дрянь — отбросы от «дранья дерева», чепуха — от чепа (мелкая щепа), дребедень от дребезг и т.д. Еще М. В. Ломоносов слова вздор и чепуха употребляет в их номинативном значении ‘мусор, ненужные отходы’, но с 20-х годов XIX в. возникли и переносные значения этих слов: вздор — у Пушкина, чепуха — у Тургенева и т.д. Тогда же появились и заимствованные: галиматья в студенческом жаргоне (из французского слова со значением ‘неразбериха’), белиберда из тюркских языков, чушь из нем. Stuss, ерунда (искаженное произношение латинскогогерундии) из семинарского языка, откуда поступила еще ахинея, и др. Интересно при этом, что и в заимствовании основное внимание обращалось на ненужность как различительный признак всякой чепухи. Внимательное изучение каждого из этих слов способно приоткрыть завесу над самыми разными источниками, так или иначе влиявшими на развитие русской культуры и русской речемысли. В западноевропейских языках в данном случае обычно соотнесение с образом глупца — как источника неразберихи и ерунды. Внимание обращено на интеллектуальную сферу отношений: «глупость», а не практическая «ненужность». Ср. фр. absurdités, ит. sciocchezza, scemenza, sproposito и особенно assurdita, исп. absurdo, англ. absurdity, восходящие к лат. ab-surdus (бес-смысленный). Исп. tonterias и disparate, фр. bêtise тоже связаны с «дураком». Латинская традиция обозначения ерунды по интеллектуальной непригодности распространяется и на кальки, ср. нем. Unsinn ‘бессмыслица’ для рус. вздор и Blödsinn ‘слабоумие’ для рус. чепуха; ср. и англ. nonsense. Как и вообще при переводе с одного языка на другой, во всех этих случаях нет буквальной соотнесенности по характеру выражения: то, что для русского — всего лишь «мусор», для западноевропейца — тягостное слабоумие. Во всех языках словесный образ настолько жив, что еще и в наши дни оказывает свое воздействие на восприятие. Столкновение культур особенно хорошо видно на таких случаях, а именно их намеренно избегают составители первоначальных руководств по иностранному языку. Пожалуй, только в английском, в той мере, в какой он свободен от влияния латинской традиции, можно найти ближайшую параллель к русским формам: rot и rubbisch — ‘мусор’ и ‘хлам’, слова, развившие и переносные значения, подобные русским вздор и чепуха. При изучении русского языка всегда возникает необходимость соотнести пары глагольных основ, исторически связанных либо семантически, либо стилистически, либо грамматически. И здесь точно так же совершенно неожиданно оказывается, что европейские традиции обозначений отчасти совпадают с русской, отчасти противоречат ей. Можно сказать, что наметившаяся было (в разговорной речи) тенденция к совпадению слов типа стать — встать под влиянием западноевропейских языков приостановила этот процесс в прошлом веке, и такова норма литературного языка, которая сформировалась в тех условиях. Так, в русской разговорной речи все чаще происходит смешение глаголов стать — встать, положить — класть, занимать — одолжить, одеть — надеть и др. с обобщением грамматически наиболее простой формы стать, ложить, занять, одеть. Как бы строго пуристы ни боролись за чистоту русской речи, этот процесс продолжается уже более века с переменным успехом, и конечный его результат пока неизвестен. Ситуация, однако, складывается таким образом, что, став мировым языком, русский язык вынужден подчиниться и тем общекультурным тенденциям в развитии языков, которые оказывают свое воздействие и на данный фрагмент системы. Что же это за тенденции? Они опять-таки прояснятся в сравнении с другими языками. Стать и встать различаются в большинстве языков: англ. stand — stand up (также get up, rise и др.), нем. steigen, stehen и др. — aufsteigen, entstehen и др. (в том числе и описательные формы); исп. ponerse — subir, montar, ит. mettersi — alzarsi, фр. se mettre — se lever и т.д. Описательные ‘занять место’ как эквивалент глагола стать развивается во всех языках, в том числе и в русском (по аналогии с нем. Platz nehmen, фр. se plaser и т.п.), а уже одно это делает излишним противоположность в значениях ‘подняться’ — встать и ‘занять место’ — стать; возникает тенденция к уравниванию и смешению форм. Одеть и надеть также различаются, ср. нем. anziehen — aufsetzen и др., англ. dress — put on, set on, исп. vestir (и poner) — poner, ит. vestire — mettere и др., фр. vêtir — mettre и др. Различаются и глаголы одолжить и занять, ср. нем. ausleihen, ausborgen — leihen, borgen, англ. borrow — lend (есть и архаические варианты), исп. pedir — prestar, ит. prendere — (im)prestare, фр. emprunter — prêter и др. Таково то «давление культуры», которое и в русском языке сохраняет противопоставление семантически важных единиц при отсутствии грамматических и стилистических оснований для их различения в самой русской речи. В примерах типа приведенных преподаватель русского языка всегда сможет найти точку отсчета для характеристики национальной культурной традиции и номинации средствами языка. Но при этом следует помнить, что отсутствие лексемы вовсе не доказывает отсутствие соответствующего представления в данной языковой культуре: оно, именно благодаря своеобразию национальной формы выражения, может передаваться описательно (ср. рус. дать взаймы — взять взаймы) или особенностями устной речи (ср. рус. ложи́ть и ло́жить, что, надо согласиться, все еще является вульгарным и не может быть рекомендовано даже для разговорной речи). Кстати сказать, в паре класть — положить глаголы эти не противопоставлены ни в одном европейском языке, ср. совпадение их во фр. mettre, poner, placer, ит. mettere, нем. legen, исп. poner, англ. put down, lay down и др. Единственно, что пока еще сохраняет противопоставление глаголов класть — положить, — это чисто грамматическое (и чисто славянское) противопоставление по глагольному виду, которое, конечно же, можно передать и средствами родного языка (например, в нем. legen — hinlegen), но в таком случае это будет передача русской грамматической оппозиции, которая ничего не добавляет к характеристике семантической и стилистической. Отсюда, между прочим, проистекают и все сложности с употреблением русского ложить: помимо всего прочего и в отличие от трех других глагольных пар, здесь «давление интернациональной культуры» не поддерживает сохранения пары русских глаголов; по этой, видимо, причине здесь и происходит наиболее энергичное вытеснение их вульгарным ло́жить. Таковы только отдельные примеры, число которых опытный преподаватель может всегда увеличить, объясняя своим ученикам, что существует длительная традиция взаимного влияния современных европейских языков (об общей «средиземноморской культуре» в основе их современного развития говорил еще А. А. Потебня), а это является важной базой в овладении совпадающими по языкам особенностями конкретного языка. Но в центре внимания всегда должно быть национальное отличие данного языка от всех остальных, отличие, которое и должно быть освоено в процессе обучения. Это национальное составляет ключевой аспект современных литературных языков, поскольку всегда знаменует различительные особенности языка в отношении ко всем прочим. Своеобразие специально синонимии состоит в том, что «семантическая доминанта», на основе которой строится такой синонимический ряд, всегда восходит к какому-то специфически народному «образу» — представлению, которое создавалось в течение столетий и постоянно развивалось, отражая развитие национальной культуры[72].СИНОНИМИЯ КАК РАЗРУШЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОСТИ СЛОВА В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ*
*См. также: Колесов В. В. 1) Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. С. 194-209; 2) Домъ и дворъ в древнерусских текстах ХІ-ХVІ веков // Лексические группы в русском языке ХІ-ХVIII вв. М., 1991. С. 55-82; 3) Исторические основания многозначности слова и лингвистические средства ее устранения // Русское семантическое словообразование. Ижевск, 1984. С. 18-28.Соглашаясь с тем, что предметом исторической лексикологии является текст (Б. А. Ларин), уточним, что объектом ее является семантика слова, в своем историческом движении определяемая функцией текста. Древнерусский текст всегда отличался широким развитием синонимии и лексической вариантности, пределы которых ограничены содержанием текста (назовем это синтагмой) или системой языка (парадигма). Необходимо уточнить и представление о синонимии и полисемии в древних текстах, поскольку исторически семантика слова и семантика текста развиваются параллельно и в корреляции друг с другом. Интерес представляют как синтаксически связанные словоформы одного слова, так и независимые от парадигматических отношений формы одного слова. С противоположных сторон они могут указывать на отношение носителя древнерусского языка к слову, когда еще и само слово — семантическая синкрета, и лексема, и словоформа, и высказывание, даже текст в целом — слово же. Синтаксическую связанность древнерусских словоформ можно иллюстрировать на примере одного из излюбленных в исторической литературе слов — домъ. В текстах до XV в. — переводных и оригинальных — каждое из определяемых современным сознанием значений этого слова коррелирует с особой, всегда одной и той же грамматической формой его проявления. Из известных мне многочисленных текстов, созданных до XVI в., выявляется следующее распределение сем по словоформам: 1) ‘кров (жилье)’ — в сочетании с притяжательным местоимением как знаком принадлежности, преимущественно в устойчивых сочетаниях с глаголами движения или пребывания: иди въ домъ свои, бысть в дому его и т.д.; эти выражения всегда эквивалентны древним наречиям и столь же лишенным грамматической парадигмы формам типа домови, домой, домовъ, дома, в дому; 2) ‘семья (домочадцы)’ — в сочетании с местоимением вьсь (при возможном притяжательном местоимении, как и в предшествующем случае), что также доказывает достаточную древность этого значения слова; ср. вьсь домъ свой, что семантически эквивалентно возникшим впоследствии производным типа домочадци, домашнии, еще позже — домовнии и т.д., которые как бы эксплицировали одно из значений слова в отдельных, социально важных лексемах; 3) ‘хозяйство, имущество’ — всегда имя существительное в свободном употреблении и без определений, но, как правило, в форме им. или вин. падежа и в общем ряду слов близкого по смыслу значения, ср. обычные перефразировки библейского выражения прилагати домъ к дому и село к селомъ у Климента Смолятича, домъ, село и имѣние у Кирилла Туровского (XII в.) и др.; 4) ‘здание’ — всегда с уточняющим определением (прилагательным: велици и свѣтли домы и т.п.) и обычно после глагола с обозначением действия, ср. сътворити, съзьдати, разрушити и т.д. домъ. Особенностью этого значения является возможность употребления в форме мн. числа домы и появление синонимов типа зьдание. Напротив, предшествующее значение слова экспликации вполне однозначной самостоятельной лексемой не имеет, каждое слово, которое мы могли бы привлечь для этого, всегда является более отвлеченным по значению, в логическом отношении предстает как родовое понятие (ср. позже — имѣние и др.). Представленная последовательность значений слова соответствует исторической последовательности появления формальных ограничителей словоформ в речи, почему и можно было бы говорить о семантическом развитии значений слова домъ от самого первого из них ‘(общий) кров’ до последнего — ‘здание’. В древнерусском языке, как можно судить по материалам, семантика слова еще не вычленилась из семантики словоформы, поскольку каждое конкретное значение слова-синкреты [дом] оказывается распределенным грамматически (не статистически, не стилистически, не функционально и не как-либо еще). Только чисто условно, по формальным признакам, учитывая «свободную» позицию словоформы со значением ‘хозяйство’, можно было бы сказать, что «основным» (номинативным) значением этого слова в древнерусском языке было значение ‘хозяйство’, а не ‘здание’, как в современном русском литературном языке, и не ‘(общий) кров’, как в праславянском языке. Однако, чтобы положительно утверждать это, следует сначала доказать, что распределение «сильных» и «слабых» в отношении к форме семантических позиций в древнерусском языке было таким, как и в современном литературном языке. Последнее сомнительно по следующим соображениям. Во-первых, с содержательной стороны каждое ключевое понятие имело, по-видимому, оппозит, в котором отчасти совмещались и некоторые общие двум понятиям значения. В отношении к понятию «дом» таким оппозитом был «двор». По крайней мере до XIII в. встречаются тексты, в которых домъ — дворъ по своим значениям находятся в дополнительном распределении, а долгое время так и просто стилистически. В Слове о полку Игореве только двор, в Задонщине этому соответствует домъ, двор чаще в летописи, а дом — в житиях. Но дело не только в этом. Неопределенность семантических границ между обеими лексемами, например в «Повести временных лет», хорошо описана,[73] но основным значением в обоих случаях справедливо указывается ‘хозяйство, имущество’. В древнерусских переводных светских текстах XII в. домъ или дворъ являются собирательным обозначением имущества, хозяйства. Дымъ, домъ, дворъ как основная податная единица, сменяя друг друга, проходят через все древнерусские тексты, касающиеся этой темы. Точно так же и захватчики грабят или жгут имѣнье мое, дворъ мой или домъ мой.[74] Нестабильность объема понятия [двор] в отношении к хозяйству и неопределенность номинаций в зависимости от текстов препятствуют признанию этого значения слова в качестве основного[75]. Во-вторых, и известные значения слова дворъ, в свою очередь, оказываются грамматически связанными. Например, значение ‘группа лиц из родственников, приближенных и личных слуг’; ‘придворные’ с формой притяжательного местоимения отмечается в тв. или вин. падежах: со всемъ дворомъ, весь дворъ свой. Есть и другие грамматические особенности, которые делают значение слова связанным морфологически. В древнерусских текстах слово домъ обычно выступает в архаических формах парадигмы *-й-основ — кроме формы дат. падежа (что понятно, поскольку старая форма домови, получив наречное значение, изменилась). Представим себе, что в форме местн. падежа уже в XII в. возможна словоформа въ домѣ, и значение слова сразу же изменяется — ‘в здании’. Новое значение слова обычно и прикрепляется к новой для парадигмы форме; более того, можно утверждать, что и появление новой (аналогического происхождения) формы связано с необходимостью выявить одно из значений слова. Морфологические процессы унификации парадигм и внутренней аналогии вызывались необходимостью расширить сферу действия семантических границ слова при сохранении старой грамматической системы. Затем, на основании тех же древнерусских примеров, мы замечаем, что у слов домъ и дворъ предпочтительными были различные предложно-падежные сочетания, и особенно в самых древних значениях — пространственных, ср. в вин. и местн. падежах въ домъ, въ дому — на дворъ, на дворе, на своемъ дворѣ (но с определением уже и новые обороты: в ветхом дворе, в царевѣ дворе и др.). Грамматическая связанность значения слов жестко определялась не только падежной формой, но и характером предлога, следовательно — и синтаксически. Независимые от парадигмы словоформы лучше всего заметны на примере только что появившихся в древнерусском языке слов. В Изборнике 1076 г. лексический русизм ларь в тексте древнерусского перевода «О милостивѣмь Созоменѣ» представлен в местн. падеже ед. числа лари, в род. падеже мн. числа ларевъ и вин. падеже мн. числа ларѣ (т.е. и грамматический русизм). Одно и то же «слово» входит по крайней мере в три различные грамматические парадигмы, поскольку до вторичного смягчения согласных заимствованное из древнескандинавского языка слово larr ‘ящик’ не могло попасть сразу и непосредственно в тип склонения на *-jo. Можно говорить о парадигмах основ на *-ĭ, *-й, *-jo как возможных проявлениях данных форм, поскольку в XI в. уже не было релевантным различие между этими парадигмами для слов одного и того же грамматического рода, а все три засвидетельствованные формы объединяются признаком м.рода. Некоторые формы фонетически уже совпадают, ср. особенно форму лари, которая омонимична форме *-jo-основ, каковою ее и стали осознавать после перефонологизации различительных признаков в пределах слога. Это значит, что грамматическая форма «слова» не воспринималась как отдельная словоформа общей парадигмы, что представление о грамматической парадигме вообще сомнительно именно в этот период языковой истории. Что же касается нормы, то в ее роли выступала не парадигма — отношение словоформ в различных их признаках, а абсолютно конкретный текст — сочетание слов, семантический блок, текстовый образец. В данном случае релевантным оказывается уже не формальный признак прежней грамматической парадигмы (= характер основы, т.е. фонетический признак), а новое категориальное свойство, которое можно определить как грамматический род. Однако и на новом этапе складывания парадигмы все-таки грамматическая категория определяет границы «слова». Так как вопрос коснулся взаимоотношения парадигм *-i- и *-jo-основ, напомню хорошо известные примеры склонения слов огнь, звѣрь и др. Все они из *-ĭ-основ, но перешли в склонение *-jo-основ. В Выголексинском сборнике XII в. отмечаются колебания в написании: огн'ь и огнь, огн'я и огнѩ, огньмь и огн'ьмь, огн'еви и огнѣви — «вторичное смягчение» согласных еще не освоено даже в слогах, которые признаются исходными для этого фонетического процесса (неорганическое смягчение в группах гн). В данном перечне фактически представлены парадигмы *-ĭ, *-jo, *-й для одного и того же имени — опять-таки м. рода. Идеологическая важность данного слова потребовала дифференциации различных его «смыслов», и в результате могли разойтись слова со значениями ‘стихия’, ‘пламя’ или некий философский символ вечности. Высокий стиль, как правило, архаизировал формы, и в северных рукописях старообрядцев формы род. падежа крове или любве сохранялись до XIX в., поскольку служили обозначением Христовой крови и любви к Богу. При желании подобных примеров можно привести множество. В сущности, всякое изменение грамматической парадигмы «по аналогии» — двуединый процесс: всегда и семантика конкретного слова определяет направление и интенсивность подобной аналогии. «Выравнивание по аналогии» проходит несколько этапов, последовательно от формы к форме, и подчиняет в конце концов все слова, входящие в данный грамматический класс. Превосходные работы В. М. Маркова и его коллег посвящены изучению как раз этой проблемы: какие ограничения в значении конкретного слова препятствуют освоению им более общих, грамматических, категориальных по смыслу значений[76]. Описанный здесь по необходимости кратко разброс значений слова в зависимости от конкретной словоформы или, наоборот, форм слова в зависимости от различных грамматических парадигм, объединяемых изменяющимися грамматическими характеристиками, можно было бы истолковать как синонимию или как полисемию. Однако вернее считать, что перед нами всего лишь иное, чем принято это в современной лексикографии, отношение как к норме, так и к парадигме: в средневековой культурной среде нормой признается конкретный образец, а парадигма представлена в образцовых синтагматических блоках слов, с помощью которых и создается каждый новый текст (или воспроизводится старый, известный). Что же касается семантического содержания древнерусского (= древнеславянского) слова, то это — синкрета, каждое потенциально возможное значение которой раскрывается только в тексте. Как кажется, описанное здесь распределение не выражает ни синонимии, ни полисемии, потому что значение в этих случаях всегда связано с отдельной словоформой, а различные словоформы входят в грамматически разные «слова». Проблема многозначности древнерусского слова имеет и еще один аспект. Не всякая «многозначность», как она выясняется из анализа текстов-образцов, являлась органически славянским явлением. Ментализация как способ осмысления переводимого слова (этот термин предложил Е. М. Верещагин[77], исходя из внутренней формы слова-синкреты) в средние века начинает развивать и словарную многозначность; эта первая форма многозначности — исторически необходимая форма восприятия инородной культуры через посредство слова-понятия и как средство создания принципиально новых текстов-образцов. Принцип создания новых минимальных текстов исторически постоянно коррелирует с семантическим развитием слова. Подобная многозначность средневекового слова есть семантическая градуальность общего (т.е. исходного для данного слова) смысла, разложение потенциального семантического спектра в реальном высказывании, и смысл этот всегда проявляется только в тексте, путем переносов и в связи с влиянием на старую систему знаков со стороны другой системы (скажем, с влиянием церковно-книжного языка на древнерусский — еще один «икс» исторической лексикологии). При этом характерно, что основным принципом переноса значений в древнейших текстах является метонимия, а не метафора — верный знак того, что только объем понятия, но совсем не его содержание интересует древнерусского книжника на самой заре развития древнерусской лексикологии. Значения греческих слов, переводимых на славянский, несомненно откладывались в литературном языке славян, до поры до времени сохраняясь в образцовых «блоках» текста, и сами по себе создавали образцы словосочетаний, поскольку они воспринимались в единстве с текстом в составе формальных клише. Если в греч. δόξα среди его значений имеются также ‘блеск, сияние, яркость’, ‘чаяние, надежда’, ‘видение, призрак, мечта’, во мн. числе также и ‘высшие власти’, то в древнерусских переводах не ограничивались только квазиточным эквивалентом слава и в целях наибольшей точности перевода стали добавлять развернутые дополнительными (самостоятельными) словами сочетания типа слава и держава, слава и величьство, вѣнец и слава, как в Печерском патерике начала XIII в., и др., поскольку лишь включение распространителя раскрывает внутренний смысл греческого (многозначного) слова и всего оригинального текста в целом. Символика текста опиралась на многозначность греческого слова, которую необходимо было расшифровать для славянского читателя, славянское слово-синкрета разворачивается в образец-текст. Число таких распространителей постоянно растет, и притом главным образом за счет переводных текстов, откуда оригинальная литература заимствует образцовые сочетания. Так, признаки «доксии» постоянно конкретизируются и уточняются, ср. в древнерусском переводе Жития Василия Нового (XII в.) слава и свѣтлость и сияние; чьстъ и слава и власть и вьсъ разумъ и т.д. Многозначность греческого слова, совмещаясь с синкретизмом славянского слова и накладываясь на последний, потребовала экспликации неизвестных прежде значений в виде самостоятельных лексем. Такова своего рода начальная форма текстового «извития словес» и с той же функциональной заданностью: необходимость передать синкретой многозначность текстовой формы греческого слова — это перевод «страноведческого», а не художественного характера, хотя с течением времени, наполняясь все новым содержанием, привязывая значение к собственно русским «признакам» понятия, в сопоставлении с другими однозначными текстами подобные цепочки слов стали восприниматься как синонимичные. Переводчики и компиляторы, равняясь на образцы, аналитически представляли значение многозначного греческого слова, развертывая его в текст, а из последующих его текстовых переработок («развития мотива») и возникло представление о синонимах, хотя в современном смысле слова синонимами подобные слова, конечно же, еще не были. Еще один пример. Значение греч. τιμή в своей многозначности также нуждалось в распространителях, которые проявили бы в отдельных лексемах значения греческого слова: ‘определенная стоимость, мерило ценностей’, ‘цена, стоимость’, ‘часть добычи’, ‘возмещение, воздаяние’, ‘награда’, ‘достоинство (по званию или чину)’ и т.д. Эти значения греческого слова и развертываются, в зависимости от текста, в переводах, так что привлечение переводных текстов к рассмотрению семантики древнерусского слова не всегда окажется корректным, если при этом не учесть семантики распространяющих смысл греческого слова слов; ср. в «Истории» Иосифа Флавия чьсть и многоимание, на чьсть и на златоимание, с честию и с дары, чьсти и величия, а впоследствии как завершающий момент длительной отработки устойчивого оборота — честь и слава. В отношении к Богу честь также может быть проявлена, однако в таком случае употребляется уже не сочетание слов, а сложное слово благочьстье. Благочьстье — столь же материальный дар пожертвования, но, в отличие от «добычи» или «стоимости» в значении прежних сочетаний (имание, златоимание), дар благой. Различие в назначении «чести» уточняется добавлением нового корня — безразлично в какой форме. В чередовании контекстов с ключевым словом в его употреблении постепенно возникают и оформляются ценностные характеристики слова, а уж это обстоятельство и привело впоследствии к возникновению синонимов. Греч. αίνος связано с обозначением изречений: ‘повествование, речь’, ‘притча’, ‘поговорка’, ‘похвальное слово’, которое при этом иногда еще и поется. Отсюда естественные расширения слова в славянских переводах: въспѣ хвалу, хвалами и пѣсньми, пѣснь и хвалу, въспѣша и въсхвалиша и т.д. Довольно часто глагол хвалити в ранних славянских переводах заменялся (по смыслу) глаголами пѣти, молити, печаловати и др., опять-таки в соответствии со значениями греческого эквивалента. Таким образом, хвала постепенно увязывается со славой признаком ‘слово, нечто изрекаемое’, но одновременно близко и к понятию о чести — признаком материализованной награды, воздаяния. Чьсть, слава, хвала в известном отношении становятся синонимами, поскольку под давлением новых текстов состоялось перераспределение некоторых сем этих славянских слов[78]. Во всех подобных случаях (а их множество) принципом семантического совмещения и наложения являлось не сходство, а наоборот — различие в значениях слов. Постепенно выработалась некая семантическая корреляция, в границах которой, например, все оттенки «доброго, хорошего», положительно маркированного сосредоточились в общей противоположности к злому, худому. Например, в переводе Пчелы противопоставление доброго злому эксплицируется словами добръ и золъ даже там, где греческий оригинал не дает таких определений, но в соответствии с общим смыслом высказывания они требуются; так, говорится о царском роде и его потомках, и славянский переводчик уточняет: «от него плодъ благъ», потому что иным и не мог быть царский наследник. В принципе, можно установить конечный список наиболее существенных корреляций такого рода — и все они окажутся идеологически существенными, опорными для данной культуры[79]. В своей совокупности они создают надлексический уровень семантики, представляя значимости в наиболее общем виде. Создание такого «флера», охватывающего и покрывающего значения отдельных слов, и происходило довольно длительное время под влиянием переводной письменности. Роль отвлеченных значимостей, стоящих над лексическим значением отдельных слов, не просто в организации лексической системы самостоятельной книжной культуры — появление черт сходства приводит к формированию синонимии, к сближению семантики слов по общим признакам сходства. Параллельно этому на такой основе кристаллизовались устойчивые сочетания по видимости однозначных слов типа честь и слава, горе не беда, стыд и срам, радость и веселье и др. со связанной (позиционно обусловленной) семантикой для выражения одного общего понятия, т.е. соответственно [хвала], [скорбь], [совесть], [праздник]. И в этом случае также, но иным образом, происходило включение смысла заимствованного слова в его славянский эквивалент (например: образъ при наличии слов лицо и видъ — образъ лица и т.п.), а также перераспределение значений славянских слов под давлением инородной культуры. Последнее можно иллюстрировать историей слов животъ, житие, жизнь в древнерусском литературном языке. Первоначальное разграничение по функции слов животъ и житие (признак, которым обладает живое существо, и — форма его проживания[80]) после введения в оборот болгаризма жизнь (скорее всего — в книжной практике писателей Киево- Печерского монастыря второй половины XI в.[81]) отчасти размывается, и новая лексема долго не находит себе места в системе соответствий — пока не создаются условия для синонимических отношений на основе сходства слов и общности их исходного корня (жизнь одновременно и житие, но также и животъ — например, по имущественным отношениям). Таким образом, и синонимия самого литературного языка возникает как результат перераспределения значений в границах семантической общности. Подобная синонимия в древнерусском тексте есть способ реализации «многозначности» синкретического по смыслу древнерусского слова, поскольку отсутствие системной значимости слова в этот момент обедняло и его лексическое значение, и только в тексте становилось возможным выявление его смысла. Жизнь и житье — того же рода сочетание, что и честь и слава, но на первом этапе формирования синонимии они не являются, строго говоря, синонимами: только в совместном употреблении они дают выражение для нового понятия, образуя номинацию родового для обоих слов признака — ‘период существования кого-либо’. Возникновение парных сочетаний указанного типа, в границах которых вырабатывались общие признаки сходства, — столь же необходимое условие образования синонимии, как и обратный процесс семантического совмещения слов разных языков. Являясь категорией исторической, синонимия в своем становлении проходит несколько этапов развития. Как способ системной организации слов синонимия замещает функционально слабый способ формирования лексики в систему по идеологически опорным признакам. Как можно судить по собранным в литературе вопроса примерам, первоначально это проявлялось в виде сопоставления заимствованного слова с калькой (скиния — сѣнь), затем в виде глоссы или линейным соположением вариантов, которые возникли на основе калькирования или глоссирования (трѣба жьртва), еще позже — как описанное уже распространение в текст (честь и слава и хвала), как различные способы художественного использования синонимов этого типа по мере их накопления в текстах. К последним относятся примеры символической симметрии типа псалтырных текстов-противопоставлений[82] или кажущаяся тавтология в сочетаниях типа бой-драка и т.п. Параллельно этому изменялись и способы организации новых текстов. У Кирилла Туровского в середине XII в. использование подобных «синонимов» дается принципом функционального параллелизма, т.е. так же, как и в традиционных текстах, ср.:
«... старци быстро шествоваху, да Богу поклоняться,
отроци скоро течаху, да прославят Господа,
младенци яко крилаты окресть Исуса паряще вопияху...»
Градация усиления вызывает и потребность в новом слове, которое, как считается, и содержательно «сильнее» предыдущего. Синонимический ряд осознается в контексте. Поскольку последовательность старци — отроци — младенци выражает общее родовое понятие (возрасты человеческой жизни), все последующие ряды и воспринимаются как формы параллельных родовых понятий, т.е. быстро — скоро — яко крилаты, шествоваху — течаху — паряще, поклоняются — славят — вопят, Богу — Господу — Исусу[83]. Принцип построения текста у Епифания Премудрого в конце XIV в. принципиально другой: нагнетание слов не дробит общее родовое понятие, а уточняет значение одного и того же высказывания. Когда Епифаний просит прощения за свое «худоумие», оправдываясь в смелости, полагает он, что «подабаше ми отинудь съ страхом удобь молчати, и на устѣхь своих пръстъ положити, свѣдущу свою немощь, и не износити изъ устъ глаголъ, еже не по подобию, ниже предръзати на сицевое начинание...». Внешнее сходство с синонимичностью определяется общностью номинации, однако художественная (описательная) сущность выражений как раз не совпадает: в описании постепенно совершается поворот позиции автора — от чисто внешней (молчать) через промежуточную (положить перст на уста свои — чтобы молчать) к внутренне обусловленной (слово не исходит из уст — в результате предпринятых действий). И «плетение словес» оказывается всего лишь попыткой выявить и выработать некий родовой семантический признак посредством нагнетения в тексте «неоднозначных» слов общего смысла. «Родовое понятие» остается вне текста, его нет в тексте, поскольку оно избыточно в художественно аналитическом представлении «рода». Никакой новой информации «синонимы» стиля «плетения словес» не дают, перечисление внешних подобий синонимам как бы затормаживает движение: «Егда же прииде кончина лѣть житиа его и время ошествия его наста, и приспѣ година преставления его...» Лета — времена — годины не существуют отдельно от жития — отхода — преставления, да и не важны эти имена как самостоятельные, только совместно они выражают какое-то понятие о «моменте смерти». Синонимия и здесь еще контекстно обусловлена, однако если в XII в. писатель видел общность «родового понятия» субстанциально, предметно и аналитически представлял его посредством словесного ряда, то для писателя на рубеже XIV- XV вв. важны уже отвлеченные признаки выделения и номинации, и признаки эти могут выражаться с помощью различных частей речи, разных сочетаний и т.д. Таким образом, разными путями многозначность слов, устраняясь в парадигме, порождает синонимию, т.е. законченный ряд отдельных, самостоятельных, но близких по значению слов. Сгущение словоформ в грамматические парадигмы обратным образом и порождает синонимию на уровне отдельных лексических единиц. «Системный характер» синонимии вторичен, это производное от грамматической парадигматики, на уровне отдельных лексем он отражает параллельный процесс категоризации на грамматическом уровне. Коль скоро под напором новой словесной культуры образовалась сверхсловная системная значимость, релевантные, базовые ее признаки неизбежно должны были сконденсироваться на более абстрактном (грамматическом) уровне, а издержки этого процесса «выпали в осадок» в виде неполной синонимии. В этом процессе приходится принимать во внимание и особое значение стилистически разных текстов в условиях постоянного перераспределения жанров и стилей. Собственно говоря, исторически изменяются не слова и не их значения. Изменяются тексты, принцип их порождения и их маркировки по стилю и функции. Создавшаяся в результате этого противоречивого и сложного процесса чрезмерная семантическая усложненность древнерусского слова в литературном тексте определялась внутренним противоречием между семантикой отдельного слова, значимостью его в границах системы и значениями в образцовых текстах: они не всегда совпадали. Честь в традиционных текстах XV в. может быть еще и ‘часть добычи, дар’, но в самостоятельном значении — ‘почет или уважение’; одновременно с тем в границах системы близких понятий слово честь обладало уже идеологической значимостью, пределы которой постоянно изменялись. Значения «слова» распределены теперь не по словоформам, а по функциям слова в текстах. Выходом из подобной (по существу — символической) многозначности слова могли стать разные пути ее устранения, из которых кратко обозначим следующие. Расхождения в формах, первоначально стилистически различных; за полногласной лексикой закрепились значения конкретные, за неполногласной — отвлеченные, ср. оппозиции городъ — градъ (цитадель) или голова — глава уже с XIV в. Расхождение в акцентных характеристиках, важных специально для устной речи, сразу же выделяет самостоятельные слова: гу́ба ‘рот’ с последовательным ударением на корне слова; губа́, губу́ ‘залив’ с последовательным ударением на окончании слова; губа́, гу́бу ‘волость’ с подвижным ударением[84]. Начинается развитие словообразовательных гнезд, постепенно эксплицирующих отдельные значения исходной синкреты (которая на основе переработки текста развила контекстную многозначность), уже не в конкретных текстовых блоках, а в виде самостоятельных лексем. Так, по данным исторических словарей[85] можно установить историческую последовательность порождения самостоятельных лексем типа бѣл- (разумеется, чисто условно в хронологическом аспекте): бѣль — бѣлота (XI в.), а затем бѣлина (с XVI в.), почти одновременно бѣлость (1534 г.) и позже всего бѣлизна — разные степени отвлеченности признака, которые фиксируются в каждом новом образовании (тут же имели значение колебания в ударении и связанность форм в тексте: не все они имели полную парадигму форм). Возможны также грамматические вариации, ср. для трех разных значений слова образъ в литературном языке: о́бразы ‘виды’, образа́ ‘лики’, образцы́ — ‘образцы, типы’ и т.д.[86] Общая устремленность системы заключается в выделении самостоятельных лексем для выражения определенных значений, как только они становятся социально важными, уже не в текстах-образцах, а в языковой системе. Сегодня символизирующее мышление средневековья мы воспринимаем сквозь призму дошедших до нас языковых текстов, и потому аналитическое к ним отношение должно быть особенно критичным, тем более, что постоянно изменялось взаимное отношение слова и текста друг к другу. Многозначность слова или синонимический ряд в представлении современного лексикографа и по мнению средневекового книжника — совершенно разные, а во многом и противоположные понятия.
ДРЕВНЕРУССКИЙ ЯЗЫК: ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
1. Общекультурные аспекты истории русского языка
1.0. Личность — общество — культура, определяя друг друга, совместно создают структуру социокультурного взаимодействия, причем ни один из членов этого триединства не может существовать без двух других. Это помогает уяснить и направление изменений, и перспективу их научных исследований. Основным изменением со временем становится движение от цельности общества к слитности государства и от культуры к цивилизации, так что сегодня соотношение «личность — государство — цивилизация» организует структуру совместного взаимодействия всех компонентов национального мировосприятия, исторически отложившегося в категориях и формах родного языка. Внутренний конфликт между обществом и государством, между культурой и цивилизацией постоянно создает динамическое напряжение развития, постепенно снимающего обслуживающие их формы — этнические и языковые — в пользу наднационального и вневербального. На векторной линии этого качественного преобразования и следует строить модели интересующих нас предметов научного изучения: для историка языка это — языковые единицы, категории и признаки, изменяющиеся во времени. 1.1. Средневековую культуру следует определять не по изменчивым сиюминутным интересам, а по качественным признакам ее самой, как бы изнутри системы, в той мере, в какой это оказывается доступным современному исследователю. Это была культура «идеациональной истины», истины веры, открываемой Божией волею посредством образцовых текстов и через достойных этого пророков. Это культура символов, извлеченных из сакрального текста и постоянно воссоздающих творческое напряжение в культурной среде. Отсюда все признаки средневековой культуры: христианская культура носит вербальный характер (все художества и искусства основаны на слове — Слове — Логосе) и потому имеет ярко выраженный ограниченный этнически характер, т.е. существует только в народных формах, хотя сам термин «народный» применительно к тому времени следует понимать достаточно широко: как суперэтнос, а не как отдельная его часть, например, как племя, род или народ. 1.2. Культурное и этническое совмещаются в исторической перспективе языка. В этой исторической перспективе отчетливо просматриваются линии соединения и вариативности языковых форм: например, «русское» и «украинское» варьируют лишь на фоне западнославянского, с которым долгое время составляли единое целое как система, но одновременно противопоставлены южнославянскому по культурному признаку (так называемое первое южнославянское влияние); затем варьирование «русского» и «болгарского» осознается на фоне юго-западного (в широком смысле «русского» же), на новом, литературно-книжном уровне разработки текста представляя собою системное единство на фоне второго южнославянского влияния; наконец, образуется вариативность «русское» — «русское церковнославянское» на фоне уже ставших самостоятельными украинского и белорусского языков, с возможным (на литературном уровне) воздействием их на оба варианта русского, т.е. славянорусского и великорусского, в форме так называемого третьего южнославянского влияния уже только на книжную норму. Проблем общего характера, идеологических, этнических и т.п. в разработке этих вопросов накопилось больше, чем сугубо научных, и прежде всего — собственно лингвистических. С точки зрения лингвиста, важна лишь возникающая при определенных условиях возможность языкового варьирования в границах каждой отдельной культурной зоны как условие и обеспечение уверенной устойчивости всего этноса в изменяющихся условиях культуры. Если принять, что этнические признаки продолжают языческую культуру, т.е. являются чем-то природным в противопоставлении к культурному (христианскому), тогда оказывается возможным возникновение конфронтации, хотя оппозиции, разрушающей гармонию отношений и связей, здесь не возникает, поскольку славянский этнос просто осваивает новую для него культурную традицию, тем самым восполняя ею собственную «природу» посредством форм и категорий родного языка (не речи!). Таков именно процесс ментализации культуры, а не механического заимствования внешних ее знаков иформ.
2. Этапы развития древнерусского языка
2.0. Следует учитывать теоретически возможные предпосылки схождения и расхождения культурных зон, обеспечивавших становление и развитие национальных континуумов на основе общности языка; отметим важнейшие из этих предпосылок, хорошо изученных наукой. 2.1. Накопление диалектных расхождений, в принципе, идет с древних времен и определяется неравномерностью в развитии различных элементов языковой системы; так, носовые или редуцированные гласные одновременно, в одной системе, и сохранялись, и исчезали: диалектика их функционирования заключалась в соответствии ведущим текстовым, т.е. информативно важным, принципам организации речи. Смена культурной парадигмы — от язычества к христианству — долгое время создавала возможность удвоения культурных форм, что давало толчок к преобразованию прежде всего языковых форм. Изменялась формальная сторона языка (фонетика, морфологические формы) при сохранении прежних семантических оппозиций и противопоставлений, поскольку в процессе наложения христианской культуры через культурные тексты семантика оказывается релевантной стороной языкового знака; она существенно важна для смысла традиционных текстов и варьированию не подлежит. Вместе с тем создавалась диалектически сложная картина незаметных переходов от прежней системы языка к новой путем варьирования изменяющихся форм в речи. Часто возникающие в научной литературе споры о том, были ли в древнерусском языке носовые гласные или их не было вовсе, когда исчезали редуцированные гласные — в XI или в XIII в. и т.п., выдают интерес к чисто внешней стороне общего культурного процесса, но и он, однако, показывает, что специфическая мировоззренческая ситуация эпохи средневековья наложила свой отпечаток также на все изменения языка. 2.2. В связи с этим кристаллизация отдельных диалектных зон, впоследствии давших начало самостоятельным восточнославянским языкам, всегда оказывается относительной к общей системе и ко времени, вообще определяется установками ретроспективного характера: чем больше сходства какого-нибудь древнерусского говора с современными говорами, тем меньше возможностей «увидеть» его в старых текстах; так, А. И. Соболевский не смог описать «ростово-суздальский говор» Древней Руси из-за сходства основных его признаков с характерными признаками современного литературного русского языка, генетически связанного с ним. Также в отношении к XIII в. невозможно утверждать, что «украинский язык уже образовался, а русский еще нет»: в системном функционировании древнерусского языка создавалась, по выражению Ф. П. Филина, «лингвистическая непрерывность» как в пространственной, так и во временно́й последовательности. Тут важен момент совпадения сразу нескольких принципов периодизации, и при их учете оказывается, что и великорусский, и малорусский языки сформировались почти в одно и то же время — в конце XIV в. (согласно мнению Ю. В. Шевелева, малорусский — после 1387 г.). 2.3. Понятие «язык» формировалось в научной рефлексии столь же сложными путями, как происходило и развитие самого языка; это тоже диалектически двусторонний процесс. В сознании и в рефлексии о языках осуществлялось «снятие» исходного синкретизма (функциональной нерасчлененности) представления о «языке — народе — вере — общине (мире)», т.е. языковые, этнические, конфессиональные и социальные характеристики, содержавшиеся слитно в самом термине «язык», устранялись одна за другой по мере осознания собственно лингвистических оснований явления «язык». Этот процесс на всей восточнославянской территории завершался как раз к концу XIV в. и был основан на указанных в п. 1.2 противопоставлениях, влиявших на процесс сложения великорусской народности. Так переосмыслялся и родовой термин (гипероним) «русский» при новых видовых «малорусский», «великорусский», «червонорусский», «белорусский» — в зависимости от отношения соответствующих языков к общему для них в течение долгого времени литературному языку: он выступал как инвариант возможных территориальных расхождений. Именно литературный язык послужил моделью для организации в систему разрозненных средств языка, что и вызвало, в свою очередь, необходимость в создании литературных норм на основе национальных языков, уже без влияния со стороны близкородственных (польского, церковнославянского или какого-то иного). Это также был длительный процесс, и для уразумения его сущности следует осмыслить все ценностные характеристики возникавших при этом форм и категорий: проблема выбора стилистических форм есть целиком национальный аспект истории языка. 2.4. Таким образом, начала современных восточнославянских языков много древнее самих языков, но их формирование происходило в процессе организации этноса и послужило новой формой воплощения его активных творческих сил; литературный язык как система существовал всегда, но — в различных формах. 2.5. Условно время существования древнерусского языка ограничим эпохой раннего средневековья — от утраты носовых до падения редуцированных гласных и связанных с этим основных преобразований языковой формы: середина X — конец XIV в. Эпоха зрелого средневековья — с конца XIV в. — определяется выделением самостоятельных восточнославянских языков, в границах которых развертываются преобразующие систему семантические изменения на лексическом и грамматическом уровнях и возникает тенденция к синтаксической перестройке текста. Новое время начинается с конца XVII в. и характеризуется углублением всей системы благодаря формированию инвариантных для нее литературных норм, а также активизации дериватологических и стилистических процессов. Язык великорусского народа становится русским литературным языком. Эквиполентность — градуальность — привативность как определяющие все частные изменения классификационные модификаторы системы, уточняя и обогащая друг друга, постоянно усложняют семантическую структуру языка все новыми возможностями развития (от метонимии к метафоре и т.п.). 2.6. Неразработанность основных разделов истории русского языка: акцентологии, семасиологии, стилистики и др. — становится главным препятствием на пути решения многих важных проблем. В частности, мы мало что знаем о разговорной — устной — речи восточных славян как раз по причине отсутствия данных об указанных сторонах языка. Предварительные гипотезы, высказанные классиками нашей науки в ХІХ—ХХ вв., в условиях, отличных от наших, и на основании ограниченных тогда еще материалов, сегодня уже не могут нас удовлетворить. Их решения предопределялись взглядом, каким они всматривались в прошлое: с высоты своего времени, а не «изнутри», ретроспективно, а потому и субъективно, притом же и в весьма узком диапазоне, только со стороны языковой формы, взятой вне общего культурного контекста, чисто эмпирически.
3. Перемаркировка оппозиций в языке
3.0. Язык — важнейший элемент культуры народа, он обслуживает различные аспекты деятельности, в языке формируются основные понятия данной эпохи, с помощью языка развиваются новые формы мышления, накопления информации и ее сохранения. По этой причине изучение конкретных изменений языка целесообразно соотносить с историей духовной культуры народа — носителя данного языка. 3.1. Углубленные исследования последних лет позволяют по-новому поставить вопрос о содержательном смысле истории русского языка. Последовательность развития грамматических категорий, основных единиц системы, даже изменения на уровне грамматической формы показывают, что на протяжении последнего тысячелетия происходило важное изменение в классификационном принципе исчисления объектов. Эквиполентные оппозиции, актуальные в эпоху раннего средневековья (до XIV в.), сменялись новыми противоположностями — градуальными оппозициями эпохи зрелого средневековья (до конца XVII в., см. п. 2.5). Основные тенденции в развитии языка определялись именно этими установками на квалификацию подлежащих рассмотрению феноменов. На исходе этой эпохи, в новое время, развивались корреляции, построенные на привативных оппозициях, что, в конечном счете, стабилизировало систему языка в целом, превратив ее в функционально оправданную структуру, способную стать инструментом логически точной мысли и творческой деятельности современного человека. Подобные изменения языка происходили изофункционально всем остальным движениям культуры — мировоззренческим, эстетическим, этическим и т.п. изменениям классификационного принципа и перехода исчислений с тернарного градуального (типа Троицы) на бинарный привативный (их содержательный смысл мы рассмотрим особо). Одновременно происходило и последовательное преобразование в содержании и интерпретации языкового знака, в результате чего сформировались современные представления о знаке и знаковых системах. Особенно это коснулось семантики слова. Установка на релевантность только включенного в типичную для данной культуры оппозицию предмета, явления или признака определяла систему наличных единиц и категорий языка, их взаимное распределение и правила построения текста. 3.2. Например, на фонологическом уровне эквиполентность гласных /е/|/о/ устанавливала функциональную и системную равноценность обеих фонем по признакам «передний и нелабиализованный» или «непередний и лабиализованный». Возникновение градуальной оппозиции привело к перестройке всей системы гласных неверхнего и ненижнего подъема, что и осуществилось в известных нам изменениях гласных «ять» и «ô закрытого», в результате чего образовался градуальный ряд фонем типа /ê — е — о — ô/ с различиями по говорам русского языка; образовалось иерархически выраженное скольжение интенсивности признака ряда — от самого переднего до самого непереднего, последний по этой причине и материализовался в лабиализованном (происходило усиление оппозиции). Развитие системы в направлении к нашему времени хорошо известно: сжатие системы до бинарности привативного типа, согласно которому в данном фрагменте системы /е — о/ маркирован лабиализованный, а его противочлен остается без признака различения. На всех этапах изменения перемаркировки фонем, и даже их акцентные характеристики, в своем развитии безусловно подчинялись ведущему классификационному принципу, так что после XVI в. фонема /ê/ совпадает с фонемой /е/, фонема /ô/ — с фонемой /о/ и т.д. В морфологии формирование градуальности можно проследить на примере развития почти всех грамматических категорий или парадигм. Унификация типов склонения, например, первоначально охватывала грамматические формы по горизонтали (попарное смешение форм общего значения: в род. падеже дьне — дьни, а затем — после вторичного смягчения согласных — дьни — дня; в дат. падеже домоу — домови и т. п.), что отражает эквиполентно ориентированную установку на уподобление функций языковых форм по смежности. В эпоху зрелого средневековья принцип унификации форм изменяется, возникает градуальный ряд вертикального типа и происходит совмещение старых типов основ в зависимости от категории грамматического рода, акцентного соответствия и — главное — от сходства словесного корня. В построении текста также происходят свои изменения. Эквиполентность равнозначных (точнее — подобозначных) форм или категорий сменилась градационным рядом сходных форм или категорий. Например, формулы типа стыд и срам, честь и слава и т.п. раскладывались на семантические составляющие формулы с включением новых лексем и с расширением текста: честь и слава и хвала и т. п. Так возникал новый стиль, известный как стиль «извития словес». 3.3. Таким образом, любое известное нам изменение языка, речи или текста в общекультурном аспекте определялось идеологически важным классификационным принципом, с помощью которого происходило перераспределение наличных языковых средств.
4. Гиперонимизация на метонимической основе
4.0. Основные изменения древнерусского языка, обеспечившие последовательное усиление его системности и нормативности, могут быть описаны как процесс порождения гиперонимов на метонимической основе. Всеобщая устремленность языковых единиц и категорий к обобщению и к усилению степеней отвлеченности приводила к снятию с лексико-семантического уровня и перенесению на уровень категориально-грамматический тех отношений и связей, которые нуждались в категориальном абстрагировании от конкретно-вещного содержания. Так, из глагольных способов действия развиваются видовые противопоставления, которые оформляются с помощью тех же глагольных основ, но уже независимо от конкретных лексико-грамматических групп глаголов; лексические способы выражения лица у имен складываются в грамматическую категорию одушевленности; членные именные формы развивают категорию имени прилагательного с четкой экспликацией отвлеченного признака качества и т.д. Другими словами, на невнятной по синтаксическим свойствам определенности / неопределенности вырабатывается несколько самостоятельных категорий общеграмматического значения. Одновременно увеличивается количество лексических гиперонимов, т.е. слов родового значения, как семантических инвариантов, образованных на основе глагольных корней: знак от значити, одежда от одети, питье от пити, именье от имети, житье от жити и т.д. — при самых разных гипонимах конкретного значения, указывающих различные виды еды, питья, владения и пр.; ср.: кручина — недуг — болесть при гиперониме болезнь. Увеличение количества гиперонимов также обогащает язык, поскольку приводит к построению системных рядов на логическом уровне: горизонтальные отношения по различиям (антонимы: низ — верх, перед — зад и пр.) усложняются вертикальными отношениями по сходству (синонимия) и усиливаются совместным их отношением к общему гиперониму. Гипонимо-гиперонимические отношения способствуют логическим операциям мышления и, в свою очередь, вызывают два важных изменения в языке. 4.1. Во-первых, развиваются новые словообразовательные модели на морфемном уровне; во-вторых, усложняются различные синтаксические конструкции на лексическом уровне. Эти процессы и становятся основным содержанием языковых изменений с конца XV в., т.е. после того, как сложились грамматические парадигмы и развились гипонимо-гиперонимические отношения на лексическом уровне. Обратной стороной этих процессов, связывающей их все в единое целое, стало усложнение самой системы языка. Проявляется это в образовании литературного его варианта, т.е. в формировании литературного языка на национальной основе. Литературный язык есть язык интеллектуального действия и творческого обогащения художественных ресурсов национальной культуры. Такой язык — высшая форма национального языка — может возникнуть только как следствие длительного органического развития собственных языковых средств. В таком именно направлении и развивался русский язык эпохи зрелого средневековья. 4.2. Как уже отмечалось, в соответствии с общей установкой древнерусского языка все изменения осуществлялись на метонимической основе. Уже в праславянской системе принцип метонимического сопряжения по смежности являлся ведущим, проявлялся даже на фонемном уровне. Фонема выступает как слогофонема, т.е. представляет собою функциональное единство согласного с гласным (СѴ), что определяло, в сущности, все фонетические и морфонологические изменения праславянского языка, ср. закон открытого слога, закон слогового сингармонизма, закон количественно-качественного изменения гласных в пределах слога. В соответствии с метонимическим принципом контекстных соединений смежность осознается и как пространственно-временная связь, и как различие логически соотносимых предмета и понятия (представления) о предмете: признак, состояние, действие, количество, принадлежность и т. д. 4.3. На метонимической основе проявлялись регулярные соотношения энантиосемии (перед как ‘начало’ и ‘конец’; подъшьва как ‘подошва’ и ‘почва’), собственно метонимии (гнездо — и ‘вместилище’, и ‘вместимое’); ср. также смещение значений в древнерусском слове (типа пълкъ: ‘людской состав рода (толпа)’ → ‘народ’ → ‘вооруженный народ’ → ‘вооруженная часть народа’ → ‘войско’ → ‘сражение’ и т.д.). Сюда же относятся разнообразные модели суффиксальных образований, прежде всего деминутивы и пейоративы, а также квазинегативы (с не-: неклен, нелюди и т.п.), вообще все типы редупликации (как сложения типа водолей, так и удвоения типа горе-беда); формирование новых частей речи: переход косвенных предложно-падежных форм в наречие, развитие деепричастий, образование прилагательных из субстантивных сочетаний типа горе-беда → горькая беда и пр. с последующей субстантивацией такого рода прилагательных (столовая комната → столовая), а также развитие качественных имен прилагательных из относительных (коричный → коричневый), метонимические отношения семантической конверсии (совмещение залога и переходности, актива и пассива, субъект-объектных отношений и т.п.), вообще все формы прономинализации (такое дело..., это место — у Аввакума, и т.п.). Усиление предикативности в высказывании и формирование единого предикативного центра в нем развивало синтаксические средства относительного подчинения в сложном предложении по смежности относительного слова и связанного с ним логическим отношением союза: условие → причина и др. (когда бы..., то...; есть ли..., тогда...); одновременно развиваются на метонимической основе модальности различного типа и — главное — происходит усиление относительных значений у прежде знаменательных частей речи (развитие союзов, предлогов, частиц из утрачивающих парадигму имен: вокруг, вроде, ради...).
5. Символизм. Синкретизм. Синтетизм
5.0. Так называемые художественные средства древнерусского языка вовсе не прием поэтической — сознательной — техники, а органически присущие живому языку особенности, которые могут быть описаны в правилах «трех С»: в отношении к предмету реального мира языковой знак предстает как семантическая синкрета, в отношении к представлению (понятию) о вещи — как символ, в отношении к тексту, организованному с его помощью, он — синтетичен. 5.1. Практическая необходимость «в веществене телеси носити невеществене» ориентирует сознание на символ, т.е. в уподоблении одного (явного) другому (известному) видеть образ третьего (непостижимого «невещественного»). Принцип «двойного отражения», которым оперирует средневековое сознание, нуждается в системе символов, «по образу и подобию» которых не только создаются новые тексты, но и толкуются тексты традиционного содержания. В символическом значении может выступать любое слово, каждая часть речи, всякая языковая форма — в той мере, в какой они укладываются в структуру троичных исчислений. Так, в грамматических руководствах XVI в. находим распределение сущностей в иерархии «сил», выражаемых символически с помощью языка: святость — посредне — отпадшо (соответственно: ангели — чьловѣкъ — беси) соотносятся с формами и значениями (в той же последовательности):
единственное — двойственное — множественное число; мужской — средний — женский род; имя — причастие — глагол; аорист — имперфект — перфект и т. п.
И вряд ли случайно, что в последующих изменениях языка исчезают или в корне преобразуются категории «среднего» ряда, связанные с конкретным вымещением «земного» (человека), т.е. двойственного числа, среднего рода, краткого причастия и даже имперфекта раньше, чем аориста, в то время как крайние члены градуальной оппозиции вступают в привативные отношения с маркировкой то по первому, то по второму оппозиту (например, в старорусском языке маркированы имена мужского рода, а в современном языке — женского). Взаимообратимость символического и узкосемантического значения сама по себе предполагает связь категориального пространства языка с идеологическими представлениями своего времени. Кроме значения каждая языковая единица имела еще свою особую значимость, определяемую не ее отношением к другим единицам системы по определенному признаку, а тем, какую символически важную категорию она воплощает в себе как ее образ. 5.2. Распространенное суждение о средневековой культуре как культуре символа требует уточнений либо по содержанию понятия «символ», поскольку его признаки постоянно изменялись, либо по самому объему его, потому что под словом «символ» в разное время могли понимать то образ, то собственно символ (только в эпоху зрелого средневековья), то просто эмблему и тем самым эксплицировать последовательные этапы развертывания словесного знака как знака культуры. Отражение такой динамики символа в сознании можно найти и в традиционной для средневековой культуры проблеме универсалий, и в последовательной отработке дифференцирующих познаваемые объекты признаков; последние, постоянно усложняясь в качестве (признак — качество — отношение), указывают на изменяющееся восприятие образа/понятия. На примере цветовых обозначений — излюбленной темы семасиологов — можно показать все преобразования в качестве и смысле средневекового символа, который предстает то как символический образ, то как собственно символ, то как образное понятие, постепенно сформировавшееся в фокусе четкого наведения на резкость содержания понятия на его объем (см. наст. сб., с. 352 сл.Таким образом, цвет как бы сгущался из неопределенных звуковых ассоциаций…»). 5.3. Важная задача истории культуры — показать развитие языка как бы изнутри, со стороны самого средневекового сознания. Единственно достоверный источник соответствующего этой цели материала — язык, категории и формы которого, собственно, неявным образом и служили для экспликации ментальности. На протяжении всего средневековья наводящим элементом (толчком в развитии) была какая-то одна кардинальная идея, с помощью которой и происходило соответствующее потребностям накопление идеологических понятий, художественных образов и логически необходимых концептов мысли. Формально логическим масштабом в таком исследовании может стать типология отношений между предметом (т.е. референтом: объем понятия в отношении к объекту) и предметным значением словесного знака (т.е. денотатом). Возможные их сочетания с наличием/отсутствием референта и денотата в термине-знаке дают четыре возможных их сочетания, в точности соответствующих образу, понятию, символу или концепту-мифу (см. наст. сб., с. 63 Учитывая все сказанное, было бы полезно…»). Прикладывая этот масштаб к реальному развитию средневековой восточнославянской ментальности, можно выделить четыре эпохи в последовательности их развертывания: ранее средневековье с номиналистическими — терминологическими — концепциями аристотелевского типа с XI в.; зрелое средневековье с присущим ему реализмом (эссенциализмом) неоплатонического типа с конца XIV в.; «символический идеализм» с конца XVII в. (выразительно представлен, например, в сочинениях Григория Сковороды); новейшая эпоха с ее поклонением понятию (термину, науке и прочим современным фикциям), которое в исторической перспективе развития символизирующего мировоззрения предстает как эмблема весьма истощенного традиционного мифа, т.е. и является «концептом» в понимании русских философов начала нашего века. 5.4. Соответствующие поправки в толкование средневекового символа можно внести, исходя из логики развития самого символа, поскольку такое развертывание символа можно описать как объективный процесс приращения смысла в исходно синкретичном словесном знаке: в древнерусском понимании это имя, в средневековом — знамя, в современном — знак (см. наст. сб., с. 491 ). Вообще говоря, средневековый символ — это образ и подобие, т. е. идея смысла (разумъ) и форма его воплощения (глаголъ), которые в своей совместности и создали идеальный тип символа, так сказать, типичного символа. 5.5. Если слово понимать как символ, синкретизм словесного знака можно описывать в виде сложного представления, данного как образ (т.е. не логически, а психологически) и воплощенного в символе (см. наст. сб., с. 53 сл. СЕМАНТИЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ КАК КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКА», с «Образъ как синкрета общего смысла»). Синкрета — не сам знак, не слово, а только свойство знака, связанное с обозначением сущностных признаков, т.е. одновременно и образ, и содержание понятия. Семантический синкретизм можно понимать и как выражение динамических тенденций в языке, синкретизм словесного знака воплощает диалектику раздвоения смысла и удвоения форм, постоянно осуществляемых в языке, поскольку лишь таким путем возможно преодоление избыточности форм и достижение специализации значений. Синкретизм языкового знака как воплощение символа культуры служит основанием для синтеза всех уровней языка и для связи всех его значений. Однако этим не ограничивается смысл синкреты. Она представляет собою своеобразное средостение, посредством которого слово и язык выходят за пределы языка, делая язык существенной частью и оправданием культуры. Именно это позволяет взглянуть на действие языка извне и представить содержательные аспекты языковой ментальности более или менее объективно (см. наст. сб., с. 72 сл. МЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКОГО СЛОВА В ЯЗЫКЕ И В ФИЛОСОФСКОЙ ИНТУИЦИИ», с начала). 5.6. Последовательное снятие синкретизма языковых значений составляет основное содержание категориальных изменений в языке. Например, сочетание двѣ головѣ отражает свойственный старославянскому языку принцип передачи реальных отношений; синтаксически это согласование, а морфологически — выражение формы двойственного числа в им. и вин. падежах. Сочетание с именем дает избыточное выражение двойственности — на лексическом и на грамматическом уровне одновременно. Необходимость в упрощении формы вызывает серию изменений; в данном случае упрощение семантики идет путем увеличения форм выражения: две головы с управлением вместо прежнего согласования, что также ведет и к обогащению синтаксических связей в тексте (в речи). Особенно интенсивно преобразуется синкретизм вспомогательной лексической единицы, поскольку основная ее функция — однозначно передавать соответствующие связи между словами (ср. семантическое изменение союзов, утрачивающих синкретизм причинно-временных или причинно-целевых значений, а также исходных значений простых предлогов: за, от, по и др.). 5.7. Соотношением символа как знака и синкретизма как воплощенного в данном знаке содержания определяется установка на синтаксические формы выражения символа в тексте. В исходной древнеславянской системе не было еще формально и семантически выраженного противопоставления многих грамматических классов слов, кроме наиболее выразительных имени и глагола, которые различались характером основы, т.е. фонетически; вдобавок, в тексте имя и глагол могут заменять друг друга, что также свидетельствует об их синкретизме. Отсутствовала также строго отработанная система грамматических категорий, которые выражались синтаксически, с помощью сочинения как основного способа соединения предложений в тексте и с помощью согласования как основного способа соединения слов в тексте. Следовательно, и сами по себе синтаксические связи выражались собственно морфологически: вторые падежи, беспредложные падежные формы в составе предложения, изменение сочетаний типа двѣ головѣ и т.п. Взаимоотношение устной и книжной речи, во многом зависимой от синтаксиса переводных текстов, вызывало постоянную несогласованность в предпочтении имени или глагола как центра предложения-высказывания и в формировании его логической перспективы. Устная речь строилась на ритмическом соотношении ударных/безударных слов (например, в отношении порядка слов и распределения вспомогательных слов), но зато с предпочтением предикативного центра, с ориентацией на глагол, с помощью которого создавался метонимически организованный ряд одномерных — согласованных в сочинительной связи — высказываний. Наоборот, книжный текст строился на логическом соотношении основных элементов высказывания, которые создавали и ритмическое соотношение его элементов, но зато с предпочтением имени как его центра, поскольку книжный текст обычно строился как определение символа, раскрытию которого и должны были быть подчинены все языковые средства изложения, данные в определенной, метафорически выстроенной иерархии. 5.8. Представление о типичном высказывании в древнерусском тексте дает Слово о полку Игореве, весьма характерный памятник, совместивший в себе стихию устной речи, но обработанный книжником (книжниками). Предложение в этом памятнике создается с помощью определенного набора устойчивых речевых формул, которые друг с другом в пределах предложения совмещаются по принципу синтагматической последовательности относительно ядра высказывания, а расположение самих формул регулируется по всем законам риторики, т.е. по семантическим или стилистическим признакам. Связь текста с устными формами народного творчества заметна по трехчленному строению предложения (обычная последовательность: подлежащее — сказуемое — дополнение), по их краткости (в среднем пять слов в предложении) и по тому, что в начало высказывания выдвигается подлежащее или сказуемое, но не обстоятельство или дополнение. Частое отсутствие глагола-связки в составном сказуемом подчеркивает важность образной, а не логической структуры предложения, с необходимой для создания символа многозначностью, что, в свою очередь, подчеркивает важность самостоятельных формул, а не предикативно нагруженного предложения. Та же функция у разного типа односоставных предложений и у причастных оборотов. Семантический синкретизм символа поддерживается и синонимическими конструкциями, среди которых и архаические книжные, и разговорные, ср.: Нощь стонущи ему грозою птичь убуди или оборот стонущу ему (‘хотя/когда он стонет...’). 5.9. Переориентация текста на новые синтаксические формы выражения — от синтетизма к аналитическим формам выказывания — происходит в эпоху зрелого средневековья с XV в. и заключается как в усложнении самих синтаксических связей, так и в экспликации строевых элементов высказывания. Как обычно, преобразование семантических параметров предложения происходило в границах конкретных жанров-стилей (см. таблицу).
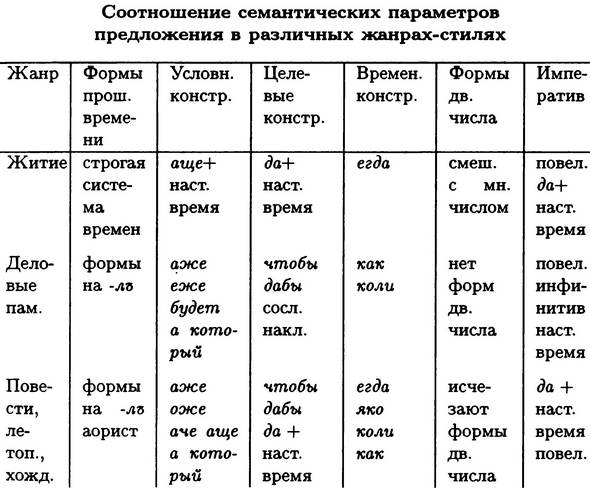
Заметно, что в памятниках XV в., на основе которых составлена таблица, механизм появления нейтральных стилистических форм, со временем становящихся нормативными в русском языке, всегда предстает как компромисс между книжным и разговорным русским или же приводит к упрощению форм (видно на формах дв. числа, повелительных и на формах прош. времени). В качестве носителя «среднего» стиля выступает деловая письменность, совмещающая в себе и речевую стихию простого говора, и следование определенным книжным нормам. Оказывается, что грамматическая норма устанавливалась не контекстными русизмами или славянизмами, в определенном стилевом ряду ставшими нормой. При этом каждая отдельная особенность языка, выявленная по линии «архаическая — новая», представляет только один из элементов нормы, но не входит в уже готовую систему норм. Это значит, что речь может идти не о стиле и норме, уже сложившихся в XV в., а о языковой норме в известном стиле речи, т.е. о функции обсуждаемых единиц языка. Своеобразие эпохи зрелого средневековья заключается в накоплении элементов нормы — в отличие от эпохи предыдущей, когда происходило накопление элементов парадигм (систем) языка. Качественное преобразование совершается на каждом следующем этапе развития языка, поскольку одновременное использование вариантов и инвариантов в одной и той же системе коммуникации затруднительно и потому избегается. 5.10. Преобразование текста связано с необходимостью передать авторскую точку зрения и оценить достоверность и важность информации; это, в свою очередь, повлекло за собою развитие логико-модальных распространителей текста. С XVI в. началось активное распространение текстообразующих элементов, происходившее в результате переразложения предикативных единиц прежнего текста. Поскольку основным элементом средневекового высказывания являлось имя-символ, все остальные слова, участвовавшие в построении высказывания, оказывались на периферии внимания и могли варьироваться в широких пределах, как по форме, так и по смыслу. Углубление синтаксической перспективы высказывания за счет перестроения наличных грамматических средств сопровождалось не только десемантизацией строевых слов предложения, но и семантической конденсацией некоторых словосочетаний, выступающих теперь в новой функции модальных распространителей. Например, указание на чужую речь возникало на основе глагольных форм, постоянно изменявшихся в процессе их текстовой доработки. Связано это было и с первоисточником (перевод греч. λέγει ‘говорит’), и с изменявшимся отношением к идее «вневременности», в какой должны были быть представлены модальные формулы высказывания. Если первоначально греческий образец был переведен в обобщенной форме прош. времени, в аористе рече, впоследствии потребовались преобразования форм типа по словам, сказывают и пр., что завершилось традиционной формой рекше ‘то есть’; ср. параллельное развитие формулы сирѣчь ‘так сказать’: якоже глаголють, говорят, по речи и т.д. Обновление форм выражения происходило постоянно, причем в различных жанрах по- разному, однако в современном языке сохранились отнюдь не самые новые по образованию варианты, ср. последовательность Бог вѣсть — ведает Бог — видит Бог. Варианты возможны и в употреблении одного и того же автора, однако только в XVII в., не раньше. У Аввакума просто рещи и просто молыть, т.е. ‘проще сказать’, или вкупѣ рещи, т.е. ‘вообще говоря’, ср. также авторскую переработку традиционного выражения — отсылки к авторитету: виждь! (у Кирилла Туровского в XII в.) — зри! (у писателей с XV в.) — поверь неложно (Аввакум). Изучение подобных преобразований текста остается важной задачей историка языка. Это есть восхождение от конкретности текста к отвлеченным сущностям грамматических категорий языка.
6. Динамика межуровневых единиц языка
6.0. До сих пор историки русского языка в «горизонтальном ряду» грамматических соответствий не очень полно исследовали семантику (например, грамматические категории в морфологии, семы в лексической системе), стилистику, т.е. функцию языковой формы, динамику, т.е. движение языковых форм во времени. То же заметно и в отношении к «вертикальному ряду» соответствий: применительно к различным уровням языковой системы у нас почти нет работ, исследующих изменения акцентологические, морфонологические и даже словообразовательные, хотя увлечение словообразованием стало приметой нашего времени. Дело ведь не в описании различных суффиксов и прочих словообразовательных потенций языка; речь идет о становлении словообразовательных парадигм как системы определенного класса языковых единиц, углубляющих семантическую перспективу языка и соединяющих различные уровни системы, в данном случае морфологию и морфемику. 6.1. Изучение динамики языковой системы, и притом независимо от хронологии, надежнее и успешнее всего может вестись на основе внутренней типологии межуровневых единиц системы — акцентных, морфонологических, словообразовательных и пр. Уже самой функцией они способствуют изменению формы в пользу семантики или изменению семантики в пользу формы. Своим положением в системе эти единицы обязаны такому важному свойству, как способность «раскладываться» на две составляющие, выступая перед исследователем либо как чистая форма, либо как чистое значение — в зависимости от того, с каким уровнем действующей системы в каждый данный момент мы соотносим межуровневые единицы. Динамические потенции межуровневых единиц делают их способными непосредственным образом и наглядно отразить изменение системы. Такова, между прочим, причина, почему они не могут найти постоянного места в синхронной системе языка: они по природе своей динамичны, так что и при описании современного состояния языковой системы ими пользуются для описания динамики синхронной системы языка. Однако эвристическая сила межуровневых единиц системы не ограничивается только этим. 6.2. Межуровневые единицы являются единицами языковой системы, т.е. они мало связаны с экстралингвистическими факторами изменения языка, к которым вынуждены прибегать историки языка в поиске новых «фактов». Они универсальны как лингвистический факт, поскольку благодаря им возникает потенциальная возможность соотноситься с различными базовыми уровнями языковой системы, так сказать, по вертикали, фиксируя внимание то на форме, но на значении обследуемых языковых единиц в системе. Вдобавок межуровневые единицы не маркированы ни стилистически, ни функционально, вообще ни по какому признаку; их нельзя исказить или принять в неверной перспективе их отношений и связей, разнонаправленных и разноценных. Они либо есть, либо их нет. Как только подобная динамическая единица системы получает какую-то маркировку и включается в систему внешних соответствий другим элементам системы, она сразу же становится фактом синхронически организованной и функционально оправданной системы, уже не доступным никакому изменению. Полногласие / неполногласие в русском языке прошло все этапы развития на акцентологической (до XII в.), словообразовательной (до XVIII в.) и на морфонологической основе и только после этого стало стилистическим средством фиксации функциональных вариантов. Говоря о полногласии / неполногласии и их формах безразлично к моменту их изменения, независимо от стиля, функции и семантики соответствующих форм в определенной словообразовательной их «упаковке», мы решаем проблему не исторически, а описательно. Соответственно нельзя говорить о каких-то «славянизмах» и тем более о «церковнославянизмах» в русском языке, не поняв подобной последовательности в преобразовании одного и того же по видимой форме явления, потому что его сущность постоянно видоизменяется, преобразованием формы способствуя как сохранению сущности, так и возможности высветить изменения в соседних фрагментах системы, иначе не познаваемых. Траектория их семантического изменения отражена на видимом спектре межуровневых единиц. 6.3. Для полной ясности приведем несколько примеров таких единиц, без фиксирующего действия которых семантическое изменение формы осталось бы незамеченным. Имена существительные *ā-основ раньше стали развивать переносные значения: исходная собирательность их значения как своего рода отвлеченное значение способствовала распространению метонимических переносов. Этот процесс отражается едва ли не с XI в., первоначально под влиянием эквивалентных по смыслу греческих слов, переведенных в определенном контексте и стиле речи. Каждое изменение значения фиксируется с помощью акцентного варьирования, допускаемого системой; ср. семантическое раздвоение при удвоении акцентных парадигм в случаях типа гу́ба и губа́ (парадигмы баритональная и подвижная) или мѣ́ра и мѣра́ (парадигмы баритональная и окситонированная). Первоначальный синкретизм пространства и времени распадался на восприятие отдельно времени и пространства, а также самостоятельных степеней их качества, что и потребовало специального обозначения пространственных «мер» и временных изменений, первоначально в границах одного и того же вида (не рода и вида), т.е. старым словом со значением меры и степени. Отсутствие сложившихся грамматических парадигм восполняется так называемыми акцентными парадигмами, связывавшими словоформы единым ритмическим соответствием весьма неустойчивой формы. Наконец, вместе с обозначившимся изменением акцентных парадигм на уровне отдельных слов (число подобных колебаний весьма значительно начиная с XII в.) обнаруживается очень важное преобразование в ритмической структуре устного текста: развивается стремление к подвижности ударения в словоформах, что вызвало существенные последствия в перестройке всей системы русского языка — редукцию безударных гласных; сложное противопоставление гласных в безударных позициях оказалось избыточным, и начались морфологические упрощения в системе, поддержанные или снятые третьим регулятором изменений в языке — словообразовательным. Увеличение количества производных и усиление их роли в тексте постепенно устраняет функциональную силу подвижности акцента и готовит новые изменения в системе вокализма. Более того, именно акцентные парадигмы становились той формой, в которой отливались парадигмы грамматические. 6.4. Другой пример того же рода дает фиксация понятийной категории в грамматических изменениях формы. Ю. С. Степанов в одной из своих работ представил последовательность словообразовательного ряда, исходя из типологических характеристик производных слов. Бель — второй порядок абстракции (абстрагируются свойства предмета, а вместе с тем и сам предмет представлен как отвлеченная предметность); белота, белина — абстрагируется только качество, но качество, присущее лишь некоторым предметам; белизна — качество любого белого предмета (повышение степени отвлеченности); белость — чистая абстракция данного свойства предметного мира. Историческая последовательность накопления словообразовательного ряда в действительности иная. Бель и белота (XI в.) — белина (конец XVI в.) — белость (1534, в значении ‘белота’) — белизна (1645, в значении ‘белина’), ср. еще бельство как собирательное по значению имя, но собирательность и отвлеченность в той системе ещенаходятся в синкретическом единстве. Словообразовательные связи этих слов различаются и по происхождению: одни образованы от имен (белость), другие же от глаголов (белизна). Различались одни и те же формы также акцентологически; еще в конце XIX в. бели́зна — ‘светлое пятно или полоса’, а белизна', — с новым ударением слова — уже ‘признак белого’. Белость как форма древнее слова белизна, однако и она возникла почти в одно время с формой белизна, да и значения их совпадали, обозначая отвлеченный ‘признак белого на небелом фоне’. До уровня полной абстрактности тут еще далеко. Невозможно оперировать семантикой одного суффикса, определяя степень абстрактности того или иного форманта; в подобных смысловых рядах значение имеет каждое отдельное слово в конкретном его изменении. 6.5. Действие фонемы в составе морфемы, порождение словообразовательных типов, преобразование просодических признаков различения как материальные фиксаторы состоявшегося изменения семантики языковой единицы способствуют перемещению внимания с семантических единиц одного уровня на семантические единицы другого уровня системы, а тем самым и определяют направление в развитии глубинных структур языка в каждый данный момент состояния системы. «Отработанный материал» соответствующих динамических импульсов пополняет инвентарь фонем, морфем, слов языка, т.е. обеспечивает насыщение различных его уровней. Благодаря этому с течением времени изменяются иерархия языковых уровней и способ маркировки релевантных для системы единиц.
7. Система. Стиль. Норма
7.0. Перестройка синтаксической перспективы текста привела к разрушению исходных речевых формул (хотя многие из них и сохранились на правах идиом и устойчивых сочетаний), к перераспределению семантических компонентов символа (в производных от него словах распределяются основные семы, тогда как коннотативные значения стали формировать так называемую многозначность слова; одновременно актуализируются словообразовательные модели и появляются новые их типы), а также к формированию законченных грамматических парадигм. Усиление системности языка происходило путем сгущения все новых парадигм и основанных на системных признаках различения корреляций. В связи с этим изменялось, исторически совершенствуясь, и само понятие парадигмы. В древнерусский период это попросту образцовый текст, в соответствии с прямым значением слова «парадигма», затем в качестве образцовых парадигм выступают связанные общностью корня слова, словоформы и даже словосочетания (в это время флексия оставалась совершенно немаркированным элементом словоформы; в частности, окончание ѣ в баритональном слове вѣ́рѣ нельзя было «проверить» подударным ѣ в слове горѣ́ или любом другом слове того же типа склонения). Парадигма в современном смысле слова формируется только к началу XVII в., а в парадигменном различении форм, прежде объединявшихся только признаком сходства, постепенно создается современный тип мышления, для которого различия столь же важны, что и сходства, а они совместно — важнее всякого подобия и отождествления. Новое мышление ориентируется на категориальные, а не на контекстные связи и отношения, и язык с готовностью подчинился новому понятию о системе. 7.1. Эмансипация слова из контекста формулы, приведшая к выделению словоформ, дала чисто парадигматическое осмысление системы словоформ как единства слова: произошло «снятие» родового понятия «слово», в котором лексические и грамматические семы значения уже перераспределились в границах известных морфем и сами морфемы предстали как единицы текста, достойные внимательного изучения. Уже Грамматика Мелетия Смотрицкого (1619) достаточно выпукло представила как парадигмы формоизменения, так и складывающиеся парадигмы категорий, особенно у глагола. Кристаллизация грамматических категорий зеркально отражает стабилизацию парадигм, поскольку освобождение формы от контекста усиливает значимость формы в вертикальном ряду отношений к другим формам, столь же свободным от контекста, а категоризация частей речи наполняет каждый такой парадигменный ряд значением. 7.2. Последовательное развитие системы языка образовало множество речевых вариантов, не исчезавших бесследно, поскольку они сохранялись в традиционных, по определению — образцовых, текстах. Возникавшее противоречие между языковой системой и традиционно воспроизводимой речью приводило к функциональному перераспределению архаических и новых языковых средств, создавало функциональные стили языка. На истории средневековых книжных формул неоднократно показано, что языковая «форма» вариантна, и только ее содержание, т.е. смысл, значение формы вызывает к жизни и создает инвариант, в виде ли гиперонима на лексико-грамматическом уровне, в виде ли нормативного варианта на стилистическом уровне. Архаическая форма обычно воспринимается как более отвлеченная по значению и потому как форма высокого стиля. Не случайным является стилистическое распределение форм типа роба и холопъ — рабъ Божий или с различными окончаниями ключевых слов: крови не пролияше — кръве Христовы, сыноу его — сынови Давыдовоу, а также известное распределение слов с альтернациями ж:жд или щ:ч или написание слова вещь как обозначение предмета, но вѣщъ в значении ‘замысел’ и пр. Все подобные оппозиции подчинились общему правилу, согласно которому сохранялись только формы, вступающие в семантические оппозиции хотя бы по стилистическому признаку. 7.3. Многообразие накопленных в образцовых текстах стилистических ресурсов языка вызывало потребность в сознательном регулировании наиболее выразительных и семантически оправданных вариантов, поскольку именно с их помощью создавалась норма — стилистически немаркированный, нейтральный вариант системы. Норма воспринималась как осознанная система. Накопление нормативных инвариантов — столь же длительный процесс выбора из вариантов, каким был и предшествующий ему процесс накопления вариантов словоформ перед стабилизацией парадигм. Описанию этих процессов и посвящены статьи двух последующих частей книги.
СЛОВО В ТЕКСТЕ
СЛОВО И ТЕКСТ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ТРАДИЦИИ
1. Исходные понятия и определения
Прежде всего обсудим термины, постепенно включаемые в текст по мере изложения. Отталкиваясь от «Лингвистического энциклопедического словаря» (М., 1990), определим, что язык — это этнически определенный класс знаковых систем, используемый в некотором социуме; языку присущи системность, функциональность, историзм (естественный, «живой» язык изменяется). Слово как важная единица языка разделяет все особенности общего, т.е. языка. В противоположность этому текст есть «объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц», для которой важны именно связность и цельность (от лат. textus ‘плетенье’). Можно сказать, что в тексте язык является, текст есть явленность языка в конкретной его исторической и национальной форме. Всякий оригинальный текст вскрывает ментальные свойства данного языка — и так вплоть до самых обобщенных, философских утверждений (категории Аристотеля, Канта или Соловьева не совпадают в списке именно благодаря различию языков, на которых они эксплицированы). Можно также сказать, с известной степенью условности, что язык парадигматичен (системность), а текст синтагматичен (последовательность), это дискурс; язык свернут в Логос-слово, а текст воплощен в последовательности суждения и описания (предложен в предложении). Взаимные отношения между словом и предложением, между языком и текстом исторически изменяются, и нам предстоит рассмотреть, как это происходило в средневековом русском тексте. Но язык определяется через систему, язык — система. Система — множество языковых элементов одного языка в отношениях и связях друг с другом, она определяется единством и целостностью; другими словами, система и есть язык как его сущность. В отличие от системы норма — совокупность наиболее устойчивых реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе языковой коммуникации, для нормы важны стабильность, вариантность (форм) и сознательная кодификация. Феноменологически норма есть познанная система, исторически фиксирующая состоявшиеся изменения в системе. Следует согласиться с Риккардо Пиккио, что средневековый текст не знает нормы, и ясно почему: не познана система языка, нет знания о языке. Вместо нормы присутствует «широкое представление о норме» (выражение Е. М. Верещагина), т.е. ориентация на образ и подобие — на образцовый текст и на понятие (апостольского) достоинства текста[87]. Проблема системы и нормы — проблема истории языка и истории литературного языка, здесь мы ее не касаемся. Но в определениях языка и текста прозвучали скрытые указания на роль, тип и манеру в предъявлении языка как текста. Одинаково относясь и к языку, и к тексту (в широком смысле слова — не только к написанному тексту), функция, стиль и жанр определяют вместе с тем взаимные отношения языка и текста. Функция есть роль языка, употребляемого в данной общественной среде, это проявление сущности языка; стиль есть манера использования языка, принцип отбора и комбинации наличных языковых средств при создании конкретного текста; жанр есть тип (художественно) организованного текста «в единстве формы и содержания». Можно также сказать, что каждый жанр имеет свою функцию и определяется собственным стилем; иначе: каждая функция воплощается в стиле и тем самым создает некий жанр, и т.д. до бесконечности. Все три формы воплощения языка в тексте взаимно связаны и могут быть определены одна через другую. Отсюда постоянная путаница в определениях и в установлении компетенции языковеда и литературоведа: кто занимается стилем, а кто жанром. Что чему предшествует и что определяет все прочие ипостаси явленности языка (кода, системы, парадигмы) в тексте. Этими вопросами и начнем свои рассуждения.
2. Слово в тексте
Слово и текст. Обычно изучают слово в контексте (лингвист), слово в стиле (литературовед) или слово в определенном жанре (всякий историк). Каждый из них опирается на текст как на целое, представляющее ему и язык, и стиль, и жанр. Наша задача заключается в сопряжении родовых понятий — слово и текст, рассмотренных с точки зрения их видов. Теоретически текст как факт не совпадает с языком как «событием» (совместным бытием языка и речи), поскольку лишь в тексте возникает присутствие «самовозрастающего Логоса» (выражаясь словами Гераклита). Текст как проблема культа и культуры является «генератором смыслов», созидающих «память культуры» (по определению Ю. М. Лотмана, для которого культура и есть всего лишь «совокупность текстов или сложно построенный текст»)[88]. В нашем понимании взаимосвязь слова и текста есть диалектическое единство сущности и явления, которые необходимо рассматривать в их развитии. Во-первых, словесный знак дискретен, а текст континуантен, и только совместно они способны отразить сущностный характер явленности смысла. Антиномичность знака и текста в этом отношении полностью соответствует физической их природе, поддающейся равно как принципу непрерывности, так и принципу дискретности. Во-вторых, коренной основой созидательного развития языка всегда остается семантика. Видоизменяясь в соответствии с изменениями культуры, она преобразуется в вариантах текста, постоянно усложняя форму своего воплощения, постепенно обогащая функции языка, но при этом всегда осознается как инвариант системы, понятный всякому говорящему на данном языке. В-третьих, поскольку целое больше суммы составляющих его частей (возникает новое качество, не сводимое к качеству элементов), всякое конкретное исследование должно идти от явления к сущности (от текста к системе знаков, к коду) и от целого к его частям (от текста к его компонентам). Однозначно аналитическая процедура исследования недостаточна, поскольку, идя от элемента к целому, упускают из виду качества самого явления и на основе известных или принятых за известные частностей создают модель — в разной степени ее приближения к цельности целого[89]. Напомним основные данные об истории текста как целого в русской книжной традиции[90]. Древнерусская концепция текста, сложившись под воздействием византийской, отчасти сохранилась в традиции старообрядчества, во второй половине XVII в. сменившись новой концепцией текста, более рационалистической. В старой концепции текст понимался как откровение, текст свят, ему учат особо, и древнерусские книжники специализировались на переписывании одного и того же текста — верный признак того, что они могли знать его наизусть. Это «открытый текст» (выражение Д. С. Лихачева) или «открытая традиция» (определение Р. Пиккио), поскольку истинность такого текста проверена не критическим его сравнением с другими текстами, а повторяющимся восприятием этого текста в неустанном перечитывании образцов. Новая концепция признает относительную ценность отдельного текста, а его истинность проверяется в столкновении со способностями и подготовкой читателя, с постоянно растущим уровнем общественного сознания и т.п. Рациональный релятивизм пропитывает подобное восприятие текста, который становится средством, лишаясь ранга цели и утрачивая свою абсолютность как факт определенной культуры. Это ориентация на парадигму языка, а не на синтагму текста, на творческую метафору, а не на механически воспроизводимую метонимию. Между преимущественным распространением старой и новой концепций существовала не очень продолжительная промежуточная традиция. Зародившись в начале XV в., она характеризовалась тем, что важным для нее оказывалось не только повторяющееся восприятие текста как ритуальное оправдание его святости, но и повторение как текстовое варьирование ключевых слов, свойственных данной культуре. Варьируется не только функция, т.е. восприятие текста, но и система — средства воплощения этого текста. Старая концепция начисто отвергает сознательную правку текста- образца, новая — постоянно «правит» этот текст; промежуточный между ними этап характеризуется попытками выразить невыразимое, а именно — «смысл», мысль или (что еще еретичнее) «мнение» посредством правки и регуляции формы. Классическим образцом такого автора являлся у нас Епифаний Премудрый.
Алгоритм текстообразования. Величие дела Кирилла и Мефодия раскрывалось столетиями. Своей реформой они смогли запрограммировать развитие славянской культуры на значительное время вперед, поскольку исходили из содержательных форм слова как знака — слово как λόγος. Слово разворачивается в Текст под давлением вещного мира, воссоздавая все новые идеи (образы, понятия, символы). Семантический анализ терминов слово, вещь, образ показывает внутреннее движение смысла, заложенного в семантически синкретичном слове, а сама «вещь» предстает как цельность одновременно акта речи (слово), предмета речи (вещь) и результата речи (идея). В самом общем виде последовательность этапов, изменявших принципы генерирования новых текстов, можно представить как зашифрованное умозаключение диалектического характера. 1. Тезис: X — конец XIV в. Буква в противопоставлении звуку как основной элемент культуры культа («буквализм»): в уставном письме каждая буква выписывается отдельно. Тексты заимствуются как образец согласно их сакральному «достоинству» (в понимании Пиккио), и на таком образце высокого стиля постепенно формируется славянский литературный язык (= язык литературы). Это внутренне замкнутая система с сакрализацией высокого стиля, которым только и можно передавать отвлеченно-общие понятия и значения. В целом это эпоха молчания, поскольку имеется запрет на индивидуальное творчество и большинство членов общества не допущено к созданию текстов. 2. Антитезис: XV—XVIII вв. Текст в противопоставлении к слову (языку, коду) как основной элемент культуры, причем тексты могут создаваться как воспроизведение устной речи, на основе которой формируются национальные литературные языки славян (используется средний стиль деловых текстов). Господствует полуустав со сложной системой сокращений и упрощений в графике, а в орфографии символические написания все чаще сменяются традиционными. Под воздействием сложившейся книжной нормы заметно устремление к сущности нормы на основе явленности среднего стиля. В целом это эпоха монолога с преобладанием авторского, но — «открытого текста». 3. Синтез: с XIX в. На первый план выходит проблема содержательности, смысла и, в конечном счете, ментальности, а потому и тексты не воссоздаются по готовым образцам, но конструируются, отражая интеллектуальные сферы человеческой деятельности в рамках данной цивилизации. Уже не образ и не символ, но понятие становится основной содержательной формой слова и направляет как составление, так и развертывание традиционного текста. В текст допускаются элементы низкого стиля, поскольку они отражают эмоционально-экспрессивную сферу личностного поведения. Необходимость в новых текстах определяется тем, что именно в них фиксируются и оформляются новые признаки и определения, посредством логических операций отчуждаемые от немыслимых прежде «вещей», в том числе и отвлеченно-абстрактных. Запись уже не поспевает за мыслью, побеждает скоропись. В целом это эпоха диалога. Можно было бы подробно показать, каким образом с изменением отношения к тексту изменялся характер самого слова, слова в тексте. Метонимическая форма мышления, присущая первому периоду текстообразования (периоду ментализации как результата христианизации), — буква рядом с другой буквой и без пробелов между словами — четкий устав по смежности равноценных элементов текста — сменяется символическим мышлением эпохи зрелого средневековья. Для символического мышления характерна подмена идеи вещью — предзнаменования, знамения вещного мира пророчат некие изменения вечной идеи. Для метонимического мышления важным компонентом языковой культуры является имя. Слово есть имя, данное на основании смежности с именуемым. Для символического типа мышления слово знаменует, оно есть знамя, символически указующее на потаенную сущность. Новое время характеризуется мышлением метафорического типа, и слово здесь выступает в качестве отвлеченного знака, или всеобщего символа. Естественно, качественные преобразования слова влекло за собой изменение характера текста.[91].
Слово и формула. Основной единицей средневекового текста являлась традиционная формула — синтагма, целостность текста определялась степенью цельности формул и их соотнесенностью друг с другом. Этот принцип сложения текстов, в сущности, никогда не отменялся, он действует и до сих пор, особенно в писаниях начинающих авторов, в догматических текстах и в публицистике. Русские идиомы разного типа — не что иное, как «снятые» со своих контекстов древние формулы, в рамках собственного текста создававшие его под-текст. В таких именно условиях текст и растет, хотя и не беспредельно, поскольку, становясь бесконечно большим, он рассыпается, утрачивает цельность. Синтагматика текста невозможна без парадигматики языковой системы, и вот возникает качественно новый принцип организации текста: усиление системности языка снимает творческую напряженность с текстовых формул, приводя к автономности отдельного слова в новой текстовой структуре. Свободное слово, в новых условиях способное соединяться с любым другим, столь же свободным от узкого контекста словом, и порождает устремление в сторону метафоры, тем самым разрушая систему традиционных символов, крепившихся на ограниченном пространстве формулы. Соответственно изменяется и принцип организации текста. Происходит углубление семантического пространства текста, главным образом в результате устранения многих «предикативных центров» старого высказывания. А. А. Потебня показал, каким образом организуется новое семантическое пространство высказывания, выносимое и в текст. Совмещение модальности высказывания, предикативности суждения и определенности ситуации привело к развитию сложноподчиненных предложений, с помощью которых логические контуры высказывания стали осознаваться вполне ясно. В области текстообразования произошло то же самое изменение перспективы, что и в любом типе традиционного текста: на примере иконы П. А. Флоренский показал смену обратной перспективы на прямую, свойственную современному восприятию реального ряда «вещей». Разбросанность текстовых формул в древнерусском тексте столь же случайна и определяется характером описания, что и изображение предметов на старой иконе. Еще раз вернемся к перечням признаков, отделяющих новое время от обоих этапов средневекового понимания текста. Преобразование типа текста изменило тип мышления — и не только с точки зрения тропики или топики, т.е. исходя из последовательной обращенности (как к основному принципу смещения значения слова под влиянием смысла текста) к метонимии (синекдохе) — символу — метафоре, или «общих мест» в тексте, — но и принципиально. Современный тип мышления, как он сложился к настоящему времени, — это тип категориальный, а не парадигмальный, как в переходе к новому времени, и не контекстно-синтагматический, как в эпоху заимствования христианской культуры. Современное ментальное действие требует генерализации всякого понятия, предъявляя его в слове как гипероним самого общего (метародового) значения. В этом смысле верно, что текст как таковой сегодня уже не столь важен, поскольку он — всего лишь функция от категории- слова; текст задан, поскольку дана — категория. Нынешнее возвращение интереса к теории текста, например в форме «лингвистики текста», есть своего рода ретроспект в завершающемся цикле развития рече-мысли (ведь только полностью пройденный путь осознается и фиксируется в законченности целого), а оживление в изучении общей риторики возвращает нас к науке средневековья, когда теорией текста и была именно риторика.
Принципы организации текста. Обиходный («естественный») язык способствовал созданию текста, но впоследствии именно текст стал основой для нормализации литературного языка[92]. Можно напомнить основные особенности построения средневекового текста, исходившие из особенностей языка: 1) доминантность ключевых слов и формул текста, всеобщая роль ключевых слов, обычно восходящих к текстам Писания; 2) символизация от вещи, от образа, от слова и т.п., с особой ролью имен собственных, также служивших символической связи между реально вещным и ирреально духовным мирами; 3) редупликация однозначных и равноценных форм (удвоение морфем, слов, формул, предложений — параллелизм, и т.п.); 4) семантическая филиация наличных языковых форм, типа транспозиций (перемещение слова в новую для него сферу номинации) или компрессий (сжатия формул до слова с включением семантики всего выражения в значение отдельного слова) и т.п.; 5) предикативность как форма выражения «нового» в сообщении (отсюда роль глагольных форм и широкое их варьирование в средневековых текстах); 6) расширение текстов путем включения в них цитат, прямой речи, разного рода аллюзии и перифразы и пр., т.е. расширение текста не путем увеличения информации о референте, но путем усиления его с помощью указания на все новые признаки денотата (предметного значения); 7) изменение синтаксической перспективы высказывания путем усиления роли придаточных предложений.
Текст — стиль — жанр. В средневековом тексте сталкиваются не разные «языки» (как, по-видимому, полагают Б. А. Успенский и его последователи), а различные «стили», определяемые функциональной установкой любого конкретного высказывания. При этом формой воплощения каждого данного стиля является определенный жанр литературы (в широком смысле — текста). По этой причине источником варьирования стилистических, казалось бы, средств в границах жанра являлась указанная уже риторика, представленная в средневековой культуре текста как воплощение нормы. Перечисленными тезисами можно и ограничиться, отсылая к специальной литературе вопроса. Однако возникает сложное взаимодействие между основными компонентами текста и кода, которые также следует рассмотреть в исторической перспективе их взаимных отношений. По возможности кратко опишем результаты известных к настоящему времени исследований, располагая их в последовательности: жанр и язык, язык и текст, текст и стиль. Уже этим распределением мы утверждаем, что в основе всех преобразований текста лежит язык.
3. Жанр и язык
Исключительная сложность проблемы состоит в том, что до нас дошли в основном литературные тексты, языковое воплощение которых не всегда соответствует живой речи своего времени. Это касается как некоторых текстов, так и отдельных слов: многие ныне общерусские слова еще только включались в систему русского языка как заимствования, и включались именно через язык литературы (вещь, жизнь, образ, совесть и т.п.). Стремление рассматривать древнерусскую лексику в одной хронологической плоскости, т.е. типологически или чисто описательно, оказывается неисторичным, а устранение целого ряда древнерусских жанров как «нерусских» обедняет фактологическую базу исследования. Литературная лексика древнерусского языка от собственно «русской», местной, народно-разговорной отличается семантическим наполнением: если в само́м древнерусском языке слова в основном однозначны и всегда имеют строго конкретное значение, то заимствованная из литературно-книжного языка лексика либо намеренно ограничена одним оттенком значения в данной речевой формуле (жизнь только в сочетании вечная жизнь как семантическое восполнение к русскому эквиваленту животъ, не вступавшему в данный контекст)[93], либо семантически синкретична (вещь в переводных древнерусских текстах представлена как ‘рукотворный результат действия, воплощающего мысль или слово, возможно, внушенное’ — все элементы этого определения так или иначе проявляются в текстах, причем само действие имеет большее значение, чем результат этого действия)[94]. В древнерусском тексте лексическое варьирование представлено либо в столкновении разных жанров, либо в границах одного, но обязательно литературного, т.е. письменного, жанра (слово, житие и т.п.). Многое зависит от состава текста, безразлично — оригинального или переводного. У Кирилла Туровского или Климента Смолятича в XII в. варьирование определяется и характером данного текста, его содержанием, и соотношением оригинального текста с реминисценциями из переводных текстов, не всегда оказывается возможным достаточно точно установить границы перехода текста на новый, уже другой стиль изложения. Большие переводные памятники дают как бы несколько различающихся по стилю фрагментов перевода, объединяемых только общностью текста. Например, в составе Александрии первой редакции повесть «О рахманехъ» определенно не совпадает с первой, повествовательной частью перевода в отношении языка; Хроника Георгия Амартола вообще переведена «кусками», по-видимому, разными переводчиками, и это отразилось на чересполосном изменении одной и той же лексики, на значении отдельных слов и т.п. В связи с этим важное значение приобретает установление места и времени создания текста или перевода; текстологическая подготовка текста к последующему лексическому исследованию совершенно необходима. Здесь многое уже сделано нашими предшественниками. Указывают, например (Н. Михайловская), что новое значение слова правый ‘правосторонний’ впервые фиксируется в Повести временных лет под 1036, затем — под 1096 г. Текстологические изыскания показывают, что соответствующие тексты вошли в летопись не ранее 1116 г., уже сразу в первую редакцию Повести временных лет, так что и семантический сдвиг в данном слове следует датировать не началом XI, а началом XII в. Многие литературные заимствования этого же времени оказываются связанными с литературной деятельностью книжников Киево-Печерского монастыря,[95] а с XIII в. активность и приоритет в этой сфере деятельности перемещается в Северо-Восточную Русь. Новгород не сыграл подобной роли вплоть до конца XV в.(перевод Геннадиевской библии), но еще и позже все его попытки в этом направлении были жестоко пресечены централизованной властью (переводы и переложения «еретических книг»). Вообще же, как мы видим на примере текста Домостроя, в Новгороде могли складываться именно тексты, но законченности жанра они там не получали. Тем не менее каждое перемещение центра литературной работы связано с определенными социальными и культурными преобразованиями и непосредственным образом отражается на развитии и текста, и лексики. Собственно лингвистическая сторона этого процесса связана с различными семантическими переносами, происходившими в границах слова (метонимические, метафорические), а также с семантическими перемещениями разного характера в пределах частных лексических систем, ср., например, расслоение значений у слов побѣда ‘победа’ — побѣда ‘поражение’ или семантический перенос у слова рать ‘вражеское войско’ → ‘свое войско’ в зависимости от соотношения с другими словами системы в данный отрезок времени и, как правило, под влиянием заимствованной литературной лексики. Материальная основа исследования «слово — жанр» достаточно обширна. Можно установить следующие типы совмещения однозначных слов в древнем тексте, позволяющие выйти впоследствии на более широкое поле сравнения — текста с текстом, жанра с жанром, автора с автором, текстов оригинального и переводного, текстов разного времени и т.п.[96] Во-первых, это сопоставление с греческим, латинским и всяким иным оригиналом переводного текста — классический способ уяснения жанровых особенностей в отношении словоупотребления (В. Ягич, В. Истрин и др.). В таком случае территориальные и стилистические ограничения остаются в стороне — мы их подвергаем редукции. Метод недействителен для текстов, оригинал которых неизвестен (а таких текстов большинство), тем не менее зависимость первоначальных славянских переводов от греческого оригинала (например, Изборника 1073 г.) уясняется довольно определенно. Во-вторых, это сопоставление кальки с глоссой (В. Истрин), иногда распространяемое на соположение славянского и русского слов рядом; фактически в этом случае отражается не синонимия и не вариантность, поскольку речь идет о переводах на современный переводчику или редактору текста язык того слова, которое было (или стало) непонятным. В-третьих, это соположение вариантов русского и славянского слова, возникшее в результате перевода или редактирования; ср. в переводе апокрифа «Откровение Авраама» рядом требу жертву в одном и том же значении — первое есть русский вариант к церковнославянскому слову, бывшему, очевидно, в переводе. Недостаток подобных фактов — в их оторванности от места и времени создания текста. Даже проделав такую трудоемкую работу, как сравнение Кирилло-Белозерского списка Изборника 1073 г. с текстом самого Изборника, или сравнив древнерусский перевод Пандект Никона Черногорца по списку XII в. с более поздними его списками и с редакцией болгарского текста XIV в., мы обнаружим огромное количество вполне последовательно (по семантическим признакам) проведенных лексических замен, но не сможем сделать никакого законченного вывода, кроме одного: и в болгарской редакции к XIV в., и в русских версиях XV в. древнеболгарского перевода Изборника мы замечаем внутреннее семантическое движение текста в границах данного жанра, причем определенные только слова уже не воспринимались вовсе или изменили свое значение. Границы жанра не служат препятствием для изменения текста. В-четвертых, это распространения в самом тексте: к определенному слову на основе устойчивых связей его с другими словами в отдельных редакциях или списках присоединяются новые слова: слава и честь вместо прежнего слава и т.д. Привычная идиома заменяет одиночное слово или наоборот, чем достигается все большее приближение к своей («национальной» — О. Лихачева) эстетической или художественной манере. Это уже ближе к проблеме языка и жанра, тем более что тавтологические сочетания типа бой-драка сохранились и в фольклорных текстах[97]. В-пятых, это символическая симметрия (стилистическая симметрия) типа представленных в древнейшем переводе Псалтири: «обяся ми яко левъ готовъ на ловъ, и яко скуменъ обитая во съкровиштихъ»[98]. Такие сопоставления относятся к числу наводящих лексикографических средств, как и все указанные уже типы реализации лексически сходных единиц. Это скрытые сравнения, которые в конце концов порождают метафору, а через нее и символ. В данном случае важно, что перевод Псалтири старославянский, а не древнерусский, и потому возможные лексические соответствия не распространяются полностью на русский язык, они являются «литературными» изначально. Важнее сравнение различных собственно русских редакций этого текста, оно, кажется, способно прояснить все преобразования, которые испытывает язык с течением времени в границах одного, каждый раз особого, жанра. С категории жанр в новое время «сняты» сущностные признаки категории стиль. Последние из представленных типов выражения «дублетности» отличаются тем, что фактически это типы усиления, т.е. осознанный результат индивидуального художественного творчества. Поэтому изучение языка отдельных древнерусских писателей или переводчиков (несмотря на всю сложность такой работы) оказывается важной предпосылкой для последующего анализа собственно русских лексических отношений. На примере Кирилла Туровского можно видеть направление художественного осмысления лексической системы, как она складывалась в его время из противоборствующих литературных стихий: на бинарном соединении русского и славянского (план системы) построить противопоставление в тексте, причем обязательно найти лексически немаркированную, стилистически нейтральную единицу конкретного звена текста[99]. Совместное изучение текстов определенного жанра, места и времени создания на основе указанных вспомогательных средств описания позволит точнее определить разграничение дублетов — вариантов — синонимов в древнерусском литературном языке, неизвестном нам как система. Синонимия возникает как результат столкновения русского и «славянского» языков, приведшего к последовательному развитию семантики и стиля. Взаимоотношения лексических вариантов всегда проявляются только в конкретном тексте[100].
4. Язык и текст
М. А. Соколова[101] показала, что Домострой — памятник своей эпохи; таково основное возражение историкам литературы типа Н. К. Гудзия, утверждавшим, будто Домострой — «внелитературное предприятие середины XVI века». Лингвистическое исследование текста прояснило, что «домострои» вообще имеют длительную традицию текстового бытования; эта традиция оказала влияние и на последующую русскую литературу (Посошков, Татищев, Щербатов, Болотов и т. д.), т.е. составляет самостоятельный жанр нашей литературы. Особенности этого жанра — в стилистической совмещенности его языковых форм, показывающей разрушение традиционных книжных формул, первоначально заимствованных из византийской литературы, и широкую вариантность грамматических форм в зависимости от каждого нового (вновь создаваемого) контекста. Яркие примеры, приведенные М. А. Соколовой, показывают такую как бы «растрепанность» нового текста, его собранность из различных фрагментов текстов-источников. Почти рядом могут встречаться формулы с варьированием архаических и новых грамматических форм типа к нечистым бесом, отпущение грехом — по хоромам, по побыткам, по залавкам; по бозе живет, во блазе мире, во аде — в соку, в стогу; с вельможи (!), многими торговли (!) — з груздями, домами; в оставление грехом — прощение грехов; в день страшнаго суда — у хлебново и у воложново и у мясново; от смрадныя беседы, вечныя муки избыти — у добрые порядни, пожарные ради притчи и др. Примеры многочисленны, поскольку таков уж стиль этого текста, который в момент сложения воспринимался, конечно, как «модерновый». Он разрушает все старые формы, ибо того требует новое содержание. В сущности возникает проблема, в риторике известная как основной закон логоса (понимаемого как принцип словесного наполнения замысла в высказываниях и текстах): «Если какой-либо исторический вид словесности начинает задавать смысл новому виду словесности, то неизбежна социальная смута. Если новый вид словесности задает смысл историческому виду словесности, то общество живет упорядоченно. Таков основной закон логоса. Например, если гомилетическая речь становится речью в собрании [т.е. проповедью] и собрание определяет смысл гомилетической речи, то в собрании возникает смута (история становления протестантизма)»[102]. Смысл средневекового русского Домостроя — в сохранении «упорядоченности» житейского быта, а это и достигается тем, что новый вид словесности осмысляет старый жанр, формулируя его по-новому. Обратную ситуацию мы видим в середине XVII в., когда на прямо противоположной установке (первая альтернатива из указанных) возникает раскол. Культурное значение Домостроя определяется историческими условиями его возникновения как ответа на потребности времени. Стиль «прорастает» из жанра. Своим лингвистическим анализом М. А. Соколова доказала, что стиль формируется в столкновении старых и новых словесных форм на общем пространстве текста, тем самым становясь средством различения двух уровней изложения, реально-вещного описательного и сущностно-содержательного на концептуальном уровне. Средневековый символ, «державший» традиционный текст, существовал в границах слова, представляя собою совмещение двух смыслов — реального и сокровенного, «вещи» и идеи. Семантический синкретизм такого слова отражает установку на символ. Теперь, на исходе средневековья, символ раздваивается путем аналитического удвоения текстовых формул. Выражение, обозначение вещного сохраняет объем понятия, сущностное перенимает на себя содержание понятия. Но происходит это лишь потому, что самого понятия как содержательной формы слова еще нет, оно не осознается, поскольку по существующей традиции содержательный смысл текста по-прежнему крепится на образе и символе: «по образу и подобию», а не на основе концепта строится и сам текст. В дискурсивном ряду синтагм еще не выработана грамматическая парадигма их основного термина. Общность корня «образного значения» сохраняется при варьировании только в области отвлеченных по семантике флексий, но (также по традиции) в зависимости от других слов в контексте, т.е. чисто метонимически в пределах традиционной формулы: во оставление грехомъ — прощение греховъ. Таков этот, образно говоря, «текстовый стиль», стиль синтагменный, еще не ставший стилем как системой (парадигмой). Ср. в том же Домострое распределение старых и новых форм в зависимости от семантики корня: во блазѣ мире — жена пьяна в миру, здравие — здоровье, зелие — зелье, питие — питье, плоди не божии — земные плоды, тати — татие, мужи — мужие и т.п. в зависимости от узкого контекста. Текст сжимается до контекста, а формула — до слова. Традиционно в Домострое искали особенности «живого» языка — русского (М. А. Соколова) или даже диалектного — новгородского (А. И. Соболевский) или московского (С. Д. Никифоров)[103]. Исследователи исходили из жанра памятника и его «стиля», полагая, что эти внешние признаки текста одновременно указывают и на речевую его стихию. Между тем даже с точки зрения этой большой посылки научного силлогизма дело обстоит не столь просто. Стиль средневекового текста определялся жанром, и что касается самого жанра, тут также возникают вопросы, требующие своего разрешения. О языке Домостроя, продолжая петербургскую традицию изучения памятника, я уже писал, теперь следует обсудить феноменологический аспект затронутой здесь проблемы[104]. Средневековый текст вообще невозможно понять, не вникая в его язык, в те информационно насыщенные его формулы, которые и создают символически зрительный ряд форм. Такой текст напоминает древнерусскую икону с разбросанными и внутренне не связанными предметами изображения. Те же, во-видимому, независимые друг от друга, самодостаточные фрагменты текста, взывающие к мысли о риторической топике, которые повествуют о самых различных вещах: о предметах, объектах, свойствах, не связанных внутренней связью ни генетически, ни причинно, ни логически. Только что говорили о похлебках — и тут же речь о «рабах и слугах». «Вещи» существуют сами по себе, включаясь в мир себе подобных вещей, и потому всегда предстают в целостном своем виде, не в разъятом на дробные признаки, данные через впечатление автора или ощущение читателя; нам явлены не признаки сходства или различия, но органически цельные вещи — как полное отражение жизни. «Реальный реализм» средневекового текста определялся символическими установками сознания, согласно которым всякое материальное в его единственной ценности отражает нечто отвлеченно-высокое, символизирует возвышенные ипостаси духа, дает понятие о недоступно и сокровенно божественном. Отсюда два следствия. Первое касается текста, второе — языка, но то и другое вместе связано с жанром. Принцип изображения «естественного мира» в таком тексте, адекватный изображению на иконе, отражает сакральный взгляд «от вещи», а не отзрителя, переживающего изображение. Об этом хорошо писал П. А. Флоренский: обратная перспектива как бы «находит» на зрителя (или читателя) и находит его взгляд. В средневековой литературе нет низких жанров. Уж на что «низким» является жанр басни или притчи, но ведь из притч составлено Евангелие. Жанр возвышается текстом, как только входит в этот текст, но важно, чтобы текст был традиционно архаическим текстом. Всё, что записано, символически значимо, потому что каждая буква — тоже символ. Записанное обладает своей индивидуальной ценностью, воплощает не выразимые иным способом сущностные характеристики бытия. Чтобы перечислить чашки-плошки, совсем не обязательно было писать. Но чтобы выразить сакральную сущность под-текста вещного (телесного, тварного) мира — писать оказывалось совершенно необходимым. Чтобы понять этот текст, перевести в режим понятия, его необходимо читать с его собственной точки зрения и в его особенной перспективе «раскрыть» его.
Язык. Вот где скрещиваются все усилия филологов показать различие между народно-разговорным и литературно-книжным «языками». Усилия, доходившие до утверждения о низменности народно-разговорного языка, его неспособности передать всю полноту содержания писаного текста. Совсем наоборот. Говоря о вещах, невозможно было использовать высокую лексику церковных книг, повествующих главным образом о признаках, качествах и свойствах, уже отвлеченных от цельности вещного мира. Выражаясь в понятных для средневековой философии терминах, не реализм отвлеченной идеи, но номинализм конкретной вещи требовался в данном случае. Семиотичность средневековой культуры заключается именно в вещи. Любая вещь есть знак, является символом идеи, она равноценна идее. И вот теперь, в середине XVI в., оказывается, что идея и вещь разведены сознанием, представлены как самостоятельные объекты наблюдения. Не случайно все стилистические варианты в Домострое сосредоточены в области имен, имен существительных и имен прилагательных. Это они аналитически раздваивают исходный словесный символ («вербальный символ»), т.е. имя вещи, на объемность самой вещи (предметность через существительное) и содержательность ее типичного при-знака через имя прилагательное. Молоде́ц и деви́ца становятся добрым мо́лодцем и красной де́вицей: символы здоровья в удали и в красоте через образные признаки раскладываются аналитически на содержание и объем — уже почти готового понятия. В перечислительной интонации текстов Домостроя мир вещей зримо рассекается на свойства-признаки и предстает как явленная их сущность. Мир красоты (характерный признак символа) простегивается приметами пользы, близкой к фундаментальному смыслу понятия. То, что прежде знаменовало собою нечто вроде столь понятного средневековью зна́мения, оборачивается вещными признаками нового и, подобно всякому знаку, стало означать. Культурный перелом осуществляется в эклектической форме, потому что и происходит в эмпирической области духовной жизни. Но зато это приводит к совмещению архаической нормы «славенской речи» и развивающейся системы «народного языка». Тем самым начинается синтезирование литературного языка, в котором завершенность нормы и открытость системы образуют внутреннюю динамику совершенствования и незавершенности творения языка в оригинальных текстах. При этом корнем созидательной жизни национального языка всегда остается его семантика; видоизменяясь, она преобразуется в вариантах текста, постоянно осознается как инвариант, доступный пониманию каждого, кто владеет этим языком. Такому языку, действительно, учат, но учат не системе, которая ясна, а норме, которая дана.
Жанр. Таким образом, до времени сложения текстов типа Домостроя не возникало противоречия между архаически-высоким и народно-разговорным (между нормой и системой — они находятся в дополнительном распределении), но не было и противоположности между текстом и жанром, т.е. между функцией и стилем с точки зрения языка. Удвоение сущностей началось в связи с аналитическим раздвоением исходного символа. Напомню, что и Домострой создан в жанре ритуального характера. В соответствии с общепринятым мнением ритуал есть обязательное для всех носителей данной культуры средство донесения абстрактного символа до самых широких масс, что определяется авторитетом слова и сакральностью текстов. Однако ставший обрядом ритуал убивает заложенную в символе идею, ибо мешает ее дальнейшему развитию в границах данной формулы (и нет смысла ссылаться на чье-то мнение, поскольку сказанное разделяется сейчас большинством медиевистов). Драматизм ситуации, сложившейся в «преддомостроевские времена», в том и состоит, что, став ритуально-обрядовым, символ вызывал желание разрушить его. Совсем не случайно наша «передовая» общественность по традиции связывает с домостроевщиной самые неприятные для национальной гордости черты духовной и мирской жизни. Интуитивно мы видим в Домострое эту основу ментального преобразования, по-прежнему скрытую в символических формах текста: разложение символа в пользу понятия. Специально в Домострое замечается различие между источником жанра и источником текста; иногда смешивают два эти рода источников, поскольку исследовательские цели в их осмыслении совпадают. Абсолютным источником Домостроя является традиционный жанр поучения «от отца к сыну»: не просто нравственное назидание, но и практическая цель передачи личного опыта, функциональная целесообразность профессиональной деятельности. Прагматическая нацеленность поучения связывает текст с требованиями реальной жизни, в результате оказывается возможным добавление чисто деловых текстов, которые как бы вбираются в основной текст. По жанру Домострой — открытый текст анфиладного (по выражению Д. С. Лихачева) типа, построенный на основе традиционных топосов и формул, совсем не обязательно пришедших из исходного жанра поучений «от отца к сыну» (древнейшее из них у нас — Поучение Владимира Мономаха, начало XII в.). Открытый — потому что не замкнут в текстовых границах, может постоянно пополняться, восполняться в соответствии с практической необходимостью; маркировано начало (заглавие, главизна), конца же у текста нет. Анфиладный — потому что не замкнут и по своему жанру, может включать в себя разностильные элементы формы и опираться на самые разные источники; здесь не может быть борения высокого и низкого стилей, поскольку этому жанру свойственна установка на усреднение стиля — стилистический контраст не возникает из-за присущей средневековью тяги к иерархической градуальности с невниманием к семантически размытым крайностям: важны сами по себе переходы форм, но не их содержательный смысл. Традиционность формул в таком случае оказывается весьма относительной, потому что происхождение их из различных текстов становится функционально нерелевантным: функция формы подавляет ее происхождение. Таким образом, как литературный памятник Домострой следует оценивать с третьей точки зрения, а именно, не со стороны только жанра или только текста (языка). Складываясь как произведение анонимное, «коллективного авторства», Домострой испытывал давление со стороны традиционного жанра, что и требовало постоянной переработки текста, изменявшего свои функции в соответствии с потребностями времени (мы еще покажем способы обработки текста). В новых прагматических условиях стиль становился производным от текста, а не от жанра, как это было в эпоху раннего средневековья. Семантическое поле текста, его подтекст, в Домострое создается напряжением, возникающим между различными формами выражения образной мысли. Экстенсивная — книжная — традиция дает своего рода синонимию, т.е. множество разных форм при общности лексического значения, сосредоточенного в корневой морфеме: это метонимическая раскладка смысла словоформы. Интенсивная — народная — традиция порождает и развивает своего рода многозначность слова в обязательном для него контексте, т.е. проявляется общность формы при варьировании содержания — значения слова. В тексте Домостроя вообще слишком многое только называется (а назвать именем и означало для той культуры понять, показать через что-то другое, уже известное), на многое намекается — через незаконченную цитату, хорошо известную реминисценцию из Писания, традиционную формулу или пословицу. Семантика слова, во многом остававшаяся синкретичной, как означавшая цельность вещи, к тому же не совсем еще свободная от контекста формулы, позволяла в каждом отдельном фрагменте текста то всплывать, то исчезать отдельным значениям — в ряду однозначных или равнооформленных слов. Читатель, знакомый с той культурой, которая отражена в Домострое и родственных ему памятниках, получал информации значительно больше, чем наш современник, довольствующийся переложением текста на современный язык. Столкновение «народного» и «книжного» способствовало обогащению неизвестными прежде оттенками смысла, создавая «мерцание» символа; этот двуединый процесс совмещения двух языковых источников не просто обогащал язык (литературный язык), но и формировал стилистические варианты, на которых впоследствии и созидался собственно литературный русский язык. Многочисленные примеры из Домостроя показывают, что лексические варианты — синонимы — приходят из различных текстов, и в зависимости от функции в каждом данном контексте ведущим оказывается не понятие, а образ: время — пора, дети — чада — ребята, племя — сродник, брашно — ества — снедь — ядь — пища, имение — стяжание — сила, гобино — обилие — изобилие, уста — устие — губы, мыльня — баня, душа — сердце, гнев — гроза, горе — печаль, брань — ссора, подобаетъ — достоитъ — надобе(т) — лучится и др. Одновременно с тем грамматические и словообразовательные варианты приходят из различных жанров, и в зависимости от стиля, представляющего тот или иной исходный жанр, ведущим оказывается уже не образ, основанный на внутренней форме слова, а понятие, потому что независимо от колебаний формы корень слова остается тот же, ср.: платье — платенко — платейце, одежа — одение, пение — петье, пятница — пяток, хвала — похвала, гордость — гордыня, мысль — помыслъ, зло — злоба, лжа — ложь, царство — царствие, главоболение — главоболье и т. д. Изучая историю русского словообразования, представители казанской лингвистический школы показали, что одинаковые словообразовательные модели всех частей текста Домостроя (определяются общностью жанра) «содержательно», т.е. лексически наполнены различным образом, поскольку представляют разный исходный текст, ср. одинаковые модели при разных жанрах и текстах: злой, поганый, нечестивый, но и стряпчий, маломощный, убогий; блудник, грешник, клеветник, неправедник из высокого типа при столь же частых вученик, ключник, плотник, хлебник и пр.; благое, святое, но и мясное, рыбное, ушное. Следовательно, дело вовсе не в стиле, высоком или низком, поскольку языковые модели (система) совпадают по стилям; они одни и те же в парадигме. Поскольку в Домострое нет образцов высокого стиля, то и низкий не осознается как «подлый», он дан наравне со средним стилем, общим стилем повествования здесь (как этот стиль толковали много позже). Жанр и текст как стиль и функция тут только сходятся на пространстве отдельных автономных формул, и это становится возможным потому, что грамматическая система «живого» языка образовала уже множество вариантов с общим значением форм. Перераспределение функций происходит в тексте, потому что и сам жанр изменяется. На многих примерах из текста видно, насколько энергично развивается язык, следуя потребностям времени. Происходит семантическая филиация в оттенках отдельных слов, пришедших из различных текстовых формул, а теперь воспринимаемых уже как своего рода синонимы. Этот процесс хорошо показан М. А. Соколовой на синонимических рядах типа устроение — обиход — порядня — строение — дѣло; домашний — домовитой — домовный и т.п. Все новыми словами этот регламентирующий текст XVI в. разводил по смыслу прежде семантически синкретичные (что свойственно высокому стилю) термины: мужъ в прежнем употреблении и ‘человек’, и ‘мужчина’, и ‘супруг’, как и жена одновременно и ‘хозяйка’, и ‘женщина’, и ‘супруга’. Канонический текст не мог, разумеется, ограничиться такой неопределенностью в обозначениях каждый раз новой ипостаси конкретного лица. Поэтому Домострой и становится тем старорусским памятником (текстом), в котором впервые вполне определенно эти ипостаси различаются специальными словами; фиксируются слова мужчина и женщина. Распределение понятий в термине подчеркивается разными словами при общности словесного образа (в корне слова): муж — мужикъ — мужичина, жена — женка — женьчина. Эти слова становились со временем знаками различных социальных при-знак-ов человека. Равным образом здесь уже вполне определенно различаются, и на тех же основаниях, господинъ (в отношении к рабу или слуге), господарь — хозяин, и государь — царь. Формы существования в мире также разведены понятийно на общности образа: физическое существование — животъ, социальный статус — житие, духовное бытие — жизнь. Текст Домостроя легко идет на внимательное прочтение, как бы показывая всякому непредубежденному человеку, что за всей видимостью случайного, намешанного из различных жанров и текстов словоупотребления проглядывает своя система. Эта система определяется семантикой текста как целого, текста нового и потому текста с новыми смыслами и формами. Примеров увязки смысла текста и значения слова в семантике грамматических форм в Домострое множество. Вот еще один пример, связанный с употреблением глагольных форм, наиболее подвижных в структуре текста. Приставочные с корнем -каз- здесь довольно распространены, что вообще характерно для средневековых текстов, ср.: доказати, заказати, оказати, показати, приказати, съказати, указати и пр. Наличие приставки всем таким глаголам придает общее значение совершенного вида, так что каждая приставка воплощает общий для всех них инвариант префикса — но только совместно, во всей совокупности приставок, поскольку каждая из них наряду с тем сохраняет еще свое собственное лексическое значение, пришедшее из общего смысла конкретной формулы. В необходимых случаях для «чисто» видовых различений используется пока еще не очень частый суффикс -ыва-: казати — съказати — съказывати. Однако семантический инвариант — грамматическое значение вида — обслуживается еще различными формами. Сузим рассуждение до типичного в Домострое глагола наказывати, наказати ‘поучать; воспитывать; наказывать’, который в данном контексте восходит к переведенному с греческого παιδεύω ‘воспитывать; обучать; наказывать’. В древнерусских текстах, тоже переводных, уже с XI в. (Изборник 1076 г.) известно собирательно понятийное в отвлеченном значении слово наказание; во всех источниках нашего Домостроя встречается «Слово о наказании». Поэтому известная формула Домостроя: «Казни сына своего от юности его — покоит тя на старость твою», во-первых, всего лишь аллюзия к одному из слов Иоанна Златоуста, а во-вторых, что важнее, глагол казни здесь представляет собою как бы семантическую «вытяжку» из отвлеченного имени наказание//казнь. В традиционной формуле казни сына своего изменена сама форма: не накажи!, не форма совершенного вида, вообще отсутствие всякой формы, что подтверждает зависимость смысла глагольного корня от имени, в корневой морфеме которого и фиксировалось основное значение слова. Переосмысление постоянно увеличивавшихся в числе приставочных глаголов с этим корнем развивало семантическую специализацию каждого из них, а отталкивание от грамматического инварианта (совершенный вид независимо от конкретной приставки) наталкивало на осознание уже и лексического инварианта, фиксированного в имени. При отсутствии приставки семантически релевантным оказывается то понятийное значение, которое представлено в имени (поскольку имя существительное ближайшим образом выражает такое понятие). Подобные тонкости текста необходимо учитывать во всяких попытках толковать сложный средневековый текст и не приписывать ему пугающего до сих пор смысла (казни вместо накажи, т.е. наставь). Этот общий принцип всякого нового текста — раздвоение смысла и удвоение форм — в некоторых случаях представлен ясно в виде удвоения слов, что не только служит для ритмического упорядочивания устного текста, но и необходимо для уточнения значений вновь привлекаемых к описанию слов. Это создает особый стилистический фон всего текста, как бы удваивая семантически важные его фрагменты, ср. традиционные и новые сочетания типа ярость и гнев, любовь и правда, по поместью и по вотчине, с любовию и со страхом, мера и счет, наказанием и грозою, честь и слава, добродетель и любовь, бесчиние и невежество, учение и наказание, вежливо и ласково, душевне и телесне, любити и жаловати и т. п. Еще в конце XVIII в. в мемуарах Андрея Болотова такого рода удвоений многие тысячи (один из приемов его авторской речи). Благодаря устойчивости подобных сочетаний со временем могли происходить некоторые формальные и семантические преобразования у каждого из компонентов формулы. Например, известное сочетание злата-серебра отраженно, обратным образом, выражает исходную форму слов (золото-сребро). Выражение из Домостроя и все бы было твердо и крѣпко вполне могло бы вызвать перераспределение значений в близкозначных словах: в древнерусском языке твердо значило ‘крепко’, а крѣпко, наоборот, обозначало ‘твердо’. Парные формулы, уточнявшие оттенки понятия через образ, который связан с внутренней формой словесного корня, и приводили к перераспределению смысла слов. Бифокальность подобных формул очень наглядна: одновременно это как бы взгляд изнутри и извне на одно и то же — отвлеченное, т.е. символическое, — понятие, данное как образ, независимо от того, является ли оно оксюмороном (с любовию и со страхом) или плеоназмом (стыд и срам). Удвоение смыслов есть сознательно проведенное через слово отчуждение личного чувства или переживания и попытка взглянуть на эти переживания со стороны. Личный стыд и осуждение со стороны (срамъ) еще не сошлись в общем этическом термине, каковым и стало поздне́е известное уже и Домострою слово совесть. Можно было бы увеличить число примеров, однако, как кажется, основной наш тезис уже понятен: Домострой в ряду древнерусских текстов имеет особое значение. Он уже не мог стать образцом для со-творения подобных текстов, поскольку сам же и нарушил средневековый принцип сложения текста по «образцам». Но он и не является представителем определенного жанра, поскольку сам же нарушил средневековый принцип верности жанру согласно его «достоинству». Находясь в перекрестье различных эпох, стремлений и надежд на новое, этот текст становится опытным полем для обнаружения и фиксации тех способов в построении новых текстов, в которых так нуждалось время. В заключение рассмотрим некоторые соответствия между текстом Домостроя и исходными для него текстами, иллюстрируя все сказанное о тексте, языке, жанре и стиле. Хорошо видно преобразование текста, восходящего к проповеди Иоанна Златоуста в древнеславянском переводе как русского литературного текста.
Измарагд Аще ли кто злословить родителя своя, си пред б҃мъ грѣшенъ есть, и от б҃га и от людеи проклять, а иже бьеть отца или матерь, от ц҃ркви да отлучится и лютою с҃мртию да умреть. Кажыте измлада дѣти своя... Наказаи его во уности, да на старость твою покоить тя... Не ослабляй наказати дѣтеи си; аще бо биеши жезломъ, не умреть но паче здравее будеть: д҃шю бо его сп҃сеши, и аще накажеши Любяи с҃на своего, учащаи ему раны, да напослѣдокъ о немъ взвеселися... Не дай же во уности воли дѣтищу, но казни и донележе но ростеть; егда же ожесточавъ не повинетьтися, и будет ти от него досада люта, и болѣзнь д҃ши, и скорбь не мала, тщета домови, погибель имѣнию, укор от сусѣдъ...
Домострой Аще ль кто злословитъ или оскорбляет родителя своя, или кленет, или лаетъ, сии пред б҃гом грѣшен, а от народа проклят и от родители. Аще кто бьетъ отца и м҃трь, от ц҃ркви и от всякия ст҃ни да отлучится и лютою см҃ртию и градцкою казнью да умерть. Казни сына измлада, и порадуешис о нем в мужествѣ, посредѣ злых восхвалишис и зависть приимут враги твоя... Казни сына своего от юности его и покоитъ тя на старость твою, и не ослабляи бья младенца, аще бо жезлом биеши его, не умреть, но здравіе будет: ты бо бья его по тѣлу, душу его избавити от см҃рти. И не даи же ему власти во юности сокруши ему ребро донели ж растет, да ожесточявъ не повинеттися и будет ти от него досажение и болѣзнь д҃ши, и тщета домови, и погибель имѣнию и укоризна от сусѣдъ...
Мозаичность текста ощущается при первом же чтении. Отточенные формулы переставляются местами, создавая причудливое течение дискурса. Оригинальность в компоновке формул, т.е. в самой текстовке. Внешне это как бы компиляция, а на самом деле творчество, но творчество на уровне языка, отраженного в стиле. Происходит экспрессивное усиление и расширение текста в эмоционально-убеждающем отношении и его сокращение в части формул, число которых, впрочем, увеличивается в результате постоянных добавлений однозначных выражений — тоже риторический прием усиления. Стиль углубляет перспективу высказывания, но пространство текста сжимается. Общая установка на совмещение стилей в анфиладном жанре приводит к неожиданному результату: в Домострое сравнительно с исходным текстом отражается архаизация текста со стороны формы: досажение, укоризна вместо досада, укор, даже в произношении, ср. во уности — во юности, ростетъ — растетъ, но бия — бья. Очень часты замены слов с целью отразить новую реальность: не воля, а власть, не люди, а народ, градская казнь в добавление к отвлеченному лютою смертию. Постоянно варьируют лексически сами формулы: в разных местах находим посмѣхъ и укоризна, съ укоризною и поношениемъ, укоризна и посмѣхъ и т.п. Ср. также:
Измарагд Не рече бо Писание не пити, да не упиваются во пьяньство, да не пиют; сим подобает пити кому горе, кому мятежъ, кому молва, кому скордѣло, кому мерзость, кому синии очи, и о горе: како ся пияным отдоранити, лежащимъ яко мертвым...
Домострой Не реку не пити, не буди то, но реку: не упиватися в пьянство злое. Аз дара божия не похуляю. Ино бъ государю, у кого пивъ, на тобѣ кручина, а тебѣ наипаче, и истерялся, а отъ людеи срамота, и молвятъ: гдѣ пилъ, сидѣ уснулъ и кому его беречи, самому пьяну?
Упрощение синтаксической структуры и замена более понятными словами сопровождается удревнением внешней формы (изображением текста как литературного). Книжные афоризмы «прорастают» из отвлеченной проповеди, основанной на каноническом тексте (как у Иоанна Златоуста), тогда как народное речение как бы «снимается» с реального события и всегда конкретно, почему и нуждается для своего выражения в обычной разговорной лексике. И те и другие приходят из устной речи, что сближает их, способствуя взаимному влиянию друг на друга, но книжные афоризмы, записанные и заученные, редактируются как жанр письменный, тогда как народные формулы, все более отвлекаясь от породивших их событий или лиц, обкатываются в разговоре; для них важнее не точность формулировки в отношении к понятию, а образная сила собственно образа. Книжные и устные выражения все больше расходились под влиянием развивающегося языка, которые разводили книжные и народно-разговорные жанры, и тогда, после краткого периода сближения с речевыми формулами, книжные максимы вновь расплывались в тягуче-нравоучительной проповеди, а народные речения сжимались в лаконичную поговорку. Вырастая из Текста, книжные формулы возвращались в литературу; а народные формулы, прорастая из факта, становились элементом языка — идиомой. Противоречия между этими синтагмами нет ни на одном этапе развития, поскольку они обслуживают различные сферы действия, поэтому, употребляясь в речи одних и тех же людей, они влияют друг на друга и развиваются параллельно по законам каждое своего жанра и в прямом соответствии со своим стилем.
5. Текст и стиль
Существует мнение, будто в средневековом русском тексте на основе диглоссии соединяются элементы различных языков — русского и церковнославянского[105]. Мы уже рассмотрели такую возможность на тексте Домостроя и обнаружили, что в границах жанра ведет не язык, а его стилистические проявления, поскольку сам текст складывается из литературных формул и устно-речевых синтагм, а не путем совмещения кодовых особенностей (элементов) того или иного «языка»[106]. Для Д. С. Лихачева, наоборот, стиль есть самая устойчивая константа текста (не жанр, который определяется стилем, не язык, который в «чистом» виде, вне своих стилей, не проявляется, не что- либо еще). Стиль всегда изучается наряду с основной идеей текста как его функция[107]. Скоморошина как риторический прием иронии, как способ соединения разностильных по происхождению текстов опирается на средневековый русский быт, исходит из действия и дела; взаимную связь этих компонентов текста Д.С. Лихачев и обозначает в своих работах. Но параллельно ей существует идущая от византийской литературы риторическая традиция, которой мало внимания уделяли отечественные исследователи[108]. Это также способ отбора и соединения в одном тексте разностильных элементов; и скоморошина, и риторика — средства убеждения и внушения с использованием художественно осмысленного слова. Первоначально в древнерусской литературе обе эти возможности построения текста развиваются независимо друг от друга. Если ограничиться самым демократичным по тем временам жанром — поучениями, окажется, что уже в XI в. Илариону-ритору противостоит Феодосий Печерский с незамысловатыми своими обращениями к братии, а Кирилл Туровский со своими Словами отличается от Климента Смолятича (отчасти) в XII в. и от Серапиона Владимирского в XIII в. Здесь названы только известные авторы, но до нас дошли и анонимные поучения, например «Поучение к простой чади» XI в., авторы которых также не были искушены в церковной риторике, особенно в Новгороде (Лука Жидята XI в.). Иларион и Кирилл известны больше других именно как типичные авторы в данном жанре, величайшие искусники, которым следует подражать и даже подписывать их именами свои собственные творения. Выражая наиболее полно эстетическую и культурную позицию своего времени, в глазах современников и потомков эти авторы были образцом стиля, создавали образцовые тексты, т.е., в понятиях средневековой «парадигмы», норму. Их адресатом был «весь мир» и вечность, тогда как Лука, Феодосий, Григорий Белгородский, Серапион и другие обращались к узкому кругу «любимичей», друзей, соратников, постоянных слушателей, которым нужно было говорить не каждый раз все новые истины, а всегда одно и то же: внушать, а не убеждать. За этой традицией стоял не «народ» вообще, а конкретные люди, и притом люди, язык которых отличался от книжного, усредненно-возвышенного, постепенно терявшего образную силу, потому что архаичная лексика и тяжелая книжная конструкция утрачивали внутреннюю форму исконного образа, исходного смысла текста; терялись и символическая его глубина, и красота звучания, и тонкие оттенки смысла. Жанр неизбежно развивался в сторону смешения стилей. Простой стиль и риторический стиль пока еще сосуществуют, исполняя различную функцию в отношении к различным адресатам. Простая речь, в отточенности своих формул со временем став литературой, т.е. будучи записанной и обработанной, уже могла сопоставляться с риторически выдержанными текстами. Равноценность функций определяет равнозначность текстов и оправдывает совмещение стилей. Совмещение стилистических средств на пространстве одного текста создавало предпосылки для стилистического усложнения самого языка, т. е., в конечном счете, для создания литературного языка на национальной основе (много позже описываемого времени). Итак, в тексте сталкиваются не языки, а стили. В качестве примера можно было бы рассмотреть включение фольклорных текстов и «посольских речей» в состав летописи — тоже анфиладного жанра древнерусской литературы. На примере летописного известия об Алеше Поповиче Д. С. Лихачев показал, как это происходило. В момент самого побоища на Калке (1229 г.) о нем нет никаких упоминаний, но при составлении Владимирского полихрона 1418 или 1423 г. рассказ об Алеше включается в текст летописи. Д. С. Лихачев исследует пути становления народного характера в рамках народного творчества: от Ростова Великого XIII в. через Киев (Калка) к более древним временам Владимира Святого (уже в Никоновской летописи XVI в. и в Степенной книге)[109]. Углубление в толщу народной памяти происходило последовательно, по мере того как и обиходная историческая память ищет истоки своей государственности во все более отдаленных временах героического прошлого. Этот процесс удревнения истории связан с необходимостью архаизировать язык изложения — так на путях преобразования смысла снова сталкиваются различные стили изложения: тот, который выражает возникший текст, и тот, посредством которого хотят передать символическое значение описываемого. Всегда, когда повествовательная речь исходит от иерарха церкви, — это фрагмент с архаизмами и книжной риторикой; всегда, когда прямая речь исходит от женщины, — она передается средствами народной поэтики, ср. заплачки Богородицы в четвертом Слове Кирилла Туровского, плач Ярославны в Слове о полку Игореве, прощание княгини Евдокии в Сказании о Мамаевом побоище или в Житии Димитрия Донского и т.д. Включение элементов деловой прозы («документально-протокольный стиль») происходит с конца XIV в., и не только в Сказании о Мамаевом побоище, но и в Задонщине. Из делового языка заимствовались формы, выражения, конструкции для передачи новых, постоянно возникавших в литературном описании фактов, событий, мнений. Такова вообще типично «московская» манера выражения литературности, в отличие, например, от новгородской, в которой также преобладала деловая речь, но только в структурно замкнутых жанрах делопроизводства. Но особенно характерно столкновение исходных стилевых различий для художественных жанров — в средневековом, разумеется, значении. Именно здесь и возникает проблема: роль языка как средства воплощения художественных форм в средневековом тексте, как средства, создающего целостность и цельность художественного текста несмотря на разностильность его элементов.
Язык — текст — идея. В триединстве язык — текст — идея не было лишнего члена ни в один из моментов истории нашей художественной культуры, каждый из них, испытывая воздействия со стороны соседних, и сам способствовал их развитию. Идея известна — язык дан — текст задан. Словно в многомерных уравнениях, обязательно проходя через текст, неизвестные до того х, у и z один за другим становились явленными и ясными а, b и с, высветляя различные стороны техники, методики и идеологии художественного и научного знания эпохи средневековья. Вслед за Григорием Сковородой, вдумчиво решавшим эти вопросы во второй половине XVIII в., можно сказать, что первоначально неопределенные «икс», «игрек» и «зет» внутренние свои связи проясняли в символическом смысловом треугольнике, напоминающем современный «семантический треугольник»; Григорий Сковорода обозначал его таким образом:

где отношение между α и β есть связь между идеей и словом, отношение между α и ω — связь между идеей и текстом, а отношение между β и ω — связь между словом и текстом (выражение слова в тексте). Если в XII в. Климент Смолятич «зналъ алфу... и виту», а после Епифания Премудрого книжники искали путь «от алфы до омеги», сегодня актуальным становится соотношение между словом и текстом. Д.С. Лихачев говорит о важности древнерусских текстов анфиладного типа, например летописей. Совмещение исходно разностильных жанров в композиционно цельном памятнике действительно привело к возникновению идеи стиля. Соединение старых и новых, заимствованных и собственных языковых средств всегда смущало историков литературы. Возникал соблазн — в угоду типологически «прозрачной» гипотезе признать тот же летописный стиль либо безусловно «церковнославянским», либо однозначно «русским», связанным с разговорной стихией древнерусской речи. Первая точка зрения присуща московским «славянофилам» — от Константина Аксакова до Бориса Успенского, вторая — петербургским исследователям, всегда изучавшим язык летописи как проявление народного русского языка. И те и другие забывали, что литературный язык напрямую не связан с разговорной речью, такого никогда не было. Сравнение с другими жанрами древнерусской литературы показывает, что и взаимоотношение между различными источниками литературного языка Древней Руси было сложнее, чем это кажется. Например, в житиях, во многом также текстах анфиладного типа, замечается органически внутреннее развитие разностильных текстов, но не по причине столкновения разножанровых его источников, как в летописи, а из-за разносюжетности в рамках общего жанра (святой-воин, святой-мних и т.п.). Третий ведущий жанр средневековой литературы, связанный с торжественным красноречием, — слово — при общности жанра и сюжетном единстве предстает столь же разностильным, что и нарративное житие, но разностильность языковых средств в этом случае вариантна, т.е. в разных образцах жанра проявляются различные стилистические возможности языка[110]. Таким образом, жанр, сюжет, идея требовали различающих их оттенков словесного оформления, что и сказывалось на подборе соответствующих речевых средств языка. Роль анфиладных текстов в этом процессе исключительно важна. В подобных текстах выявлялись и определенным образом соединялись в общей системе инвариантные, т.е. типичные, образцовые и всеобщие, признаки того или иного стиля, особенности, которые и до того уже существовали, но были разбросаны по самым разным текстам в границах определенных, выработанных традицией употребления, поэтических формулах. Путаница в понятиях мешает современным исследователям разграничивать язык, литературный язык, язык литературы, стиль, «живую» речь современников и т.п. Все известные нам «открытия» стилей в средневековой литературе заключаются либо в намеренном смешении жанров, либо в перенесении стилистических особенностей одного жанра в другой. Открытие Епифания Премудрого заключается в том, что стилистические особенности риторических жанров он перенес в агиографию, тем самым слово сделав Текстом. Плетение словес в определенной перспективе изложения и есть текст, textus — ткань, плетенье. Словесная ткань средневекового произведения многомерна, и настоящий мастер слова, каким был Епифаний, буквально (вот именно буквально) сплетает слова в их горизонтальном и вертикальном соответствии; горизонтальная последовательность слов дана как традиционная формула, а вертикальное их наложение образует «новые смежности»; это хорошо заметно, например, в текстах Кирилла Туровского, у которого читаются и вертикальные ряды слов в их взаимном соответствии, позволяющем выявить все новые признаки высказывания:
Велика и ветха сокровища
Дивно и радостьно откровение
Добра и сильна богатьства...
так что в конечном счете, учитывая исконное значение приведенных лексем и смену грамматических форм, в которых они представлены, можно прочесть построенную в амплификативном усилии фразу:
значительное... дряхлое... сокрытое... удивляющее... удовлетворяющее... открывающее... имение... изобилие... богатство...[111]
«Выход на вертикаль» словесного плетения позволяет преодолеть ограничения линейного членения традиционных формул (которые Кирилл перерабатывает лексически), так что трижды три раза повторенная, как в преломлении зеркал, мысль о восхваляемом в Слове празднике становится поэтическим зачином Слова:
Значительное — удивляет — имение дряхлое — удовлетворяет — изобилие сокрытое — открывает — богатство.
Возможностей прочтения множество, особенно учитывая многозначность древнерусского слова. Столкновение многих значений потенциально многозначного слова-знака создает необходимую художественную глубину целостного текста, и возникает нетривиальное прочтение символа, который и сегодня может варьировать в широких пределах смысла. Поэтическая формула в средневековом тексте традиционна, потому что она когерентна топосу, т.е. соотнесена с ним по форме и по употреблению в тексте. Топика — общие места — позволяет сохранить образцовый текст во времени и пространстве, одновременно создавая структуру повествовательных форм. Пришедшие из риторики, топосы стали способом организации устного текста, но вместе с тем обусловили и рождение новых словесных формул в текстах изначально письменных жанров. Традиционные формулы русских былин дают пример таких поэтических формул в дискурсе типических топосов. Действительно, синтагменное сцепление слов в определенной последовательности выражаемого смысла вполне традиционно и отражает присущую средневековью устремленность к метонимической смежности форм. Цельность поэтической формулы в древнерусском тексте формально организуется тремя средствами. Такая формула синтаксически представлена как синтагма, ритмически — как хелиандус, семантически — как символ. Текст вообще предстает как совокупность синтагменных, рядоположенных формул, поскольку средневековое сознание еще не имеет представления об отвлеченно парадигменных связях между отдельными словами (как лексической системой) или их формами (как парадигмы склонения или спряжения) вне конкретного текста. Это культура метонимического мышления, что Д. С. Лихачев прекрасно показал на разборе поэтических средств Слова о полку Игореве. Столкновение различных значений потенциально многозначного слова-знака образует необходимую художественную глубину целостного текста, и возникает нетривиальное прочтение символа, который как бы рождается непосредственно в тексте. Например, все эпитеты в Слове о полку Игореве построены на метонимической основе и в пределах своей поэтической формулы кроме прямого значения получают добавочное, переносное, но важное только в данном контексте значение. Сребренеи сѣдинѣ, сребреными струями, на своихъ сребреныхъ брезѣхъ, сребрено стружіе — не просто ‘сделанный из серебра, украшенный серебром’ в последнем примере или ‘серебряный по цвету’ во всех остальных (как показано в словарях), но и результат внутреннего сравнения, т.е. символическое уподобление серебру: как серебро (P.O. Якобсон говорил о скрытом противопоставлении темному, мрачному: отрицательное сравнение), белое серебро как символ света (ср. греч. параллели αργός — άργυρος ‘белый — блистающий’, приведенные еще Ф.И. Буслаевым). Контекстное совмещение прямого значения слова с переносным создает символический смысл формулы в целом. Подобное «приращение смысла» в поэтической формуле Потебня называл символическим уподоблением. В законченном ее виде — семантически — мы и сегодня воспринимаем такую формулу как единый по содержанию отрезок — концепт. Идиомы нашей речи возникли таким же образом — в единстве формы и смысла, на общей ритмической основе. Пословицы и поговорки окончательно сложились только в результате слияния всех трех форм: многозначность семантики в единстве словесной формулы и ритмики. Ритмическая организация текста при этом обязательна, поскольку только в этом случае текст запоминался и легко воспроизводился, становился образцом для других словесных комбинаций того же рода. В известном смысле можно сказать, что иллюзия ритмичности средневекового текста при его прочтении сегодня создается реальным синтагменным членением, которое ритмически обогащено различными эвфоническими средствами речи. Соотнесенность всех уровней языка и поэтических его средств сохраняется на всем пространстве средневекового текста: иерархия смысловых форм функционально однотипна. Древнерусский текст мало пользуется сложноподчиненными предложениями (в основном это кальки с греческих конструкций при старославянских союзах), но в нем широко представлены сложносочиненные, а потому в словосочетаниях здесь чаще согласование, чем управление, уподобление, чем сравнение, метонимия, чем метафора. Все такие противоположности, коррелирующие по функции, отражают древнейший способ формального и семантического соединения слов, необходимого для обозначения нового признака, свойства или возникающего по ходу описания отношения. Так, для Слова о полку Игореве характерными являются иерархически выстроенные средства организации текста: сочинение — согласование — уподобление — метонимия.[112] Объемность содержательной структуры текста поддерживалась также риторическими приемами его построения. Ключевые слова текста, которые обрастали присущими им формулами, разбросаны по всему тексту и риторически организованы таким образом, что сознание неизбежно вовлекает их в общую цепь соответствий. Например, в Слове о полку Игореве использовано несколько средств для выявления семантических признаков при описании реальных предметов. Признак воссоздается в данном контексте путем сталкивания разных явлений предметного мира, представленных в словесных формулах: это катахреза (признакопускается), металепсис (признак предполагается), гипаллага (признаки совмещаются) или олицетворение (признаки уподобляются). Во всех случаях семантическое сгущение высказывания (поэтическая формула на риторической основе заменяет целое высказывание: энтимема вместо силлогизма) приводит к созданию актуального символа, образует тот неопределенный, неустойчивый и, казалось бы, многозначный смысловой фон повествования, который так поражает современного читателя. Несколько примеров[113]. Катахреза: ваю храбрая сердца въ жестоцѣмъ харалузѣ съкованѣ, а въ буести заколенѣ (=мечи) — чувства и сталь соотносятся через возможные сочетания с одними и теми же глаголами, одновременно организуется серия смысловых комбинаций типа:


т.е. одновременно и реально собственное значение, и переосмысленное в сопоставлении со смежными формулами. Неоднократные повторения в тексте тех же ключевых слов в различных комбинациях с эпитетами создают сложное пересечение слов в образном их смысле, поскольку и опущенный в катахрезе член в других контекстах воссоздается, ср. дръзо тѣло, храбро тѣло, жестоко тѣло и т.д. Металепсис: в многочисленных сочетаниях типа звенит слава, звонъ слыша, звоняче в прадѣднюю славу, позвони своими острыми мечи о шеломы, рашибе славу Ярослава и пр. предполагается ключевое слово колокол, которое соединяет многообразно отраженные в тексте слова звон, слава. Поскольку катахреза и металепсис построены на уподоблении признака в опущенном или предполагаемом третьем (в свою очередь, эксплицированном словесно в других контекстах), одно определяется через другое, а это принцип действия символа, не метафоры. Метафора организуется на сравнении отделенных признаков, здесь же признаки именуются на основе уподобления цельных вещей (предметов зримого мира). Гипаллага в древних текстах может быть обнаружена часто. Страшивы мужь страшивы мысли имать — прилагательное предстает как гипаллага, т.е. как слово со взаимообратимым смыслом: субъект страшится, поскольку и сам — страшен. Употребление многих имен в тексте Слова о полку Игореве определяется тем же приемом (ср. страна, земля и т.п.). Примеры олицетворения приводить излишне, поскольку они общеизвестны, да к тому же и выражены здесь всем понятным термином. Все указанные особенности древнерусского текста, по необходимости данные суммарно и вне текстовых единств, т.е. аналитически, одинаково важны при анализе средневекового произведения. Предварительные опыты показывают, что только в исследовательском единстве языковых, поэтических и смысловых компонентов текста можно адекватно раскрыть пока еще недоступное нам содержание древних произведений. Не понять, не перевести, не истолковать, но именно раскрыть их сущностный смысл, сокровенный и важный, который зашифрован для нас в художественном опыте предков. Закончим сопоставлением одной формулы, развивавшейся с течением времени. При исследовании образных средств языка в их развитии важны конкретные формулы текста, особенно возникающие в результате наложения двух культурных традиций: а) «помысли о убогыхъ, како лежать ныня, дъждевьныими каплями яко стрѣлами пронажяеми» (Изборник 1076 г., л. 42; это книжное выражение повторено в Молении Даниила Заточника, XII в.); b) «Идти дождю стрѣлами с Дону великого» (Слово о полку Игореве; это уподобление использовано здесь неоднократно: вѣтри вѣютъ стрѣлами, воины, рассушась стрѣлами). В отличие от книжного выражения русское по смыслу амбивалентно (стрелы дождя — дождь стрел), что естественно для языковой системы с наличием слов-синкрет; русская формула выражает уподобление «творительным уподобления», а не метафорическое сходство, поэтому и признак никак не выделяется, даже контекстно, путем выражения прилагательным (что как раз характерно для книжного текста); c) «Стрѣлам яко дожду идущу на град их» (Ипатьевская летопись под 1245 г.); здесь союз яко равнозначен союзу «если» в обороте «дательный самостоятельный»; d) «И стрѣлы на нь лѣтяху акы дождь» («История иудейской войны» Иосифа Флавия, русский перевод XII в.; ср. в Повести временных лет под 1097 г.: идяху стрѣлы акы дождь) — это уже сравнение, но по отношению к переводному тексту из Изборника 1076 г. здесь изменилось основание сравнения; наложение переводного выражения на русское изменяет основание сравнения зеркально наоборот: в древнерусском сравнивается дождь, а не стрелы; e) Дождь стрѣлъ — формула, возможная с XVIII в., параллельная многим другим (дождь червонцев, дождь искр, дождь слез), т.е. становится возможной метафора, поскольку уже распространилось и стало обычным определение посредством прилагательного: дождевые стрелы, ср.: «Сердце мне пронзили дождевые стрелы» (Вс. Рождественский, 1925). Таков путь постепенного преобразования образных и семантических отношений в пределах ближайшего контекста слова (поэтической формулы): с одной стороны, уподобление — сравнение — метафора — эпитет как выражающий отвлеченно единичный признак троп; с другой стороны, признак качества — отношение — свойство и т.д. На всем протяжении изменения семантики слова стилистически-образное и семантически-понятийное идут параллельно, заимствуют из контекста те или иные признаки, но развиваются зеркально противоположным образом: уменьшение образности свидетельствует об усилении понятийного, и наоборот. Слово никогда не самостоятельно в предпочтениях того или иного направления в выборе. Выбор стилистических средств направляется текстом. Специализация грамматических форм в семантическом развитии текста-сообщения становится возможной только при наличии уже отработанной и широко развитой вариантности форм, накопленных к тому времени книжной традицией. Случилось это лишь в конце XVII в., когда постоянное столкновение равнозначных формул разного происхождения в законченном виде сформировало два полюса: текст конкретного и текст абстрактного значения (образно говоря, текст типа стыд и срам и текст типа совесть). Уже в древнерусском языке, когда последовательное распространение синтагм конкретного текста грозило перенасыщением словесного ряда, сложного для запоминания, впервые в XVI в. возник совершенно новый способ передачи информации. Синтагма сжималась до отдельного слова, и семантическая компрессия сопровождалась формальным усилением слова посредством суффикса. Различные этапы развития словообразовательных моделей сегодня хорошо изучены, и наша цель — всего лишь указать на то, что своеобразный словообразовательный «взрыв» XVI в. своим появлением обязан как раз переосмыслению текстового ряда слов. Замена равноценных в стилистическом отношении формул-синтагм суффиксальными именами разного типа и происхождения и различной функциональной ценности привела, во-первых, к окончательной эмансипации слова от контекста, во-вторых, к семантическому разведению созначений прежде синкретического по смыслу слова и, в-третьих, к формированию стилистически неравноценных для данного текста слов. Сжимая отдельные формулы текста в слова и тем самым производя семантическую конденсацию, литературный язык нуждался в появлении новых средств для выражения специализированных оттенков смысла. Эти средства и появились в виде новых словообразовательных гнезд, моделей и парадигм. Но это уже происходило в новое время — совершенно новая ситуация и с употреблением слова в тексте. Подчеркнем еще раз главное, важное, основное. Мы совершаем логическую ошибку, на основании древнерусского текста говоря о языке. У текста как текста вообще много функций, обслуживаемых собственным своим стилем. Стиль же — понятие историческое, стилистические средства языка отбирались из хронологически, по происхождению, разных его форм. Конструирование двух языков в русском средневековье исходит из наличия двух основных функций текста, т.е., по справедливому мнению И. П. Еремина[114], двух разных «способов изображения жизни»: воспроизвести единичный факт действительности или порожденные реальностью идеалы. У «способов» есть свои типы текста, также определяемые их назначением, — жанры. Способы, типы и жанры определяли возможности сплетения новых текстовых связей на основе постоянно развивающегося языка.
СЛАВЯНОРУССКИЙ И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ В ДРЕВНИХ ПЕРЕВОДАХ ЕВАНГЕЛИЯ
Изучение славянских переводов Священного писания получило теперь большое развитие, в том числе и в связи с новыми переводами. Необходимо оценить характер старых переводов и степень их участия в развитии различных форм национального литературного языка. 1. Начнем с уточнения основных терминов. В соответствии с традицией классической русской филологии славянорусским называю развивающийся в средние века литературный язык восточных славян, который, отталкиваясь от текстов Писания и на основе народных наречий, постоянно обновляя форму и смысл слов и конструкций, создавал собственные систему — и норму. Церковнославянским называю нормированный, главным образом в письменной форме, язык служебных церковных текстов, т.е. языковое воплощение не широко культурной информации, а только информации, связанной с культом. Старославянский — язык, отраженный в канонических церковных текстах самых древних славянских переводов, от которых сохранилось не более двух десятков списков. К этому языку восходят современные версии церковнославянских языков, в том числе и русский церковнославянский язык. О старославянском, как и об общеславянском (праславянском), языке в своем сообщении я не говорю. «Славянорусское» как форма воплощения и «церковнославянское» как содержательная (семантическая) часть культурных текстов эпохи средневековья можно понимать и шире, в культурологическом смысле: как живую народную и канонически церковную стихии, постоянно питавшие друг друга и сохранявшие тем самым «живое слово Евангелия» как Слово-Логос. Без их диалектического взаимопроникновения церковнославянский выродился бы в пустую форму, а народный славянорусский — в низкий стиль вульгарно-бытового характера. Недоразумение может возникнуть в связи с тем, что мы не уточняем границы между церковнославянским переводом Писания и современным синодальным его переводом. Говоря о церковнославянском, я подчеркиваю известную архаичность его языковой формы; говоря о русском синодальном переводе, показываю некоторую упрощенность (одноплановость) его перевода, который в наиболее ответственных местах текста утрачивает символическую напряженность и обедняется в отношении идиоматики с традиционной для нее образной силой; сакральный характер самого текста нейтрализуется в стилистически сниженной форме. Говоря о том, что новый перевод на современный язык вряд ли требуется сегодня, имею в виду синодальный, который как раз и существует как современный, широко используясь в некоторых конфессиях; опыт его создания показывает, насколько трудно перевести на современный язык сложившуюся в другой культуре сложную образно-символическую систему. Говоря о необходимости развивать тысячелетнюю традицию «самораскрытия» заложенных в первоначальных переводах образов, символов и идей, имею в виду церковнославянский перевод, который только один и может служить основанием для дальнейшего совершенствования славянского (русского) перевода: не греческий и не синодальный, который (для своего времени!) уже до конца развил заложенные в церковнославянском переводе «образы», иногда буквально раскрыв их парафразой или с помощью распространителей. Возвращение к традиции, ориентация на тексты типа Геннадиевской библии было бы наилучшим решением вопроса. Непременное изучение всех списков Писания, дошедших до нас начиная с XI в., считаю бессмысленно позитивистским начинанием. Только в церковнославянском тексте (не языке — но тексте) традиция развития языка еще не закончилась в том смысле, в каком говорит об этом А. А. Потебня: «Только в силу того, что содержание слова способно расти, Слово может быть средством понимать другого» — это слово-символ, т.е. идеальный знак, а поскольку вообще «мысль направлена словом» (Потебня), становится ясной мировоззренческая функция синкреты-символа. Говоря же собственно (и узко) о лингвистической стороне дела, т.е. оценивая церковнославянский как «высокий стиль» современного русского словаря, имею в виду именно русский перевод Писания, поскольку язык его (понимаемый как система и как код) совпадает с системой современного русского языка, а в лексическом отношении они находятся в дополнительном распределении, восполняя друг друга (говоря условно) как высокий и средний стиль; специалисту ясно, что на лексическом уровне, и особенно по словообразовательным моделям и по фразеологии, русский перевод Писания тоже соотносится с русским языком (еще сто лет назад говорили о «русском и церковнославянском словаре» как общей сумме русского лексикона). Более того, естественное развитие современного русского языка показывает его зависимость от норм того самого церковнославянского, который мы столь легкомысленно сочли окончательно засохшей ветвью славянского языка: почти все важнейшие термины науки, вновь возникающие кальки, слова отвлеченного значения и т.п. составлены по принципам этого языка и с участием характерных для него морфем, а грецизированные синтаксические конструкции заменяются латинизированными. Именно поэтому язык науки и становится сегодня своего рода заменой церковнославянскому по сакрализованной своей функции. 2. На сравнении некоторых фрагментов из 10-й главы Евангелия от Матфея, представляющих типичные образцы этого текста, по разным переводам и редакциям и в сопоставлении с параллельными чтениями по тем же рукописям (на фоне их греческого оригинала) я хотел бы поставить несколько общих проблем, связанных с соотношением между древнерусским литературным языком и церковнославянским языком русского извода, вплоть до стабилизации последнего в законченном виде (современного церковнославянского). Выбор для наблюдения именно евангельских текстов объясняется несколькими причинами, в том числе и связанными с языком: большинство выражений этого текста стали идиомами русской речи; ср. из числа представленных в 10-й главе: 1) «нет ничего сокровенного, что не стало бы явным», 2) «отрясите прах с ваших ног», 3) «будьте мудры как змеи и кротки как голуби», 4) «ибо трудящийся достоин пропитания», 5) «ученик не выше учителя», 6) «мир дому сему» и пр. Вообще говоря, подобных идиом (библеизмов) в нынешнем словаре насчитывается около 800, они по-прежнему влияют на наше сознание, создавая подтекст современной культуры. Если же добавить сюда краткие выражения типа «образ жизни», «под солнцем», «тихая жизнь», «еле жив» и сотни других, это влияние — особенно евангельского текста — окажется более значительным, чем мы можем себе представить (не говоря уже о сотнях парафраз на евангельские темы). Правда, многие из них в бытовом отношении искажены и часто связываются не с теми местами Писания, в которых они на самом деле находятся; ср., например, «страха ради иудейска» (Ио. XIX, 38) или «довлеет дневи злоба его» (Мтф. VI, 34). Конечно, всегда существовало упрощение евангельских выражений, и даже классическая русская литература отразила это. Например, в одном из рассказов Ив. Бунина — понимание неграмотным крестьянином строки из 93-го псалма: «востань судии земли» (в славянорус. судяй, в церковнослав. судья по происхождению — архаическая форма имени — судии). Однако до искажений типа современных газетных дело никогда не доходило; ср. «гласность вопиющего в пустыне» (причем и «пустыня» понимается буквально). Не состоит ли и «перевод» на современный язык именно в подобном разрушении смысло-образа старинных выражений-идиом? Сопоставление текста по Остромирову евангелию 1057 г., Мстиславову евангелию ок. 1117 г., Чудовскому Новому завету ок. 1355 г., Геннадиевской библии 1499 г. и Острожской библии 1581 г. показывает, что некоторые из приведенных идиом в законченной словесной форме сложились уже довольно рано, хотя и они по-своему впоследствии были связаны с основными изменениями древнеславянской грамматики. Вот два примера. 3. Выражение «мир дому сему» сложилось давно и во всех списках, редакциях, переводах и пр. всегда подается именно в этом виде: Мир дому сему (Мтф. X, 12 и Лк. X, 5). Между тем это новая форма имени: в дат. падеже ед. числа — форма домови. Высокий стилистический и семантический статус имени приводит к употреблению именно такой формы в Евангелии — дому. Возможно, под влиянием подобных евангельских текстов и происходило закрепление новых грамматических форм во всех аналогичных случаях — первоначально как формальное разграничение одинаково возможных, т.е. вариативных, форм славянского языка; высокий стиль профетической речи противопоставляется профанным речениям. С чем это могло быть связано? Не забудем, что перед нами идиома — или ставшее на славянской почве идиомой афористическое высказывание. Тут важно каждое слово, выбор одного из них предопределяет поиск остальных. Например, в греч. ειρήνη τω οίκω τούτω местоименная форма τούτω, являясь формой дат. падежа, соотносится одновременно и с τουτο ‘потому, поэтому; с одной стороны — с другой стороны’, и с указательным местоимением ουτος; получается как бы игра слов, перекличка смыслов, переданная и в славянском переводе неожиданной формой с грамматическим значением определенности:
Такую сложную, таинственно шифрованную мысль с экспликацией противопоставления сложно было передать на славянский язык, единственный способ — формально обозначить противопоставление в существительном, изоморфном местоимению, что и проведено: дому — сему (не домови сему). Ср. то же в форме вин. падежа ед. числа (Мтф. Х, 34): принести мир на землю — в современном переводе; въврьщи мира... положити мира — Мстисл. ев. XII в.; въложити мира... въложити мира — Чуд. Нов. зав. 1355 г.; въложити миръ (bis)... — Острож. библ. 1581 г.; при греч. βαλειν ειρήνην επι την γην. Повторение текста в Лк. XII, 51 не изменяет этой славянской формы и даже сохраняет ее неизменной: яко мира придохъ дати на землю — Мстисл. ев. XII в., Чуд. Нов. зав. 1355 г. и Острож. библ. 1581 г. при греч. ότι ειρήνην παρεγενόμην δουναι εν τη γη. Характер сочетания (управление падежной формы глаголом) дает возможность по-разному толковать славянскую форму имени, но различие в греческих конструкциях славянский перевод во внимание не принял. Он использовал наличные формы славянских слов для передачи все той же степени определенности, какая оказалась необходимой в переложении греческого текста со свойственными для него тонкостями в изображении оттенков действия. Ограничиваюсь общим указанием на древность в дублировании формы дат. падежа ед. числа дому — домови, не вдаваясь в объяснения происхождения и функционирования этих форм в древнерусском и старославянском. Это сложный вопрос. Отвергаю мнение о том, что уже в индоевропейском праязыке данное существительное относилось к типу склонения на *-о; скорее всего (как полагает, например, О. Н. Трубачев), оно одновременно входило в разные типы склонения в зависимости от значения; ср. и в древнейших старославянских текстах только для формы дат. падежа: домови в наречном значении (домой), дому — в значении адресата (сюда относится и обсуждаемое выражение «мир дому сему»). Для славянского исключено отношение слова к типу склонения на *-о; его принадлежность к склонению на *-й показывает структура древнейших производных (домъкъ, домовьнъ и пр.), а также акцентные характеристики. Исключение вообще касается только формы дат. падежа ед. числа — все прочие формы старого типа склонения на *-й хорошо представлены в парадигме. Семантические или стилистические причины раздвоения формы имеют сложный характер, что подтверждается и смежными примерами на других именах типа склонений на *-й. Так, существительное сынъ, как можно видеть на старославянских текстах, употребляется в форме сыноу в конструкциях с греческой формой вин. падежа (τον υιον — Ио. XII, 34; Мрк. VIII, 31), а сынови — в конструкциях с греческой формой дат. падежа (τω υιω — Ио. V, 22). Разумеется, в устойчивом сочетании слов, да еще в окружении аналогичных форм склонения, довольно рано возникло и закрепилось выравнивание типа: «Слава Оцу и Сноу и Дхоу Стомоу» — под титлами. Подобное варьирование форм не редкость в древнейшем переводе Писания. В конце концов, и «довлеет дневи злоба его» относится к этому ряду, поскольку закономерно сакрализованная форма дневи заменяет обыденные дьни или дьню. Такие же примеры можно было бы привести и в отношении формы мира вместо миръ и пр., указанных в тексте. Ограничусь замечанием, что зависимость от греческой конструкции в первоначальных переводах требовала вариантности славянских форм, особенно форм имени, и наличие подобных форм способствовало адекватному переводу самого текста. Именно в подобной вариантности и лежит исходное звено литературности языка, поскольку вообще константный признак литературного языка — наличие вариантов. Это же явилось и причиной развития грамматической системы славянского языка, в котором стали наблюдаться сближения именных форм по прежде замкнутым и автономным классам склонения. 4. Другой пример: «врази чловеку домашьнии его» (Мтф. Х, 36). Здесь также находим произносительно-грамматический архаизм, врази, но не только его. Уже в первоначальном переводе содержалось и некоторое упрощение смысла речений, объясняемое однозначностью древнеславянского слова; ср. слово враг как ‘противник’, хотя внутренний образ слав. *vorg- ‘беда, нужда’ не передало в тексте амбивалентность (в известный момент и энантиосемичность) греческого слова εχϑρός — имеется в виду взаимность отвращения у врагов (внушающий ненависть и ненавидящий враг может быть только в отношении к своему собственному врагу, в противном случае это чисто внешние супостат, противник); не передано в точности и специально евангельское значение греческого слова οικιακός (как ‘домочадец’), значение переносное, поскольку основное значение прилагательного связано с обозначением всего, что есть в доме, — в том числе и мебель, и «осля». В последующем в таких сочетаниях также происходили свои изменения, но уже в границах самого славянского перевода: без воздействия со стороны греческого оригинала гиперонимизация славянского перевода усиливалась в связи с общим изменением значений у коренных славянских слов. 5. Первоначальные переводы конкретны и передают прямое значение греческого слова, особенно если текст переводился после Кирилла и Мефодия. Например, Мтф. X, 9-10: «не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои» — отсутствует в Остромировом евангелии, а в Мстиславовом евангелии не все комплектующие части его представлены, и сразу заметно, что греч. υπόδημα переведено конкретно (и точно) как онуща, т.е. ‘подошва с ремнями’, в Чудовском Новом завете и Острожской библии — как сапоги (второе значение греческого слова, но понятое уже под пером не монаха, а светского человека); ср. еще χιτών как срачица (‘нательная рубашка’, т.е. сорочка); заимствование сандалия (но не хитон) появляется значительно позже, в современном же переводе представлен предел гиперонимизации с устранением конкретных подробностей: «ни одежд, ни обуви». Таково же соотношение между значениями греческого слова и славянскими его эквивалентами — но только в определенном контексте. Ср.: греч. μη πήραν ‘(ни) сумы, котомки’ в разных местах Евангелия передается различным образом: ни мѣха (Мтф.) — ни мѣшьця (Мрк.) — искаж. греч. ни спиры (Лк.) — грецизм в ОБ ни пиры, но здесь же (в Лк.) ни влагалища (тоже попытка создать гипероним), — а в современном варианте является общим словом для любого евангельского текста с этой идиомой: ни сумы. В качестве гиперонима после длившихся несколько столетий поисков нужного слова избрано народное славянское, а не искусственные слова типа влагалище и не собирательные типа мошны (Мрк. VI, 8 в Чуд.). Таким образом, гиперонимизация тоже идет путем повышения семантического объема у славянского слова. Церковнославянский «смысл» сопрягается со словесным русским «образом». Сума — это не сумка, не сумочка и пр., а слово общего смысла, обладающее широким спектром переносных значений, которые подкреплены параллельными евангельскими идиомами народной речи (от сумы до тюрьмы и пр.). В дорогу не следует брать даже нищенской сумы — вот смысл высказывания. Таково же соотношение между греч. κονιορτός ‘(поднятая) пыль’ или ‘облако пыли’ и последовательно сменявшимися с течением времени словами славянских переводов: прахъ (переносное значение ‘пыль’) и персть в Чудовском Новом завете (последнее как попытка освежить внутренний образ, передать переносное значение греческого слова!) с окончательным сохранением все же первоначального прахъ — слова высокого стиля, в форме с неполногласием; это гипероним с возможным развертыванием смысла и самые разные значения; ср. совр. «Отрясите прах с ваших ног!». Последовательное для всех средневековых редакций текста выражение ни жезла в современном переводе заменяется на другое: ни посоха — с уточнением внутренней формы, поскольку гиперонимизация затронула и смысловые связи слова жезл. Разумеется, в дорогу лучше брать посох, а не державный или властный жезл. В греч. ράβδος оба эти значения представлены, как и множество других, не актуализированных в славянском переводе многозначного слова значений. Во всех подобных случаях в славянском переводе передается не основное значение греческого слова, а значение контекстное, связанное с конкретным, данным выражением. Таким образом, характер перевода с самого начала запрограммирован на усвоение всего сочетания целиком, на идиоматичность, которая не может быть разрушена без утраты образности текста. Греческий текст φρόνιμοι ως οι οφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί в древнеславянском переводе передан как «будѣте мудри яко змия и цѣли яко голубие» (Мтф. X, 16). Впоследствии только в сознательно редактированном переводе Чудовского Нового завета произведено уточнение формой смыслени (на место мудри), т.е. ‘благоразумны, рассудительны’. Зато форма мудри остается (как гипероним) и в переводе Римл. XVI, 19, поскольку соответствует греческому оригиналу (σοφούς). Гиперонимичное мудри сохраняется и во всех последующих переводах и редакциях текста. Иначе обстоит дело с другим прилагательным в этом выражении. Греч. ακέραιας ‘беспримесный; чистый; нетронутый; неповрежденный; свежий’ и специально в новозаветном тексте как ‘непорочный’. Определение первоначального перевода не могло сохраниться из-за изменившегося смысла слова, основным значением стало иное — ‘цельный (полный, единый)’, а не ‘непорочный’. Отсюда замена прилагательного цѣли прилагательным просты. Современные значения и этого прилагательного не соответствуют текстовому смыслу; ср. ‘незамысловатый; заурядный; простодушный; глупый’ и пр. Отсюда попытки других переводов (в частности, и словом непорочны), однако наибольшая общность значения сохраняет как гипероним все же слово просты(е). Свойственные слову коннотации вполне допускают его употребление в этом контексте. Многообразны исконные варианты и у глаголов: не притяжѣте — ни стяжите — не въземлѣте и пр. В современном переводе во всех случаях, где возможно данное сочетание, встречается однообразное «не берите!» (тогда как в греческом тексте употреблены разные глаголы: μη κτήσεσϑε ‘не приобретайте’, или μη δεν αίοετε ‘не хватайте’, в переносном значении ‘не приобретайте’): «Достоинъ бо дѣлатель пища своея есть» (уже в греческом много вариантов: τροφή ‘пища, еда’ и μισϑός ‘жалованье, мзда’ из ‘вознаграждение’, но только в тексте Нового завета представлено и значение ‘возмездие’). В Мстиславовом евангелии и в Чудовском переводе (Мтф. — пища и Лк. — мзды) еще соответствует греческому оригиналу, но в Острожской Библии они уже обобщают выражение словом мзды (как более соответствующим смыслу). В современном переводе греческие соответствия даны с помощью разных слов, но одинаково отвлеченно — как «пропитание» и «награда» (мзда). 6. Итак, суть семантического развития славянского текста состояла в самораскрытии потенциально содержавшихся в нем символических смыслов. Основные результаты этого процесса — процесса самораскрытия идеи и воплощения ее в адекватном идее языке — можно было бы обобщить следующим образом. 7. Содержание текста постепенно вело к выражению его посредством слов самого общего значения — гиперонимизации — главным образом, у существительных. Примеры показаны, но вот еще один. 1 Посл. Ио. V, 19: «а миръ весь в лукавствѣ лежить» точно соответствует значению греческого слова πονηρά ‘дурные поступки, порочные действия, злодеяния’, ср. современный перевод, прошедший несколько этапов переработки с последовательным обобщением ключевого слова: «а весь мир во зле лежит» (значение глагола сохранило смысл греческого: ‘пребывает’; образность сохраняется за счет глагольной формы, как и везде в Писании, — причина, почему в церковнославянском языке вообще столь устойчивы архаические формы глагола!). В зависимости от понимания греческого слова можно либо смириться с тем, что так уж установлено («во зле»), или утверждать, что «все зло мира», в конечном счете, зависит от нас самих («в лукавстве»). 8. Сам священный текст порождает семантический ряд, необходимо требующий новых словарных единиц, — отсюда активные словообразовательные процессы, навязанные языку образцовым текстом и притом не обязательно непосредственно от греческого оригинала. Роль и значение грецизмов вообще сильно преувеличены: боговдохновенная истина постигается славянами посредством развивающихся форм родного языка. Наиболее выразительные примеры калькирования идеологически важных ключевых слов христианской культуры хорошо известны; ср. такие из них, как совесть (съвѣсть при греч. συνειδός), милосердие (милосьрдие при лат. misericordia) и пр. На протяжении долгого времени происходило осмысление соответствующих текстов, состоялось последовательное «снятие» все более обогащающих славянское сознание созначений слова-термина. В первом случае это последовательный ряд значений от простого ‘(совместное) знание’ через ‘известие’, ‘сознание’ и пр. к современному представлению о ‘совести’ (сформировалось только к XVII в.). Во втором случае семантическое развитие слова происходило в соотношении с другими словами семантической парадигмы, воплощенной в сакральном тексте (такими как бескорыстие, сострадание и многие другие), что также лишь на заключительном этапе семантического движения славянской кальки в конкретном контексте (это условие обязательно) дало заключенную по смыслу словарную единицу (= понятие). На примерах хорошо видна исходная заданность смысла: слово-лексема в определенном контекстном окружении путем развития заложенных в тексте смыслов развивается до Слова- Логоса. Слово, ставшее Логосом, и является содержательной стороной того текста, который сегодня предлагают переводить заново. Совершить это будет трудно, поскольку, как видно на сотнях ключевых слов, и сам язык в своей семантической силе порожден этим текстом, вышел из него и теперь составляет конструктивную форму его существования во времени. 9. Необходимость понять текст и представить его как символико-художественный, а не рационально-прагматический («логос», а не «рацио»), постоянно требовала обращения к живым словесным образам народной речи (национального языка). Другими словами, родной язык совершенствовал образный строй текста, и тем активнее, чем скорее вырабатывался современный вариант церковнославянского языка (с ориентацией его на письменную форму): глубоко продуманная орфография, которая помогает понимать текст и воспроизводить его вслух. Отсюда и естественный путь развития нормативности как системы: от письма как идеальной нормы к произнесению как варианту нормы. Нужно отдавать себе отчет в том, что без сложившейся в течение веков нормативности церковнославянского языка мы не смогли бы так быстро нормализовать и национальный литературный язык. Что касается соответствия оригиналу, тут важное значение получило у нас не прямое заимствование (это вклад современной — другой — культуры, связанной с рациональностью, а не духовностью в воплощении информации), а калькирование — объемом от слова до целой фразы. В результате этого и под влиянием авторитетного текста в русском языке у ключевых слов культуры развивались переносные значения, которые как бы «снимались» с важного для данной культуры текста. Не забудем, что и в самом греческом тексте Писания коренные греческие слова получили несколько иное значение, чем это было свойственно классическому греческому; уже и на показанных примерах мы видим, что узконовозаветными являются значения слов συνειδός — совесть (ап. Павла), οικιακός — домочадец, κάρφος — сучок (а не балка), μισϑός — возмездие, μαχαιρά — (‘меч’, а не ‘жертвенный нож’), ‘раскол’ и пр. для διαμερισμός и т. п. Это еще больше связывает семантику слов с определенным сакральным контекстом; то же положение оказывается не в одном славянском переводе, но и в греческом оригинале Писания. 10. Практический вопрос заключается в следующем. Сто́ит ли переводить на современный русский язык Писание? Это спорно по многим причинам. Требование понятности и для самого неискушенного читателя столь же утилитарно, сколь и прагматично; оно нацелено на сиюминутный интерес поспешного считывания информации, от чего обсуждаемый текст всегда отвращался. Современный русский литературный язык в его словарной части таков, что не может без ущерба для смысла передать — не значения отдельных сочетаний, но заветного смысла Писания. В самом деле, основная масса лексики — бытовая — здесь не годится, поскольку принижала бы многократно символический смысл высказанного. Не пригодятся и противопоставленные бытовой лексике заимствования нового времени, поскольку они получили четкое терминологическое значение в рамках другой (рацио) традиции. Что остается? Остаются все те же слова церковнославянского происхождения или созданные по их модели «славянизмы», которые восходят к обработанным редакциям того же самого Писания и «сняты» с этих текстов. Выйти за пределы этой традиции вряд ли удастся, ведь в противном случае возникнет нежелательная неопрятность в использовании разностильных слов и выражений (что мы и видим на первых опытах подобной обработки текста). Но самое главное заключается в том, что на современный русский язык в его условно литературной (нормативной) норме нельзя перевести Писание, поскольку оно уже переведено на русский язык, представлено в его «высоком стиле». Можно сделать переложение, пересказ, разной степени точности парафразы, т.е. и на современном уровне цивилизации упрощенно изложить канву повествования и описательно представить основные реалии, лица, диалоги и пр. Это не перевод, а парафраза со всеми присущими последней недостатками (или достоинствами — вопрос спорный). В таком случае честнее исходить из греческого оригинала и составлять совершенно новую систему образно-языковых средств, в корне исключающих связь с традицией истолкования текста в русской истории и культуре. «Истина, — сказал Вл. Соловьев, — принадлежность идеального мира, а не материального», в материальном мире царствует не Истина, а Факт. Истина движется не в понятиях рацио, но в образах Логоса, а его невозможно передать аналитически в цепочке умело подобранных слов. «Духовный опыт выразим лишь в символах, а не в понятиях» (Н. Бердяев) — и это тоже верно. Создать новый перевод — значит сотворить новую систему символов, разорвав все связи с традицией и культурой. Националистические устремления всех современных славян иметь написанное на народной «мове» Евангелие разрывает первородство славян и рушит их взаимные связи. К тому же, как известно, высокая степень идиоматичности, особенно евангельского текста, препятствует аналитическому дроблению на слова; все же традиционные идиомы действительно закреплены в нашем сознании и действуют без новых переводов, которые по этой причине и будут восприниматься как неадекватные, поскольку «образ Слова» уже существует в подсознании носителей языка. Если я скажу: «Космос пребывает в злости» вместо «весь мир во зле лежит» («весь мир в лукавстве лежит»), я вызову активное неприятие и своего перевода, и Слова в целом. 11. В своих покушениях на живую традицию Слова мы не должны быть радикалами в духе времени — разрушить, чтобы создать. На пепелище трудно строить. Да и не уйти нам никуда от того, что взаимное проникновение форм естественного языка и семантики сакрального текста зашло далеко и создало новое качество — новый язык (который уже нам не нравится!). Не в нашей власти разорвать эту связь, благословенную свыше. Не случайно же вся история славянского слова в Слове подводила и уже подвела к созданию терминов самого общего, абстрактного и высокого смысла — гиперонимов литературной речи. В современных условиях гипероним — семантическая синкрета, а со стороны формы — слово высокого стиля. Совокупность гиперонимов составляет систему языка: жезл, одежда, имение и пр. — бытие без конкретности быта. Гиперонимы вполне адекватно отражают смысл Писания. Но значение их гораздо больше. Они постоянно порождают все новые семантические комплексы, включаемые в нашу культуру, и как таковые продолжают исполнять дело, заложенное в них первоучителями славянскими. Прервать естественный процесс обогащения речи языком Писания было бы опрометчиво. Взаимоотношения священного текста в славянорусском его варианте (высокий стиль нашей речи) и народного языка (как стиля обиходного) были продуктивными, активными и развивающими друг друга. Только совместно они создали и сохраняют нашу духовную культуру, потому что кроме экономистов русской душе всегда хотелось еще и пророков. Последние слова — это парафраза дневниковой записи Михаила Пришвина, сделанной им в конце 1920-х годов: «Мы ждали пророков, а пришли экономисты». Насколько эта мысль актуальна во все времена — судить не мне. Однако, мечтая о пророках и призывая их приход, мы обязаны сохранить им язык, достойный их речей.
НАРУШЕНИЯ СТИЛЯ И РАЗРУШЕНИЕ СМЫСЛА В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ
1. Значение библейских переводов в истории русской культуры
Древнеславянские переводы книг Библии сыграли решающую роль не только в развитии культа, но и в становлении современной русской культуры, прежде всего созданием литературного языка, основного инструмента интеллектуальной и художественной деятельности. Став производной от культа, культура развивалась на этих текстах, пополняя сокровищницу опыта и знания целого народа. Особенно в средние века все культурное развитие проходило под мощным воздействием со стороны символики, формул и образов, заложенных в переводных текстах. Каждое слово, употребленное в переводных книгах, так или иначе участвовало в развитии семантической структуры коренного славянского слова, углубляло его семантическую перспективу, приводило к развитию новых — переносных значений слова, увеличивало количество выражений и форм, впоследствии создавших идиоматические ряды соответствий и стилистически важные синонимы; сказалось в обогащении синтаксическими структурами, увеличивавшими возможности логических операций мысли и богатства средств выражения, а также в формировании словообразовательных моделей и т. п. Символы Писания с древнейших времен выступали в роли наводящего семантического средства раскрытия потаенных значений слова и тем самым способствовали углублению — категоризации — смыслового содержания грамматических категорий, как бы снимавшихся с конкретных значений определенных лексико-грамматических групп слов. Языческий мир двухмерных эквиполентных (равнозначных) оппозиций получил необходимую глубину, разворачивался в перспективу многозначного текста и символического слова, все связи и отношения реального мира сосредоточивая на внимательном взгляде вступившего в мир культуры субъекта такой культуры. Сгущая символические и образные представления о мире, собранные в традиционном славянском слове, — объем и содержание понятия, — носитель такой мудрости подходил постепенно к понятию как единству прежде разведенных сознанием объема и содержания. Библейский текст стал как бы наводящим на резкость восприятия увеличительным стеклом, тем необходимым третьим миром сущностей (по словам Григория Сковороды), который восполнял недостатки общего знания при избытке конкретного опыта. Можно сказать, что коллективная — народная — мысль мужала в осмыслении и использовании слов Священного писания. Истолкование библейских символов развивало филологическую и историческую работу над текстами, создавало методы научного исследования гуманитарных наук и тем самым подводило к созданию самих этих наук. Важнее всего то, что символические подтексты Библии способствовали формированию русской ментальности, поскольку и в древнерусский период нашей истории, и в эпоху сложения русского народа и русской государственности (с конца XIV в.) стимулирующее воздействие этого текста, постоянно перерабатываемого в связи с изменениями языка и общего тонуса культуры, заключалось в идентификации ключевых смысловых образов русской культуры с терминами этого текста: см. под его воздействием формирование таких понятий, как «любовь», «совесть», «правда», «милость», «вещь» и т.п. Из всего сказанного ясно, что русская культура в качестве основного образца литературной и культурной деятельности, обладающего высоким достоинством авторитетнойнормы, имела славянский перевод библейских текстов. На всех этапах развития русской культурной среды этот образец изменял свой характер, объем, содержание, признаки, которыми он воздействовал на развитие русского самосознания, т. е. он постоянно вписывался в соответствующие тенденции переживаемого времени, никогда не прекращая своего плодотворного влияния. Нынешний этап нашего культурного развития также требует своей степени участия традиционных текстов в формировании ментальности нашего времени. Пределы такого влияния и его возможности предстоит еще осознать, оценить и направить в нужную сторону.
2. Соотношение стиля и смысла в канонических текстах
В дальнейшем будем различать смысл и значение слова или текста. Значение определяется собственной семантической структурой и отношением ее к смежным элементам системы; отношение значения одного слова к значениям других слов данной системы определяет его значимость в системе. Смысл определяется в контексте и обычно связан с общим значением традиционной для культуры формулы (идиомы в современном употреблении). Именно в подобных формулах речи для всех последующих поколений дается образец словоупотребления в основном значении слова (т.е. в том значении, которое в данной системе значимостей признается за основное). Совокупность контекстов формирует текст, но, в свою очередь, и текст, как живое целое, определяет смысл каждой отдельной формулы и любого в нем слова. Современные словари, фиксируя значение слова и давая ему словарное определение, исходят из уже существующих контекстов, признаваемых образцовыми. Отношение к «образцу» за последнее столетие изменилось, так что и словари в известной мере неточно отражают смысловое наполнение слова. Если в качестве иллюстрации использованы не классические тексты, а, например, «актуальные» речи политических лидеров, «самовитое» слово превращается в отмеченную случайностями публицистическую номинацию. Поскольку смысл определяется контекстом, повышается роль стиля, каковым определяется обычно текст в целом. Смысл слова включает в себя и лексическое его значение, и системную его значимость, но сверх того и стилистический ранг слова, который в некоторых контекстах может просто нейтрализовать собственное значение слова. Единственный в нашей истории словарь, составители которого понимали эту интимную связь семантики со стилем, — словарь под редакцией Д. Н. Ушакова — появился в критические для науки 1930-е годы и не смог в полном объеме свое понимание передать в популярном изложении. Роль библейских текстов в культурном двуединстве смысла/стиля значительна. Именно они определяли верхний уровень семантической структуры слова, задавали общий масштаб словарным определениям во всех классических словарях русского языка. Отсчет велся от верхнего стиля, потому что стилистически маркированным был стиль низкий. В частности, символические значения слов обычно не регистрировались в словарях, но постоянно предполагались в словарном определении и иногда давались в словарных иллюстрациях. Можно сказать, что высокий стиль, материально обеспеченный как раз текстами Писания, надолго ушел в подтекст словарной работы, хотя профессионалы постоянно помнили о нем, иногда обсуждая этот вопрос в своих теоретических разработках. Библейские тексты способствовали осознанию границ и основных признаков литературного языка, поскольку в отталкивании от норм церковнославянского языка, сложившихся на основе уже по определению нормативных текстов Библии, происходила кристаллизация норм национального русского литературного языка. Вдобавок к этому, научная рефлексия о языке выявила противоположности между тремя стилями, определяемыми как раз отношением к высокому — стилю библейских переводов. Столкновение высокого стиля книжных текстов и низкого стиля бытовых речений привело к некоторому компромиссу на семантическом уровне; так возник средний стиль, на основе которого и сформировался русский литературный язык с нейтральной его нормой. Итак, символический смысл слова формируется в границах данного стиля, определяется им в пределах узкого контекста и вне его — разрушается. Такова малая посылка в наших общих рассуждениях, по необходимости кратких, но вполне достаточных для осмысления представленных ниже фактов. Еще раз: 1) образцовый текст высокого стиля, традиционный для восточнославянской культуры, — это текст Библии; 2) смысл слова в контексте определяется его стилем; 3) чтобы сохранить многоуровневый смысл слова, не девальвируя его расхожими значениями, в качестве капитального обеспечения его смысла необходимо сохранять тексты высокого достоинства, авторитетные для всех: именно такие тексты, при надлежащем наблюдении за ними, способны постоянно воссоздавать высокие образцы в изменяющихся условиях развития культуры.
3. Пределы варьирования языковых средств в различных переводах
О характере и направлении возможных искажений текста в обновляемом его переводе можно судить, сравнивая различные переводы. Для сопоставлений мы избрали типичные и вполне надежные в профессиональном исполнении переработки текста; все они опубликованы и доступны для сравнения. На основе сплошной выборки разночтений представим филологический анализ их сравнительных достоинств, с тем чтобы определить качественный уровень сравниваемых переводов и на их примере обсудить общие проблемы такого перевода вообще[115]. Сопоставим по нескольким переводам текст молитвы «Отче наш» (Мтф., VI, 9-13); славянский текст дается в упрощенном написании.
Ц
Отче наш, иже еси на нбсехъ,
Да святится имя Твое,
Да приидетъ Црствие Твое,
Да будет воля твоя, яко на нбси и на земли.
Хлебъ нашъ насущный
Даждь намъ днесь,
И остави намъ долги наша,
Яко и мы оставляем должникомъ нашимъ,
И не введи насъ въ напасть,
Но избави насъ отъ лукавого,
Яко Твое есть Црствие и сила и слава
Во веки. Аминь.
С
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое;
Да будет воля Твоя,
И на земле, как на небе.
Хлеб наш насущный
Дай нам на сей день;
И прости нам долги наши,
Как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение,
Но избавь нас от лукавого;
Ибо Твое есть Царство и сила и слава
Во веки. Аминь.
Л
Отец наш небесный!
Да прославится имя Твое!
Да наступит Царство Твое!
Да свершится воля Твоя
Как на небе, так и на земле!
Подай же нам ныне хлеб наш насущный
И прости нам прегрешения наши
Как и мы прощаем тем, кто согрешил перед нами,
И удержи нас от искушения,
И от лукавого нас защити,
Ибо Твое и Царство, и сила, и слава
Во века. Аминь.
Ж
Наш Небесный Отец,
Пусть прославится имя Твое!
Пусть наступит Царство Твое
И совершится воля Твоя
Как на небе, так и на земле.
Дай нам сегодня хлеб на пропитание.
Прости нам долги наши,
Как и мы прощаем должникам нашим.
Удержи нас от искушений
И избавь нас от зла,
Тебе принадлежит Царство, сила и слава вовеки.
Аминь.
По сравнению с Ц и С утрачивается специфическая форма обращения, архаическая, а поэтому и высокая по стилю, хотя вполне понятная (Отче!), теперь обращение по форме совпадает с утверждением подлежащего (Отец). Сжимается упругая динамика предикативных конструкций, как бы усиливавших смысл имен, наполнявших их дополнительным значением: иже ecu на нбсехъ Ц упрощается в причастный оборот сущий на небесах С и переводит причастие в определение как нечто известное — который на небесах А, затем Отец наш небесный Л и, наконец, с полной утратой предикативности в новом сочетании Наш Небесный Отец Ж. Попутно искажается смысл некоторых членов молитвы, ср., например: даждь намъ днесь Ц — дай нам на сей день (и на весь день!) С — дай нам сегодня А — подай же нам ныне Л и совершенно огрубленная форма в Ж. Ср. также прегрешения вм. долги, избавь нас от зла и пр. Увеличение новых грамматических форм делает текст в целом более ясным для современного читателя, но при этом устраняет налет архаической торжественности, ср. повелительные формы с пусть вм. да, подай!, подай вм. даждь и даже дай! (просьба о подаянии вместо призыва о помощи). Словообразовательные разночтения также нарушают смысл высказывания: в слове Царствие присутствует синкретизм значения (царство и царствование одновременно), тогда как слово царство вполне однозначно и весьма секуляризовано. Все изменения в символическом прочтении молитвы можно оценить с точки зрения патристики или хотя бы в свете философского толкования, данного молитве В. С. Соловьевым[116]. Хлеб насущный — не хлеб для пропитания; символика формулы глубока: это и всякая пища, в том числе и духовная, и «сверхсуществующая» (υπερουσίν сила, постоянно подпитывающая нашу духовную жизнь на земле (επιουσίν); ср. также семантическое развитие сочетания насущный хлеб в статье Μ. Ф. Мурьянова[117]. Днесь — не ныне, не сегодня и не только на сей день, но «в каждое данное время»[118], напасть в славянском тексте Ц имеет более широкое значение, чем просто искушение, о котором говорят все переводы, начиная с С, ср. εις πειρασμόν ‘в искушение, в испытание’, «но когда такие недобрые стремления нападают на нас, то мы должны признать это за напасть»[119]. Нерасчлененность субъективного переживания, т.е. искушение, и неотвратимость давления извне (напасть) лучше всего передать вторым словом, которое более отчетливо передает причину «огреховления под сению благодати» и пути его устранения. В новых переводах изменяется самый ритм, к которому переводчики столь невнимательны. Между тем соблюдение ритмических особенностей молитвы необходимо даже для смысловых соединений текста. Не случайно границы членов молитвы обозначены неопределенно в Ц, а в других переводах подвержены большой вариативности. «И не введи нас в напасть, но избави нас от лукавого» ЦСА — «И удержи нас от искушения, и от лукавого нас защити» или «избавь нас от зла» без союза в Л и Ж. Различный смысл получают обобщающие союзы яко в Ц, ибо в С и Л при полном отсутствии такового в Ж. Помимо того, что эти союзы ритмически необходимы, неопределенность их синкретического значения увязывает заключительные слова молитвы со всем ее содержанием, являясь как обобщение. Так мы устанавливаем помимо стилистических связанные с ними смысловые, ритмические, композиционные и структурные нарушения в тексте, который является традиционным как раз в своем воспроизведении.
4. Требования к образцовому переводу Писания
Стилистически выверенный текст должен соответствовать требованиям: точности, т.е. адекватности оригиналу, ясности изложения и красоте слога; в понятие красоты слога входит ритмическая согласованность формальных отрезков текста, т.е. формул и синтагм, из которых текст состоит, синтаксическое их единство, выдержанное в синтаксической перспективе высказывания, в том числе и в порядке слов, в гармонии употребления глагольных форм, в разнообразии синонимических выражений и в согласованности союзов и союзных слов. Словоупотребление должно быть выдержано в высоком стиле, но без явных семантических и стилистических архаизмов, которые нарушали бы смысловое единство высказывания. Например, Мтф. 25.5: коснующу же жениху Ц — и как жених замедлил С — а пока жених медлил А — но жених запаздывал Л — жених задерживался Ж — архаическая конструкция «дательного самостоятельного» в Ц (точно соответствующая особой форме согласования в греческом оригинале) усиливает неясность глагольной основы (глагол коснеть теперь изменил свое значение), но и новые переводы этого текста переводят изложение из символического плана в бытовой описательный, что и подчеркивается употреблением расхожих выражений, ср. поезд запаздывал, начальство задерживается и пр. Все переводы совместно дают типичное распределение глагольных синонимов по трем стилям: архаически высокий в Ц, средний в С и А и низкий в Л и Ж, который уже совершенно снимает символический подтекст и тем самым разрушает смысл притчи. Значение глагола медлити соответствовало др.-слав. коснеть и греч. κρονίζοντος ‘медлить (в движении), оставаться в неподвижности’. Символический подтекст славянского перевода создавался как раз с помощью глагола коснети, который одновременно обозначал и длительное пребывание в неподвижности, и выжидательность со стороны субъекта действия (в данном случае жениха). Двусторонний процесс описывался как бы со стороны, что и передавалось неопределенностью всего высказывания; этот подтекст был снят уже в употреблении глагола медлить, который не содержит второго значения ‘ожидать’, т.е. является уже простым переводом одного из значений символа с помощью гиперонима. Переключение на современные формы выражения той же мысли в Л и Ж вообще исключает символический подтекст, поскольку это — слова родового гиперонимического содержания. Аналогичных примеров можно привести множество. Они отражают общую тенденцию современных переводчиков донести до читателя прямой смысл притчи. Укажем несколько случаев, не вдаваясь в подробности комментария (здесь и ниже обозначаем только главу и стих Евангелия от Матфея; примеры из других текстов опускаем, поскольку все они, в принципе, однообразны). (10.8) туне прилете туне дадите Ц — даром получили, даром давайте С, А — и отдавайте Л — вы получили даром, даром и давайте Ж (в последнем случае нарушен ритм). Туне — и ‘даром’, и ‘без причины’, т.е. δωρεάν , что семантически усложняет все высказывание в целом: дается ведь не просто безвозмездно, но еще и без всяких на то оснований; употребление наречия даром снимает второй смысл и тем самым устраняет символический подтекст. Таким образом, все переработки текста снимают присущее первоначальному славянскому переводу символическое представление об описываемом. Уходит некий подтекст, легко осознаваемый в эпоху первых переводов благодаря семантическому синкретизму славянского слова, легко соотносимого со словом греческого языка. Такое слово одновременно содержало в себе несколько иногда прямо противоположных значений (энантиосемичность древнего слова). В современном переводе того же текста контекстный символизм слов утрачен, поскольку основным элементом современного литературного языка, которым при этом пользуются, является уже не символ, а гипероним однозначно родового значения. Гипероним помогает построению логически четких и доказательных высказываний метонимического типа «щенок — это молодой пес»: пес есть гипероним по отношению к слову щенок, но одновременно это и суждение по видо-родовому признаку. С помощью же символа возможно было образное повествование о событиях, как бы воссоздаваемых при каждом новом воспроизведении текста. Необходимо было бы сохранить это свойство вечного текста, который должен восприниматься каждый раз — как бы в первый раз. Однако в противоположности между символическим значением слова и общеродовым понятийным (последнее называют также «идентифицирующим значением» слова) и воспринимает сегодня читатель насыщенный символами текст Писания. Переводя его на современный язык, мы неизбежно затемняем символику Писания, что вызывает необходимость в толкованиях и комментариях, но зато представляем его логически ясным и вполне понятным — как понятна газетная информация о текущих событиях дня. Так возникает внутреннее противоречие между содержательным смыслом символического текста, включающим в свою структуру также и стилистические параметры, и возникающей со временем необходимостью приблизить этот текст к пониманию современного читателя. По-видимому, противоречие это может быть преодолено лишь на стилистическом уровне, поскольку и логическая точность описания, требующая термина-гиперонима, и загадочная красота символа одинаково проявляют себя в столкновениях стилей или в их гармонии. Основная задача, стоящая перед нами, — определить, до каких пределов мы можем распространить понимание высокого стиля, единственного стиля, с помощью которого следует делать новые переводы Писания. Есть ли это действительно высокий стиль литературного языка или же перед нами совершенно другой — церковнославянский — язык? В решении этого вопроса могло бы помочь понимание характера самих переводов. Например, относительно Ж не всегда ясно, перевод ли это или парафраз, но, может быть, — и переложение традиционных переводов, как бы современное толкование их? В Ж часты слишком распространенные фразы, дотошно перечисляющие все семантические признаки слова в исходном тексте, в аналитичности дискурса как бы подводящие читателя к смысловому многообразию оригинала. Прием понятен: если нет возможности с помощью современного слова создать емкий символ, остается перечисление некоторой суммы однозначных терминов. Несколько примеров покажут эту особенность Ж или Л. (10.10) Ибо трудящийся достоин пропитания САЖ — потому что работник сам добудет пропитание себе Л; (16.3) Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете судить С — небесные явления умеете распознавать... Л — вы умеете определять погоду по признакам на небе, а истолковать признаки времени не можете Ж; (25.19) По мнозе же времени прииде господин раб тех и стязася съ ними о словеси Ц — по долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета С (А: и сводит с ними счет) — прошло много времени, и вот хозяин этих слуг вернулся и потребовал у них отчета о порученных им деньгах Ж. Устойчивые сочетания, в наше время уже идиоматичные, при всех переработках текста в общем сохраняют свою первоначальную форму, поскольку с самого начала символическое значение ключевого слова тут незаметно переходило в гиперонимию, а синтаксическая конструкция в целом осталась неизменной. Тем не менее и в устойчивых оборотах, ставших знаком христианской культуры на русском языке, пытаются произвести некоторые изменения, упрощающие смысл афоризмов. (26.41) Дух бодр, плоть же немошна ЦСА и Л — Дух бодр, но тело слабо Ж; (10.34) Не мир пришел я принести, но меч ЦСАЛ — чтобы принести... Ж; (13.9) Имеющий уши да слышит А — кто имеет уши слышать, да слышит СЛ — слушайте, если у вас есть уши Ж (в других местах варианты: слушайте, у кого есть уши 13.43 и пр.).
5. Точность и ясность перевода
Точность перевода достигается смысловым соответствием греческому оригиналу, его ясность — стилистическим соответствием русскому языку. В двух этих координатах и находится искомая гармония славянского текста. К сожалению, признакам точности и ясности не соответствует сегодня ни один перевод; во всяком случае, они не достигают совершенства первоначального перевода (в восприятии читателя своего времени). (17.6) падоша ницы Ц — пали на лица свои СА — пали на землю Л — упали на землю Ж, при греческом επι πρόσωπον αυτων в Л и Ж использованы штампы различного стилистического достоинства (высокий в Л и средний в Ж), а в Ц дано адекватное и лаконичное переложение оригинала с измененной формой наречия (вм. обычной ниць); буквальный перевод СА является точным, но далек от ясности, в то время как ясность перевода в ЛЖ уничтожает символическое содержание формулы (имеется в виду сопряжение лица или лика земли); (25.1) Изыдоша въ сретение жениху Ц — перевод точный, но сегодня уже неясный; в СА точное и ясное соответствие, хотя в А использовано наречие (навстречу), снижающее стилистический уровень высказывания (в С на встречу); ЛЖ сжимают сочетание в одну глагольную форму встречать (интересно, что в других местах те же переводы, наоборот, стремятся разложить глагольную форму на аналитическую последовательность типа идти встречать); (25.12) Аминь глаголю вамъ, не вемь васъ Ц — точный в отношении к греческому и образно яркий перевод (последнее обеспечивается лаконизмом выражения и осмысленной ритмикой), символичность формулы подчеркивается и сохранением грецизма аминь. Жених, выпроваживая «неразумных дев», завершает разговор символическим «конец!» («а аминя не отдадут, ино...» — поучает Домострой; тут «аминь» отдают вполне). Точность славянского перевода, как это и характерно для него, проявляется также и на произносительном уровне, здесь те же аллитерации, ритмика, число слогов во фразе, даже распределение ударных слогов, что и в греческом оригинале, ср. αμήν λέγω υμιν, οικοιδα υμας. СА переводят грецизм в обычной манере: Истинно говорю вам: не знаю вас, но по крайней мере сохраняют ритмическую цельность фразы. Наоборот, ЛЖ непозволительно «ясны» в ущерб точности, что разрушает стилевой ряд введением лишних слов: Уверяю, я не знаю вас! Л — Говорю вам правду: я не знаю вас! Ж. Мы встретим еще много других примеров такого же рода, показывающих, что: Ц дает точный и ясный (для своего времени!) перевод, утрачивающий свою «ясность» на уровне грамматических форм и в значениях устаревших слов; С и отчасти А стремятся сохранить точность, все более уясняя для современного читателя архаические особенности старого перевода, обычно путем замены архаизмов, не всегда удачной замены, поскольку не сохраняется при этом скрытый символизм текста; Л и особенно Ж точность понимают не в отношении к оригиналу текста, а применительно к уровню логического восприятия современного читателя: точность выражения заменяет здесь ясность перевода, а ясность, в свою очередь, понимается как понятность. Этим определяется стремление к использованию конкретизированной — терминологически однозначной — лексики, уже полностью устраняющей символ. Подобно тому, как древние сказ и сказание — сокровенное знание в слове — превратились в детскую сказку, так и символический текст Писания в новых переводах оборачивается простым пересказом.
6. Ритмико-синтаксические особенности переводов
Ритмико-синтаксические особенности текста ясно показывают разрушение исходного семантического синкретизма, представленного в греческом оригинале и удачно воплощенном в первоначальном славянском переводе Писания. Осуществлено это было с помощью синкретичных по смыслу союзов (одновременно они могли выступать и в функции частиц) и ключевых слов в предложении. В современных переводах выстраивается четкое логическое соотношение между компонентами сложного предложения, причем наиболее характерные именно для нашего сознания причинно-следственные связи преобладают, изъясняя древний текст с позиции нынешнего его восприятия. Греч. γαρ многозначно: ‘ведь’, ‘так как’, ‘ибо’, ‘же’, — служит для логических выделений в постпозиции, что точнее всего передавалось с помощью славянской частицы/союза бо: (10.10) достоинъ бо есть делатель мзды своея Ц — ибо СА — потому что ЛЖ; (11.30) иго бо мое благо Ц — ибо СА — ведь ЛЖ; (16.2) чермнуетъ бо ся небо Ц — потому что САЖ; (26.52) ecu бо приемши ножъ ножемь погибнутъ Ц — ибо все, взявшие меч... САЛ — кто поднимет меч... Ж. Синкретизм частицы/союза бо однозначно заменяется на типичное для него (в современном нашем представлении, поскольку нам известно ибо) значение причинности; говоря яснее, символическая объемность старого бо сменилась общеродовым (гиперонимичным) значением причины. Значения греч. ότι ‘что’, ‘поскольку’, ‘потому что’ и др. удачно передавались столь же синкретичным по смыслу славянским яко: (25.8) дадите намъ отъ елея вашего, яко светильницы наши угасаютъ Ц — потому что С — ибо А — а то Л — отсутствие союза в Ж, где сохраняется только интонационная связь двух формул текста. Значения греч. oιδε ‘и не’, ‘также не’, ‘но не’, ‘даже не’ и др. удачно передавались славянским сложным союзом ниже, синкретизм которого (подтверждение сказанного при одновременном усилении высказывания) разрушен в современных переводах: (5.15) ниже вжигают светильника Ц — и зажегши свечу... С — и когда зажигают светильник... А — ведь когда зажигают свечу... Л — зажженный светильник не прячут... Ж; (9.17) ниже вливаютъ вина нова... Ц — не вливают также... СЛ — и не наливают вино... А — никто не льет... Ж. Греч. ότε δε τότε ‘когда и так как’, ‘тогда и прежде’ удачно передавалось, по-видимому и составленным по греческим образцам, славянским сочетанием егда же... тогда, где время и причина представлены в синкретизме: (13.26) егда же прозябе трава... тогда... Ц (т.е. одновременно и ‘тогда’, и ‘поскольку’) — в переводах начиная с С происходят смысловые упрощения до фиксации одной лишь временной связи: когда... тогда... Греч. ποτε — одновременно ‘некогда’ и ‘как’ (при отрицании μηποτε ‘никогда’: 25.9), что опять-таки удачно передавалось славянским составным, быть может, искусственно образованным еда како, но позднее заменено современными однозначно причинными (или однозначно условными) чтобы С = как бы (тогда) ЛА = если Ж. Снятие символической неопределенности высказывания обратным образом было связано со стремлением «выпрямить» синтаксическую перспективу высказывания, устранить синкретизм выражения, не сохраняя при этом и ритмической цельности текста. Часто в новых переводах происходит замещение вспомогательного глагола: вместо синкретично общего быть может появиться любой другой глагол уточняюще-конкретного значения. В таких случаях использование современного речевого штампа снижает стилистический ранг текста, снимает символически ориентированный синкретизм ключевого слова, не говоря уже о нарушении ритмики. (9.16) и дира будет еще хуже С (в первоначальном переводе — горша Ц) — станет еще больше Л — разорвет дыру еще больше Ж; (13.22) (и слово) бывает бесплодно С — делается бесплодным А — остается бесплодным ЛЖ. В других случаях, наоборот, возможно злоупотребление глаголом быть, причем и здесь происходит разрушение исходного синкретизма, поскольку попутно изменяется сама конструкция: (16.4) и знамение не дастся ему ЦС (ου δοϑήσεται) — не будет ему А — им показано не будет Ж — не будет дано ему Л; (25.1) тогда уподобися црствие нбсное... Ц — тогда подобно будет С — будет подобно тому, как если бы... Л — в то время царство небесное будет подобно... Ж — форма прошедшего времени (в греческом также аорист) заменяется формой будущего времени, хотя имеется в виду настоящее время («настоящее историческое»). Усиление аналитичности высказывания устраняет символическую неопределенность глаголов дастся, уподобися и пр.; (10.36) враги человеку домашние его С и Ц — так что станут врагами человеку родственники его Л — и врагами человека будут домашние его Ж (ср. will be в английском переводе). Такова вообще замечательная особенность новых переводов: одни и те же особенности языка либо устраняются в угоду конкретизирующему ситуацию описанию, либо, напротив, вводятся для создания неопределенности высказывания — своего рода гиперонимизация на синтаксическом уровне. Эта взаимообратимая тенденция разрушает текст и стилистически, и семантически. Местами стремление уточнить мысль приводит к расширенному пересказу текста, который усложняется и с ритмической точки зрения: (18.26 и 28) потерпи на мне, и заплачу тебе ЦСА μακροϑύμησον — подожди еще, и я верну тебе Л — дайте мне еще немного времени, и я все выплачу Ж; (19.12) могий вместити да вместит Ц — кто может вместить да вместит С — могущий вместить да вместит А — кто может решиться на это, пусть решается Л — кто как принимает, пусть так и поступает Ж — все варианты на месте греч. ο δυνάμενος χωρειν χωρείτως; (25.21 и 23) войди в радость господина твоего СА — раздели же радость господина твоего Л — заходи со своим хозяином! Ж; (25.21 и 23) добре, рабе благий и верный! Ц — хорошо, добрый и верный раб! С и А — Молодец! Ты хороший и верный слуга! Ж при греч. ευ δουλε αγαϑέ και πιστές; (25.25) вот тебе твое ЦСА — вот, получи свое Л — смотрите, вот то, что вам принадлежит Ж. Между прочим, ритмичность текста создается благодаря повторениям разного рода, так было и в греческом оригинале, так полностью перенесено и в славянский перевод. Ж старается сократить текст, сжимая бинарную формулу в одно слово. (8.32) (стадо свиней) бросилось с крутизны в море и погибло в воде С — все стадо бросилось с обрыва в воду и погибло Ж; (5.15) и зажегши свечу не ставят ее под спудом, но на подсвечнике С — зажженный светильник не прячут, а ставят повыше Ж; (25.18) закопал его («имение») в землю и скрыл серебро С — вырыл яму и закопал деньги Ж (в Ц, как и в греч.: вкопа въ землю и скры серебро). В первом случае утрачено указание на объект движения — море, во втором — на различие между действующим и скрытым источниками света (при этом разрушается сохраненная русским языком идиоматичность: ставитъ под спуд, хранитъ под спудом и т.п., также подспудно); в третьем примере исчезает указание на то, что закопанное оказалось сокрытым (сокровенным — в высоком стиле). Во всех подобных упрощениях текста исчезает образность и описательно, картинно поданная символичность притчи. Вместе с тем в Ж очень часты распространения текста, призванные как будто уточнить описание, хотя бы и ненужными подробностями; ср. о разных девах: (25.10) и готовые вошли С — девушки с зажженными лампами вошли Ж — и те, которые были наготове... Л. Впрочем, часто возникает соблазн не просто устранить символически-образное слово, но даже слово гиперонимического объема убрать из текста: (13.26) егда же прозябе трава и плод сотвори, тогда явишася и плевелие Ц — когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы С — когда пшеница взошла и появились колосья, то стали заметны и сорняки Ж. Символическое следование трава — плод — плевелие (собирательная множественность всех трех подчеркивается формой последнего слова) и родового объема имена зелень — плод — плевелы (простая множественность) заменены конкретно-видовыми обозначениями пшеница — колосья — сорняки. Подобные переводы не просто убивают символ, они устраняют всякую возможность метафорического восприятия притчи, не говоря уже о нарушении ритма и даже смысла; ср. в данном случае следование греч. о χόρτος και о καρπός τα ζιζάνια, где трава дает плод как результат описанного, и совместно с плевелами, обозначение которых не переводится ведь как Lobium temulentum, а символически — как бесполезная трава.
7. Символ и гипероним как способ выражения семантического синкретизма
Утрата символического значения происходит на всех языковых уровнях, отраженных в тексте; это определяется синкретизмом языковой формы, данной в контексте. Так, грамматическая замена формы мн. или дв. числа формой ед. числа переключает символическое значение на конкретно-бытовое, устраняя объемность исходного текста: (25.10) и затворены быша двери ЦСЛЖ, но в А иначе: и дверь была затворена (ср. греч. η ϑύρα и англ. and the door was shut в том же издании); смысл имеет как форма имени, так и сам глагол — затворить или закрыть (идиома закрыть двери при однозначности сочетания закрыть дверь). В целом выявляются три семантико-стилистических способа замены греческого слова, и очень трудно проследить их взаимные отношения по различным переводам. Каждое слово требует самостоятельного изучения в общем контексте. Приведем иллюстрации, не увлекаясь их реальным комментированием. (7.6) не пометайте бисеръ... предъ свиниями Ц, как и соответствующий этому слову русизм жемчуг СА вполне сохраняют символическое значение в данном контексте, в то время как не бросайте драгоценностей свиньям Ж — всего лишь неудачная замена гиперонимом genus proximum, а не рассыпайте жемчужин в Л — описание конкретных (индивидуальных) предметов, низводящих высказывание до степени простой информации; (25.13) бдите убо... Ц предлагает в данном контексте такое же символически синкретичное значение, и оно не вполне соответствует гиперониму бодрствуйте, который предложен взамен него в САЛ, и уж совершенно не соотносится с уточняющим расширением в Ж: поэтому будьте всегда наготове!; (24.24) (раб о господине) человекъ жестокий Ц, но в древнерусском языке слово жестокий одновременно значит и ‘жесткий’, и ‘суровый’, вообще включает в себя все значения греческого эквивалента σκληρός; поэтому употребление такого слова в С и Л уже не сохраняет исходного символического смысла, а слова жесткий А или суровый Ж, хотя и соответствуют значению греческого слова, выступают в данном тексте всего лишь в качестве однозначного (одного из возможных) определения, т.е. у разных авторов в роли гиперонимического выступают различные слова; (25.25) скрыл талант ЦСА в соответствии с греч. έκρυψα, а не спрятал талант, как в Л и Ж, что совершенно искажает смысл: стилистическая замена опять-таки оказывается семантической редукцией. Другие примеры говорят сами за себя. Замена символа логическим гиперонимом обедняет семантическую насыщенность текста. (25.24) собираешь, где не расточилъ Ц (не рассыпал САЖ); судя по греч. σκορπίζω, возможны оба глагола, хотя только второй вариант не является архаическим; ср. с этим полный вульгаризм в Л: и берешь оттуда, куда не клал (!); (9.22) вера твоя спасла тебя СА и Ц — исцелила ЛЖ; (9.37) жатва убо многа, делателей же мало ЦС — работников АЛЖ; (10.1) в соответствии с греческим оригиналом все переводы, кроме Ж, различают недуг (νόσος) и болезнь (μαλαχία), но в Ж только одно слово — исцелять все болезни, понятое как гипероним; (10.16) мудры как змии ЦСЖ — разумны А — осторожны Л для греч. φρονίμοι; цели яко голубие Ц — просты С — невинны Ж — бесхитростны А — непорочны Л для греч. ακέραιοι дают разброс характеристик, не всегда соответствующих описываемому или символическому; (16.4) род лукавый... все переводят греч. γενεά, кроме Ж: грешные люди; (16.6 и 11) берегитесь закваски фарисейской САЖ при несуразном переводе в Л (и в одном случае Ж): закваски фарисеев — вместо символически обобщающего значения переводчики предлагают форму притяжательного определения, указывающую на конкретных «фарисеев»; (25.2) девы: юродивые Ц — неразумные СА — нерадивые Л при греч. μωραί. Для краткости приведем сводный список разночтений по разным переводам текста Евангелия от Матфея, из которого видно, какие именно варианты текста предпочитают гипероним, а какие спускаются до конкретно-терминологической номинации, в обоих случаях лишая текст необходимой символической силы.
Символ / Гипероним / Термин имение ЦСА / имущество Ж / — риза Ц / одежда СЛЖ / рубашка А сапоги Ц / обувь САЛ / сандалии Ж снедь Ц / пища САЛ / «ел он» Ж жезл Ц / посох САЛЖ / — делатель Ц / трудящийся СЖ / работник АЛ в путь Ц / на дорогу СА / в дорогу ЛЖ пира Ц / сума СА / котомка Л, сумка Ж рабов своих ЦСАЛ / — / слуг Ж серебро ЦСЛ / деньги АЖ / — светильник ЦАЖ / свеча СЛ / лампа Ж по брегу Ц / с крутизны СА / с обрыва ЛЖ вопль бысть Ц / раздался крик (все) / — девица (κοράσιον) ЦСА / — / девочка ЛЖ дева (παρθένος) ЦСА / отроковица Л / девушка Ж три сени Ц / три кущи С / три шатра А, три шалаша Ж кинсон Ц / подать САЛ / подаяния Ж — / ведро ЦСА / хорошая погода ЛЖ зима Ц / ненастье СА / плохая погода Л, буря Ж прозябе трава Ц / взошла зелень СА / поднялись колосья Л, пшеница взошла Ж плевелы ЦСАЛ / сорняки Ж / — житницы ЦСАЛ / хранилища Ж / — село Ц / поле АЛЖ / земля С сынове неприязнены Ц / сыны лукавого СА / сыновья лукавого Л, дети дьявола Ж пружие Ц / акриды С / саранча АЛЖ скудельник Ц / горшечник СА / гончар ЛЖ воздадут слово Ц / воздадут ответ СЛ / воздадут отчет АЖ домашние его (все) / родственники Ж / — тернии (все) / — / колючий кустарник Ж плоть (все) / тело Ж / — торжники Ц / торгующие С / менялы А, ростовщики Л мытарь ЦСАЛ / — / сборщик налогов Ж мехи ветхие (все) / — / старые бурдюки Ж бремя мое легко (все) / ноша Ж / — лесть богатства Ц / соблазн А / обольщение СЛЖ с лихвою Ц / с ростом А / с прибылью СЛЖ печаль века сего Ц / забота СА / заботы жизни ЛЖ отделяет злых ЦСА / порочное Ж / грешников Л
Список можно продолжать бесконечно. Сделаем выводы.
8. Функция стиля и значение смысла
Таким образом, исходя из анализируемого текста, мы получаем возможность весь массив имен распределить по трем классам — в зависимости от того, каким образом в слове сходятся признаки смысла (отвлеченно-общее или конкретное) и стиля (высокий, низкий или средний). Стилистические функции включенных в текст имен изофункциональны семантически и могут быть представлены следующим образом: В данной оппозиции: символ — условный знак (имя), воплощенный в тексте словом для необходимого соединения (в представлении читателя) явления с его сущностью. Рука — имя, соединяющее представление о руке с обозначением власти, рука — символ власти. Возвышенная сущность требует высокого символа в сакральном тексте, сущность же по определению является отвлеченно-высокой. Гипероним — слово ближайшего родового значения для ряда конкретных по смыслу слов, отражающих существенные признаки обозначаемой сущности (но только признаки) в нейтральном по стилю тексте. Сохраняя особенности символа, гипероним снимает присущий символу синкретизм значений, воплощает только принятое общее значение слова. Исходный синкретизм имени отчасти уже рассыпался под влиянием системы близкозначных слов, и теперь имя предстает в виде гиперонима, если оно сохранилось в составе традиционных текстов; ср.:

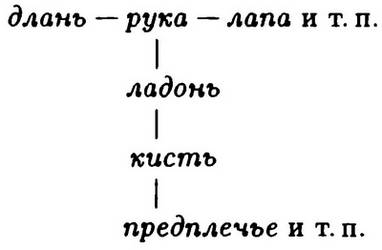
Горизонтальный ряд слов выявляет стилистические признаки ключевого слова, вертикальный — семантические, но только их совмещение создает реальность гиперонима. Термин (от лат. terminus) — граница, предел возможных стилистических и семантических упрощений слова специально в символическом тексте. За редкими исключениями, представленными в Ж, отчасти и в Л, иногда впадающих в низкий стиль, стилевые новации определяются все же современной литературной нормой, т.е. даны в среднем стиле. Им противостоит высокий стиль старого символа, видимо, недоступный никакому подражанию сегодня. В (1) представлена оппозиция по стилю — маркирован высокий стиль символа; в (2) — оппозиция по семантике, и маркирован однозначно конкретизированный термин. Другими словами, исходная для древнего перевода текста эквиполентная (равнозначная) оппозиция «символ — термин» в современных условиях развернулась в градуальную, которая фиксирует особенности гиперонима — нейтрального стилистически и отвлеченно-общего но смыслу. Видимо, в этом заключается причина активности гиперонимов в современных переводах библейских текстов, хотя это и влечет за собою устранение высокого стиля, разрушение его со стороны не текста, но слова (исчезает символический подтекст, который и нуждается в герменевтическом истолковании). Вопрос стоит так: следует ли смириться с тем, что высокий символ библейского текста сегодня заменяется логически безупречным, но стилистически пониженным гиперонимом, или же следует искать новые языковые возможности для воссоздания символической напряженности священного текста? Быть может, этой новой возможностью станет необычное распределение функций между семантикой имени и стилистикой содержащего его контекста; или — архаизация лексики в определенной синтаксической перспективе высказывания (поскольку многие старинные обороты речи сохраняются даже на бытовом уровне в виде идиом); или — новые словообразовательные модели, в которых определенный суффикс может сыграть роль стилистического модификатора в тексте. Одно ясно, что совпадение среднего стиля с понижением и семантического ранга слова, т.е. замещение символа не гиперонимом, а термином, недопустимо в текстах Писания. Отсутствие высокого стиля в современном литературном языке постоянно ощущается, однако и преобразование символа в гипероним, т.е. имени в простой знак, тоже реальность нашего языка. Нет ли и внутренней связи между устранением высокого стиля и перераспределением семантических границ в слове, от синкретизма символа до многозначности гиперонима? Ответ на этот вопрос даст ключ к поискам новых выразительных средств для перевода священных текстов, для которых высокий стиль является столь же важной приметой, как и обобщенно-возвышенный смысл.
9. Признак определения и определение действия
Исторически сохраняясь в качестве символа, символ создается контекстом. Короля играют придворные. Имя прилагательное и глагол, каждое со своей стороны, выделяют те признаки имени, которые в каждом данном случае фиксируют внимание на определенном признаке символа, эксплицируя его содержание. Выбор определения и формы его воплощения —прилагательное или глагол — переключает статус имени — от символа к гиперониму. Имена прилагательные во всех версиях текста, в сущности, гиперонимичны, среди них почти нет слов конкретного значения. Несколько примеров. (12.33) древо добро и плодъ добръ... древо зло и плодъ золъ Ц в переводе καλός ‘красивый, годный’ и σαπρός ‘гнилой, трухлявый’; в славянском переводе символ задается сразу же. В других вариантах: хорошее — худое С, доброе — плохое А, хорошее — плохое Ж (всюду дважды), хорошее — гнилое, прогнившее Л. Для καλός еще: доброе семя ЦСА — хорошие семена ЛЖ (13.38), добрых бисерей Ц — хороших жемчужин СА — красивый жемчуг Л — драгоценную жемчужину Ж (132,45) и т.п. Идеальный признак символа ‘добръ — зол’ не несет никакой оценки, как и всякий синкретически выраженный признак; типичный признак гиперонима хорош — плох, худ несет с собою оценочную сему, особенно с точки зрения современного читателя; реальный признак понятия, выраженного уже однозначно-терминологически, типа красивый, драгоценный — гнилой, прогнивший, опять- таки не имеет оценочной характеристики, это просто констатация определенного, вполне конкретного признака. Чередование близкозначных определений распространяется на все прилагательные, которых, впрочем, в тексте Нового завета не очень много. Символика текста не нуждалась в раскрытии символа, который при каждом воспроизведении текста мог пониматься по-разному. Основную системную закономерность в употреблении определений следует описать. Она заключается в неопределенных антонимо-синонимических соответствиях близкозначных слов. (7.13) узкими враты... и тесен путь Ц — тесными вратами... и узок путь С — узки врата и труден путь Л — врата и путъ определяются одинаково как узкие в Ж; (19.17) вина нова в мехи ветхи Ц — молодые и ветхие САЛ — молодые и старые Ж. Ср. также взаимные чередования определений твердый — крепкий или скорый — быстрый и т.п., проявляющиеся во многих библейских текстах. В целом их соотношение можно представить следующим образом (без антонимов в последней группе): — при постоянном наращивании сем, приближающих нас к современному, прагматически однозначному тексту: символические первые оппозиции сменяются понятийными последними. Снятие символа контекстно обусловлено характером перевода, но определяется, по-видимому, и общесистемными изменениями в языке. Первоначально представленное как чередование близкозначных определений, смещение признаков в конце концов предстало заменой идеального признака реальным. Символ дан сочетанием (тесен путь, ветхие мехи и пр.), теперь же он в соответствии с общей тенденцией преобразуется в гипероним. В символическом мехи ветхие синкретизм представления об устаревшем, обветшавшем и дряхлом, в худости и слабости уже негодном: в гиперонимичном мехи старые — родовое понятие о давно существующем и ставшем негодным. Аналогичные комментарии можно сделать относительно всех определений, представленных в тексте Писания. Семантические оттенки у глагольных форм чаще всего проявляются в чередованиях приставок, которые могут регулировать взаимоотношение между символом и гиперонимом: (9.17) не вливают вина нова... ЦСЛ — не наливают А — никто не льет Ж; (16.1) приступили фарисеи, искушая ЦС — подошли испытывая Л — обступили требуя Ж; (27.24) взял воды и умыл руки пред народом (Пилат) ЦСА — омыл руки Л — попросил воды, вымыл руки пред народом Ж.
добр—зол хорош—худ добр—плох хорош—плох нов—ветх молод—ветх молод—стар узок—тесен тесен—узок узок—труден легок—труден
Все эти примеры не нуждаются в комментариях, они говорят сами за себя, как и следующие лексические замены глаголом: (5.28) всякий иже воззрит на жену... Ц — кто смотрит на женщину СА — кто глядит Л — кто лишь посмотрит на постороннюю женщину... Ж (ср. в других местах текста: воззрите Ц — взгляните СЛ — посмотрите АЖ и пр.); (8.32) устремися стадо все (свиней) Ц — бросилось СЛЖ — ринулось А; (10.9) не стяжите злата Ц — не берите золота САЛЖ; (26.52) приемши нож Ц — взявшие меч САЛ — поднимает меч Ж; (26.67) тогда... заушаху его Ц (и заушали его С) — заушили его А — избивать его Л — и били кулаками Ж. Поскольку принципиальная установка на замену символа родовым термином является всеобщей, примеров такого рода можно привести множество. Однако выводы, следующие из подобных сопоставлений, уже можно сделать.
10. Результаты и рекомендации
Из сравнения переводов выясняется, что славянский перевод Ц устарел в грамматическом и отчасти в лексическом отношении, но представляет собою весьма архаический высокий стиль, при использовании требующий комментариев и толкований; он почти буквально следует греческому оригиналу, повторяя даже устаревшие его синтаксические структуры. Этот перевод может быть использован как источник символических образов и как своего рода камертон для воссоздания ритмического строя произведения в целом. С в наибольшей степени является образцом высокого стиля в современном русском литературном языке. Символика текста в нем отчасти размыта, поскольку символ древнеславянского и даже церковнославянского текста в значительной мере уже замещен гиперонимом, созданным путем длительной обработки текста на основе метонимических переносов. Восприятие этого текста современным читателем также изменилось, даже по сравнению с читателем прошлого века, поскольку изменилось отношение к семантике многих русских слов, представленных в этом тексте в традиционных формулах. Теперь они воспринимаются как многозначные, так как исходный синкретизм значений не осознается. Ритмический строй отчасти сохраняет ритмику исходного текста, но уже в ослабленном виде. А — всего лишь попытка обновить некоторые архаизмы текста С, очень часто под воздействием западноевропейских переводов Нового завета, что снижает возможности этой версии в общей перспективе предпочтений. Л, несмотря на максимальную приближенность к греческому оригиналу (даже в грамматических формах и в передаче некоторых конструкций), нуждается в корректировке как по подбору лексики, так и в стиле. Впрочем, как мы убедились, одно с другим связано. Стиль определяет подбор лексики. Ж хуже всех других версий: это не перевод, а толкование текста, ритмически плохо организованное; даже гиперонимический уровень изложения не соблюдается последовательно, так что символ оказывается совершенно устраненным за сухим изложением с помощью однозначного слова.
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛОВ В ПЕРЕВОДАХ ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО
Лексика первоначальных славянских переводов, и особенно лексические особенности текстов, переведенных Иоанном экзархом, давно являлись предметом изучения славистов[120]. Изучены языковые отличия Иоанна экзарха от языка первоначальных переводов, влияние местной (восточноболгарской) лексики на формирование лексикона первого литературного языка славян; различные лексические дублеты, которые возникали на основе постоянного обогащения литературного языка местной лексикой; устойчивые словосочетания и особенности словообразования, которые выделяют этого мастера переводов в ряду других переводчиков; стилистические особенности его переводов и сама техника перевода с опорой на семантические и грамматические особенности языка перевода (а не калькирование языка оригинала); лексические и семантические неологизмы переводов X в. и их дальнейшее внедрение в лексикон славянского литературного языка и т.д. Внешняя сторона дела описана обстоятельно и вполне исчерпывающе (даже статистически по текстам, хотя и не для всех слов). В частности, указаны лексические и грамматические соответствия славянского перевода греческому оригиналу (там, где это возможно), правила стилистического варьирования эквивалентных слов, слова и словообразовательные модели, особенно любимые Иоанном и выдающие его личное отношение к возможным вариантам и дублетам; отмечено особое отношение Иоанна к характеру перевода, особенно к технике перевода (сокращение или перестановки оригинального текста, комментарии и добавления, особенности цитации, которые, в частности, заставляют внимательно относиться к словоупотреблению в цитатах из первоначального перевода, и т.д.), т.е. творческое его отношение к составляемому заново славянскому тексту. Все эти положительные результаты многолетних исследований могут оказаться полезными в дальнейшей работе над текстами Иоанна экзарха, которые впоследствии, несколько десятилетий спустя, стали каноном и образцом для складывавшегося в Киеве древнерусского варианта литературного языка[121]. Исходное положение, необходимое для подобной работы, кажется доказанным и заключается в следующем: Иоанн экзарх не следовал слепо языковым особенностям первоначальных переводов Кирилла и Мефодия на славянский язык, необходимость разработки философской терминологии на базе славянских слов толкала его к непрекращавшейся работе над словом, к созданию эквивалентной греческой системе отвлеченных номинаций, не выходя за пределы наличных лексических средств, не злоупотребляя калькированием или прямым заимствованием. В таких условиях единственным средством становилась семантическая деривация. В качестве примера рассмотрим две понятийные группы, совершенно необходимые для передачи основных философско- богословских представлений, — «жизнь» и «время». Сравниваются два основных текста — Богословие (Иоанна Дамаскина) и Шестоднев (Василия Кесарийского) — в переводе Иоанна экзарха[122]. Другие тексты, связанные с именем Иоанна, приводятся в сопоставлениях[123]. Следует напомнить, что оба перевода безусловно принадлежат Иоанну, на это указывает совпадение максимального числа авторских (индивидуальных) особенностей текста. Расхождения касаются либо частных особенностей списка (в указанном издании Богословие напечатано по древнейшему русскому списку, а Шестоднев — по сербскому списку 1263 г.), либо характера самого текста: съвѣсть необходима в Богословии, но не встречается в Шестодневе, зато гривна, баня, пълсть и др. необходимы лишь для содержания Шестоднева, а не Богословия. Наиболее показательны служебные слова обоих текстов, поскольку они довольно частотны и вместе с тем не увязываются непосредственно с содержанием. В этом отношении Шестоднев выделяется широким использованием предлога цѣща, наречий оунѣ и выну, инъ в значении «другой» (а не «один», как в некоторых случаях в Богословии, свидетельствуя об архаичности текста) и т.д. Внимательное изучение текстов показывает, что еще разительнее они различаются на содержательном уровне, потому что оба перевода по-разному относятся к истолкованию общефилософских понятий и категорий.Жизнь
Для обозначения этого понятия в переводах используются слова жить, житье, животъ и жизнь. Жить — архаичный вариант слова житье, из которого оно и образовано посредством суффикса -j(e). В Богословии и Шестодневе этот корень встречается по два раза, в первом случае — в составе сложных слов, в другом — как остаток древних переводов, всегда глоссированный новым словом жизнь, ср. в Богословии: «(о Боге) — самосвято, самоблажество, саможить, самосущьство, яко не отъ иного самобытие имы» (52); «иже лукою придетъ къ кръщению, осудить паче, а не польжить» (250 — похоже на описку); в Шестодневе: «Сице бѣаше, в начело: жить бѣаше и жизнь бѣаше, шестижды гла, рекы бѣаше, хотя сказати сущее» (4); «дрѣво жизньное да присно живеть, имѣаше оубо жить» (257б). Определенно это слово представлено в двух восточноболгарских памятниках: «яко не въсхотѣ оувѣдѣти истиннаго б҃а, давъшаго ти жить» (ζωήν) в Супрасльской рукописи (59, 25); «пр҃къ рече молить б҃а да подвижиться земьная жить страхомъ и придеть на разоумъ» (η γνίνη πολιτεία) в Евгеньевской псалтири XI в. (8а(20)). Жить вместо житье (в первоначальном переводе здесь употребляется слово животи, например, в Остромировом евангелии) находится в самом начале Евангелия от Иоанна в Галицком евангелии 1144 г.; «въ томъ жить бѣ и животъ бѣ свѣтъ чл҃комъ» (в греческом оригинале в обоих случаях стоит η ζωή). Такого же происхождения, по-видимому, и остальные древние контексты (ср. указанные И.И. Срезневским в его «Материалах» — I, 880) Слов Григория Богослова, Пандект Антиоха, Златоуста (на месте греч. ζην, ζωή); в Успенском сб. XII-XIII вв. также приведено одно место из перевода Слов Иоанна Златоуста (281а(11)). Слово жить известно до XVII в. (Памва Берында в соответствии со средневековой традицией толкует его так: «Жить, рекше жизнь»). Сюда же безусловно относится ряд переводных текстов, дошедших до нас в составе четьих Миней (примеры см. у Срезневского, I, 869 — для греч. ζωή). В переводе апокрифического Жития Макария Римского по Паисиевскрму сб. XIV в.: «мы ж от страха того идохомъ, рекохомъ: “Г҃си, опроси жить нашь...”», что иногда реконструируется как животъ («пропущен слог во», по мнению Срезневского, издавшего этот текст); тот же случай имеем в одном списке Слова на Преображение самого Иоанна экзарха (и съ нимъ в жити семь, см. ниже). Таким образом, реальность существования лексемы жить несомненна, на это указывает и широкий круг производных, соотносимых только с жить (житьнъ, житьи люди, житьма, пажить и др.). Жить вместо житье или быть вместо бытье (речь идет о материалах словаря В. И. Даля, а потому последовательность образований не интересует автора) есть особая категория слов, «эта категория обозначала действие как предмет»[124]. В отмеченных восточноболгарских памятниках жить — дублет слова жизнь, сохраненный в архаическом варианте церковнославянского языка. Самостоятельного значения он не имеет и в формировании нового понятийного ряда не участвует, но использование его в обоих переводах подтверждает и их достаточную древность, и общность их происхождения. Совершенно устойчиво и однозначно употребление в переводах слова животъ. Оно обозначает субъект жизнедеятельности, живое существо, иногда и у́же — животное (в Богословии 24 раза, в Шестодневе — 170 раз). В Шестодневе по одному разу это слово употреблено в обоих значениях: как ‘жизнь’ в цитате из кирилло- мефодиевского перевода Евангелия (что для этого первоначального перевода обычно), ср.: (Бог Иисус — Лазарю) «Азъ есмь животъ и въскршение» (326) — это значение нехарактерно для Иоанна экзарха и больше ни разу не встречается; как ‘живот’ при описании желудка у человека: «иметь же на тоу ес оучиненоу страноу животу, г҃лемое въздоушьное чрѣво и вѣтрьное» (220). Это также окказиональное употребление слова в значении, в целом не используемом в данных переводах. Наоборот, в производном прилагательном животьнъ сохраняется исходное значение корня, которое свойственно было и первоначальному переводу Кирилла и Мефодия. Животьный ‘жизненный’ употребляется в сочетании со словами духъ, сила и др. (Шест., 173б, 196б), ср.: «бголѣпнымъ въдъшением доухание животное, то бысть д҃ша Адамова» (Шест., 207); «дъшение бо животьное въдоуноу, рекше д҃ховное и бесплътное и безвѣщьное и разоумноую жизнь» (Шест., 206б). В этом значении слово эквивалентно рядом с ним употребляемому, но, видимо, не свойственному первоначальному переводу слову жизньный, ср. в Шестодневе: «и въдоуну на лица д҃хъ жизньны» (242; также на с. 205, 206, 207 и др.). В переводе Богословия слово животьнъ многозначно. С одной стороны, это — ‘живой’: сего вида животьнаго (66, также 160, 161), животьная тѣлеса (191) и др.; с другой стороны, это — ‘жизненный’, ср.: животьное дрѣво (в раю) (176, 178, 255 и др.), хотя в этом значении уже используется и новое слово: дрѣво жизньное (181, 258), древо жизни (179), дрѣва вѣдънааго (219), древа вѣдѣти добро и зло (183) и другие описательные сочетания. В Шестодневе нет уже ни архаического сочетания животьное дрѣво, ни характерной для Богословия широкой вариантности при обозначении «древа познания» в раю (породе). Животьный кругъ — это круг, состоящий из символических обозначений животных (зодиак — ср. 16, 108, 108б, 112б, 114, 129б, 139, 140б), или вообще все относящееся к животному, ср.: животьнии мозьзи (147б), животнии образи (160б), животьный родъ (126б), животьная тварь (175) и др., или то, что принадлежит животному (животьскы съсуди прокыхъ — 147 и др.). Таким образом, от Богословия к Шестодневу все более упрощается семантическое наполнение слова животъ и вместе с тем снимается всякое пересечение его основного (и единственного) значения с другими словами — жизнь, жить и т.д. В Богословии еще много остатков архаического перевода, следовательно, не отработана система терминологических обозначений для различающихся понятий. В области терминологии вариантность оказывалась избыточной. Она была снята. От Богословия к Шестодневу изменяется и семантическое содержание слова жизнь. В первом переводе семантическая доминанта слова проходит по значению ‘(вечное) существование (души)’, во втором это, скорее, ‘движение одушевленности во времени’. Только в переводе Богословия находим контексты, в которых слово жизнь сочетается со словами временно́го значения: въ придоущую жизнь (415), въ жизни будущеи (415); дважды конкретизируется временна́я характеристика относительно прошедшего: «и въ пръвѣи жизни, еи же б҃ъ самъ бысть творьцъ, ни старости бяше, ни дѣтьства» (411), (об Адаме в раю) «ни промысльникъ своеи жизни быти» (77). В некоторых случаях эта временна́я характеристика сопряжена со вневременной: «вѣчьная же жизнь и вѣчьная мука бескончания будущаго являеть» (104). Как известно, сочетание вѣчьная жизнь — единственно старое сочетание, которое встречается уже и в мораво-паннонских переводах. Обычно оно и в Богословии: «путь от тьля отводяща, и къ жизни ведуща вѣчьнѣи» (225); «се есть вѣчьная жизнь» (39, ср. еще 222, 412 (три), 360 и др.). В определенных случаях уточняется качественная характеристика этой категории, например, говорится, что в раю жизнь блаженная (175), невидимая (365), истовая (183) и т.д. Только в Богословии, и притом на ограниченном отрезке текста, говорится о той, оной жизни, т.е. опять-таки о вечном блаженном существовании в раю, — с модальностью будущего, потому что сознания будущего времени еще нет, грамматически оно никак еще не проявилось и в церковных текстах всегда носит эсхатологический характер (ср. несколько раз на с. 407-408: тѣмъ и она жизнь боудеть, въ тоу жизнь боудеть и др.). Сочетания типа сил жизнь крайне редко представлены в Богословии: сласти сея жизни любяще (27), оубогыя сея жизни знають (364) и др., — но они все-таки имеются. Таким образом, наряду с отвлеченностью вечной жизни в переводе Богословия обнаруживаем и конкретную приуроченность подобной жизни к определенной пространственной или временно́й модальности: с одной стороны, та, она или сия, эта, а с другой — в прошлом или в будущем, т.е. не только как течение ее в настоящем, но и как некая отвлеченность объективного порядка, которая может «тянуться» во времени и распространяться (перемещаться) в пространстве. Происходит это потому, что всегда в таких случаях слово жизнь относится к духу и к его воплощению (душе), а не к конкретным проявлениям личности или организма. Жизнь в переводе Богословия есть еще философский термин общего значения, не конкретизированный по сферам применения. Вообще же по своему характеру жизнь вневременна и бесконечна. Уже в переводе Богословия слова жизнь и вѣкъ в этом общем значении взаимозаменимы. Например, говорится о том, что Бог — источник жизни, и понятие «жизнь» становится предикатом Бога наравне с другими столь же общими предикатами его характеристики: «жизнь бо есть бъ и свѣтъ» (295), «бъ жизни виньникъ» (297), (от него) «сущее въ жизни и въ свѣтѣ соуть» (295) и др. Сопряжение жизни и света в предикации — четкая особенность всех церковнославянских текстов, поэтому вечная жизнь и вечный свет — эквивалентны: «прѣступивъ въ вѣчьный свѣтъ бесконъца» (4) — совершенно тот же смысл и содержание, что и в сочетании въ вѣчьную жизнь. Теперь посмотрим, как преобразуется семантическая доминанта слова жизнь в переводах Шестоднева. Уточняющей временно́й или пространственной характеристики жизни здесь нет. Даже в авторском прологе говорится лишь о жизни вѣчныа (1) и «про» сию жизнь (5б). Судя по контекстам, понятие «жизнь» здесь уже четко разбивается на две семантические составляющие с определенным качественным наполнением каждой из них и вписанные во временно́й процесс. Сочетание вѣчьная жизнь еще возможно (и широко представлено, см. 128б, 235б и др.), но оно постоянно конкретизируется по качественным признакам: «бесконечноую ону жизнь приети» (2), «от скоровѣчья сего на бесконечноую жизнь» (10б(2)), «хотѣ бо на придоущую жизнь мысль нашу прѣнести, тѣмь же единъ образь вѣчьны» (т.е. образцом вечной жизни является лишь будущая жизнь в бессмертии) (28б), «жизнь не състарѣющоусе» (132б), «бесплотные жизни... паче си добрѣишоу жизнь удобрѣеть» (204б), «обновитель жизни бестаростьнѣи и житию нетлѣющоумоу» (225) — это бесконечная жизнь без страданий, старости и болезней. Если в Богословии жизнь как процесс рассмотрена как бы «сверху», со стороны ее родовых признаков, в переводе Шестоднева выявляется определенно видовая ориентированность всех значений понятия «жизнь»; они рассмотрены «снизу», с позиции творения, а не творца. Только однажды, да и то в виде глоссы, случайной тавтологии в Прологе к Шестодневу, употреблено сочетание она жизнь (бесконечную ону жизнь приети — 2), в котором местоимение, явно попавшее сюда из традиционного устойчивого сочетания, привычного для составителя славянского Шестоднева, дублирует более распространенное в тексте прилагательное. Наоборот, сочетание слова жизнь с местоимением сей, постоянно указывающее на эту, здешнюю, земную жизнь, буквально насыщает текст перевода, см.: «иже въ сеи жизни живетъ» (74), «и съдръжить сию жизнь» (79), «добрыми дньми жизнии сее» (147), «сластьми скотьскыми жизнь свою погубляемъ» (170; ср. еще 43б, 138б, 179, 223 и др.). В возникающем противопоставлении сей жизни вечной маркирована жизнь сия, эта, земная: отсюда необходимость в характеризующих ее уточнительных словах. Напротив, будущая жизнь, как это мы уже и видели, дана в качественных характеристиках; само слово будущая (или его синонимы) встречается редко и по существу противопоставлено к сей, т.е. также, по-видимому, представляет собою пространственную, а не временную характеристику процесса, ср. совпадение этих указателей в границах одного контекста: «не отъщететъся и въ сей жизни, и въ боудущи соущия» (223). Будущая жизнь не имеет временных пределов, она панхронична и заполнена не движением, как жизнь земная, а качеством, так что категориальным ее вместилищем и должно быть пространство, а не время. Десемантизация всех слов, имеющих временно́е значение, в обозначении вечной жизни в таком случае становится понятной. Перед нами не изменения в разговорном языке, а выполнение определенных обязательств перед философскими категориями бытия, последовательно осознаваемыми в жанре научной публицистики. Наоборот, земная жизнь постоянно нуждается в ограничении временными пределами, поскольку это не качество, а процесс: «яко же бо и жизнь си всего естьства въскорѣ миноуеть, тако же и ч҃лча жизнь въскорѣ есть, нъ прѣстоупаеть на бесконечноую жизнь» (106); «(люди) годы жизни прѣпровождають» (83б); «мѣнить же малогодоую жизнь» (93б); «и скоро смьртое жизни ч҃лчское приемлемъ» (109); «да не по чиноу годъ всее жизни наричетъсе» (222б) и др. Уточняющие указания на свою, мою, нашу, человеческую жизнь содействуют этим четким характеристикам временных (и преходящих, что чрезвычайно важно в содержательном отношении) границ жизни: «дневе жизни моее мали и страстьни» (27); «нъ и паче жизни члвчи» (80); «съдръжить древеса плодная жизнь нашу» (986) и т.д. (ср. еще примеры с притяжательным местоимением или с прилагательным: 43б, 60, 77, 92, 95б, 96, 98б, 115б(2), 116, 121, 122(2), 125б, 132б, 136б, 138б, 140б, 150б(2), 170, 173б, 227б, 228, 232б и др.). В отличие от перевода Богословия (в котором земная жизнь также квалифицируется и по качественным признакам: окаанная, скверная, страстьная и т.д.), в переводе Шестоднева она не наполнена качественно (некоторые традиционные сочетания, попавшие сюда в цитатах из первоначального перевода, не в счет). Уже само упоминание о сей, нашей, человечьей жизни оказывалось вполне достаточным для исчерпывающей качественной характеристики; качественно-оценочные характеристики земного пребывания были перенесены на слово житье (см. ниже). Хотя Бог как источник жизни по-прежнему включается в процесс и содержится в значении самого слова жизнь (жизни всѣи начальникъ и давьцъ — 225, источьникъ жизньный — 3б, начѧльникоу жизни нашеѭ — 134б, ср. еще и об Иисусе: тако же си оустрои самъ жизнь, житие же имѣти на нбсѣхъ — 226б), вместе с тем и наряду с тем уже возможно указание на то, что и сълнце творяще жизнь (92), а это значит, что в определении источника жизни также переносится внимание с духовного аспекта существования на физический: источником жизни материальной является не только творец, но и часть его творения. Это незаметное новшество тем не менее оказывается революционно важным и в конкретных обстоятельствах жизни, и в значениях самого понятия «жизнь» (которое также развивалось). В свою очередь, это потребовало дальнейших уточнений в различии жизни (существования) духовной или телесной; появляются новые сочетания вроде следующих: «вѣщные вины прѣжде доуше и жизни и образа бѣахоу бездоушни и безъ жития и безъ образа съпроста» (106; соотнесение души с бездушным, жизни с житием на фоне противопоставления духовного начала материальным причинам их действия; житье — это материальное овеществление жизни); «яко же имѣние и жизнь соущая» (110), «имѣния жизни» (110) и др. (материальность существования противопоставлена и обозначается особыми лексическими единицами, в отличие от духовной наполненности этого существования). Таким образом, сначала новое обозначение проявляется в простом лексическом противопоставлении славянских слов, как в приведенных примерах: житье — и жизнь, имѣние — и жизнь. Постепенно на место этого временно́го средства различения двух сфер жизни приходят уточняющие определители, ср. возможность (но пока еще редкую) использования в переводе Шестоднева сочетаний типа духовноую жизнь (196б) — в ее противопоставлении жизни материальной. О некотором отставании в семантическом изменении сочетания доухъ животьнъ (древо животьное) мы уже говорили. Символическое изображение «жизненности» в виде духа или древа добра и зла, по-видимому, требовало для своих обозначений устойчивого традиционного сочетания, поскольку в самом сочетании уже была отработана сакральная ритуальная идея (формула). Тем не менее в переводе Шестоднева жизньный как эквивалент традиционному животьный очень распространено и, несомненно, уже вытесняет архаическое сочетание с животьнъ (не было ли это обусловлено идеологическими противоречиями между богомилами с их идеей животьнаго древа и официальной церковью?), ср.: «(Бог) въдъхноу на лице емоу (Адаму) дъхновеноую жизнь, ти бысть човѣкъ въ доушоу жизньноую, и въздноуноу на лице емоу дхъ жизньны и бы члкъ» (205); ср. ниже и въ доушоу жизньноу (205б), которая отличает доуха животьна уже одним тем, что содержит в себе разоумноую жизнь (206б). Синкретизм исходного сочетания дхъ животьнъ определенно раскалывается на обозначение земного (телесного: сохраняется за основными значениями слова животъ и его производных) и небесного (духовного: соотносится с исконным значением слова жизнь и его производных). Последовательно по всем лексемам проведенное семантическое рассечение смысла в конце концов приводит к необходимости пересмотреть и ритуально важные устойчивые формулы: они также лексически видоизменяются в соответствии с потребностями обозначения. Такова характеристика со стороны качества существования — духа-разума, с одной стороны, и тела-плоти — с другой. Характеристика количественного предела существования определяется (исследовательски устанавливается) соотнесением двух таких противоположностей, как жизнь и смерть. В переводе Богословия: «ослоушавъшемоуся (Бога) съмьрть боудеть, а послоушавъшемоу жизнь» (11); «ти вънѣ жизни бывъше въ съмьртьноую тьлю отпадохомъ» (235). Лишенное жизни подлежит смерти — только так можно понимать эти изречения. Жизнь (в соответствии со всем содержанием этого понятия, отраженного в Богословии) является родовым по отношению к смерти, жизнь и смерть не равноценны. Противоположным «смерти» столь же видовым понятием является не «жизнь», а «житие», ср.: «съмьрть древле страшьная отпаде и житья ныня, яже древле оуныньна и ненавистьна» (238); «и древо жизни достоинѣ прозвася, житью бо съмьртью непрерѣжимоу сладость бжствьнаго приимания» (179). Жизнь как воплощение духовности или жизненной энергии не соотносится со смертью, которая по определению есть отсутствие духа-энергии, в то время как житие характеризуется наличием духа-энергии. В Шестодневе эта сложная богословская тематика не затрагивается, поэтому в нашем распоряжении находится лишь один контекст. Говоря о двух возможностях «рождения» — телесное и духовное (крещение), Иоанн замечает: можно ли сравнивать «зданое ли или крстимое: тамо начело жизни въ смрть, а съде начало смрти въ жизнь» (237б). Жизнь и смерть понимаются здесь как противоположности существования — несуществования духа. Однако сохраняется и старое противопоставление: «такоже и семоу от жития въ смръть тещи» (249б) — при чрезвычайной редкости употребления слова житие в данном переводе этот единственный пример оказывается знаменательным. Он удостоверяет, что разбиение семантической доминанты слова жизнь на две противоположности, связанные с «той» и с «этой» жизнью, стало сказываться и на сочетаемости слова жизнь. В Богословии жизнь противопоставлена номинациям житие — съмьрть; в Шестодневе то же, но вместе с тем и жизнь — съмьрть, житие — съмьрть (первое для духа, второе в отношении плоти). В употреблении слова житие по обоим переводам останавливают внимание две особенности, отличающие эти тексты от многих других древнеславянских текстов. Во-первых, житие используется чрезвычайно редко, в обоих переводах гораздо реже, чем слово жизнь: в Богословии 40 раз, в Шестодневе около 28. Во- вторых, слово житие не используется в бытовых, широко известных всем славянским языкам, обычных для разговорной речи значениях. В Богословии слово житие, по существу, дублирует слово жизнь (некоторые примеры уже приведены), но при этом всегда конкретно фиксирует пространственную ограниченность жизни, ср.: «бжствьное по истинѣ мѣсто и достойное житье, иже по образу Бжию» (176). Этот же пример указывает на качественную характеристику в обозначении жития как проявления жизни, ср. еще достойное житье, тьмьное и мьгльное (360), чистое (417). Однако вѣчьное житие — редкость, обычно все значения этого слова связаны с проявлениями духа в земной, сей, нынешней, человечьей жизни (большинство примеров на употребление слова житье), следовательно, житие связано с проявлениями духовной, а не телесной жизни, отстраняется от бытийности и быта (именно это значение слова впоследствии и разрабатывалось в церковной письменности: житие подвижника, проявления его духовного существования и т.д.), ср.: «излиха же животы и по бытью бо, и по житью обьщьствоують» (262). Только ангелы могут сказать о себе: «наше житье на нбсѣхъ есть» (357), — но и в таком случае обязательно с указанием на место-пространство, а не на временные пределы существования. Что же касается людей, они понимают: «животъ сьде строимъ, рекъше въ семь житии, а инамо представимо» (187-188), и после преставления уже не будет жития. В переводе Шестоднева житие предстает как материализация «жизни». Если жизнь уже по определению, подтвержденному многими текстами, есть не индивидуальность творения, а сотворенный Богом дух, житие указывает на различные формы проявления этого духа-души. Обычная сочетаемость слова житие, представленная в переводе Шестоднева, связана с уточняющими местоимениями: в семь житии (115б, также 22, 94, 175 и др.), на житие се (125б, 225б и др.). Ср. уже приведенное указание о Христе, который: «оустрои самъ жизнь, житие (= пребывание, а не существование) имѣти на нбсѣхъ» (226б). Что же касается указания на качество существования, слово житие здесь уже его не выражает. Только в трех случаях употреблено сочетание доброе житие — применительно к церковному обиходу: «црквние же моужи доброе житие имуще» (202); «то бѣаше добрѣ житие аже боу вѣровати» (257б); «имѣаше добро житие» (257б) в том же контексте. Это скорее определение формы жизни, в данном случае — подвижнической, чем ее оценка. Таким образом, качественные определения, свойственные переводу Богословия, сменяются указанием на форму существования, а это, несомненно, связано с изменениями значений слова жизнь. Другие тексты, принадлежащие Иоанну экзарху, например его Слова, в данном отношении малоинформативны. В Слове на Преображение использовано слово жизнь в сочетании жизнь прияти бесконечную и слово житие (и съ нимъ в житии семъ); в «Похвале Иоанну Богослову» использовано 4 раза слово животъ греч. ζωή) в переводе евангельского текста и в авторской речи: и съ сеѭ жизнию. Текст должен быть достаточно большим, чтобы можно было составить представление о семантической его системе. Не забудем, что обычным греческим эквивалентом слову жизнь является ζωή (жизньнъ — ζωης, если не считать бессмысленного соответствия а ѣдь его невидима жизньна = греч. καϑάφει γαρ νόσας και παντοίαις έπιφοραις). Греческое слово само по себе многозначно, поэтому переводчику приходилось отрабатывать семантическое содержание славянского эквивалента в новых для славянского языка контекстных окружениях и в сопоставлении с другими славянскими словами того же семантического ряда. Судя по конкретным значениям греческого ζωή (‘жизнь’, ‘жизненный путь’, ‘долговечность’, ‘средства к жизни’, ‘образ жизни’, ‘имущество’), в семантике нового литературного слова жизнь развивается собственно славянское содержание — не без колебаний, не всегда последовательно и прямо, от одного перевода к другому совершенствуя систему обозначений, с постоянным обогащением семантической доминанты все новыми отвлеченными значениями и вместе с тем — с постоянной ориентацией на потребности богословско-интерпретационного характера. В целом расхождения между переводами Богословия и Шестоднева по семантике слов жизнь и житие можно представить следующим образом:
Богословие 1. В описании точка зрения со стороны создателя 2. В обозначении основного содержания слова жизнь — существование обобщенного духа 3. Обозначает только духовную жизнь 4. Существование на небе и на земле 5. Слитность пространственно-временных характеристик 6. Количественно-качественные характеристики совпадают в контекстном употреблении слова 7. Значение ‘пребывание’ для слова житие 8. Обозначает качество существования 9. Не обозначает формы существования
Шестоднев 1. В описании точка зрения со стороны создания 2. В обозначении основного содержания слова жизнь — движения конкретной одушевленности 3. Обозначает духовную и физическую жизнь 4. Существование только на земле 5. Противопоставление пространственной вечности и земного времени 6. Обозначение качества в будущем и количества в настоящем (земном) измерении 7. Значение ‘пребывание’ для слова житие 8. Не обозначает качества существования 9. Обозначает форму существования
Модель, представленная переводом Богословия, неудобна по своему синкретизму в передаче противопоставленных друг другу земных и небесных форм существования (пребывания), притом еще и данных с точки зрения «твари», снизу. Необходимо последовало рассечение семантического поля слова жизнь, что вызвало различную сочетаемость слов в конкретных контекстах (на основе подобных контекстов и возможно выявить расхождение в смысле). Вообще модель Шестоднева больше соответствует христианской догме. Дополнительное исследование должно показать, не связано ли такое различие с разным происхождением источников и разным временем их создания. В лингвистическом смысле важно, что расширение значения в п. 3 связано с сужением значения в п. 4, а развитие количественно-качественных и пространственно-временных противопоставлений соотносится с изменениями в содержании слова житие. Итак, включение слова житие в общий семантический ряд с новым литературным словом жизнь привело к последовательному рассечению пространственно-временных характеристик в понятии жизни (духа); переосмысление внутреннего качества во внешнюю форму (его проявления) дало возможность отграничить качественные характеристики жизненного процесса от их количественных характеристик и отразить новое мироощущение в новых контекстах.
Время
Для выражения временных отрезков в текстах использованы слова часъ, дьнь, годъ, лѣто, вѣкъ, врѣмя, а также весна, жатва, осень, зима. Сразу же отметим основное различие в употреблении всех этих слов. Дьнь употребляется в значениях ‘светлое время суток’ и ‘сутки’, причем в тексте Шестоднева очень подробно объясняется переход от первого значения ко второму — в свете общих космогонических представлений авторов, использованных в этой компиляции, и переводчика: это, по существу, переход от видового обозначения к родовому. Никаких колебаний по текстам в этом отношении не наблюдается, потому что соответствующий отрезок времени понимается вполне конкретно и в точном соответствии с реальной сменой дней. Столь же конкретно и потому без колебаний всегда упоминаются и по своим признакам описываются весна — жатва — осень — зима, по отношению к которым в качестве родового (обозначение года в целом) используется слово лѣто, ни разу не употребленное в значении ‘теплое время года’. Такая иерархия понятий характерна для славянского языческого мышления. Две парные оппозиции («весна — осень» и «лето — зима»), каждая со своим самостоятельным признаком различения, при формировании родового термина используют другое слово и тем самым сигнализируют о переходе на новый понятийный уровень. Принципиально иной стала классификация данного временно́го ряда с победой христианского мышления, для которого важна не законченность повторяющегося цикла на каждом отдельном уровне (т.е. не весна — жатва — осень — зима, с одной стороны, и последовательность лет — с другой), а векторная иерархия всех наличных номинаций с новой системой: лѣто → осень → зима → весна. В последнем случае родовое понятие «лето», открывая градуальную оппозицию, вместе с тем выступало и в качестве маркированного члена этой оппозиции. Последний тип различения и демонстрируется переводами Иоанна экзарха рядами дьнь — стѣнь — нощь или дьнь — вечеръ — нощь — оутро, где день — и маркированный член градуальной оппозиции, и родовое обозначение суток. Внутреннее противоречие между двумя принципами выражения временных отрезков легко заметно, а поскольку оно присуще всем переводам Иоанна, можно предполагать, что именно он и разделял такое представление. Сохранение «славянского принципа» исчисления времен для времен года понятно: этот отрезок времени был хозяйственно и ритуально важен, тогда как сутки оказывались слишком мелкой единицей, и отработка нового принципа исчисления могла начинаться с них. Вторая особенность текстов также характерна для Иоанна экзарха. Слова часъ и время употреблены считанное число раз. Часъ в Богословии дважды: «на малъ часъ полежавъшоу» (об Иисусе — 382), «часъ поживъшоу» (406); в Шестодневе 6 раз: «Таче то разсумѣвъ, како том часѣ не възгоритсе на любовь творчю» (526); «ти томъ часѣ бысть абие» (75); «да тоу абие томъ часѣ (бысть)» (826); «равными часы и годы прѣмѣнѣюще» (85); «въ часѣ въскопиты» (94); «единѣмь часѣ прорестѣ» (97). Для Богословия час — неопределенный отрезок времени, границы которого можно раздвинуть, наполняя его событиями, но все-таки достаточно краткий отрезок. Для перевода Шестоднева это попросту самый краткий отрезок времени, так что ‘тотчас’ — это самое характерное для него значение. При всей неспешности средневековой жизни ‘тотчас’ эквивалентно современному ‘сию секунду’ и имеет то же значение. Слово время столь же аморфно по своей семантике, но способно обозначать любое время, всякое время, вообще — время. В Богословии слово используется один раз, в значении, абсолютно совпадающем со значением слова годъ: «въ клоучимое время и обрать, чисмя бывающе» (199; ср. еще сочетание остановиться стеръ маловременьнъ — 211, что также соответствует сочетанию дша малогодьна и бесьмьртьна — 187). В Шестодневе, содержащем много рассуждений о времени, слово время использовано 6 раз, обычно в форме мн. числа, т.е. нетерминологически: «да съ нимъ и врѣмена се такожде прѣмѣноують» (110б); «(изменением звезд) показати годъ и времена» (149б); «ти не времена годы мѣнимъ, да назнаменаютъ оубо звѣзды» (151б); «егда боудуть въздоуховнии врѣмене и прѣмѣнения» (109); «нъ прѣстоупьныи и дрѣвныи годъ на ино врѣмя пощедимъ» (257б); «страна соуща на разоумѣния врѣменная и лѣтная и на все лѣто» (108б). С одной стороны, время понимается столь же конкретно, как и времена года, — когда возникает необходимость говорить о нем, оно предстает как считаемое, наполненное определенными событиями, — времена. С другой стороны, это либо годъ, либо лѣто, т.е. определенная форма проявления времени. В общем кругу других, вполне законченных временных циклов время само по себе еще не нашло себе места как самое общее слово временно́й иерархии. Оно многозначно и, по видимому, ещесохраняет свое этимологическое значение (повторяемость любого временно́го отрезка): сутки, год, столетия — все это времена. Таким образом, нет ни самого общего (отвлеченно-философского) понятия ‘время’, ни мелких дробных единиц времени. Вѣкъ, годъ, лѣто — самые частотные по употребительности слова в переводах и компиляциях Иоанна экзарха, и слова эти употребляются в очень интересных значениях. Толкованию понятия «век» специально посвящена 12-я глава Богословия, где дано и его определение: «требѣ оубо вѣдѣти, яко вѣчьное имя многоименьно есть, много бо наречеться и когожьдо члвка житье речеться пакы вѣкъ тысящи лѣтъ, вѣкъ единъ пакы глеться вѣкъ все се житье и пакы придаи вѣкъ, иже по въскрьсении бесконьця боудеть речеться пакы вѣкъ — не лѣто, ни лѣтоу часть кая...» (101). Век — это абсолютная длительность, которая соотнесена с существованием столь же бесконечного существа, сути, у которой, как и у века, имеется начало, но нет конца: «прежде же състава мира сего, егда же ни слънце бяше разлоучая днь от ношти, не бяше вѣкъ чьтомъ (т.е. исчислен), нъ протяженое съ присущиими, яко же и лѣтьное и отстоупление до потопоу одинъ вѣкъ есть, яко же ся глть въ вѣчьный, нъ и преждевѣчьный, и того бо вѣка тъ есть сътворилъ» (т.е. Бог создал и века́ — 103). Век наполнен не событиями, как время и его конкретные проявления, а жизнью, существованием; это категория совсем иного плана, чем время. Все философские обозначения в переводах Иоанна изосемантичны в духе традиционной христианской космологии. В данном случае это распространяется на понятия «жизнь» — «бытие» — «век» (ср. частые сочетания типа къ жизни вѣчьныя — 225 = жизни присносущия — 244 и др.). Бытье также есть становление, которое не имеет конца, и тем оно отличается от рождения, которое также исчисляет очередной круг существ, но существ конечного. Вѣкъ в Богословии — прежде всего тысячелетие (ср. с. 103). Это тысячелетие идет вперед в соответствии с программой бытия и понимается как материализация реальной сущности: «иже въ коньць вѣка придый» (339) и другие высказывания вроде этого. Самое же главное, что вѣкъ — это бесконечное время. В Шестодневе слово вѣкъ встречается еще реже — всего 10 раз (в Богословии — около 50), и все в значении ‘тысячелетие’: говорится о настоящем, нынешнем, или приходящем, емоу же и быти, седьмом тысячелетии (см. 52(2), 163б, 198, 222б(2), 225, 224б(3)). Определение имени, данное в Богословии, очень важно, потому что из самого текста мы вынесли бы убеждение в однозначности этого слова, что на самом деле оказывается неверным: его однозначность определяется содержанием текстов и только. Указанное определение важно и в другом отношении: век — мера жизни, бытия, существования. Век не существует сам по себе и, следовательно, не может быть объективирован. Можно сказать, что вѣкъ в этом общем смысле эквивалентен времени, поэтому и слово время ни разу не встречается в общем контексте со словом вѣкъ. Употреблением слов годъ и лѣто оба перевода уже отличаются друг от друга. В Богословии годъ употребляется не более 10 раз в значении ‘удобное время’, ‘время года’: «годоу же весеньноу» (419) и др.; «все въ добръ годъ требованое емоу сътвори» (161); «преже оуставныи годъ» (281); «преестьствьне года» (282) и др., а также производные от этого корня в том же общем значении: негодуетъ бъ (298), да не въгодити окоушающеся (298), въгодники (294) и др. Перед нами исконное славянское значение корня, которое не включено еще в иерархии временных обозначений церковно-книжной традиции и мыслится конкретно: ‘благоприятный, удобный, но неопределенный отрезок времени’. В Шестодневе слово годъ использовано около 100 раз и в самых разных значениях: 1) ‘удобное время; угодно’: «но бу то годѣ бѣаше» (259); «забы на годьноую вѣроу» (172б) — фактически без значения времени; «въ подобных годъ примутъ» (187) и др.; 2) ‘общее время’: «И нощь днье звати, годъ тъ обою протежены» (56); 3) ‘пора’: «(деревья) присно зеленоующесе, ово же листовие съмещоуще въ годъ» (103); «проидоу годъ же с послѣдити се» (1б — Пролог); 4) ‘срок’: «да любещиимъ послоушникомъ годъ данъ» (65); 5) ‘время’: «и намъ въ дроугые годы на потрѣбоу то» (96); ср.: «(изменением звезд) показати годъ и времена» (149б), что можно понимать как одинаковое указание на время, но в первом случае — удобное, доброе время; 6) ‘век’: «да не по чиноу годъ вьсее жизни наричетьсе» (222б; скорее, значение ‘срок’, потому что «неверно» вместо слова вѣкъ в этом значении использовать слово годъ, — таков смысл высказывания); «настоеи бо годъ не тъчию въ настоещааго мѣсто глетсе, нъ и миноувшааго, и емоу же с приети (т.е. будущему) и о томъ писание мѣнить» (55); 7) ‘год’: (люди) «годы жизни препровождаютъ» (83б); 8) ‘время года’: «въ жетвьныи годъ бездъждный» (62), «яко измрутъ въ годъ зимнии и воскреснутъ въ годъ весьнны» (83); «нынь же пакы паче мы годы зовемъ и именоующемъ четыро въ лѣтѣ съвратные» (т.е. переменные — 110б) и др.; 9) ‘месяц’: «годы же мечные сказаетъ, егда лоуна от того мѣста до того мѣста обидеть» (110б); 10) ‘неделя’: «ти седморицею измѣрея присно, ти седморици семен все возвращатисе велю и читающи годное, рекше лѣтное шестье» (27б) — весьма условная связь с неделей в связи с общим значением ‘удобное время’; 11) ‘день’: «яко же и равнѣ дѣтѣли нощы съ днемъ годъ» (143); «или днь соущь годоу мѣру» (по солнцу) (144); 12) ‘час’: «да колико имать въ тъ годъ дробны прѣтещи шестдесетъныхъ» (139б); 13) ‘момент’: «и годъ бытный то само бытье» (31; момент творения); «съставитсе въ годъ зачельный» (203; в момент творения) и т.д. Использование слова годъ в контекстах, которые обычны в Богословии для других слов, показывает, что, действительно, все приведенные значения слова годъ осознавались вполне реально. Подобная многозначность слова фактически эквивалентна отсутствию всякого определенного значения, кроме, быть может, исходного: ‘любой отрезок времени, наполненный (или предназначенный) удобным, годным событием’, ср.: «годы же мнимъ повѣдаемы часовные прѣмены зимьнее и весные, и жетьвные, и есенные, еже добрѣ въчинены» (1426). Исконное славянское слово «рассыпалось» на множество оттенков, потому что этого требовало содержание перевода при отсутствии адекватной славянской терминологии. Тем не менее качественная наполненность такого времени (маркируемого словом годъ) очевидна. Качество любого действия, которым может быть насыщен тот или иной отрезок времени, может различаться, но обязательно отмечено положительным знаком. Это — «хорошее время». Само слово годъ никогда не употребляется в сочетании со словом мѣсто или с каким-нибудь иным обозначением пространства; оно не вступает в контекстные соотношения со словами жизнь или житье. Годъ не имеет меры, но всегда конкретно ограничен; он не наполнен жизнью, но и не разложен по пространственным пределам. Употребление слова лето, определенно отличающееся по источникам, наоборот, связано с обозначением пространства. В Богословии слово лѣто дважды употреблено в значении ‘год’: «тысущи лѣтъ — вѣкъ» (104); «яко же обычъныимь лѣтъмъ не бо, нъ 10 мсцъ... » (288); в остальных случаях лѣто — безразличное ко всему ‘время’, ср.: «лѣтѣ же мнозѣ приде гь рабъ тѣхъ» (7); (различаются боги) «любо силою, любо лѣтомъ, любо премудростью, любо мѣстомъ» (40); (люди в отличие от Бога) «мѣстомъ разно суть и лѣтомь различьни суть» (79-80); «тои без начала творьць бо лѣтомь, да не подъ лѣты» (86); (Бог) «бысть прѣже вѣкъ всѣхъ... яко без лѣта и без начатъка ему рожьство» (54) и некоторые другие. В Шестодневе употребление слова лѣто в значении ‘время’ реже, главным образом в Прологе к тексту: (чтобы сделать) «еже же и лѣто, и троудъ» (2). Обычное значение этого слова здесь — ‘год’, ср.: «въ толицѣхъ тысоущахъ лѣтъ» (3б); (человек дряхл) «или лѣты оувеноулъ» (93б) и др. Сочетания типа по лѣтѣ же мънозѣ, возможные в Богословии, в Шестодневе уже не встречаются, заменяясь ставшим обычным сочетанием по лѣтѣхъ мънозѣхъ (192), — годы исчислимы, конкретны (ср.: на вьсѣ лѣта — 115 и др., хотя в данном случае еще и возможно значение ‘время-год’). Производные также указывают на преобладание нового значения слова, ср. лѣтьный кроугъ (108б и др. — животьный кроугъ, т.е. знак зодиака). Это родовое обозначение для года. Внутренней динамикой развития понятия, произошедшего во времени между двумя этими текстами, является сближение семантики слов годъ и лѣто. Конкретность первого и отвлеченность второго взаимно нейтрализовались таким образом, что теперь они могли уже употребляться и в общем контексте, хотя слово годъ еще и не стало полным эквивалентом слову лѣто, сохраняя свои качественные характеристики, отличающие его от значений слова лѣто. Кроме того, годъ включает в себя «субъективные» значения (удобства, благоприятности), а значения второго слова, лѣто, соотносятся со значениями слова вѣкъ как времени объективного, от Бога данного на все времена. Такие подробности в подтексте описания были чрезвычайно важны в текстах вроде Богословия или Шестоднева. Лѣто измеряется пространственными координатами, годъ — качественным содержанием событий, включенных в данную временную перспективу. Слово годъ постепенно раскалывается на множество частных значений, так что время, измеряемое годами, похоже на осколки зеркала; лѣто же определенно становится родовым обозначением года. Годъ, другими словами, есть совокупность частей лѣта (четыре года образуют одно лѣто), и такое совмещение качественных характеристик под общей крышей пространственной длительности образует синкретизм любой характеристики измеряемого времени, поскольку самое главное, что сближает лѣто и годъ в их общем отличии от вѣка, — это качественные и пространственные пределы, которые могут быть измерены, отмерены, размерены, тогда как бесконечный вѣкъ (с векторным направлением на кольцевое время), не «отягощенный» признаками ни качества, ни пространства-движения, такой меры не приемлет. Сложность ситуации при смене двух культур заключалась в том, что слово вѣкъ было предпочтительней слова время для обозначения «чистого» времени: с ним не было связано понятие цикличного времени, столь характерное для язычников. В целом же, как можно судить по приведенным примерам, система временных обозначений, пришедшая из славянского язычества, еще не перестроилась полностью по требованию христианского мировосприятия, поскольку старые термины-слова были еще достаточно четко связаны со старыми представлениями о конкретной наполненности времен. Сложность позиции Иоанна экзарха, как и любого писателя его времени, заключалась в необходимости передать новые отношения с помощью старых языковых средств, и возможности языка оригинала тут не всегда подходили. Они вообще мало полезны в момент перестройки культурной традиции. Те употребления этих слов, которые известны нам из Слов Иоанна экзарха, как будто подтверждают факт колебания в употреблении их. В Слове на Преображение и присно и въ вѣкы вѣкомъ, лѣто — в значении ‘год’; в Похвале Иоанну Богослову более архаичное употребление, потому что, между прочим, находим тут такое высказывание (с цитатой из Апостола, см. л. 33б): «Колико есть между има, повѣждь ми, о члче, лѣто ли бысть посрѣдѣ? Но снъ и годы, лѣта и вѣкы сътвори. Како убо вѣкъ или лѣто прежде сътворшааго вѣкы?» — все это конкретные виды «времен», и само слово время здесь еще не используется (время может характеризовать лишь возвращаемый период: «едина бо весна въ врѣменех, единое же слнце въ звѣздахъ» — 40б). Годъ — это и время, в том самом смысле, который отмечен и выше: въ послѣдняя годы (31а и др.), что совершенно эквивалентно более позднему сочетанию въ послѣдняя врѣмена (или даже лѣта); столь же двузначно в этом Слове и слово лѣто. По-видимому, и другие тексты, принадлежащие или приписываемые Иоанну экзарху, покажут такое же колебание в употреблении всех этих исконно славянских слов. Приведенные материалы дают основания и для более общих выводов, хотя, может быть, их и следует высказать только в предварительном порядке. Старая, но распространенная точка зрения о том, что переводные византийские тексты создавали у славян «новый мир» и оказали существенное влияние на изменение всей цивилизации[125], следует принимать с известными поправками. В конечном счете оказали такое влияние, да, но чтобы стать элементом и славянской культуры, данная цивилизация должна была быть перенесена на славянскую почву; первые славянские писатели и переводчики должны были совместить основные черты этой культуры с теми условиями и обстоятельствами жизни, которые допускали ее целостное восприятие не формально, а по существу[126]. Для успешного выполнения этой задачи прежде всего следовало создать литературный язык, способный ассимилировать наиболее жизнеспособные элементы византийской культуры, способные совместиться с традиционными формами национальной культуры. В этом смысле точка зрения Д. С. Лихачева о трансплантации византийской литературы и культуры в целом, даже мировосприятия, на славянскую почву кажется более правильной. Даже в самых традиционных жанрах, например в произведениях торжественного красноречия, славянские мастера не подражали византийским образцам, не копировали их, а на основе авторитетной традиции создавали свой вариант того же жанра. Стили не заимствуются, стили создаются, они не экзотика, а существенная часть мировосприятия, потому что стиль связан с родным языком, а через него и с традиционными формами мышления. И те современные исследователи, которые в переводах Иоанна экзарха пытаются увидеть лишь копирование византийских образцов, своим конкретным материалом демонстрируют, что это не так. Когда Феодорит цитирует Евангелие от Иоанна: εν αυτω ζωη ην, και ῾η ζωη ην το φως των ανθρώπων, — а Иоанн экзарх, передавая знаменитое начало этого текста, ограничивается указанием на то, что животъ бѣаше и жизнь бѣаше[127], трудно согласиться с тем, что Иоанн всего лишь переводчик. Вспомним, что в древнейшем переводе данного места как раз эта его часть находит множество вариантов (по Галицкому евангелию 1144 г. варианты указаны выше). Как раз особое значение слова жизнь в устах первых славянских переводчиков позволяет использовать это слово в чрезвычайно широком и в лексическом отношении очень емком значении: ῾η ζωη ην το φως των ανθρώπων — это и есть жизнь в представлении Иоанна, она и есть тот свет, о котором говорит евангелист; это входит в понятие жизни, как она представлялась первым писателям, что ясно из тех примеров, которые были приведены выше. Семантика литературного славянского слова в свернутом виде представляла целое сообщение греческого оригинала (жизнь в противоположность животу). То же мы наблюдаем и в других соответствиях славянского перевода греческому оригиналу. Самый лаконизм, основанный на особенностях славянской языковой системы, — типично славянская стилеобразующая черта, и это также следует иметь в виду при изучении сложных вопросов, связанных со становлением первого литературного языка славян. Можно без преувеличения сказать, что все последующее развитие литературного языка в связи с потребностями постоянно обновляющейся литературы заключалось в последовательной расшифровке, распространении, расширении первоначально синкретичных по существу общих понятий (символов), перенесенных на славянскую почву сначала в «упаковке» категориальной общности и нерасчлененности, и осознаваемой пока не на понятийном, а на образном уровне[128].
ЛЕКСИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ В ИЗБОРНИКЕ 1073 г. И ДРЕВНЕРУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
Невозможно преувеличить значение Изборника 1073 г. в истории культуры и языка древнерусской эпохи. Древнерусский читатель, редактор и автор в памятниках, подобных ему, получил образец литературного языка с разработанной терминологией естественно-философского характера; он столкнулся с проблемой стилистического варьирования в тексте, которая по самому характеру текста была неизвестна составителям деловых и бытовых памятников Древней Руси; он осознал разницу между простым, констатирующим сочетанием слов и изощренной синтаксической конструкцией, которая позволяет передать тончайшие оттенки мысли и ход рассуждения автора. Теперь можно определенно говорить, что восточноболгарское влияние на древнерусскую книжную культуру привело и к созданию нового литературно-художественного стиля, который постепенно вытеснил распространенное до того весьма деловитое и стилистически однопланное повествование. Как типичный образец восточноболгарского (симеоновского) варианта славянского литературного языка, Изборник 1073 г. оказывается удачным источником в изучении процесса взаимодействия старославянского литературного и русского разговорного языков, процесса, который много позже привел к возникновению современного русского литературного языка. Уже в списках текстов Изборника 1073 г. появлялись отличия, указывающие на отношение древнерусского читателя к литературному языку того времени, неприятие им некоторых особенностей этого нового литературного языка. Сравнивая, например, текст «Анастасиевых ответов» в составе Изборника 1073 г. и Изборника 1076 г., обнаружим, что аористным формам русский переписчик последнего, диакон Иоанн, предпочитает перфектные оуготовалъ ѥсть и сбавилъ (Изб. 1076, 120) вместо оуготова и отъкры (Изб. 1073, 80)[129], «высоким» литературным суффиксам — более привычные русские с тем же значением (сътвори и слоужениѥ — 1073, 79 — събори и слоужьбы — 1076, 118). Иоанн заменяет некоторые слова, непривычные для древнерусского читателя в данном значении или использованные в слишком высоком стилистическом варианте. Так, вьсѧ бо видомаѩ малогодьна соут (1073, 80) оказалось непонятным древнерусскому читателю и переписчику, поскольку малогодьна имеет несвойственное данному тексту значение пригодности, а страдательное причастие видомаѩ употреблено в непривычной форме. Поэтому Иоанн видоизменяет текст: видимага скороврѣменьно ‘все видимое преходяще’, придавая ему именно временно́е значение, в том числе и использованием наречия скоро вместо неопределенного в своей многозначности мало. Аналогичный случай: «Христианъ во ѥ истовый домъ Христосовъ, дѣлы бл҃гыми и оучении добровѣрьными състоѩсѧ» (1073, 63, т.е. ευσεβων συνιστάμενος, что соответствовало бы: «благочестивыми совместно осознавая»; у Иоанна вместо этого находим доброчьстивыми свьтѧсѧ (1076, 114 об.). Ясно, что сохранение слова добро стилистически диктуется тем, что только что, словом раньше, использован его вариант благо, повторение этого слова было бы излишним; вместе с тем и образование с вѣрьнъ для древнерусского читателя должно быть однозначно связано с христианскою верою и в сочетании со словом добро оказывается несовместимым по значению; неожиданно точно Иоанн заменяет вторую часть сложного слова более привычным для него в этом сочетании чьстивъ. Именно неожиданно, так как данное исправление в общем не связано с греческим оригиналом (которого под рукой редактора, очевидно, и не было), ср. свьтѧсѧ вместо състогасѧ, что не соответствует ни оригиналу, ни смыслу текста. Некоторые слова, использованные в текстах Изборника 1073 г., просто непонятны Иоанну, и он не находит им замены. Возникают ошибки, затрудняющие и современного издателя текста: «Да тѣмъ подоба вьсеѫ силоѫ без блазна хранитисѧ чистомъ отъ нечистыихъ дѣлъ» (1073, 63, ασφαλώς τηρείς ῾εαυτους ‘безошибочно беречься’), выделенное слово Иоанн передает как безгазна (1076, 115), и издатели помещают его в словарь в качестве самостоятельного наречия,[130] хотя в славянском переводе это фактически именное сочетание: без (съ)блазна. По-видимому, кроме придания большей точности переписываемому тексту, кроме своеобразного лексического «осознания» действительно сложных по смыслу отрывков перевода Иоанн добивался еще и определенных стилистических целей. Он, где мог, последовательно заглушал высокий слог перевода, приближая его к обычной деловой манере древнерусского книжника. В конечном счете, и смысл текста только выгадал. Покажем это на следующем примере: «Таче оуже въ себѣ бо҃у покланѧѥтьсѧ и слоужить видѧ свои храмъ тѣлесьныи трѣбьникъ б҃жии соушть» (1073, 81, в оригинале: ῾ορων αυτου τόν ναόν τόν του σώματος θυσιαστήριον θεου ῾υπάρχοντα). Переводчик, делая перевод, и не мог иначе перевести ναός — ‘храм, жилище (богов)’; более того, он перевел буквально, передавая смысл оригинала: «видя в храме своего тела божий алтарь». Иоанн сконцентрировал эту высокопарную фразу в сжатом тексте: «Самъ себе чьтеть видѧ плъть свою жилиште б҃жиѥ соуште» (1076, 120-120 об.) — «сам себя почитает, считая свою плоть жилищем бога». Видно, насколько понятнее и точнее эта редакция текста по сравнению с первоначальным громоздким переводом. Кроме того, текст оказывается стилистически немаркированным (не связан с высоким слогом). Лексические замены также любопытны в стилистическом отношении: храмъ → жилиште, тѣло → плъть, покланѧетьсѧ и слоужить → чьтеть. Кстати говоря, и воздействие восточнославянского переписчика на текст самого Изборника 1073 г. также нельзя устранять полностью. Некоторые очень ходкие вспомогательные слова, характерные для восточноболгарских переводов, как бы в виде редких исключений, вдруг заменяются необычными для стилистической атмосферы Изборника 1073 г., но впоследствии очень важными именно для древнерусского языка лексическими вариантами. Укажем только те, которые в первой половине Изборника 1073 г. отмечены по одному разу: при обычном для перевода греч. τήν αρχήν — испьрва однажды употреблено изначала (24), при обычном зѣло для перевода греч. μεγάλα однажды использовано вельми (96), при обычном тъчьѫ для греч. μόνον однажды находим тъкмо (96), при обычном лѣпо ѥсть для греч. δει использовано также и трѣбѣ (125). Эти редкие прорывы необычных для него вариантов можно было бы считать случайными заменами, принадлежащими древнерусскому переписчику рукописи, — настолько они характерны как раз для древнерусских текстов (переводных и оригинальных, ср. в Изборнике 1076 г. вельми, тъкъмо, трѣбѣ) и столь непонятна их редкость среди сотен употреблений слов зѣло, тъчьѫ, испьрва, лѣпо ѥсть в восточноболгарском переводе. Таким образом, даже беглый обзор проблем, возникающих при изучении языка Изборника 1073 г. (стилистические, грамматические, лексические и другие расхождения в списках, которые все более увеличиваются в списках поздних), показывает, сколь важно всестороннее изучение данного памятника в лингвистическом отношении и каким плодотворным оно может стать. В рамках данной статьи ограничимся только несколькими примерами употребления дублетных слов, чтобы на возможно более широких и полных сопоставлениях с лексическими данными древнерусских текстов (XI- XII вв.) предварительно уяснить тот существенный вклад, который сразу же при появлении первых текстов восточноболгарского происхождения внесла в формирование древнерусского литературного языка литературная традиция Изборника 1073 г. и связанных с ним памятников. Ниже это показано на лексической разработке дублетов благо — добро, тѣло — плъть, образъ — видъ. Важно было бы также показать широту взаимодействия древнерусской и заимствованной литературной лексики, действительное обилие лексических вариантов, возникших из столкновения двух близких славянских языков — древнерусского и восточноболгарского, однако это невозможно сделать в кратком изложении. Здесь нас интересует принцип работы древнерусских писателей и переводчиков; важно «изнутри» понять направленность их действий, впоследствии столь же важных по результатам. В древнеславянских переводах греч. καλός передается словом добръ, χρηστός — словом благъ, αγαθός — то добръ, то благъ; исключения из таких соответствий довольно редки и хорошо описаны в литературе вопроса[131]. В известном смысле такая эквивалентность отражает систему значений указанных греческих слов, и, следовательно, на славянской почве сама система может оказаться привитой из греческих источников. Греч. ευ в составе сложных слов в своем основном значении вообще неопределенно, в славянских переводах оно давало наибольшее число колебаний между благо и добро. Общее значение ευ — ‘хорошо, полностью, справедливо’ — допускало подобные колебания и, по-видимому, зависело от второго члена сочетания. Другое дело, что впоследствии представители разных литературных школ стали предпочитать тот или другой вариант (подобно тому, как в ранних переводах Апостола предпочитали сложения с благо-, а в поздних его редакциях, с XIII в. — добро-), и именно такое предпочтение одного из двух вариантов становится отличительной особенностью литературной школы в ее противопоставлении к другим школам. Так, сравнивая древнерусский перевод Пчелы с его среднеболгарской обработкой, в первом случае найдем предпочтение сложениям с добро- (также и в сочетаниях типа добро творити), а во втором — с благо- (и благодѣѩти). Наконец, греч. αρετή ‘доблесть’, ‘великолепие’, ‘мощь’, ‘величие’, ‘добродетель’, благодаря своей многозначности, на славянской почве оказывается столь же неопределенным при переводе: благость, благодать или доброта, добродѣтель. Что же касается Изборника 1073 г., то в нем αγαθός обычно передается словом благъ и всегда относится к характеристике Бога, ангела, духа; лишь четыре раза этому греческому слову в переводе соответствует славянское слово добро (11, 68, 136, 140) и притом всегда применительно к характеристике человека; χρηστός передается словом благъ, καλός — добръ (и всегда соотносится с представлением мирского, человеческого, противопоставленного небесному); αρετή — доброта (дважды доброта и на месте греч. το κάλλος) в значении ‘добродетель’; наречие передается только словом добрѣ при греч. καλως (ср. недобрѣ при греч. κακως — 95). Греч. ευ в Изборнике 1073 г. дает дополнительное распределение между добро- и благо-: благочьстиѥ и благовѣстиѥ (оба по нескольку раз) не только для ευσέβεια ‘благочестие, благоговение’ (108, 178 и др.), но и для ϋεοσέβεια ‘богопочитание’, ‘благочестивость’ (63), что недвусмысленно указывает на ту же функциональную (а в тексте и на стилистическую) связь блага с Богом. Зато все прочие весьма многочисленные сложения с ευ последовательно и очень часто передаются в сочетании с добро-, ср. такие сложные слова, как доброчадиѥ, доброискоусьнъ, добролѣпаѩ, доброоуханиѥ, доброродьство и др. (всегда в отношении к мирскому, к человеку). Таким образом, точное соответствие греческому оригиналу, которое мы находим в первоначальных славянских переводах, здесь перекрывается другой, уже собственно славянской системой стилистического (основанного на функциональном) распределения дублетных слов. Благ- закрепляется за выражением духовного, небесного, божественного, добр- — за выражением земного, вещественного, человеческого проявления жизни. Столь же четко эта оппозиция представлена, например, в Шестодневе Иоанна экзарха и в других текстах восточноболгарского происхождения. Такова в новых переводах новая литературная традиция, которую получил вместе с восточноболгарскими текстами древнерусский книжник. На какой же языковой субстрат легла эта оппозиция, уже стряхнувшая с себя вериги буквального соответствия греческому? Как соотнеслась она с исходными древнерусскими отношениями? В Повести временных лет (ПВЛ) обнаруживаем интересную подробность: за почти последовательным разграничением благ- (81 раз) и добр- (46 раз) и их производных в указанном выше функционально-стилистическом смысле проглядывает первоначальное, собственно древнерусское распределение, которое было безразличным к стилистической дифференциации этих слов. В самых ранних легендах, попавших в ПВЛ, в рассказах об Ольге и о Святославе мы встречаем оба исключения из ставшего устойчивым противопоставления слов добръ—благъ как земного небесному. (Ольга искала) «доброѣ м҃дрсти бжиѧ» (по Лавр. лет. 1377 г., л. 18) с доброѣ на месте ожидаемого в этом тексте благыѧ; ср. еще прямую речь Святослава, заявившего: «ѩко то есть середа в земли моеи, ѩко ту всѧ благаѧ сходѧсѧ: от грекъ злато, паволоки, вина и овощеве разноличные, ищехъ же из Урогъ сребро и комони, из Руси же скора и воскъ, медъ и челѧдь» (Лавр. лет., л. 20 об.) — в соответствии со смыслом речи следовало бы употребить слово добро, которое уже в то время получило и значение ‘имущество, богатство’. Даже в наречном употреблении, в котором добрѣ окончательно вытеснило слово благо почти во всех древнерусских текстах, дошедших до нас (так, в переводе Пчелы, где добро и благо употреблены безразлично, как равноправные, стилистически не дифференцированные варианты, встречается только наречие добрѣ), даже в таком случае иногда мы находим форму болозѣ (ср. XII снов Шахаиши, Поучение некоего Христолюбца и т.д.), не бологомъ ‘не к добру’ (Слово о полку Игореве) и т.д. Знаменательно во всех таких случаях предпочтение восточнославянской полногласной формы (вместо блазѣ, что точно указывало бы на заимствование из церковнославянского языка) — тем самым слово болого самой своей формой, не характерной для церковнославянского языка, сохранялось в границах «низкого» слога, оставалось «русизмом», хотя уже и ограничивало свою функцию только наречной, сохраняясь в древнерусском литературном языке как лексикализованный вариант русского происхождения. Предпочтение же корня добр- характерно для всех светских древнерусских текстов. В Хождении игумена Даниила 21 раз употреблено это слово, и только в начале его повествования, там, где автор намеренно архаизирует и возвышает свой слог, находим сочетания «во всякомъ дѣлѣ блазѣ, о святѣмъ градѣ Иерусалимѣ и земли тои блазѣи». Сто лет спустя в своем Хождении Добрыня Ядрейкович также использует лишь корень добр-, сохраняя благ- в некоторых сложных словах. В поучениях и словах русского происхождения также обычны только добр-, добрѣ: у Серапиона Владимирского, в Вопрошании Кирика, в ранних текстах древнерусских житий (Ольги, Варлаама Хутынского, Леонтия Ростовского). У Владимира Мономаха в его Поучении 26 раз использован корень добр- и только один раз, в традиционной молитве, благ-. Предпочтение варианту добро- распространяется и на сложения типа добродѣтель, добронравие (житие Ольги), которые вытесняют слова благодѣтель, благонравие, постепенно связывая с ними другое значение (сохранившееся до настоящего времени). Возможные отклонения от употребления одного только слова добръ и его производных обязательно связаны с необходимыми для текста противопоставлениями небесного — земному; ср. в житии Мстислава: «бл҃годаримъ бѣ от б҃га за добродѣтель жития его» (св. Владимира). Вариантность добр- — благ- появляется в тех текстах, авторы которых обращаются не к простой чади, а к искушенному в литературных образцах читателю или слушателю, — в Слове некоего Христолюбца, в Уставе Владимира и т.д. Особенно четко такое противопоставление проведено у таких мастеров, как Иларион, Феодосий Печерский, Кирилл Туровский. У Илариона благый — Бог, угодник, их дела и помыслы, добрый же — муж, князь, их дела; в соответствии с основной идеей Слова о законе и благодати такое противопоставление проведено последовательно, оно определяется не только стилистически, но и сюжетно. В Поучениях Феодосия Печерского распределение то же (17 раз добр-, 15 раз благ-), у Кирилла Туровского также (36 раз добр-, 29 раз благ-), хотя у последнего отражается уже и собственно семантическое (не стилистическое только) расхождение в значениях между этими словами. Добр- у Кирилла в некоторых контекстах получает значение ‘крепкий, добротный’, истинно земной. На определенную связь с книжной традицией указывают Сказание и Чтение о Борисе и Глебе, где благ- — добр- противопоставлены как вечный — преходящему, и (в соответствии с содержанием этих произведений) первое преобладает: в Сказании корень благ- употреблен 50 раз, а добр- всего 11 раз (см. в Усп. сб. ХІІ-ХІІІ вв., л. 8б-26а). В переводных светских памятниках никакого стилистического разграничения наших слов нет, хотя отношение переводчиков к ним различное. В Александрии и «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия одинаково распространены и благ-, и добр- (при этом очень устойчиво употребление наречия добрѣ и некоторых фразеологизмов типа добро и зло) с безразличным смешением их буквально в одном и том же сочетании или контексте, ср. добровазньство и благовазненъ, добровонными и благовонье. Такой же материал представляют переводы Хроники Георгия Амартола, «Разуми краткосрочни» Менандра Мудрого, Жития Василия Нового и другие большие по объему переводные тексты, в работе над которыми, есть основания полагать, принимали участие и южнославянские, и древнерусские книжники. В переводах же собственно древнерусских, и притом не самых ранних, таких как XII снов Шахаиши, Сказание об Индейском царстве, Повесть об Акире Премудром, Девгениево деяние, даже Физиолог и Книга Есфирь, использованы только добръ, добро, добрѣ (хотя в сложных словах и сохраняются еще сочетания с благо-: в Повести об Акире 9 раз, в Книге Есфирь — ни разу, в остальных — по одному разу, что может быть связано с последующими переписками текста). В таком расхождении между двумя типами переводов кроется разница между двумя вариантами древнерусского литературного языка, хотя по существу оба варианта, в конечном счете, и основаны на разговорном древнерусском языке. Сопоставления показывают, что древнерусский язык с неизвестным нам первоначальным распределением корней добр — благ- в высоком литературном варианте воспринял восточноболгарское стилистическое разграничение этих слов, отражающее разные аспекты жизни, основанное на дуализме христианских представлений о добре и зле (Иларион, Феодосий, Кирилл, некоторые официальные церковные тексты того же времени). В другом, также литературном, варианте указанное противопоставление в целом сохранялось, хотя в некоторых ходовых сочетаниях оно могло и нейтрализоваться (сюда относятся некоторые переводные тексты, в которых смещение данной стилистической градации могло определяться самим оригиналом). В большинстве же русских оригинальных и переводных текстов намечается безусловное преобладание добр- за счет благ-, унификация добр- для большинства значений и тем самым все большее отстранение от благ-; в частности, добр- все шире впитывало в себя значения слова благо (болого), которое в церковнославянской огласовке стало приметой высокого слова и тем самым вышло за пределы среднего стиля речи. Рассмотренный пример показывает, что, независимо от конечного результата, влияние восточноболгарской редакции оказалось весьма существенным на всех уровнях древнерусского языка. Это влияние заключалось в том, что первоначальная дублетность добр- — благ-, возникшая в результате столкновения двух типов литературного языка, была разложена — сначала на вариантность в пределах конкретного текста (с известными функциональными и стилистическими градациями), а затем переросла в синонимию, навсегда сохраненную русским литературным языком. Восточноболгарские тексты системой своих отношений сыграли роль катализатора, приведшего к расслоению, а впоследствии, под влиянием восточнославянского субстрата, и к изменению значений этих слов. Иная судьба оказалась у вариантов тѣло — плътъ. В Изборнике 1073 г. они часто употребляются в значении: плътъ — σαρξ, тѣло — σώμα. Исключения единичны, см.: «въ д҃ши оубо прѣзорьство... но плъти же всеѣдьство» (и то и другое — грех, 151), τό σώμα, хотя тут же в аналогичном сочетании, в противопоставлении к душе, του σώματος правильно переводится как тѣлеси (1073, 152). Плоть и душа — материал тела, но поскольку плоть, в отличие от души, также материальна, то отсюда происходит частое смешение — не тела и плоти, но их качеств, переданных не существительным, а прилагательным: тѣлесьнаго и плътськааго, ср. плътъно, плътъныи для передачи греч. σωμάτων, σώματος (8, 30, 33, 182, 152), т.е. «телесный», а в одном случае также ѥстьствомь тѣлесьныимь — τη φύσει της σαρκός (26). Таким образом, данные исключения принадлежат собственно славянскому переводу (или переписчикам), в греческом оригинале σώματος — σαρκός противопоставлены и как качества. Общее представление о взаимоотношении тела и плоти оказывается по текстам Изборника 1073 г. следующим: душа у тела, но не у плоти (59), душа последней — кровь (127); душа солнечного тела — свет (36), потому что как человек, так и солнце имеют тела (33); Адам создан в плоти (60), но душа ему внушена словом — разумом (λόγος), в результате чего и после чего возникло тело (36); тело — это одушевленная плоть, тело противопоставлено духу (18), а плоть — действию (30); душа — составная часть тела, дух, противопоставленный плоти, душа воплощена в теле (31), ибо душа стремится к телу в том случае, если обладает плотскими желаниями (33). То же реальное взаимоотношение между плотью и телом представлено в Шестодневе Иоанна экзарха. Он говорит о плътънѣи немощи (а не о телесной) и всегда подчеркивает, что каждое существо и предмет имеют материальное тело (луна и солнце — тоже тела), однако слово плътъ употреблено только в отношении к человеку. Это характерно вообще для всех древнейших славянских переводов: σαρξ — плътъ, σώμα — тѣло (только в виде редчайших исключений также и плътъ), но для слова тѣло находится масса других греческих эквивалентов (῾ηλικία, εικών, ειδωλον, στήλη и др., что вызывает естественное дублирование и в славянском переводе: икона — образъ — тѣло — стълпъ — троунъ)[132], а плъть — всегда только σαρξ. Тѣло как вместилище может получить и более широкое значение: например, в переводе Вопросов и ответов Сильвестра и Антония тѣло эквивалентно слову капище в передаче греч. ανδρίας[133]. Смешение слов тѣло и плъть в этих ранних текстах вообще не заметно; только поздние хорватские миссалы, написанные глаголицей, дают смешение слов тѣло (cavo) и плъть (σαρξ)[134], имея в виду, конечно, не тело, а плоть, ср. тѣло пертолене (carnem praeputii = плъть конечьноую τήν σάρκα της ακροβουστίας). Две редакции Откровения Мефодия Патарского различаются, между прочим, тем, что в одной из них σαρξ переведено обоими словами (и тѣло, и плъть), а в другой — только словом плъть, что безусловно первично; говорим о этом потому, что одна из редакций является явно русской. Что же касается определенно древнерусских памятников, то в них мы находим следующее распределение интересующих нас слов. У Феодосия Печерского плъть противопоставлена духу (так, чистый духъ — это аггелы бесплотныа), тѣло же может быть и без души, но тогда оно мертво («зане же мертвыимъ тѣломъ слоужите, акы мертва г҃а мнѧще») и потому противопоставлено духу («да просвѣтитсѧ Х҃и въ д҃ши нашеи и въ тѣлѣ нашемъ»). В других древнерусских поучениях отражается столь же двойственное понимание тела: «Б҃гъ вложилъ есть всѧкое похотѣние ч҃лвку д҃хвнымъ и тѣлеснымъ дѣломъ» (например, есть, пить, спать), — говорит проповедник Моисей, и из этого древнерусского отрывка ясно, что дух и тело не конкурируют в отправлении физических надобностей. Неизвестный по имени другой древнерусский проповедник в Поучении на пост специально оговаривает, что «воюетъ бо, рече, присно плоть на д҃шю», — и это прямым образом соответствует христианской идее антагонизма между душой и плотью, но — не телом. В Поучении XII в., приписываемом белгородскому епископу, особо отмечается сопоставимость плоти с духом, а тела — с кровью: «ѧко не пребудеть д҃хъ мои въ ч҃лвцѣхъ сихъ, зане плоть суть гдѣ во суть д҃хъ во пьѧницахъ, пьѧница (же) всь плоть есть» (и потому никакого духа в нем не пребудет), но: «въ праздники б҃жии наслажатисѧ тѣла и крови Х҃вы» (надлежит). У Клариона дух, душа противопоставлены телу, а плоть неоднократно описана как вместилище, жилище, одежда духа; все пороки связаны не с телом, а с плотью, именно она становится в центр христианской антитезы и в литературном языке оказывается маркированным членом противопоставления двух слов — тѣло и плъть. Игумен Даниил слово тѣло (очень часто) использует для обозначения мощей (только однажды, по-видимому, под рукой позднего переписчика, появляется и само слово мощи) — это мертвые тела Христа, Богородицы, святых, внешнее их подобие, форма без души. То же значение и в древнейших русских житиях, которые совершенно избегают употребления слова плъть. В ПВЛ 44 раза встречается слово тѣло и только 10 раз — плоть, плотской (всегда в характерных церковных контекстах). В Поучении Владимира Мономаха 4 раза встречается слово тѣло и только однажды (в форме прилагательного: плотьскыѧ и дшевныѧ) — плоть. У Добрыни Ядрейковича столь же обычно (20 раз), как и у игумена Даниила, тот или иной святой «въ тѣлѣ лежить», причем относительно апостола Иакова сказано, что «глава его в ракѣ сребрѧнѣ, а тѣло его лежит внѣ града» — важное указание на то, что слово тѣло в начале XIII в. уже имело современное значение, «в тѣлѣ лежитъ» не обязательно какой-то один святой, «свѧтые Флоръ и Лавръ въ тѣлѣ лежатъ» — единственное исключение для дв. числа, тогда как во мн. числе Добрыня использует уже слово мощи (три раза в сочетании «и иныхъ свѧтыхъ мощи лежать»). Дважды Добрыня употребил и слово плотъ, чтобы сказать, что «былъ Христосъ возвышенъ плотию на земле» — это, несомненно, важное отличие плоти от тела, фиксирующее плоть не как оболочку души, а как субстанцию тела. Древнерусские переводы дают более сложное представление о соотношении наших слов. «Дша бес плоти не зоветьсѧ ч҃лвкомъ», — заявляет Пчела одним из своих афоризмов; вгреческом оригинале на этом месте стоит άνεω σώματος, и поэтому болгарский справщик текста заменяет: кромѣ тѣла, — что точнее соответствует оригиналу. Действительно, в другом месте той же Пчелы: «не тако огнь жьжеть тѣло (σώμα), ѩко же дшу рлзлоученье» (в болгарской редакции: тѣлеси естьство). Не плоть, а тело является внешним образом человека и формирует представление о человеке. В текстах Пчелы также отражается свойственное древнему мировоззрению внутренне скрытое противопоставление: плътъ — доуша = тѣло — доухъ. Плоть и душа комплектуют тело, тогда как дух представляет по отношению к телу автономное явление. Это ясно и из следующего афоризма, приведенного в древнерусском переводе Пчелы: «моудрости не тѣлесна есть видѣньѩ, но веществьна» (ου σωμάτων αλλα πραγμάτων), т.е. мудрость определяется не формой, а результатом какого-то действия. Для древнерусского переводчика Пандект Никона Черногорца все мирское, физическое, телесное объемлет в себе слово плътъ (весьма обычное в его словоупотреблении); очень часто болгарский редактор этого перевода (в XIII в.) заменяет слово плътныи, плотским словами тѣлесныи, вещныи, тем самым расширяя его значение и, может быть, более точно передавая греческий оригинал. Для самого же древнерусского переводчика плътъ и тѣло — не одно и то же, ср.: «аще въ ѩрость и злопомнѣнье в плъти не хощеши, оугодьѧ отиноудь да не имаши телесѣ» (ГПБ. Погод. 267, л. 262), в болгарской редакции любой список дает чтение: «...впасти не хощеши, пристрастие отнюдь не имеи к вещемъ». Ярость и злопамятство — плотские качества, тогда как тѣло — это вещь, т.е. осуществленная мысль, форма действия. «Ѩко наченьши д҃ховни нынѣ же телеснѣ сдѣваете сиѩ всѧ» (ГПБ. Погод. 267, л. 317) в болгарской редакции: «наченъше д҃хомъ, ныне плотью свершаете»; по-видимому, выявляется следующее соотношение: духовное противопоставлено телесному, душевное — плотскому. В других древнерусских переводах находим важное уточнение. В переводе Откровения Авраама: «оубо тѣло повиноулъ боудеть своей д҃ши и д҃шю дховна д҃ха — безоумью»; ум связан не с душой, а духом. В Житии Василия Нового часто «оумныи доухъ» противопоставлен «телу», именно духом, а не душою, можно мыслить, «нечто оуразоумѣти»; душа же совместно с плотью формирует тело, в состав которого, вместе с тем, входят кости, жилы, кровь и т.д. Вот почему дух вне тела и вот в чем его отличие от души. Здесь налицо противопоставление ψυχή ϑυμός’у и νόος’у древних греков[135]. Сложность в истолковании славянских текстов заключается в том, что на языческую «философию духа» наложены уже христианские понятия души, и все тексты, которыми мы вынуждены оперировать, имеют дело уже преимущественно с этой последней. Итак, показания русских источников неоднородны; в переводах несомненна зависимость от греческих оригиналов, но в целом представления древнерусского книжника вполне согласуются со схемой, отраженной и в Изборнике 1073 г. Эта чисто христианская схема на лексическом уровне является литературной, поскольку в бытовых русских текстах (и даже в тех церковных, которые обращены к простой чади) предпочтительно слово тѣло, которое тем самым оказывается синкретичным в своих значениях. По-видимому, дуализм души и плоти в древнерусском языке лексически оставался невыраженным. Благодаря своей давней многозначности, а также возможности широких эквивалентных связей с греческим языком особенно интересно употребление слова образъ. В Изборнике 1073 г. оно соответствует следующим греческим словам:τύπος: «приведѣмъ послоушьства и образы и оуказы» (45); «прѣдани быша и пр҃рци въ полон на образы и на оуспѣхъ людьмъ» (157); (бог) «акы ч҃лвчьскомь образомъ бесѣдова моси...» (4); εικών: «по образоу б҃жиѫ... създанъ бы ч҃лвкъ» (52); «нъ и д҃хъ б҃жии сѧ образъ нариче» (3); «да иже до сего причетьное приемлеть, то добрѣ имать образъ» (31); «покланѧѫсѧ и чьтоу и образоу с҃тыѩ б҃ца» (54) и др.; μορφή: (совокупностью всех пороков) «образъ сѫпротивьнааго образоуѥтьсѧ» (69); «приимъ рабии образъ истиноѫ» (52); «аште доброобразныхъ личесъ не съглѩдаѥши» (149); χαρακτήρ: «хоштеши же ли лѫкавааго образа разоумѣти своиства: зависть, ненависть...» (69), тут же χαρακτηρίζεται переведено как образоуѥтьсѧ (69); «акы собь свои образъ» (῾ως ῾υπόστασις ιδιον χαρακτήρα) (3); «оузримъ оубо въ о҃ци с҃на и въ с҃ноу о҃ца, образъ бо ѥсть: собьствоу ѥмоу: ѥдиного оубо собьства ѥдиныи д҃хъ» (о Троице) (16) и др.; τρόπος: «вьсѧкъ образъ добрааго дѣла... истиньнааго добра житиѩ образи» (83); «отъ оуны версты... до старости же образа (жизни) не прѣмѣнѩюште» (106); «но четырьмъ бо образомъ съгрѣшаеть ч҃ловѣкъ: по незаапоу, по прѣльсти, по неразоумѣниѫ, по любъви» (145); «ѥгда бо б҃гъ ч҃лвка съзьда, образъ ѥмоу и нравъ въсади» (153).
Только к этой последней группе относятся все употребления слова видъ, передающего греч. είδος, ср. буквальные повторения текстов, приведенных выше для иллюстрации слова τρόπος: «мѫждростьнии же видове соуть четыре — мѫдрость, прауда, цѣломѫдрьѥ, доблѥсть» (151); «се бѫди и нравомъ, и видъмь, и помысломъ акы осѫжденикъ» (129) и др. Гораздо ближе общее значение ‘сорт, тип’ связано с этим словом в следующем тексте: «чьто ли страсть и колико страстьмъ видовъ» (151), где оно соответствует греческому ιδέα. Слово видъ заменяет и греч. εικών, ср. (о Троице) «акы образъ б҃жии сыи присно, акы видъ б҃жии сыи ѥстьственъ с҃нъ, нъ и д҃хъ б҃жии сѧ образъ нариче» (3) (́῾ως μορφή ϑεου ῾υπαρχων αεί ῾ως εικών ϑεου φυσική ῾ο υιός αλλα καί τό πνεύμα εικών του ῾υιου είρηται), где образъ в первом употреблении — это ‘вид’, видъ — ‘подобие’, второй образъ — ‘изображение’, и безусловно можно было бы переместить данные акценты с одного слова на другое. Тем не менее вариантность слов видъ и образъ достаточно заметна; она основана на пересечении значений в греч. είδος и εικών, и переводчик, кто бы он ни был, вынужден варьировать близкие по значению слова, чтобы рядом не появилось нежелательных повторений типа образъ б҃жи — образъ б҃жии. Другим вариантом к образъ являлось слово подобье, ср.: «створимъ ч҃лвка по образоу нашемоу и по подобиѫ» (4, также 19 и др., что соответствует греческому κατ εικόνα ῾ημετέραν καί καϑ’ ῾ομοίωσιν). Переводчик точно следует оригиналу, передавая текст разными славянскими словами. Впоследствии это сочетание станет штампом (и дойдет до современного литературного языка), но в первых своих проявлениях, когда оно еще зависело от оригинала, оно безусловно было тавтологичным. В некоторых древнеславянских переводах отношения славянского образъ к греческим эквивалентам может быть и гораздо шире. В Иполита епископа сказании о Христѣ и о Антихристѣ по русскому списку XII в.: «образомъ ч҃лвчьскомъ ѩвисѧ г҃ь» (13) (= εν σχήματι); «камы поражаѩи образа и съкроушаѩа и напълнивыи землю Христосъ» (41) (= λίϑος παϑάσσων τήν γην); «тацѣмь образомъ и Антихриста подобьноу львоу проповѣдаша с҃тыѩ кънигы» (12) (= τω αυτω τρόπψ); для частого в тексте соответствия слову εικών находим славянскую глоссу: «и сътворить гла҃лати образъ, рекъше мощи, ѩвѣ же ѥсть» (79) (в греч. только τήν εικόνα τουτέζιν ισχυσζ)[136]. В первоначальной, в мораво-паннонской, иногда даже в Симеоновской редакциях Книги пророка Даниила εικόνα передается словом тѣло (при обозначении истукана, скульптурного изображения языческого бога; следовательно, в значении ‘изображение’), и только в русских списках XII в. текстов Симеоновской редакции на этом месте находим соответствующее ему образъ (ср. Кн. пр. Даниила, II, 35; III, 1, 2, 11, 12, 14, 18 и др.), хотя иногда слово тѣло попадает и в русские списки (ср. Кн. пр. Даниила III, 3, 5); очевидно, и русский переписчик не видел разницы между значениями слов тѣло и образъ, но предпочитал более привычное для него второе слово. Аналогичное положение и в Книге пророка Исайи: тѣло в кирилло- мефодиевских и образъ в симеоновских переводах предпочтительны. Греч. ῾ομοίωσις в Книге пророка Даниила, X, 16, разные редакции старославянского языка переводят различным образом: подобиѥ с҃на ч҃лвча — в первоначальном, образъ — в мефодиевском (мораво-паннонском), и озрьчь — в симеоновском переводе. Вообще же озрьчь Симеоновской редакции обычно связано с греч. μορφή, чему в мефодиевской редакции соответствует слово образъ, ср.: «тъгда ц҃рѧ образъ измѣниса» (Кн. пр. Даниила, V, 6, в русском списке Симеоновской редакции на этом месте замена — лице); «въ то же врѣмѧ (после краткого беспамятства) смыслъ мои възвратисѧ къ мнѣ» (Кн. пр. Даниила, IV, 33, в русских списках Симеоновской редакции на этом месте стоит слово лѣпота). В Симеоновской редакции слово образъ употребляется и в соответствии греч. είδος, ср.: «Сусана же бѣаше млада зѣло и добра образомъ» (τω ειδει) (Кн. пр. Даниила, XIII, 31); кирилло-мефодиевские редакции перевода еще на знают такого соответствия, и потому слово είδος переводится там как видѣние (в Симеоновской редакции — образъ, ср. Исайя LIII, 2)[137]. В древнейших славянских переводах и редакциях текста возможны и другие соответствия слову образъ. Так, τόπος в симеоновском переводе Слов Афанасия Александрийского против ариан передано словом коурѣлокъ ‘подобие’, которое использовано и на месте греч. ῾υπογράμμος ‘образец, пример’ (иногда и в сочетании с этим словом: «нъ свои образъ именемъ по томоу же коурѣлъкоу по подобию»)[138]. В одном из русских списков XVII в. Шестоднева Иоанна экзарха[139] глосса на полях к слову коурѣлокъ ‘подобие’; это специфически восточноболгарское слово не стало продуктивным в русском языке, здесь предпочитали сочетание «по образу и подобию». В переводе (по-видимому, древнерусском XI в.) апокрифа Чудо св. Георгия со змеем на месте греч. τύπος стоит слово знамение («и огради знамениемъ крестнымъ»), тогда как в более поздней сербской обработке этого перевода этому же соответствует слово образъ[140]. В древнеславянском переводе Апостола на месте εικών часто встречается слово тѣло (ср. Римл. I, 23; VIII, 29; 1 Кор. XV, 49 и др ), но в русских списках, как и в поздней редакции этого текста, на этом месте употреблено слово образъ[141]. В древнейших списках пророческих книг образъ — тѣло также выступают в качестве вариантов к греч. εικών[142], однако в русских списках обычно предпочитается первое. Все слова греческого языка, в тех или иных славянских переводах соотносимые со словом образъ, можно было бы выделить в четыре группы различной семантической значимости: а) ‘очертание, вид’ в τύπος, εικών, μορφή είδος, χαρακτήρ, σχήμα; б) ‘подобие чего-то чему-то; изображение’ в εικών, ανδριάς, χαρακτήρ, ομοίωμα; в) ‘форма воплощения; способ, образ действия’ в μορφή, είδος, χαρακτήρ, σχήμα, τρόπος; г) ‘образец, тип; прообраз’ в τύπος, χαρακτήρ, είδος, ῾υπογραμμός. Действительно, за пределы этих семантических ограничений не выходит ни одно из указанных греческих слов. Более того, и типологические сопоставления с другими развитыми литературными языками показывают, что семантические пределы для данных слов могут быть именно таковыми. Ср. в современном русском литературном языке (по данным Словаря современного русского литературного языка в 17-ти томах) значения слова образ: а) ‘вид, облик’, б) ‘изображение чего-л. в наглядном виде’, в) ‘порядок, направление чего-л., способ’; г) для четвертого значения используется слово образец — производное от образъ. Второе значение, кроме того, имеет самостоятельное (архаическое) слово образ ‘икона’. Перед нами, таким образом, предельный результат постепенного развития слова образъ в семантическом плане. Среди греческих эквивалентов имеются факультативные и притом однозначные — τρόπος, ανδριάς, ομοίωμα, ῾υπογραμμός, они-то и выступают в качестве варианта к другим, более распространенным греческим словам. Многозначность же слов χαρακτήρ и είδος практически утрачивается в конкретном контексте, и общее значение χαρακτήρ совпадает со значением г, είδος — со значениями а, б, в. Попарное «расслоение» всех прочих греческих слов указывает только на филиацию значений, близко связанных, но не тождественных в деталях: εικών = а и б, μορφή = а и в, τύπος = а и г, σχήμα — а и в. Таким образом, ‘вид, облик’ (т.е. а) — общее для всех слов данного перечня значение, и потому мы можем считать это значение основным для слова образъ. На основе этого значения и происходит сближение всех прочих греческих эквивалентов данному славянскому слову. Тем не менее это значение не является исходным для славянского слова. Все современные славянские языки как общее для них всех сохраняют только второе значение (‘изображение, подобие’). Из этого же второго значения в одних славянских языках выделяется в качестве самостоятельного значение ‘икона’ (русский), а в других — нет (западнославянские языки). Второе значение является и этимологическим: об-раз- фактически и есть из-об-ражение, чередование корней раз- — рѣз- передает впечатление «отпечатка, возникшего в результате удара, разреза, зарубки». Остальные указанные выше значения на русской и вообще на славянской почве являются вторичными: образец для изображения (г), образ воплощения (в), очертание, окончательный вид его (а) — последнее значение как самое абстрактное является, по-видимому, и самым поздним. Южнославянские языки еще более конкретизировали первое значение (а), ср. в болгарском и македонском ‘лицо, щека’, в сербскохорватском — ‘щека’. Изборник 1073 г. фактически представляет все значения слова образъ. В словарях такие значения представлены обычно более дробно, чем это сделано здесь, особенно для значения а (специально выделяются оттенки значения ‘форма (внешняя)’, ‘признак’, ‘чин, сан’ и др.)[143], однако в целом очерчивается именно такая последовательность значений а — б — в — г. Она отражает не последовательное развитие значений от одного исходного, а всего лишь семантическую систему слова в старославянском языке (в широком смысле, во всех его редакциях и текстах). Возвращаясь теперь к примерам Изборника 1073 г., мы видим в выборе значений довольно последовательную зависимость от греческого оригинала: для а — εικών, μορφή, для б — εικών, для в — τρόπος, для г — τύπος, χαρακτήρ. Семантическую филиацию слова образъ можно вскрыть только через греческий текст, потому что в любом славянском контексте это слово многозначно и, следовательно, его конкретное значение древний читатель уточнял самим контекстом. Более того, нам неизвестно, действительно ли это слово было в древнеславянском языке многозначным и не является ли наше теперешнее толкование его простым приписыванием определенного значения слову, которое в XI в. могло давать синкретичное значение ‘внешнее проявление какой-то сущности’? Затем мы обнаруживаем серию вариантов, пересекающихся с нашим словом (образъ) только в некоторых, весьма определенных значениях: для а и в — видъ, для а — подобие; и в отношении к греческому оригиналу они оказываются связанными с другими словами, использованными в том же значении. Строго говоря, это еще не противоречит выводу о рабской зависимости переводчика от оригинала: переводчик, действительно, для новых греческих слов, встреченных в тексте, каждый раз ищет других, еще не использованных славянских соответствий. Аналогичное положение и в сочинениях Иоанна экзарха Болгарского: для значений а и в он использует слово видъ, у него очень часто в значении а используется слово подобие, тогда как само слово образъ употребляется только в первых двух значениях, причем для второго только как ‘символ’, для передачи ‘изображение’ он предпочитал заимствование из греческого — икона. В ранних русских списках древнеславянских переводных текстов писцы по-прежнему предпочитают синкретичное по значению слово образъ, хотя уже памятники Симеоновской редакции отражают попытки разграничить основные значения этого слова и на лексическом уровне. Сведем относящийся сюда древний восточноболгарский материал: а) ‘облик, вид’ = видъ, озрьчь для μορφή, ῾ομοίωσις, είδος; б) ‘изображение’ = икона, тело для εικών; в) ‘образец’ = коурѣлъкъ для τύπος; г) ‘способ’ при многих греч. эквивалентах все чаще передается словом видъ. Тем не менее, как видно, для восточных славян в их литературной практике авторитетной оставалась норма, представленная в Изборнике 1073 г., с общим для всех этих значений словом образъ. Следует ближе установить, какие именно значения скрывались за этим словом в древнерусских оригинальных и переводных текстах. В переводных текстах слово образъ обычно употреблялось в значении а (см. Сказание о Софии Цареградской, Сказание о Макарии Римском, Откровение Авраама); возможно, это ограничение связано с содержанием самих текстов или с характером их бытования (все они — преимущественно апокрифы). В Чудесах Николая Мирликийского кроме а появляется уже и значение б; в обширных по составу текстах, таких как Житие Василия Нового, Хроника Георгия Амартола, Александрия, История иудейской войны, Пчела, значения а и б обычны для слова образъ (в двух последних переводах изредка выявляется и значение в). В памятниках светского характера, переведенных на Руси, это слово употребляется в первом значении, но вообще-то используется очень редко (Повесть об Акире — два раза, Девгениево деяние — один раз). Любопытны некоторые славянские глоссы к переводу Хроники Георгия Амартола: «историѩ рекше образница, историѩ рекше изъобразиѩк», иногда дан перевод греч. ιστορικοί через образници, что совпадает с другой глоссой того же памятника εικόνιον = «иконии рекше образъникъ», ζωγράφον = «иконьника рекше образъника»; ср. еще σχήμα = «скимоу рекше образъ»[144]. Таким образом, образ — это всякое изображение, овеществленное подобие оригинала, воспроизведенное тем или иным способом. В переводе Пандект Никона Черногорца слово образъ используется в первых трех значениях (если не учитывать традиционных, хорошо известных цитат из Священного писания, в которых может встретиться и последнее значение этого слова). Сопоставление русского перевода с последующей болгарской обработкой его показывает, что в болгарской редакции слово образъ встречается чаще, чем в первоначальном древнерусском переводе, причем в последнем этому слову часто соответствуют слова смотренье или вещь, ср.: «и иже кто смотрѣньѩ не разоумѣеть, недостойно...» (ГПБ. Погод. 267, л. 268, речь идет о написанных на стене изображениях, в болг. на этом месте — образа); «вѣдомо ѩко же смотрѧще бл҃го и зло расмотритсѧ» (там же, 249об., в болг.: «подобаетъ вѣдати ѩко но коемуждо образоу злое и бл҃гое судитсѧ»); «ѩко потребовахоу си книгы послѣдоующю смотрению о божьствьныхъ каноновъ» (там же, л. 158об, в болг.: образоу); «единою вещью токмо пращаѩ, отпусти ю, другою жени(сь)» (там же, л. 239, в болг.: «единѣмь тъчию образомъ»); «нъ будутъ ти вси ч҃лвѣци на бл҃говѣрье сею бо вещью» (там же, л. 292, в болг.: «симъ оубо образомь») и др. Следовательно, с одной стороны, несомненна связь слова образъ со значением ‘вид, облик’, с другой же, в своих значениях это слово пересекается со значениями слова вещь, способ действия. Возможность подобных эквивалентных связей показывает, что в древнерусском языке (все указанные памятники переведены в ХІ-ХІІ вв.) слово образъ включало в себя только первые три значения (в нашем перечне — а, б, в). В оригинальных русских текстах ХІ-ХІІ вв. иногда трудно определить, какое значение слова является для автора основным, а какое попросту заимствовано из источника, которым он пользовался. Поучения Феодосия Печерского, например, представляют собою простой комментарий к тексту Священного писания. Поэтому, встречая единственный случай употребления слова образъ в значении ‘образец’ («образъ свои в томъ подавающи намъ»), можно только заключить, что такое значение слова знакомо Феодосию; являлось ли оно также характерным для древнерусского языка, неизвестно. У Илариона, а также в Хождении Добрыни это слово представлено только в значении а, в Хождении игумена Даниила — в значениях а и б, у Кирилла Туровского — в значениях а, б, в; значение б последовательно дублируется, а впоследствии и вытесняется самостоятельным словом икона, значение а — словом подобие. В Поучении Владимира Мономаха все три употребления слова образъ расположены рядом и в непосредственном соседстве со словом лицо: (Бог создал) «образи розноличнии въ ч҃лвчскыхъ лицихъ, аще и весь миръ совокупитъ, не все въ единъ образ, но кыи же своимъ лицъ образомъ» (Лавр. лет., 79об.). Таково же соотношение этих слов в переводах Повести об Акире и Девгениева деяния: «вборзѣ приклони лице свое ко оконцу и покажи образа своего велегласного» (Девг.), «моужь... образомъ сличенъ мнѣ» (‘похож на меня’, Акир.). В этом, очевидно, и находится причина взаимодействия слов видѣнье, смотрѣнье со словом образъ, представленного в переводе Пандект (см. выше). Основное (и единственное?) значение этого слова в древнерусском ‘вид, облик’; определенно достоверно, что значение ‘образец’ древнерусскому языку не было свойственно. В этом смысле показательны данные ПВЛ. На 20 случаев употребления слова образъ (в значениях а, б, в) приходится единственное его использование в значении г: «старѣишимъ к меншимъ любовь и наказанье, и образъ бывати собою въздержаньем и бдѣньем» (Лавр. лет., 62) — и как раз связано с текстом Слова на преставление Феодосия Печерского, перенесенного летописцем в ПВЛ. Еще раз в том же значении слово образъ зарегистрировано в Чтении о Борисе и Глебе, написанном монахом Киево-Печерского монастыря Нестором около 1115 г. (по списку XIV в.). В самом начале Чтения, тем, где ясно видна зависимость от греческих образцов житийного текста, находим следующее: «Господоу же нашемоу Исоусу ѧко же преже ркохомъ рожешусѧ отъ свѧтыѧ дѣвицѣ и хрьщешемоусѧ отъ Ивана, намъ образъ давъ, да и мы крестимсѧ во имѧ его». Во всех случаях значение ‘образец’ для слова образъ отражается в книжной традиции Киево-Печерского монастыря в XI в., в котором влияние восточноболгарской традиции было, видимо, сильнее и последовательнее всего. Любопытно также, что у автора Сказания о Борисе и Глебе только однажды отмечено это слово: «образъ бо бѧше оунылыи его възоръ». Много лет спустя, в тексте, посвященном тем же святым, Нестор использует это слово один раз и в значении г (как цитату), в значении а употребляет только слово подобие, для значения б одинаково использует слова образъ и икона, только в значении в семь раз активно и последовательно пользуется словом образъ («кымъ образомъ» и т. д.), поскольку никаких других эквивалентов этому сочетанию в древнерусском языке не оказалось. Приведенные в статье сопоставления показывают, что семантическая филиация слова образъ и его возможное лексическое варьирование в целом соответствовали той традиции, которая стояла и за Изборником 1073 г. Отличие заключалось в том, что значение г не привилось в русском языке (хотя и сохранилось в производном образец), значение б на основе последовательного и широко известного дублирования словом икона выделилось в самостоятельную лексическую единицу (обычно во мн. числе: образа́ ‘иконы’), а значение в сузилось до пределов идиомы (в сочетаниях типа таким образом) — и все эти значения слова связаны с последовательным развитием литературного, а не разговорного русского языка. Семантическая филиация привела к лексическому разложению, к отталкиванию основных значений слова друг от друга, к попыткам каждое из этих значений связать с самостоятельной словарной единицей, «создать самостоятельное слово» — но всегда только в литературном контексте. И в данном случае воздействие со стороны восточноболгарских текстов как образцовых несомненно, а особое значение Изборника 1073 г. заключается в том, что этот сборник переводных текстов — первый исторически известный свод литературной нормы.
УМНОЕ СЛОВО В «СЛОВЕ» ИЛАРИОНА КИЕВСКОГО
Слово о законе и благодати — настолько самобытный памятник древнерусской культуры, что даже историки обычно отделываются самыми общими словами, указывая политическое его значение для рождающейся государственности Древней Руси. Между тем из самого Слова можно извлечь множество сведений о характере и уровне древнерусской культуры первой половины XI в. И тогда окажется, что взрывчатая сила этого небольшого текста настолько значительна, что способна смести иные скороспелые теории об «отсталости» наших предков. Слово снабжает нас сведениями не только о языке — литературном языке, который, являясь для средневековья ключевым элементом культуры, не охватывает все же всей культуры. Но так уж получилось, что только через язык, который мы понимаем и сегодня, можно осознать (как бы изнутри, из того времени) тревоги и боль древнерусского интеллигента. Попробуем это сделать, начиная с самых общих замечаний. Вообще, Слово — памятник поистине «бездонный», его открывать и открывать, как старинную икону открывают, покрытую патиной времени, которое приглушило краски и размыло рисунок. Риторические приемы Слова заимствованы из византийских образцов. Сегодня ясно, что все заимствуемое извне в средние века неизбежно накладывалось на местные культурные традиции, опираясь на общие для обеих культур черты. В XI в. это была общность символов и сходство в языковых формах. Заимствованное активно усваивалось и перерабатывалось, становясь достоянием следующих поколений, которые уже и не задавались вопросом о том, «свое» или «чужое» преобладает в образцах их искусства. Идея равенства всех людей и народов как раз и стала основанием для всех последующих влияний, влияний взаимных, в развитии восточноевропейской культуры. Национальные традиции подчинялись религиозным нормам — положение, вполне естественное в то время; становясь безразличным к узкоместным особенностям культурной жизни, новый взгляд на всечеловеческое сотрудничество помогал заимствовать необходимые элементы чужой культуры, развивая собственную. Можно различить оттенки в кажущихся за давностью лет однозначными старинных словах и выражениях. Литературный текст средневековья не был собственно авторским. Чем больше он повторял традиционные образцы, тем выше ценился, поскольку тем самым и он поднимался на уровень образцового, становился эталоном для других писателей. Слово Илариона на несколько веков стало таким образцом, и образцом высоким. Благодаря ему и родственным ему текстам древнерусский литературный язык долго сберегал удачно найденные Иларионом языковые формы (хотя они уже и устарели в разговорной речи после XI в.). Чтобы долго — веками — понимать этот текст-образец, следовало сохранять традицию языка, на котором текст составлен. Но этим не ограничивается значение Слова. Иларион создает традицию, столь важную для развития средневековой литературы: воплощать какой-то важный — социально или идеологически — признак в определенной исторической или мифической личности. В Слове государственность русская воплощена во Владимире, и, может быть, именно оттого все русские былины до сих пор воспевают Владимира Красно Солнышко как идеального правителя Русской земли. Впоследствии и с сыновьями Владимира (т.е. тоже при жизни Илариона) стали связывать важные для общества социальные признаки: верность долгу и старшинству, проявленные Борисом и Глебом, предательство и злодеяния Святополка Окаянного (поминаемого «яко второго Каина»). В битве на Калке, на Куликовом поле и позже видели русские воины в облаках поддерживающие их десницы Бориса и Глеба; презирали изменников и отступников, называя их именем Святополка. Образцами становились многие выражения, употребленные в Слове.«Похвалимъ же и мы по силе нашеи малыими похвалами великаа дивнаа сътворъшааго нашего учителя и наставника, великааго кагана нашеа земли Володимера, вънука стараго Игоря, сына же славнааго Святослава... И весь клиросъ украсиша и въ лѣпоту одѣша святыа церкви... и всякою красотою украси...»Внимательный читатель сразу же замечает какую-то схожесть с начальными строфами Слова о полку Игореве. Но и церковные писатели зависели от Слова Илариона. Выдающийся автор XII в. Кирилл Туровский почти теми же словами начинает свою славу в четвертом своем Слове, Епифаний Премудрый в самом конце XIV в. возвращается к стилю Илариона, почти буквально повторяя их в описании построек, совершенных в его время. Первый из наших писателей Иларион понял большие возможности, которые таились в эпитете, — и широко вводит в свое Слово прилагательные. Они еще противопоставлены народным формам выделения признака (красотою украси, въ лепоту одеша, но великааго кагана, стараго Игоря, славнааго Святослава), но уже восприняты и впоследствии стали вполне русским средством выделения признака — постоянным эпитетом народной поэзии. Совершенно народным средством поэтики является повторение близкозначных слов: великаа и дивнаа, учителя и наставника, а потом и совершенно разговорные типа радость и веселье. Словом произведение Илариона назвали позднейшие читатели, на самом же деле «повесть си есть», а повесть обычно поведааху, предпочитая всему остальному пророчьскаа проповеданиа (слова самого Илариона). Это ‘проповедь-сообщение, предназначенное для сведения’: таковы значения слова повесть в то время. «Да разумеете иже чтять», — сказано в начале Слова. Оно не только сказано, его следует истолковать, а символы его речений использовать как образец. Трудный вопрос — решить: влияние византийских риторик или народной поэзии преобладает в Слове Илариона? Принцип создания художественного текста совпадает в обоих случаях. Это можно видеть при сравнении с сохранившимися былинами. В былине событие описывается перечислением составляющих его действий, аналитически дробно, мелкими штрихами. В результате действие как бы происходит на глазах читателя. Вот Добрыня седлает коня — и последовательность операций, с этим связанных, позволяет нам увидеть, как это делает герой былины. Но то же самое и в образцовых произведениях Древней Руси. Сравним описание детства и юности двух исторических лиц — Владимира Святославича (у Илариона) и Феодосия Печерского (у Никона — по времени чуть позже):
«Сий славный от славныихъ рожься благороденъ от благородьныихъ каганъ наш Владимиръ, и възрастѣ и укрепевъ от детескыа младости, паче же възмужавь крепостию и силою съвершаяся, мужьствомъ же и съмысломъ предсъпевая и единодержецъ бывъ земли своеи...»
«Отроча... растыи убо телъмь и душею влекомъ на любъвъ божию... къ симъ же и дати ся на учение божественыхъ книгъ единому от учитель, якоже и створи, и въскорѣ извыче вся граматикия, и якоже всемъ чюдитися о премудрости и разуме детища...»Во втором случае речь идет о книжном научении. Труды (в старинном значении слова — как изнеможение), пост и молчание. У Владимира наука светская, основой ее является физическая и нравственная сила. В центре описания подбором слов и последовательностью выражения мысли Иларион подчеркивает государственные задачи, которые станут перед будущим великим князем. Возможно, в этом проявляется открытая полемика Илариона с содержанием традиционных житий. Выделенные слова показывают последовательные этапы возмужания князя: укрепевъ — т.е. утвердясь как лицо (окреп в детстве — «выжил»), възмужавъ крепостию и силою в юности — т.е. став физически сильным, Владимир созрел как личность (предсъпевая) в мужестве своем. Прямые и переносные значения слов сплетены в тугой узел смысла всего текста, а значения глаголов только подчеркивают степени «созревания»: укрепевъ — съвершаяся — предсъпевая... Слово Илариона, как известно, стремится опровергнуть противоположные христианству ценности. Полемику со своими оппонентами он ведет умелым подбором образов, образцов и речений. Антииудейская направленность Слова — самая заметная его особенность. Только что разгромленной державе хазар Иларион противопоставляет не только веру (христианство — иудаизму), но и множество других, незаметных для современного читателя, тонких оппозиций. Вот термин каганъ. Он пришел как раз «из хазар», обозначает высшее государственное и одновременно церковное лицо — самодержца. Четыре раза Иларион употребляет этот титул в отношении к Владимиру и однажды — в записи — к сыну его Ярославу Мудрому (каганъ нашъ, каганъ нашеа земли) — и незаметно заменяет его калькой с греч. αυτοκράτορ ‘аутократор’: единодержецъ бывъ земли своей. Никто более в Древней Руси не именуется так — самодержцем земли русской. Исторические и государственные интересы середины XI в. требовали перенесения титула на великого князя, и в образцовом тексте это было исполнено. Очень тонко дается обоснование канонизации Владимира, которое так и не было поддержано греческой церковью — именно за то, за что Иларион превозносит князя. Христианизация Руси воплощает кристаллизацию национального самосознания восточнославянских племен, и как раз это не нравится византийским иерархам. «В виду осторожной прикровенности основных мыслей» Слова, как заметил историк М. Д. Приселков, ненавязчиво, но настойчиво Иларион проводит еще одну мысль, важную для его современников. Сравнивая сыновей Сарры и Агари — свободного и раба, о Владимире Иларион говорит: «сынъ, а не рабъ», ибо раб — не сын, не наследник. Это также кажется странным, поскольку летопись указывает, что Владимир был именно робичичь, т.е. сын рабыни, наложницы Святослава. Иларион не принял этой легенды, как ложной, и, произнося свою речь перед современниками, помнившими обстоятельства дела, намеренно подчеркнул это, отмечая благородное происхождение князя. Какая сила внушения нужна была автору, чтобы отважиться на подобное обобщение! Текст составлен умело и со знанием дела. Нужно прекрасно владеть текстом Священного писания, чтобы столь ясно и последовательно выдержать основное направление мысли: победа Нового завета над прежним, Ветхим. Иларион знает все эти тексты, от книг Бытия, которыми открывается Ветхий завет, и до Апокалипсиса, которым завершается Новый завет. В такой же последовательности представлены они (цитаты из них) и у Илариона. Эпически строгий рассказ о Сарре и Агари, об их сыновьях начинает Слово, но во второй части он сменяется сжатым пересказом основных сюжетов Евангелия — в простых предложениях, без описательных моментов, без речей героев. Илариону важны лишь события, о которых речь, и тут уже нет символики, которая так заметна в рассказе о Сарре и Агари. Перед нами не поверхностное цитирование священных текстов, свойственное начетчику, а сознательная обработка этих текстов, призванных сжато представить общую картину истории духа, человечности и правды, пришедших на смену жестокому языческому закону. На протяжении Слова постоянно чередуются, как бы сражаясь в единоборстве, полемически сталкиваясь, а на самом деле одинаково обосновывая мысль автора, тексты равнозначного содержания, взятые попеременно из Ветхого и Нового заветов. Пророчества Исайи (самый любимый в Древней Руси пророк) сменяются пророчествами Апокалипсиса, а молитвенные славословия Псалтыри — столь же возвышенными словами Евангелия. Спор (или «пря», прения) происходит на наших глазах, и мы принимаем в нем участие как слушатели (читатели). Иногда Иларион прибегает к помощи известных отцов церкви, заимствуя у них аргументы — но никогда не повторяя их ни по смыслу, ни дословно. Источники Илариона во многом остаются неизвестными. Очень часто идеи и образы Ветхого завета он заимствует не из книг Писания (не все еще были переведены на славянский язык), а из выдержек, представленных в Палее или в Паремейнике. Цитируя Ветхий завет, он почти точно передает текст, но очень свободен в изложении Нового завета. Он цитирует его по памяти, поскольку хорошо знает (эта традиция воспроизводить важнейшие тексты по памяти сохранится долго, благодаря ей мы можем судить об изменении языка и сознания наших предков, благодаря этому же многие изречения из Евангелия стали русскими пословицами). Иногда исследователи в сомнении останавливаются перед некоторыми изречениями, приведенными Иларионом, и отмечают: то или иное место неизвестно каноническим текстам, тот или иной образ пришел из апокрифов. Неразборчивость древнерусского книжника в отношении к рекомендованной литературе объясняется просто и бытует долго. Еще в XII в. пользовались апокрифами как достойными упоминания книгами. Не избранное, признанное «достойным» почитания, интересует древнерусского писателя. Ему не нужны цитаты или справочники утвержденных текстов, потому что мысли у него свои. Однако требование опираться на традиционный текст заставляет его подыскивать нужные иллюстрации, находя их там, где церковь видит один соблазн. Автора влечет к себе образ, идея, смысл, который, являясь вполне традиционным, может встретиться и в запретном апокрифе. Так из сплетения устойчивых формул и образов, почерпнутых из различных источников, рождается единая по замыслу и стилю художественная форма Слова. Ее надлежит определить в основных ее особенностях. Уже в те давние времена смысл образа требовалось понимать — поскольку автор предлагает символическое истолкование событий; сегодня подобное истолкование недостаточно, истолкования требует уже и сам язык, изменившийся значительно. Принято считать, что Слово Илариона составлено высоким стилем средневековой прозы, что язык его — книжный, «церковнославянский». Обманчивость высокого стиля создается исторической перспективой. То, что ныне архаизм, не всегда понятный, признак высокого стиля, все эти зело, токмо, иже и т.п. — вполне разговорные формы древнерусского языка. Слово Илариона — ораторское произведение, оно звучало, поэтому столь важны были особенности его произношения в древнерусских формах, а не в заимствованных формах книжного языка. Достаточно сложное по замыслу, и в форме и в значении своем Слово должно было восприниматься «с первого предъявления». Глубокие мысли не следовало прятать за изощренной формой. Разные приемы звукописи можно найти у Илариона, обычно это аллитерации — чередование близких по звучанию согласных. У него много синтаксических и интонационных совпадений, присущих произведениям ораторского искусства, — что тоже способ обратить внимание слушателя на основные места Слова. Древность текста подтверждается и тем, что в нем нет столь широко разработанной впоследствии системы словообразовательных гнезд — большого числа слов, произведенных от общего корня с помощью различных суффиксов. Понятие о мире еще не рассыпалось в дробности оттенков, уменьшительно-ласкательных, уничижительных, уточняющих и всяких иных, воспринимается этот мир крупно, четко, резко, хотя и не однозначно. Но вот что поразительно: в Слове нет никаких искусственно созданных поэтических образов, литературных тропов, изысканно-надуманных метафор или эпитетов, которые мельчили бы сквозной образ Слова (сопоставление старого «закона» и новой человеческой «благодати»). В Слове нет не только художественных тропов, сложных и суффиксальных слов — столкновения разностильных слов, столь характерного для современной литературы, здесь также нет. Вот хотя бы вспомогательная лексика вроде часто встречающихся в Слове зело, токмо и т.п. — и эти слова стилистически однозначны, не сталкиваются с возможными в литературе того времени вельми, точию и т.д., которые значили то же самое, но чаще употреблялись как раз в переводных текстах, в книжной речи. Иларион последовательно избегает вариантов, способных выразить какие-то оттенки значения. Положение Илариона трудное, поскольку в его распоряжении фактически нет еще синонимов. В Слове, например, встречается определение земьной — но в цитате из Апостола, земьскый, но в цитате из Псалтыри, сам же Иларион семь раз употребляет наиболее полную, фонетически выразительную форму земленый. Определение земленый и противопоставлено слову небесный (т.е. по значению равно слову земной), и использовано при обозначении земных владык, мудрецов и т.п. — т.е. там, где книжные тексты обычно употребляют слово земьскый. Все, что является земным, — на земле. Земленый. От плотьскы похоти или куща плътяная (образ, по традиции обозначающий утробу Богородицы) — из цитат, сам Иларион использует в нужном месте только определение плотьный (человеци плотьнии). Обозначая собрание людей — съвѣтъ использует только в цитатах, съборъ — и в цитатах и в авторской речи, но в устойчивом сочетании термине Никейский съборъ, когда же понадобилось собственное выражение, Иларион использует народное слово съмѣсъ (т.е. смешение, соединение). Эту особенность Слова подчеркнем, ведь отсутствие синонимов определялось в то время не тем, что однозначных слов нет; они имеются, и мы убедились в этом. Не определение выражает еще основной смысл речи, частности и оттенки не в центре внимания автора, и оттого расцвечивает он свою речь расхожими выражениями и цитатами, со свойственными каждой из них словами. Если древнерусское произведение сравнивать с современным романом, сразу видно назначение цитат: это не просто аргумент в прениях, сплетение некогда сказанных выражений создает многоголосие текста, соответствуя речам героев в современном романе. Эту форму «самоубеждения» включением по видимости чужих речей использовал широко Достоевский. У каждого героя — своя речь, у каждого аргумента — свой набор символов-слов. В соответствии с установкой средневековой литературы основнымсловом речи является имя (имя существительное) — в нем и дается сокровенный символ. На одном примере увидим, что Иларион действительно находится во власти традиционных формул речи. Впоследствии могли стать синонимами слова жизнь, житье, животъ. В Слове Илариона два первых употреблены только в устойчивых сочетаниях: «пучину житиа преплути» и «жизнь вечьная» (т.е. жизнь в раю). Исходная смысловая нерасчлененность слова животъ представлена и в цитатах, и в выражениях самого Илариона. Это разговорное слово Древней Руси, но оно же было и в самом древнем переводе Писания, выполненном Кириллом и Мефодием. Одновременно и разговорное, и литературно-книжное, хотя и представленное различным набором значений. Потому Иларион и говорит без смущения «въ животе своемъ» (т.е. при своей жизни), таково единственное (из трех) слово его бытовой речи. Слиянность слова с традиционной для него формулой — особенность всех древних текстов, Иларион в этом смысле является типичным писателем своего времени. Он прекрасно владеет текстом, тогда как отдельное слово с его конкретным значением находится вне его внимания. Да и термин «слово» обозначает цельность речи, а не отдельную лексему. Все зависит от текста, из которого пришла формула, хотя из многих вариантов сам Иларион всегда предпочитает одно-единственное слово, слово родного языка: не плъть, а тело, не велий, а великъ, не знати, а только вѣдати. Впечатление такое, словно Иларион намеренно отстраняет стилистические тонкости в угоду смыслу речи. Выражение мысли однозначно, хотя на самом деле оно исполняет несколько важных функций. Оратор должен быть понят современниками и потому берет привычные слова разговорной речи — плотный, земленой, съмѣсь, тѣло, великъ, вѣдати и все остальные. Но с помощью этих привычных слов, соотнося их с общей своей мыслью, Иларион незаметно вводит в сознание сограждан новые тексты, с необыкновенными словами или непривычными значениями слов. Перед ним и задача стоит: дать «новым людям» (новопосвященным христианам) новые тексты с заключенными в них символами веры. Словесная плоть родного языка еще не включила в себя подобные архаизмы и заимствования, она противится тому, чтобы новые формы языка отторгли от каждодневной речи продуктивную ее часть. Подобно тому как языческое миросозерцание (легко прослеживаемое и в Слове Илариона) еще противится формальным заветам христианства, а национальное (родовое) чувство — агрессивному напору государственности, точно так же и неопределенность языкового выражения мысли отражает смятенность сознания, пробужденного к «новой жизни», но еще не охваченного ею. Но что безусловно и в тексте, составленном Иларионом, чему он непроизвольно подчиняется — это диктат славянской речи-мысли, отлитой предками в родном слове. Координирующие сознание словесные пары семантически, может быть, архаичны, но достаточно четки, еще живут. Сравним его антонимы: ветхые противопоставлены новым, а старые — унымъ, т.е. не так, как в современном нам языке (старые — новые). Противопоставление десница — шуйца заметно у Илариона только в цитатах — переводах с греческого, тогда как сам он предлагает живое в его время противопоставление левица — шюйца. Несмотря на множество употреблений слова слава (и славити), эти речения относятся к Богу, и только к нему (наше: слава Богу!), а хвала (и похвала) — к князю; князь может быть славным, но это всегда лишь определение, которое в качестве награды дается тем же божеством. Слово — та же слава, но слава — выше. Знаменитая воинская формула имеет еще древнюю последовательность слов: слава и честь (сверху вниз, от высшего к низшему) и не относится еще к дружине. Как и всякий язычник, Иларион разграничивает в речи указание на род и пол, а пол отграничивает от возраста героев, и самостоятельными словами обязательно такое различие подчеркивает (например, юношѣ противопоставлены девам, а старци, в свою очередь, — юнотам). Равнодушный к стилистическим различиям, Иларион сугубо внимателен к выражению различий реальных. Не только в словах, но и в произношении, в грамматических формах Иларион пользуется разговорными вариантами речи, даже имя князя дается в произношении не просто русском, но в самом древнем русском: Володимерь. Впрочем, такие особенности Слова лежат на поверхности текста, их легко заметить. Гораздо сложнее изучить соотнесение древних слов друг с другом так, как свойственно это современной мысли: не по каждому сочетанию слов отдельно, а в общей их принадлежности одной парадигме, в системе. Тогда оказывается, что в разбросанных по тексту формулах-клише содержится много незаметной, на первый взгляд, информации об авторском замысле, намеренно закодированные сведения о том, что явным образом сегодня уже не понятно. Однако тут, в отношении к имени, мы неожиданно сталкиваемся с новой странностью Слова Илариона. Многие термины, впоследствии связанные как раз с творением этого автора, самому Илариону еще не понятны, он весь во власти славянской традиции устного слова, для которой образ важнее однозначного термина. В народной поэтике распространены, например, попарные соединения однозначных слов: радость-веселье, стыд-срам, честь- слава. Радость, стыд, честь — выражение личного переживания человека, то, что выделяет его из числа подобных. Наоборот, слова, выражающие веселье, срам, славу, — тоже переживание, но уже не личное, а совместное, в коллективе; действие или слово, которыми одобряется или порицается (или просто оценивается в ряду других) соответствующее переживание. Естественно, что в поисках общего слова, способного вместить в себя все оттенки понятия, появились термины типа радость-веселье или стыд-срам; в конкретности их смыслов рождается отвлеченность термина. Известный толчок подобным соединениям слов в целях выделения наиболее отвлеченного смысла (стыд-срам значит ‘совесть’, радость-веселье значит ‘праздник’) дали некоторые переводные тексты, особенно псалтырные. Правда, в Псалтыри такие сочетания воспринимаются как стилистические, а не логические соединения. «Гоститва и пиръ великъ», например, для славянина одно и то же, никакого отвлеченного значения из соединения слов не возникает. У Илариона, конечно же, нет термина отвлеченного смысла. Ему важен не термин в конечности понятия, а образ. Образ рождается в перечислении признаков, т.е. путем постоянного увеличения глаголов и прилагательных. Не радость-веселье или честь- слава, а «чтуть и славять», «радуйся и веселися», «хвалимъ и прославляемъ», «крепокъ и силенъ» и т.п. На фоне таких динамичных по представлению качеств сочетаний появляются, все еще не составляя отвлеченного термина, некоторые сочетания существительных: мужьство и храборъство, победы и крепости, учитель и наставник, распрѣ и которы, солъ и вестникъ, скрижаль и законъ, благодать и истина. И такие сочетания столь же неопределенны по общему для них смыслу. Они скорее продолжают традицию поэтическую, чем служат для выражения новых понятий, этических и эстетических. Столь распространенное позже сочетание чюдо-диво у Илариона размыто несоединимостью по грамматическим признакам: дивно чюдо. Таким образом, принцип сложения известен, но пользуются им в XI в. неумело. Несмотря на горячее желание точно и однозначно передать свою мысль, Иларион не стремится еще возвысить свою речь до максимально отвлеченного уровня. Его мысль конкретна, выражена лаконично, он пользуется простым словом обычной речи без риторических прикрас. Однако, действительно, дальнейший путь развития смысловых возможностей слова указан верно. Быть может, неосознанно, приблизительно, случайно употребив сочетание солъ и вестникъ, Иларион не связывает сочетание близкозначных слов ни со стилем, ни с различием в значениях. Каждое из этих слов, в сущности, имеет собственное значение: посланный — это одно, информатор — совершенно иное. Соединяясь, два слова не дают никакого «приращения смысла», поскольку механическая их сумма не порождает нового качества (как в выражении стыд-срам, например). Однако кое-что оказывается и полезным. Соединением подобных слов Иларион рисует последовательность действий, обозначенных даже в инертном имени существительном: посланный — сообщил, сначала отправился, затем — сообщил и т.п. А теперь оглядим все представленные уже особенности языка в творении Илариона, не пускаясь пока в пословную их расшифровку. Произносительные формы «повести» — типично древнерусские, они приближены к разговорной речи XI в. Смысловые отношения слов также вынесены из живой речи славян всюду, где Иларион высказывается «от себя», т.е. не цитирует, а создает свой текст. Иларион намеренно игнорирует стилистические возможности речи, не пользуясь ими при создании «художественных образов». Даже всевозможными в его время синонимами он пренебрегает в авторской речи. Язык (и стиль) цитат существует параллельно с речью самого Илариона как свидетельство авторитетности соответствующим образом выраженной мысли. Слово и мысль едины, и данная мысль не может выражаться иначе. Отсутствует игра словами, а переносные значения слов как бы запрятаны в свои особые сочетания; как улитка в ракушке, слово невозможно без своего контекста. Сочетания слов тоже отражают традиции устной речи, которая, не имея слов с абстрактным значением, вынуждена пользоваться простейшим синтаксическим средством — соединять их попарно (слава и честь). Что же заимствованного, чужого, непривычного восточному славянину XI в. представлено в творении Илариона? Мы вглядываемся в самые истоки древнерусского литературного языка, он только еще складывается, с неясной своей судьбой. Литературный язык формируется подобно плодовому дереву: подвой и привой, и роль привоя исполняет переведенная с греческого языка цитата. С греческого — да, но переведена она на славянский язык. Источники будущего литературного языка соединяются пока еще чисто механически, неловко, временами просто грубо, но именно в грубости своей и цельно, и как-то возвышенно. Именно так поступали в XVIII в. Ломоносов и Державин, а в наше время — Маяковский. Столкновение культур стояло за формами выражения их в слове. В первую очередь требовалось совместить смысловые противоположности этих культур, развить новое для славян понимание мира и человека в этом мире. Тут не до стиля, не до формы. Даже в тех крайних случаях, когда влияние переводной цитаты оказывалось значительным, Иларион старался таким образом переставить слова в сочетании, чтобы приблизить выражение к живой речи. Очень ярок пример с определением в форме прилагательного или род. падежа имени существительного. Переведенное с греческого языка выражение имеет традиционную форму: «конець земля вся», т.е. конец всей земли; где возможно, Иларион заменяет это сочетание свойственным древнерусскому языку сочетанием «на все края земленыа». Он поступал таким образом довольно последовательно: «поклонники истинѣ» (в дат. падеже) становится у него «истиннии поклоници», «езеро закона» — «законъное езеро», «свеща закона» — «при свещти законней» и т.д. Конечно, в приведенных из книжных текстов цитатах он мог сохранить и кальки с греческих форм, т.е. использовать сочетание с именем существительным в род. или дат. падеже (падеже «принадлежности»), но всегда это делает, как бы давая слово другому человеку, авторитету церкви, который и высказывается возвышенным образом. «Источники воды», «светъ разума», «въ путех погыбели», «на путь заповедии» и др. могут звучать иначе: «водные источники», «разумный светъ», «погибельные пути», «заповедный путь». В современном языке встречаются и те и другие, но начальным пунктом их расхождения следует признать древнерусские тексты XI в. Творчество писателей помогало развести возникавшие грамматические варианты, с каждым из них связать конкретно одно какое-то значение. «Путь заповедей» и «заповедный путь» все-таки различаются, и мы прекрасно осознаем такое различие сегодня. Переделывая устойчивые сочетания книжных текстов по формам русской речи, Иларион частично и усложняет смысл оборота: возникает своеобразная двузначность, некоторая размытость, неопределенность выражения. Ведь «истинный поклонник» — не только поклоняющийся истине, но и реальный, действительный поклонник. То же и с другими определениями. Законный, земной и остальные — все они становятся многозначными, насыщаются прямыми и переносными значениями, так что, благодаря их связи с устойчивыми оборотами речи, такие определения впоследствии оказались важными при создании оригинальных художественных текстов. Конечно, для Илариона важнее всего было при изложении мысли «перевести» книжный оборот на доступную его слушателям языковую форму. Следовательно, формально язык его Слова древнерусский, разговорный, народный, но по содержанию этот язык уже и богаче разговорного, значительней его. Он становится важной вехой в развитии литературного языка. Формы прилагательных к тому времени еще не совсем сложились как самостоятельная часть речи, нужно было подтолкнуть возникшие грамматические формы и определить дальнейшую их функцию — определения, обозначающего качество (в отличие, скажем, от кратких прилагательных, которые были издавна и обычно употреблялись как сказуемое; ср. дом бел). Последовательное насыщение новых форм значением, отчасти заимствованным в авторитетных текстах, способствовало образованию статуса этих форм и надолго обусловило книжный их характер (разговорная речь при указании на признак предпочитала по-прежнему форму глагола). «Влить новое вино в старые мехи», к чему так стремился Иларион, значило, между прочим, и насытить неустоявшиеся еще грамматические формы содержательным смыслом, возвысив тем самым их до самостоятельной категории слов. Эту задачу и начал исполнять Иларион, первый из древнерусских художников слова приступивший к созданию литературной традиции национального языка. Кое-что из его начинаний впоследствии было усовершенствовано, отчасти изменилось, но общие принципы наложения воспринятых с переводами греческих текстов на формы славянского языка остались надолго — до XVII в. В результате многократного переписывания текст Слова искажался. Каждая эпоха откладывала на средневековом произведении своего рода пыль — пыльцу своего времени. Не избежал этого и наш памятник. Может быть, поэтому в тексте Слова так много неясного, неопределенного. Иногда это просто путаница, возникшая от незнания нами многих обстоятельств дела. Ведь средневековое произведение важно не само по себе и не языком своим, но общим отношением к ряду ему подобных («жанру» и к тем реальным обстоятельствам жизни, которые вызвали этот памятник). Важны условия, при каких он создавался, причины его создания, даже тот ритуал, который сопровождал чтение уже готового текста. У нас имеется по крайней мере один источник, способный помочь нам заглянуть поглубже в пугающую глубину значений Слова, понять его, — язык самого Слова. В самом важном противопоставлении Слова — Ветхого завета Новой благодати содержится основной его смысл. Антитеза противопоставляет символы, что и определяет выбор художественных средств, с помощью которых можно было образно и ярко показать различие между Ветхим заветом и Новым заветом. Вот, кстати, и первая неясность. Ведь завет и закон, по-видимому, одно и то же — это ‘устав’, установление, которому обязаны следовать все. Запрет. Приставка за- — и вот граница обозначена, ее не преступишь, не став преступником. Но завет — изречен (Божьим словом), а закон — установлен (волей людей). В этом существенное различие, которое возвышает завет пред лицом закона. Нужно вернуться к завету, к заветной жизни, к тому, что столь же явно было бы освящено словом Бога, — тут и возникает желание благодати. Однако Иларион говорит не о благодати, он говорит о благодѣти. Речь у него идет не о «даре», предназначенном избранным, а о чем-то ином. И то, о чем говорит Иларион, гораздо важнее благодати. Некоторое представление о благодѣти дает нам известное место из слова о полку Игореве: «дружину твою, княже, птицъ крилы приоде». Корень в словах тот же, что и в родственных им: одети, одеяти, потом одежда, одежа, но также и дѣти — касаться, тронуть. Крылья птиц прикрывают дружину, но не только: они украшают ее, возвышают — осеняют. Та же, но иначе выраженная мысль о касании блага, осенения благом, что и в искусственном слове благо-дѣть. В древности имена типа дѣть, жить, вѣсть и подобные образовывались для передачи самых отвлеченных понятий с помощью неопределенного по смыслу распространителя. Это было самое простое средство, впоследствии растраченное языком в попытках составить более дробные, специальные именования для возникавших в сознании отвлеченных признаков. Разлитое в мире благо касается, т.е. осеняет каждого, кто несет в себе добродетель (вот слово, в котором сохранилось понятие о «дети»: добро-дѣтель). Одна буква (а в произношении — звук: не а, а ѣ) меняет отношение к идеологически важному понятию средневековой этики. Божество осеняет — да, но дарами оно не бросается. И благодать, и благодѣть одинаково переводят греческое слово (χάρις). По смыслу это и красота, и прелесть, и слава, благосклонность, расположение, милость; благодеяние, одолжение, услуга; это и радость наслаждения, даже блаженство, но также почитание и уважение, кроме того — благодарность, признательность и только после всего награда или вознаграждение. Как благодать слово известно лишь по Евангелию и Апостолу, но зато в этих книгах встречается оно часто. Благодать — слово самого общего значения, которое, по существу, включает в себя все предыдущие значения, известные по классической греческой литературе. Абстрактная благодать заместила все проявления высших благ одним родовым и непременно отвлеченным по смыслу. Итак, Иларион говорит о благодтѣти, которая осеняет русскую землю благодаря деяниям русских князей. Но этого мало. В Слове имеются и другие особенности, которые показывают неверное его прочтение нашими современниками. Закону противопоставлена не одна благодѣтъ, а — благодѣть и истина. Самодостаточному и замкнутому в своей завершенности закону противопоставлены диалектически сплетенные и представленные единым термином благодѣть и истина: истина — благодатна, благодѣть — истинна. В современном нашем сознании понятие о «правде-истине» сопряжено в нечто цельное. Иларион же понимает их в духе своего времени. Правда — внешняя форма проявления истины, истина связана с Богом (она — благодѣть), тогда как правда, противопоставленная кривде, употребляется в отношении к человеку (у Илариона — в отношении к Владимиру). Постоянное чередование парных сочетаний — тоже важная особенность стилистики Слова. Она в духе раннего средневековья, с тех времен осталась и в народной поэтике: стыд-срам, правда-истина, радость-веселье. В самом начале Слова парные сочетания еще обычны, они постоянно множатся на фоне общего противопоставления символов, олицетворенных в Сарре и Агари, законе и благодати. Интонация повествования задана, композиция строится по этой сквозной антитезе. Остается выразить ее конкретными словами. Но с того места, где начинается похвала Владимиру, парные сочетания вступают в чередования с троичным повторениями равнозначных слов; ср.: «и землю свою пасущу правдою, мужьством же и съмыслом». Внешним оправданием, объяснением такой перемене в правилах сочетаемости близкозначных слов является указание на необходимость «славитися святеи Троици». Народные по происхождению парные сочетания типа нищета и нагота, гладом и жажею, дивно и чюдно, муки и страсти сплетаются в причудливые триады, которые усложняют и украшают стиль Илариона. Рассмотрим некоторые слова и скрытые за ними понятия, постоянно помня, что Иларион стоит в начале традиции древнерусской литературности; он пользуется богатым опытом византийской литературы, но пишет свое произведение на родном языке. Ему приходится вслушиваться в дыхание каждого русского слова, чтобы точно и красочно описать тему. На первом месте — слова земля и страна. «И вся земля поклонится...», «яко царь всеи земли» и др. — это метонимия, понятная древнерусскому слушателю: люди всех стран и земель объединяются в христианстве. Метонимия традиционна, она вынесена из передовых книг, но временами Иларион считает нужным истолковать даже такие простейшие выражения. В Похвале Владимиру он разъясняет традиционный образ, рядом указывая и «землю», и населяющих ее людей: «помолимся о земли своей и о людяхъ», «къ живущимъ на земли человекомъ». В самостоятельных словах земля и люди предстают как равноценные, и Иларион последователен в таких обозначениях. Говоря о Киеве — уточняет: «предалъ люди твоя и градъ» — такое впечатление, будто в народной речи метонимия отсутствует, и совмещение переведенных фраз и привычных разговорных выражений помогает с помощью одного объяснить другое — новое. Постепенно метонимия распространяется и на другие традиционные сочетания: «и узрять вси конци земля, и хвала твоя на концихъ земля, упование всѣмъ концемъ земли» — речь все о тех же людях, принимающих христианское учение, но слово земля выступает тут уже в новом значении, обозначая не государство даже, а собственно мир во всех его воплощениях, как бы усиливая уже сказанное о «земле». И эту метонимию верный себе Иларион, употребляя часто, мало-помалу расшифровывает, поясняя привычным славянину оборотом: всеми четырьми конци земля. Развернутое и слишком общее все конци земли уточняется: все четыре части свѣта. Так постепенно метонимия становится привычной, она вложена в сознание слушателя и теперь, — обогащаясь еще больше, метафоризуется. Как и прежде, сначала в цитируемых из Писания формулах Иларион показывает, что вся земля, все конци земли жаждут света истины, он говорит о земле жаждущей. Обыгрывается стих из Псалтыри: «по всей же земли роса, по всей земли суша» и т.д. На самом деле, конечно, жаждут (да и то в переносном смысле) люди этой земли, но усвоенная выше метонимия уже перевела внимание слушателя с «людей» на «землю», пространственные характеристики образно передают мысль о распространении христианства. Земля жаждет — в современном сознании это метафора, но говорить о метафоре в отношении к тексту Илариона опасно. Во-первых, перед нами цитата из переводного текста, которым воспользовался автор; во-вторых, и сама метафора определенно связана с метонимией, уже нам известной. Всего точнее было бы такой образ назвать символом, вернее — метонимическим символом. И вот теперь-то, уже в авторском тексте, Иларион отчасти снижает смысл символа, истолковывая его вполне реально: «и пусте бо и пресъхлъ земли нашей сущи, идольскому зною исушивъши ю (ее), вънезаапну потече источникъ евангельский, напаяя всю землю нашу». Сложная синтаксическая конструкция синкретично передает последовательность событий — здесь одновременно можно понимать самые разные связи: и поскольку, и когда, и так как, и потому что, и хотя. Все эти оттенки могли входить в вводящую фразу (которая кончается местоимением ю — ее). Иларион считает необходимым разъяснить слушателю книжный символ в понятной для него форме, хотя и использует при этом книжные параллели (учение — источник и т.д.). Благодаря Владимиру «вера по всеи земли простреся... и всю землю покрывъ (этот источник)». Неопределенному символу, заимствованному из греческого текста, Иларион в своем собственном тексте предпочитает символ солнца, света, тепла, как будто намеренно противопоставляя его книжному образу, связанному с водной стихией: солнцу светъ съниде на землю, солнечнеи теплоте землю съгревши, яко солнце помрачи и землею потрясе, так и Христова благодеть всю землю объять и слово евангельское землю нашу осия и пр. Поклонение солнцу все-таки ближе вчерашнему язычнику, чем «хляби небесные». Иларион не может выйти из круга символических образов, навязанных ему языческим бытом, знакомых его слушателям, привычных и близких им всем. Земля противопоставлена небеси, и смысл авторского противопоставления опять-таки задан традиционной цитатой: «Богъ нашь на небеси и на земли» и др. Используя знакомую цитату, Иларион показывает, что новое значение слова земля никак не включает в себя понятия о населяющем его народе («людях»), более того, земля и население заведомо разъединены: «да познаемъ на земли путь твой и во всехъ языцехъ (т.е. народах) спасение твое». Ошибочно было бы думать, что это — новое — значение слово земля конкретно-однозначно. Нет, оно столь же синкретично, как и в предыдущем случае, поскольку речь идет не просто о земле — почве, но и о мире в целом. Даже в выражении поклонимся ему до землѣ присутствует такое слитное, неотторженное в крайностях своих обозначение и почвы, и мира. Теперь взглянем на те формулы, которые употребляет Иларион в своем авторском тексте, не цитаты. Правда, и в этом случае многие выражения не принадлежат самому Илариону, они традиционны, однако Иларион переосмысляет их в соответствии со своим замыслом. Вся земля как устойчивое сочетание в цитатах заменяется типичным для славянина выражением наша земля или земля его (твоя и т. д.). В отношении к Владимиру такие выражения постоянны: кагана нашеа земли, столъ земли твоей, и землю свою пасущу правдою и др. Взаимообратимость слова земля конкретизируется в уточняющих местоимениях. Наша земля теперь — и есть «его земля» в прошлом. Владимир создал эту «землю», соединив государственные и духовные устремления. Таково наследство, оставленное им, — нам. «Он создал нас» — через «свет истины». Умелое переплетение местоимений станет заметнее при напоминании, что современная форма его в XI в. была еще формой указательного местоимения, и, следовательно, выражение земля его буквально значит ‘земля Того’. Его в известном смысле — и местоимение разного качества, и междометие, и частица, и определенный артикль иных языков — все вместе нерасторжимо, образно. Говоря «весь миръ», «вся земля», Иларион подчеркивает понятие о «всем мире», о вселенной, которая является достоянием Бога; уточняющим «его земля», «своя земля» — спускает нас на землю, говорит о Владимире, о славянах. Умело подобранными и разбросанными в тексте Слова местоимениями Иларион постоянно подчеркивает подобные противоположности. Он говорит о «благоверной земле греческой», но и сам живет не «въ невѣдоме земли», а в земле русской. Уточнение необходимо как напоминание о реальности, во всем остальном остается обобщенная неясность, неопределенность «его» и «нашего», небесного и земного, которые перетекают из одного в другое, становясь степенями высокой силы и достоинства. Подтверждение этому можно увидеть и на употреблении слова, некоторым образом противопоставленного слову земля. Земля — своя, наша, его — это родина, что-то близкое, в том числе и «благоверная земля гречьская». Все, что вовне и извне, — страна. Та же земля, но чужая, не своя, не наша. В цитатах, которые приводит Иларион, противоположность земля — страна не так заметна, но для Илариона подобная противоположность важна, он пользуется народным представлением о чужедальной сторонушке. Земля единственна, слово же страна у Илариона никогда не употребляется в форме ед. числа, он говорит о странах. Земля имеет «коньци или края» — страны бесконечны, они окружают «землю»: «яже церкви дивна и славна всемъ округъниимъ странамъ, яко же ина не обрящется въ всемъ полунощи зимнемъ отъ въстока до запада». «Округние страны», оказывается, не включают в себя юга — Византии, — это не «поле враждебности». Вот фраза, которая сразу содержит в себе все три нужных слова, и каждое из слов несет свой собственный смысл: «И единодержецъ бывъ земли своей, покоривъ подъ ся округъныя страны — овы миромъ, а непокоривыя мечемъ». Окружающие Русь страны Владимир покорил ради своей земли, и притом преимущественно — мирно. Так в обсуждение входит еще одно слово — миръ, с одной стороны, тишина, покой, а с другой — вселенная, весь свет. По чередованию значений основных и переносных — новых — в этих словах также можно судить об авторском своеобразии Илариона как писателя. Его индивидуальность проявляется в отношении к набору значений исконных славянских слов в новом для них контексте. Слово миръ во всех цитатах у Илариона представлено в значении ‘вселенная’: «сына своего в миръ послати», «спасти миръ», «шедъше въ весь миръ» и т.п., — так что оказывается, что и «Христосъ — животъ всему миру». Мир — вселенная, населенная людьми, ойкумена, которая нуждается в тишине и покое — в «мире». Такова вовсе не придуманная, поэтическая, а вполне реальная, вынесенная из языковых фактов метонимия, сходная с той, что встретилась нам в слове земля. Но стоит слову выступить в необычной грамматической форме (в форме мест. падежа), сразу же проявляется его основное значение, словно бы забытое в расхожих церковных формулах: «яко оправдание въ семь мире есть, а спасение въ будущимъ вѣцѣ». Место и время — мир и век — поданы нерасторжимо в единстве, в синкретической цельности, как создание Божье, уму недоступное. Когда же Иларион говорит «от себя», слово используется в ином значении. Для Илариона мир — прежде всего тишина, спокойствие, в своей «молитве» он добавляет: «да съхранить я(их) въ мирѣ», «въ мирѣ и въ съдравии». Более того, в противопоставлении Владимира Константину, узаконившему христианство как государственную религию, Иларион просто не осмеливается употребить слово миръ по отношению к своему князю: «Константин по всему миру своему раславьша, вѣру утвердиста, ты же... по всѣй земле своей поставивша утвердиста вѣру». Противопоставление сродни тому, в котором миру противопоставлен век. Некоторая небрежность в отношении к пространственно-временным ориентирам, но небрежность намеренная, художественный прием, подчеркивающий незначительность подобных различий перед лицом вечности. У Константина «свой миръ» — пространства с его населением, с их духовным предназначением, у Владимира — «своя земля», т.е. государство с его населением, с собственным предназначением, которое остается, несмотря на заимствование христианства. Собственно говоря, в обоих случаях метонимия как бы восчувствуется (но вполне сознается нами), на самом деле ее вполне могло и не быть, потому что пространственная характеристика кажется всеобщей, главной, это скрепа, соединяющая воедино все возможные значения слов миръ и земля. Они, может быть, и неравноценны в иерархическом соотношении, однако по смыслу данного текста оказываются совершенно сходными, потому что миръ — всегда и земля. Вся наша земля и весь наш мир — одно и то же. Если бы «весь миръ» Константина включал в себя и «землю» Владимира, последнему не пришлось бы повторять подвиг византийского императора — это ясно. Следовательно, и «весь миръ» столь же ограничен, как и «вся земля» Владимира. Важнее другое, что также отмечено в примерах, приведенных выше. Важно, что миръ цитаты и миръ в представлении самого Илариона — это совершенно разные слова. Если Иларион и пользуется ими в разном значении, то только потому, что встречаются разные их значения в совершенно различных по традиции формулах текста. И такие формулы не сведены пока в общий литературный язык. Совсем иначе распределяются значения слова свѣтъ. Собственно «от себя» Иларион не пользуется выражениями с этим словом. Все фразы с ним — из цитат, из книжных формул. В частности, в цитате из Ветхого завета говорится прямо: «о свѣтъ луны, светъ солнцю, дѣла ихъ темна... не възлюбиша свѣта, свѣтъ трисолнечьнаго божьства» и т.д. В Новом завете уже прямое уподобление божества солнцу-свету. Перенос указания на светлость как основную характеристику света. Переносное указание на светлость как основной признак божества, т.е. сравнение, обогащенное к тому же уточняющими словами: «и въсиа и въ насъ свѣтъ разума», речь об «истинном свѣтѣ», о том, что «судъ мои — свѣтъ странамъ, и изыдетъ яко свѣтъ спасение мое», — все это по-новому рисует и сам символ «света». Однако понятие, выражаемое словом свѣтъ, остается слишком высоким, чтобы тут же можно было распространить его на земные существа и деяния. Для вчерашнего язычника это настолько ясно, что Иларион не осмеливается нарушить традицию. На протяжении всего XI в. традиция будет сохраняться, и даже о Божьих угодниках, Борисе и Глебе, современники Илариона станут говорить как о златозарных (т.е. «отсвечивающих»), по-прежнему приберегая для характеристики бога определение свѣтозарный (т.е. «светящий»). Свет и мир, земля и страны населяют языци и народы. Язык — это и есть народ. В Слове 13 раз употребляется обычное выражение все языци — собирательное выражение, полностью равнозначное сочетаниям весь миръ или вся земля. Абсолютность границ — гипербола ораторского накала. Выражения Илариона пришли из Писания и в его Слове встречаются в цитатах. Иларион не может их править, да и не стремится делать это. Смысловой синкретизм выражений и в данном случае препятствует уточнению ведущего значения слова: народ — но в каком смысле? Не ясно. Поэтому в своем собственном тексте Иларион пытается раскрыть значение слова одновременно с истолкованием всего традиционного выражения в целом. Он прибегает к тому же способу, что и всюду в своем Слове, — включает слово в новые сочетания, создавая новые «формулы текста». «И до нашего языка русского» (дважды) — речь идет о народе и об основном его признаке — языке. Рассказывая о язычестве славян, Иларион подчеркивает, что до принятия христианства «гугънахомъ языкы нашими, моляше идолы, а не Бога своего и Творца». Необходимо только принять христианство, «и ясень будетъ языкъ гугнивыхъ». И в данном случае последовательность разъясняющих друг друга значений слова представлена исходя из контекста: орган речи — сама речь — смысл речи — народ с его культурой (языческим гугнанием — гугнивые). «Гугнивый» с этого времени станет основной характеристикой не просто косноязычного, но связанного с ним слабомыслия и религиозной неустойчивости. Это определение войдет в книжную традицию русского средневековья как идеологический признак и термин. Язык как орган речи, язык как речь... но этого недостаточно для раскрытия смысловых возможностей слова. Ведь Иларион говорит еще и о том, что христиане славят Троицу — а иудеи молчат, Христа славят — а иудеев клянут, даже больше: все остальные «языци приведены» — «иудеи отриновены». Язычники могут стать христианами, тогда как иудеи — нет. «И събысться о насъ, языцехъ, реченое» — еще одно значение слова, которое впоследствии стали передавать производным словом язычники. Такое значение основано на коренном значении слова языкъ — всегда свой, родной, и не только язык, но культура в целом и вся совокупность мировоззрения. Так из обычных значений слова постепенно возникают все новые смыслы бесконечно глубоких понятий о самом важном признаке человека в обществе: его мировоззрения. Точно некая сила в глубинах народного сознания порождает постоянно, по мере надобности, все новые оттенки понятия о мире, углубляя перспективу и тщательно прорабатывая детали. Внутренние возможности славянского слова делали это вполне реальным. Однако, чтобы возможность стала действительностью, требовалась тщательная работа со словом текста, который мог бы стать образцовым. Такую работу и исполнил на заре нашей книжности Иларион, устремленный к «умному слову» в глубокой своей повести. За то и помнили его поколения русских книжников, за то и нам забывать его не годится.
Postscriptum. По случайным причинам при подготовке статьи в 1987 г. я не учел прекрасного исследования Л. Мюллера об Иларионе[145], некоторые суждения которого необходимо обсудить. Л. Мюллер описывает ключевые слова текста Илариона с общетеоретической точки зрения и потому не замечает национального их своеобразия. Как раз это и было темой моей статьи[146], нещадно испорченной при публикации, и вряд ли корректорами. Сравню наши суждения на примере слов земля и языкъ. В первом случае Л. Мюллер отмечает метонимические переносы смысла в зависимости от формулы, в которой слово встречается: 1) ‘почва’, 2) ‘суша’, 3) ‘поверхность земли (мир, свет, противоположный и небесам, и аду)’, 4) ‘территория государства’. Слово страна используется лишь в 4-м значении. Не отмечена связь с греческим словом, хотя по контекстам видно, что метонимический сдвиг значений слова земля определяется семантическим наведением со стороны библейского текста, в котором греч. γη употребляется для обозначения всех оттенков смысла, но только четырех из возможных в греческом восьми, а именно 3-6, ср.: 1) ‘планета Земля’, 2) ‘стихия, вещество’, 3) ‘суша’, 4) ‘поверхность земли’, 5) ‘почва’, 6) ‘страна, край’, 7) ‘земельное владение’, 8) ‘прах, тлен’ (последнее — в тексте Нового завета). Философские и экономические характеристики земли Илариону не нужны, равно как и уничижительные квалификации. Все остальные значения слова присутствуют, выявляясь в конкретных формулах изложения из семантически синкретичного славянского слова. Слово языкъ Л. Мюллер также располагает по «оттенкам значений», уже не оговаривая метонимичности как принципа их соотношения друг с другом: 1) ‘часть тела’, 2) ‘речь’, 3) ‘народ (по общности языка)’, 4) ‘народ (по общности веры)’ (например, в противоположность язычникам и иудеям), 5) ‘новые люди’, ‘христиане’ (дается как социальная характеристика «посвященных» в рамках общества). Различие в значениях определяется не только смыслом формул, но и характером грамматических форм. Так, выражения вся языкы, ины языкы или наш языкъ отражают (соответственно) значения 3, 4 и 1. Интуитивно в последовательности трех последних — переносных — значений содержится законченная схема трехмерной семантической корреляции, эксплицированной только к концу XIV в. и составившей модель средневекового осмысления действительности по признакам физическое — социальное — духовное, например, в градуальной оппозиции лицо — личина — ликъ или животъ — житие — жизнь и т. п. У Илариона подобная триипостасность сущего представлена пока лишь в семантической проекции на одно славянское слово, а проекция эта задается идеологическим смыслом всего текста в целом, и в этой цельности текста заключается его значимость. Л. Мюллер группирует «оттенки значения», исходя из смысла библейской цитаты или славянской речевой формулы, т.е. смысл целого приписывает значению отдельного слова. Это ошибка. Зато Л. Мюллер очень точно определяет коренное различие между первыми двумя значениями славянского слова, которые соответствуют в переводах греч. γλωσσα, и тремя остальными, в соответствии с греч. εϑνος (в тексте на иврите также различаются). Метонимическое наведение идет именно со стороны этого последнего греческого слова, при участии еще одного — λαός ‘люди’, ‘народ’, ‘население’. Это краткое дополнение показывает возможные пути изучения богатейшей текстовой структуры Слова о законе и благодати.
ПРОБЛЕМА СИМВОЛА В ДРЕВНЕРУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ТЕКСТЕ: СВЕТ
Наряду со словами, обозначавшими цвет, в древнерусских текстах употребляются и слова со значениями ‘свет’. Как правило, свето- и цветообозначений нет в текстах делового содержания, они не встречаются даже в церковных поучениях на конкретную тему житейского характера. Нет таких слов в законодательных документах и хрониках — словом, там, где содержание текста не несет художественной нагрузки. В прагматических установках древнерусского книжника цветообозначения оказывались несущественным элементом содержания и потому не использовались. Только в художественном тексте, оригинальном или переводном — безразлично, представлены слова со значением света и цвета, хотя и в очень скупой гамме; например, в Слове о полку Игореве и в переводных хрониках. Самым распространенным противопоставлением являлась характерная для древнерусских памятников оппозиция слов бѣлый — чьрный, синонимичных (по некоторым контекстам) паре более отвлеченного значения свѣтлый — тьмьный: в обоих случаях в корнях наблюдается противопоставление долгого ѣ сверхкраткому ь, что было важно в произношении, а семантически делало маркированным «светлое» поле оппозиции. Иногда довольно трудно определить реальное значение слов бѣлый — чьрный, поскольку в христианской символике это точный эквивалент более обычных в употреблении свѣтлый — тьмьный, однако внутренней своей формой они соотносятся и с языческим представлением о Белобоге и Чернобоге, ср. еще столь же показательное противопоставление бѣсъ — чьртъ. Взаимное натяжение двусторонней идеологической сферы — языческой и христианской — создает постоянное семантическое напряжение в каждом из этих слов, и развитие их значений определяется конфронтацией двух конфессиональных традиций. В русских текстах XI в., посвященных Борису и Глебу[147], только семь раз встречаются слова, которым можно приписать значение цвета, а не света. Несмотря на различие жанров (от летописи до церковного песнопения), авторов, оригинальности или содержания текстов, авторской идеи или образной системы произведения восприятие жизненного подвига русских мучеников остается общим на протяжении ХІ-ХII вв., когда эти тексты складывались. Это восприятие словно задано определенной, схематически ориентированной идеей. Смысл произведения ни в одном случае не создается — он постоянно воссоздается по образцам. Основное противопоставление здесь обычное: свѣт- — тьма (свѣтл-: тьмьн-), оно представлено и производными словами типа свѣтильникъ, свѣщница, свѣтлость, свѣтло и др., тогда как противоположная сторона оппозиции не разработана столь многообразно, отмечается только слово тьмьница, но в другом значении (‘тюрьма’). Если к этому прибавить, что свѣт(л)- находится в постоянном смысловом пересечении со сходными по художественной функциисловами, такими как святи, блистании, блистати, озаряти и т.п., то окажется, что поэтическое восприятие образов Бориса и Глеба и их действий подавит ослепительным блеском и сиянием света, полностью оправдывая художественную их характеристику: «о Борисѣ, как бѣ възъръмъ: тѣломъ бяше красьнъ... свѣтяся цесарьскы, вьсячьскы украшенъ, акы цвѣтъ, цвѣтый въ оуности своей» (51-52). Динамическое развертывание темы в Чтении о Борисе и Глебе построено по принципу отъ тьмы к свѣтоу (5), от тьмы на свѣтъ (15), и с этим связан выбор лексики, экономно сгруппированной вокруг центральных образов. Только Борис и Глеб «тако свѣтящеся, акы двѣ звѣздѣ свѣтлѣ посредѣ темныхъ» (5), все остальные персонажи драмы индифференты относительно света или воплощают собой тьму — безличная и безликая масса, неопределенный фон, пустота бездны. Хотя в соответствии с замыслом описания действуют, совершают поступки и просто движутся в этом произведении как раз не Борис и Глеб, однако общая атмосфера света, в которую они оба погружены, служит своего рода противовесом действию отрицательных героев повествования, а тем самым, собственно, и становится действием Бориса и Глеба в сакральном плане. Свет, персонифицированный в них, — такой же динамический элемент композиции, как и физическое движение других действующих лиц. Свет — воплощенная благодать, ее физическое проявление, своего рода совокупность цветовой гаммы без распределения по цветовым оттенкам, которое возможно лишь в тварном мире. По этой причине в образной структуре Чтения всякий синоним к слову свѣтъ выступает уже не в собственном только значении, он как бы вплетается в структурную доминанту, заданную обозначением света, воплощенную в свете. Так, дважды употребленное слово с корнем бѣл- воспринимается как синоним к словам с корнем свѣтъ-, а не как обычное обозначение ахроматического цвета: «и бѣста акы снѣгъ бѣлѣющася, лица же ею свѣтѣся акы ангелома» (17); сравнение со снегом касается одежд, как это представлено и в описании самих ангелов: «и се внезапоу възъѣхаша трие мужи на дворъ ея въ бѣлахъ ризахъ» (23). Из сравнений, представленных в Чтении, характерны также следующие: свѣтящяся акы молнии (14), свѣтяся акы солнце (21), солнецьныи луча сияюща (16). Из равнозначных контекстов выясняется, что свѣтитъ — значит сияетъ. Действительно, в Сказании о Борисе и Глебе, распространяя один фрагмент Чтения, Нестор скажет о своих героях: «Тако и си святая постави свѣтити в мирѣ премногыми чюдесы, сняти въ Руськои сторонѣ велицѣи» (48). Своего рода пространственное ограничение варианта сияти (лишь на Руси, а не во всем мире, ибо это — русские святые) совпадает с аналогичным ограничением в Чтении: светит солнце, сияют же — его лучи. Ахроматично по цветовой гамме и Сказание о Борисе и Глебе. Здесь встречается эквивалент слову тьмьнъ — слово чьрнъ, но зато слов с корнем бѣл- нет вовсе, да и чьрница, чьрноризьци, в составе которых использован корень чьрн-, сами по себе на «цвет» не указывают, как и слово тьмьница в Чтении. В сложных и производных словах корень сохраняет свою однозначность. Но вот текст, который оказывается важным в понимании образной системы памятника: (тело святого) «ни бѣаше почьрнѣло, якоже обычай имуть телеса мьртвыхъ, нъ свѣтьло и красьно и цѣло и благу воню имущю» (48); тот же текст повторен в летописной версии (89). Чьрн- здесь эквивалентно тьмьн-, но в своеобразном исполнении: употребление тьмьн- нарушило бы устоявшуюся символику данного жанра, ведь темный — это неверный, ибо непосвященный, т.е. враждебный светлому миру праведников. Чьрн- выступает в качестве стилистически сниженного варианта, использованного в отношении к плотской стороне жизни, тогда как тьмьн- отражает духовный аспект бытия, а не быта. Отсутствие корня бѣл- также знаменательно: поскольку тем самым за чьрн- оставляется значение варианта к тьмьн-, при отсутствии в нем собственного цветового значения ‘черный’. То же самое соответствие находим и в других текстах жанра. В них встречается противопоставление форм чьрн- и тьмьн- к свѣт(л) или, наоборот, бѣл- и свѣтл- к тьмьн- при полном отсутствии в первом случае корня бѣл-, а во втором — чьрн-. Маркировка в символическом соотношении «цветовых сил» как бы меняется, и в обоих случаях собственно цветовое значение слов белый и черный снимается как избыточное в образной системе данного текста. Таково авторское отношение к возможной реализации семантически равноценных оппозиций с помощью одних и тех же слов. Зато в Сказании появляется новый эквивалент словам с корнем свѣтл-, он связан со значением ‘блеск’. Сказание не ограничивается абстрактным противопоставлением тьмы свету, как это было в Чтении, здесь ярче представлено движение, действие, показан процесс освящения мучеников. В сюжет входит описание убийства, т.е. реального физического акта, который невозможно описать, используя прежние характеристики, ставшие уже художественным штампом. В результате появляются: блистание оружия и мечьное оцѣщение (35), в летописном варианте блистания сулиць и мечьное бльщание (84), а также оружие бльщащася акы воды (40). В паремийных чтениях, повторивших этот текст, сравнение распространено до уподобления, принимает космические размеры: «и молния блистание; егда же облистаху молния и блистахуся оружия в рукахъ ихъ (убийц)» (120). Все это фрагменты реальной жизни: блеск молнии переходит на блеск обнаженного оружия, тогда как с мечом связаны другие ассоциации — мечь чистъ или (в других источниках, но в том же смысле) синь. Блеск — это колебание, мерцание светлого: молнии, воды, стали. Отличие его от света в том, что свет не отражен от какой-либо поверхности, а сам по себе является источником «блеска». Одновременно мы получаем возможность для выведения еще одной эквивалентной связи: молнии свѣтиться — молнии бльстаетъ. Молния излучает свет — с блеском, своим мерцанием, переливами лучей. Это именно эквивалентность обозначения, а не синонимия, поскольку из многих проявлений молнии (явления скорее небесного, чем земного) можно выбрать что-то одно и использовать его, исходя из потребностей жанра или текста, их художественной ценности или идеологической заданности. Летописный вариант вносит в ахроматичность изображения цвет. Именно здесь неудовлетворенный однотипным светом своего книжного источника редактор летописного текста вы-цвечивает оттенки светлого, прорабатывая их с помощью сложных слов. Борис и Глеб «свѣтозарна явистася, яко свѣтилѣ, озаряюща всю землю руськую, всегда тму отгоняюща... вкупѣ в мѣстѣхъ златозарныхъ, в селѣхъ небесныхъ» (71); «радуйтася, луча свѣтозарная» (76); «свѣтозарное солнце... свѣтлѣи звѣздѣ, заутра восходящи» (77). Аналогичные эпитеты встречаются еще только в некоторых похвальных словах мученикам: «брата красная... златозарнии солнци, звѣзди пресвѣтлии» (125); «свѣтозарная чудесъ луча испущающе... свѣтилъ пресвѣтлии» (126). Обращает на себя внимание строгое функциональное распределение сложных слов. Звезда — светлая или пресветлая, солнце же — златозарное, златозарны и места обитания блаженных, тогда как светозарны и солнце, и сравниваемые (символически подразумеваемые) с ним святые мученики — именно в отношении к ним по преимуществу и обращен эпитет. В Повести временных лет дважды встречается сложное слово с корнем свѣтл- — и оба раза в отношении к Борису и Глебу, в тех же риторических формулах. Соотношение таких сложных слов распространяется лишь на высокий стиль повествования, никогда не переходит на изложение бытовых подробностей жизни. Можно думать о заимствовании формул из переводных текстов. В Хронике Георгия Амартола не употребляется сочетание со словом златозарный, зато встречается сложное слово свѣтозарный (102.4) на месте греч. φωτοειδής ‘похожий на сияние, светящийся’, свѣтозарие — φωταγωγία ‘солнечное сияние’[148]. То же в переводе Девгениева деяния: Стратиговна из окошка своей светлицы говорит Девгению: «Свѣте светозарны, о прекрасное солнце, жаль ми тебѣ»[149]. Оба сложных слова встречаются уже в болгарских текстах X в., однако отмеченного в древнерусских источниках функционального их распределения там еще нет. Например, в Похвале Кириллу Философу, составленной Климентом Охридским, славятся свѣтозарны твои нозѣ и рядом златозарныя твоя стопы — факт, указывающий на абсолютную дублетность обоих слов. Характер выражения подсказывает, что в данной традиционной формуле имеем дело с переводом, ср. эквивалентное выражение красны нозѣ твои, распространенное в древних текстах. Содержание древнерусского текста и новое отношение к символике, выраженной словесно, потребовало разведения по семантическим уровням двух уже известных калек с греческого. Зарьн- в златозарный — ‘зримый, видимый, похожий на’. В переводе Хроники Георгия Амартола греч. φωτοειδής одинаково передается как словом свѣтозарьнъ, так и словом свтьтообразьно. В таком случае разница между златозарьнъ и свѣтозарьнъ заключается в том, что свѣтозарьнъ обозначает источник света (букв. ‘светящийся’), а златозарьнъ — результат такого свечения (букв. ‘сверкающий’). Авторы текстов о Борисе и Глебе во всех их вариантах неукоснительно соблюдают указанную иерархию значений. Так, в летописной версии свѣтоносьнъ (в Хронике Георгия Амартола это слово на месте греч. φωσφόρος — 302.5) относится к божественной энергии, причастившись которой угодники могут стать светозарными; они не носители такой энергии, но являются ее силой — это светила посреди тьмы. Они не звезды солнца, а всего лишь планеты, светящие отраженным светом, однако светлые, те, какие восходят на заре. Именно потому, впитав в себя данную силу света, они и являются ее распространителями и провозвестниками. Символический смысл распределения слов понятен. Одновременно с тем возникает и представление о златозарных местах, озаренных небесным светом. Ф. И. Буслаев, ссылаясь на некоторые словоупотребления в древнерусских текстах, специально отмечал, что «сродство понятий о цвете и золоте еще не утратилось во времена Нестора, сохранившись в обычном эпическом выражении языческой клятвы... Да будем золоти, яко золото» (т.е. пусть иссохнем, сгорим от небесного огня)[150]. Только таким трехступенчатым углублением семантической перспективы и стало возможным передать иерархически выстроенное соотношение источника энергии и силы свечения, не прибегая к употреблению специальных слов (их еще и не было), а используя уже известные литературному языку формулы. Стилистическое углубление текста идет благодаря работе над скрытыми смысловыми возможностями слова в словообразовательном ряду. Рассмотренные тексты позволяют также сопоставить корни сѣт- и злат- как синонимы, различным образом выражающие характер действия: источник света — отражение света; не конкретизируя такое соотношение слов, о нем говорил еще А. А. Потебня[151]. Литературное происхождение текста о Борисе и Глебе, наличие нескольких его — разножанровых — версий, отражающих движение текста во времени, позволяет вернуться к решению вопроса, затронутого лексикологами: «В слове темный все современные словари его световое значение (темная комната) называют основным или прямым, а морально-оценочное (темная речь, личность) — переносным. Но в период Х-ХІV вв. по существующим памятникам не удается обнаружить ни одного случая употребления этого слова в световом значении, но зато встречается огромное количество случаев употребления в морально-оценочном значении. Характерно при этом, что и антоним к слову темный — светлый в этот период имеет только морально-оценочное значение»[152]. Казалось бы, наши примеры подтверждают такое заключение. Действительно, сопоставление святых угодников со светом целиком находится в соответствии с морально-оценочными характеристиками словесного значения. Однако сама символика литературного текста была бы неясной без существования каких-то реально житейских ассоциаций с ахроматическим «цветом». Рассмотрим суммарное употребление приведенных слов в других древнерусских текстах, не останавливаясь на характеристике самих источников[153]. 1. Значение, связанное с обозначением света, — ‘светящийся’. В сказании о Софии Царьградской по русскому переводу XII в.: «видяще таковую церковь, како блещашесь, и бѣ вся свѣтла от злата и серебра» (оттенок со значением наблеска, отсвета). Иногда можно предполагать совпадение значений ‘светлый’ и ‘светящийся’: в сочетании прилагательного светлый со словами дом, церковь, одежда — скорее, ‘светлый’, но при упоминании светлых одежд ангелов можно допустить и значение ‘светящийся’ (по символическому референту, т.е. весьма условно). Неуверенность в смысловом наполнении слова возникает постоянно и определяется, возможно, столкновением двух культур, языческой и христианской, принявших участие в словесном оформлении новой символики цветообозначения. Свет у христиан — источник знания и веры; в древнеславянском языке язычников это же слово связано с обозначением блеска (наблеска) и скорости, с понятием о быстром (слово быстръ, как и слово ясный, также имело исходное значение ‘светлый, ясный’)[154]. Общим для них является лишь то, что в обеих символических системах свет связан с проявлениями самого совершенного органа чувств — зрения. Зьрѣти, зоркий входят в чередование с однокоренными им зоря и зарница, русское слово зрачок соответствует сербскому зрак ‘солнечный луч’. Не забудем, что и греч. φως представлено в тех же значениях: ‘свет, сияние, блеск’, ‘дневной свет (светлый)’, ‘солнце; огонь’, ‘глаз’. А многозначность греческих слов, представленная в переводных текстах, стала во многом наводящим семантическим признаком и на славянские эквиваленты соответствующих греческих слов. В проявлениях света, его восприятии и осознании участвуют, совмещаясь в общем семантическом ряду, все связанные с данным кругом обозначений слова: бѣлый, чистый, золотой, зеленый и др. В качестве примера приведем развернутое описание праведников, пребывающих в блаженной стране (древнерусский перевод XII в.): «Яко христаль, свѣтъ испущающе, одежда ихъ, и облакомъ огненомъ обвита ребра ихъ, и молъниею препоясани въ чреслахъ ихъ, и свѣть чистъ зѣло, яко злато чиста имущи свѣтлостью предъ лицемъ своимъ, руки ихъ и нозѣ ихъ бѣлы, яко свѣтъ... и опоясани позлащенными лучями... и лица ихъ седмицею очищена в бѣлости бѣлою молниею, крѣпко освѣщаеми...» и т.д.[155] В приведенном описании заметно пересечение значений нескольких слов: свѣтъ — бѣлизна, чистота — свѣтлость, свѣтъ — злато и т. п. Последовательное противопоставление тьмы свету характерно для всех древнерусских текстов. Уже в Памяти и похвале Владимиру мниха Иакова говорится о Владимире, что после своего крещения он «приде от тмы дияволя на свѣтъ... къ Богу». Мы видели, что подобное динамическое развертывание действия соотносится и с описанием кончины его младших сыновей. 2. Значение цвета, хотя и весьма неопределенное, находим для этих слов в том же переводе Жития Василия Нового: «Занеже идяхомъ поклонитися огнеобразному престолу Божию, идущимъ намъ и облакъ не яко облакъ поднебесный, но облакъ образомъ яко цвѣтъ рдящься, паче сих [цветов] сторицею свѣтлѣе» (431). Красный цвет имеет различные оттенки, более или менее светлые; но возможна иная интерпретация: речь идет о рдяном цвете с наблеском или без него. Определенно цветового значения это слово не несет, и потому его совпадение со значениями слова бѣлый никогда не могло стать полным или хотя бы символически определенным. 3. Морально-оценочные значения слова уже распространены в древнерусских текстах, причем они пересекаются со значениями слова чистый. Чистое воскресенье регулярно именуется свѣтлой недѣлею; говоря о чистоте побуждений верующего, проповедники используют сочетания типа сердцем светлым, притеци свѣтло къ дару алчьбному и т.п.; в русском переводе Истории иудейской войны XIII в. использовано множество сочетаний со словом свѣтлый в значении ‘чистый’: «и светлымъ дарованиемъ почьстивъ, отпусти я»; «азъ бо свѣтлое упование имамь о твоем умѣ» и пр.[156] То же значение слова использовано и Кириллом Туровским: «ныня небеса просвѣтишася, темныхъ облакъ, яко вретищь, съвлекошася, и свѣтлымъ въздухомъ славу Господню исповѣдають». По-видимому, второе из трех указанных значений вообще не было характерным для русских текстов (встречается только в переводных). Лишь те произведения, которые так или иначе связаны с языческой традицией, его отчасти передают. Так, в Слове о полку Игореве тресветлое солнце в «Плаче» Ярославны является калькой с греч. τριλαμπής и часто встречается в переводных текстах (например, в минейных песнопениях), следовательно, соотносится с церковной традицией книжного характера. Наоборот, в сочетаниях типа кровавые зори свѣтъ повѣдаютъ, заря, свѣтъ запала отчетливо проглядывает языческая традиция восприятия «расцвеченного» солнца: во всех случаях речь идет о том, что красная по цвету заря сопровождает или знаменует рас-свет. «О свѣтло свѣтлая и украсно украшена земля руская» в зачине Слова о погибели Русской земли также имеет отношение к «красивому» цвету. Наложение двух художественных традиций восприятия света, представленное в одном и том же слове, дало своеобразный остаток и в том и в другом случае: остались за пределами новой символической и художественной системы как цветовой аспект языческого восприятия света, так и христианские представления о светлом как чистом. За границы древнерусской литературы это последнее представление не переходит, оставаясь лишь в некоторых устойчивых сочетаниях, терминах церковного быта. Какими бы сложными по своему составу и содержанию ни были значения слова свѣтъ и его производных, в пределах каждого отдельно взятого текста они довольно долго не сталкиваются, не пересекаются семантически, и потому сегодня их трудно разграничить. Первым русским писателем, преодолевшим скованность двух первоначально самостоятельных и параллельно развивавшихся традиций, решившимся на использование «игры слов», был Кирилл Туровский, живший во второй половине XII в. Свѣтъ в его произведениях имеет прямое значение ‘лучистая энергия’, воспринимаемая зрением: «и сѣдящии во тмѣ видѣша свѣтъ» (12[157]) — однако это не только собственно свет, но одновременно и ‘знание (истины, истинного учения)’, поскольку в другом случае Кирилл говорит о Еве: «она бо от змия свѣтъ прия, вы же от ангела слово слышаста» (14; если это не испорченный текст: свѣтъ на месте исконного написания съвѣтъ), а в рассуждении о язычниках, «чаявшимъ свѣта бысть имъ тьма» (15) весь смысл слова свѣтъ по существу изменяется, речь идет только о свете истины. Переносное значение слово фактически оформляет лишь в XII в., первые русские писатели антитезу свет : тьма понимали буквально, не соотнося ее смысл с озарениями истины. В XII в., когда Кирилл говорит об Иисусе, что тот «слѣпыя просвѣти» (44), речь определенно ведется о свете истины (в Житии Владимира говорилось всего лишь о том, что тот слѣпыя озари). Источником света всегда является Бог, а всякий (в фигуральном смысле) слепец, «крещеньем не породивъся, сынъ свѣта будеть» (44). У Кирилла встречаем и новое осмысление другого значения слова свѣтъ, он говорит о свете как о ‘мире’. О том и этом свете упоминают многие старославянские и древнерусские тексты, всегда разграничивая их и определенно указывая на сей, тот, оный или другый свѣтъ. Все это — созданный Богом и им управляемый мир, вселенная. Единство того и этого света объясняется как раз общим отношением к Богу — источнику света. Таким образом, значение ‘мир, земля’ до XII в. не включается в семантику слова свѣтъ, новая формула по всему свету включала в себя действительно весь свет и имела космические пределы. Кирилл же, как бы забывая о совместимости и равноценности того и этого света, говорит, например: «та и всѣхъ же языкъ душа въ своемъ свѣтѣ (пребудет)» (51), т.е. по смерти каждому положено свое место и время: рай, эдем или вечная жизнь. Истолковывая символику притчи, Кирилл говорит и о том, что «нощь же есть свѣта сего мятежь, в немь же акы во тмѣ мятущися» (82). Этот свет — тьма. Выделение самостоятельного значения слова свѣтъ ‘мир’ как раз и определяется тем, что земной, этот свет уже не обязательно связан со светом, скорее наоборот, он пребывает во тьме. Внутренний взрыв исходного переносного значения (тот свет — этот свет) вызван смысловым разбиением: «тот свет» всегда светлый, «этот свет» — тьма. Метафоричность словоупотребления в ранних древнерусских текстах, в том числе и в переводных, новым осложнением смысла и его обобщением в составе устойчивых формул наложилась на прежнее соотношение прямых и переносных значений слова. Символ рождается в определенном контексте, но как законченный знак культуры он предстает в сложной семантической структуре слова. Косвенно это, конечно, должно было отразиться и на семантике производных слов. Точнее сказать, именно значение производных и приводило к столкновению различных переносных значений слово-корня, вызывая ту самую игру слов, которой так добивался (в нашем случае) Кирилл. Вряд ли подобное движение мысли (источник света → источник знания → источник жизни) было индивидуально характерным для Кирилла. Скорее всего, он лишь точнее и яснее других отражал логику развертывания метонимических значений слова и его производных, выражая логический смысл своего собственного текста. В разговорный древнерусский язык многие значения слова свет попадали уже после обработки их в книжных текстах, быть может, через посредство народной литературы и устных произведений. Белый свет — первоначально тавтология, но выражение по всему свету несет уже определенно народное осмысление устойчивого сочетания: здесь отсутствует указание на «тот» свет, хотя в волшебной сказке подобное представление имплицитно и могло содержаться[158]. Невозможно согласиться с тем, что исходными значениями слов темный и светлый были переносные значения морально-оценочного характера. Но точки пересечения двух традиций в восприятии и обозначении света важны, как важны и те конкретные пути семантического развития, которые они прошли в процессе совмещения их в общей системе со-значений. Приведенные здесь примеры наталкивают на размышления о смысле символических обозначений в общей структуре средневекового славянского текста. В их основе обычно лежит калькированное с греческого выражение, которое используется в качестве структурного элемента, несущей конструкции текста в общем ряду других, столь же традиционных для книжной культуры топосов и формул. Однако лексическое наполнение подобных формул постоянно изменяется в определенной последовательности семантических переходов и всегда находится в четкой зависимости от смысла структурных и композиционных единиц текста. Символ как бы снимается с образцового контекста-формулы. Именно в таком, сознательном или неосознанном, варьировании лексических наполнителей формулы и заключается творческий поиск каждого образцового средневекового автора. Форма вариантна, инвариант ее воссоздается только содержанием формулы. Символическая насыщенность каждой отдельной лексемы определялась потенциальной возможностью ее замены другою, близкозначной лексемой, смысл которой она и замещала конкретно в данном контексте. При этом значения самого слова и всего контекста в целом эквивалентны, поскольку уже выбор той или иной лексемы при общем сходстве значений определялся именно контекстом. Так возникал принцип символических обозначений — одно через другое, отраженным светом семантики одного слова через посредство другого. Оттенки смысла порождают символический ряд обозначений, в четких контурах которого они предстают как законченный символ, который отныне можно использовать и независимо от породившего его контекста. Когда в XVI в. Максим Грек новооткрытую Америку называет Новым светом, он уже полностью свободен от связанных контекстом значений слова свет. Учитывая все это, было бы осторожнее не давать словарных определений на основе древнерусских, особенно единичных, контекстов. Вполне возможно, что они представляют искаженную семантику слова, не отражающую реального его смысла.СИМВОЛ КАК СЕМАНТИЧЕСКИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ В ТЕКСТАХ КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО
Противоречивые суждения о языке и стиле Кирилла Туровского встречаются с середины XIX в. Лингвисты и писатели высоко оценивали творения средневекового автора, а богословы и литературоведы не видели в его произведениях ничего, кроме подражаний византийскому красноречию. Несколько высказываний помогут определить степень противоречивости в суждениях о Кирилле. «Я так думаю, что не только летописи, или Русская Правда или Слово о полку Игореве, или вопросы Кирика и пр., но и тот проповедник Туровской кафедры в своих, столь же глубоких, сколь простодушных Словах, исполненных живого сочувствия с настоящим, всенародно говоренных и часто как речениями, так даже и формами напоминающих свое месторождение, сторону Руси юго- западную, что Кирилл Туровский входит не только в историю Русской словесности, но по многому и в историю русского языка»[159]. «Сомнений нет, например, что проповедь Кирилла Туровского и художественностью, и самобытностью недосягаемо выше проповеди Феофана Прокоповича, что только в произведениях двух современных витий (Карамзина и Пушкина. — В. К.) найдутся образцы, равные ей, этой проповеди XII столетия, простотою и глубиною мысли, величием и красотою слова»[160]. Уясняется связь между жанром (ораторская проза) и формой его воплощения (язык) — их взаимодействие определяется строго функционально, а народность («понятность») языка поддерживала художественные достоинства самого жанра. «Дело состоит в том, что по этому учению ораторская речь, следовательно и проповедь, не суть художественные произведения; а, я думаю, напротив того, что можно бы с большею истиною сказать, что всякое художественное произведение есть ораторская речь или проповедь в том смысле, что оно необходимо в себе заключает слово, через которое оно действует на умы и на сердца людей, точно так же, как и проповедь или ораторская речь»[161]. Иначе полагают литературоведы: «При всем своем несомненном ораторском таланте... Кирилл Туровский не имеет как писатель резко очерченной физиономии; его сочинения трудно узнать и выделить из массы других — особенно переводных — произведений подобного рода; он примыкает, как известно, к школе византийского церковного красноречия; реальных русских черт он допускал очень немного, и весьма ошибался бы тот, кто пожелал бы составить по его сочинениям более или менее ясное понятие о русском быте (!) в XII в. Такая точка зрения исследователей вопроса о подлинности сочинений Кирилла Туровского заставляла их всегда сталкиваться с трудной, утомительной и почти бесполезной работой теоретических соображений...»[162] Односторонность такой точки зрения на творчество Кирилла объясняется профессиональной установкой автора на историю жанра как славянской формы выражения известного жанра византийской литературы. Наши современники уже точнее определяют степень зависимости Кирилла от византийских образцов, в том числе и в отношении к форме. Если И. П. Еремин находил лишь небольшое число риторических приемов, свойственных писаниям Кирилла[163], то Ю. К. Бегунов, включая творчество Кирилла в славянскую традицию, обнаруживает уже более тонкие особенности ораторского искусства Кирилла[164]. Приточно-иносказательный стиль Кирилла требовал особых форм словесного воплощения. Место метафоры у Кирилла занимает символ (обычно он и заимствован), а развернутой метонимией строится перифраз — это основное средство «перевода» византийской метафорической образности на славянский язык. Эти выводы подтверждаются и лингвистическими исследованиями текста[165]. Однако литературоведы по-прежнему весьма скептически относятся к самобытности и тем более к художественным достоинствам в произведениях Кирилла. Вслед за В. П. Виноградовым, и Ф. Томсон[166] развивает положение о рабской зависимости русского писателя от византийских источников. Повторяются уже известные упреки в компилятивности его творчества, в чисто риторическом характере его текстов, в слабости и неоригинальности его языка (прежде всего, конечно, богослов и литературовед под «языком» понимают лексику). Рассмотрим все эти обвинения пока в самом общем виде. На компилятивность творчества Кирилла первым указал Виноградов: Слова Кирилла построены «по камертону греческих поучений». Однако примеры, приведенные им же, а затем и Томсоном, отражают своеобразие именно Кирилла-автора: Кирилл заимствовал технику и мотив, иногда и композицию Слова, некоторые цитаты из отцов церкви (что также понятно для писателя XII в.: такие цитаты, исполняя роль аргумента в рассуждении, обычно начинают очередной фрагмент поучения или повести). Однако цитирует Кирилл, как правило, не очень точно; это, скорее, парафраз известной мысли, словесная переработка сопровождает даже канонические цитаты из Писания. Византийский источник Кирилл перерабатывает так, что тот укладывается в сугубо авторский стиль данного жанра в соответствии с возможностями находящегося в его распоряжении языка (ср. сопоставления текста Кирилла с его оригиналами[167]). Типичный для Кирилла прием раскрытия символа посредством парафраза Виноградов совершенно напрасно называет «аллегорическим комментарием». Отсюда и второй упрек в адрес Кирилла: он якобы «слабый ритор». Это утверждение также несправедливо, поскольку основано на общем взгляде без предварительной разработки текста. В действительности же Кирилл — очень опытный и даже изощренный мастер риторического стиля, но ограниченный возможностями, которые создавал ему литературный язык славян его времени. Необходимо все же различать собственно языковые средства и риторические приемы Кирилла, чего обычно не делают. Третий упрек, высказываемый Кириллу, — в том, что язык его произведений «неорганичен», — также неоснователен; как раз в отношении языка Кирилл особенно оригинален, для последующих авторов он стал образцом в обработке традиционных текстов и сюжетов. Защите всех трех тезисов и посвящена предлагаемая статья[168]. Сопоставление текстов Кирилла с возможными оригиналами его произведений показало своеобразие его как художника слова. Более того, ясно осознаваемое единство текстов Кирилла определяется некоей семантической установкой, которая, впрочем, понятна и не выходит за пределы средневековой книжной традиции. Это противопоставление небесного, Бога, всему земному и низменному. Выбор слов, их семантическое развитие, возможные стилистические варианты определялись дуализмом воплощений добра и зла. Символический смысл имен конкретного значения опирается у Кирилла на прямое значение слова. Так, звѣзда у него: 1) ‘небесное тело’ — 2) ‘(небесное) светило’ — и только потом 3) ‘звезда (вифлеемская)’ — знак рождества Христова. Ср. соответственно: «солнце не стоя горить и луна страхомъ не сьяеть, звѣзды хытростию текуть» (Мол. 97.7) — «тебе ради солнце свѣтомь и теплотою служить, и луна съ звѣздами нощь обѣляеть» (XV, 333.39; в соответствии с тем же текстом по Супрасльскому сб. XI в. — 81.13 — здесь стоит ῾ώς φωστηρες, luminaria, т.е. ‘светило’) — о «знамении звѣзды» (XV, 346.28; 340.4, и др.) — только в последнем случае употребляется форма ед. числа, как и подобает слову в символическом значении. Семантический переход с заключительным символическим значением был бы непонятен как символ без посредствующего звена, которое и «держит» символ в пространстве текста. Звѣрь: 1) ‘животное’ — 2) ‘(дикое) животное’ — 3) ‘дикий (человек)’, ср.: «тебе ради рѣкы рыбы носять, и пустыни звѣри питаетъ» (там же, 333.40); затем — повышение степеней отвлеченности посредством выделения собирательности: «нъ акы звѣрие на оружьника нападъше отбѣгоша» (там же, 334.16) — «да не в адьстѣи устанемъ пустыни и тамо геоньскыми растерзани будем звѣрми» (XII, 354.14). Переход от собирательного имени звѣрье через возможные в тексте формы прилагательного («после зубы звѣрины», XV, 339.8) к обычному уточняющему определению («геоньскыя звѣри») также показывает усиление степеней отвлеченности: речь идет уже не о конкретных зверях (их всегда много), но об их злобной силе. Лишь на этой основе рождается и следующий уровень символики: «слыши, Арию, безглавьный звѣрю, нечистый душе, оканьный человѣче...» (там же, 345.28). За этим выступает уже чисто символическое представление об апокалиптическом звери, так что и в данном случае усложнение семантики корня напрямую подводит к созданию символа в той же последовательности усложнения смысла: прямое значение слова — переносное его значение — символ. Символические значения слов звезда и зверь существуют и до момента создания текста Кириллом. Более того, из этих символических значений он и исходит, выявляя контекстуально подводящие к пониманию символа переносные значения славянского слова. Иначе говоря, Кирилл создает текст с экспликацией тех со- значений ключевого термина, которые необходимы для расшифровки («показания», или «толка») символа. Понимание смысла текста затруднено, если символическое значение не поддерживается текстовыми формулами, сохраняющими основное значение слова или ближайшие его переносные значения. Строго говоря, только в таком случае перед нами собственно символ; ср. все три употребления слова жезлъ в значении ‘опора, сила’ в Службе Ольге: «Исаия тя жезлъ нарицаеть, Пречистая, Давидъ же тя перстъ Господень» (89.16); «жезлъ Божия Духа» (90.25); «се жезлъ и сосуд златый, се источникъ непечатленен» (93.27). Ср. с этим расшифровку символа, данную в древнерусских азбуковниках: жезлъ — посох, но это уже перевод архаизма в собственном его, прямом значении, данный на исходе средневековой символической традиции. Пониманию смысла символа, напротив, способствует широкое включение в текст уточняющих определений, ср. мечь как ‘(холодное) оружие’: «ни прольяся твоя от меча кръвь» (XIII, 425.24, в парафразе из Иова 16.9); «и остриемъ порази мя въ колѣнѣ» по Острожской библии — у Кирилла «грѣховымъ же мечемъ злѣ порази мя» (Мол. 92.12, здесь имеется в виду грѣхъ ‘несчастье, беда’); «и си вся еретикъ духовьными исѣкоша мечи» (XV, 344.16) при греч. μάχαιρα του πνευματα букв. ‘меч духа’ (Ефес. 6.17). Способ постепенного истолкования символа через определение по существенному признаку в текстах Кирилла обычен. Символическое значение слова может быть и единственным в произведениях Кирилла, но такое значение понятно из контекста. Рассмотрим это на примере слова глубина, которое встречается четыре раза: 1) «и рыбари, глубину божия вочеловечения испытавше, полную церковную мрежу ловитвы обрѣтаютъ» (XIII, 417.9) — парафраз из Слова Григория Богослова: «И рыбарь глубины прозираеть и мрежу очищаеть»: символ на основе аллегории; 2) «неизмѣрьна небесная высота, не испытана преисподняя глубина, и не свѣдомо Божия смотрения таиньство» (XV, 331.4); 3) «Аше бо в глубину Божиих книг внидох, но грубом языком ума просты изношю глас» (XII, 354.21); 4) (Богородица): «Знаю твое за Адама пострадание, нъ душевьною рыдаю объята горестию, дивящися твоего таиньства глубинѣ» (XIII, 420.20). Таким образом, в оригинале славянского перевода Григория Богослова (и других византийских ораторов) представлена аллегория (рыбарь — это апостол и пр.), которую Кирилл изъясняет посредством хорошо организованных парафраз, анализируя семы ключевого слова. Во всех примерах говорится о глубинном смысле явления Христа, и смысл этого следует раскрыть, постигая его сущность. Речь идет о ‘безмерности (бездонности)’, а следовательно, о ‘непостижимости’ этой сути. Ни одного из прямых значений слова у Кирилла не находим и в результате получаем возможность рассмотреть использование символа в средневековом тексте. Греческие эквиваленты (прежде всего, βάθος ‘глубина, бездна’) в основном их значении соответствуют славянскому слову глубина, однако только в текстах Нового завета такие слова получили переносное значение ‘глубокомыслие; серьезность; сущность’. Именно такое значение греческого слова в границах текстовых формул Писания и восприняли древнерусские книжники. Основываясь на прямом (и образном) значении ‘бездонность’, которое представлено и в традиционных формулах народной поэзии, эти тексты и «держат» символ с определенной его семантикой, постоянно расширяя его смысл в воссоздаваемых парафразах текста. Даже обороты типа «из глубины сердца», строго говоря, не являются метафорой в узком смысле термина, поскольку и это — точный перевод греческой формулы (встречается в Словах Иоанна Златоуста и в некоторых местах Псалтири). Славянским выражением вообще могло быть только сочетание с прилагательным, например, «из сердечной глубины»; ср. «въ глубины духовьныя» — тоже, впрочем, грамматически славянизированное выражение при переводе текста из Григория Богослова. Сочетание «глубины книжные», встречающееся в восточноболгарских переводах XI в., при развернутом у Кирилла «глубины Божиих книг» демонстрирует тот же поиск форм для передачи переносных значений слова, поскольку славянская грамматика предлагала несколько возможностей для подобного переложения. Чтобы яснее представить себе смысл возникшей в результате обработки переводного текста семантической напряженности между исходным (прямым) значением славянского слова и постепенно выявлявшей свои «потаенные» смыслы символической его значимостью, необходимо проследить всю историю развития семантической структуры данного слова в его системных связях с другими словами. Проделав такую работу, мы можем реконструировать «семантическую парадигму» слова глубина: 1) ‘расстояние от... до’ (от видимой поверхности до неопределенного уровня вниз); 2) ‘пространство между этими точками’; 3) ‘заполненность этого пространства’ (чем-то или кем-то); 4) ‘бесконечность’, т.е. непостижимость его (и поэтому); 5) ‘суть’ его («глубокомысленная» содержательность его бездонности). Никакое конкретное изменение значения слова глубина в определенном контексте невозможно толковать как метонимию, парафраз, метафору, катахрезу и пр. вне подобной структурно-семантической его рамки, крайними точками которой являются: семантическая доминанта слова (1) и символическое значение культурного термина (5 и отчасти 4 как переход к 5). Исторически здесь представлена последовательность смещения объема понятия, происходившего на основе серии метонимических переносов («вместилище» — «вмещаемое» и пр.). В постоянном процессе углубления в семантическую перспективу сло́ва материальной основой его всегда остается семантическая доминанта, а наводящей на развитие потенциальных значений слова является символическая ценность культурного текста. Итак, образность текста создается Кириллом не с помощью метафорической «игры слов», а путем раскрытия символа в последовательности метонимических переносов в парафразах цельного текста. В результате происходит обобщение основного значения слова и развитие переносных значений. Метонимические переносы определяются контекстным окружением и характером синтаксических связей; обогащение последних все новыми типами также задано структурой текста и общей направленностью на раскрытие символа. Собственно говоря, только на различии форм в известной синтаксической позиции мы и устанавливаем значение слова, никогда не получая возможности создать законченную словарную статью: ограниченность контекстов не дает надежного материала для исчерпывающей семантической характеристики слова. Рассмотрим еще несколько примеров. Гласъ ‘звук речи; голос’ — ‘речь’, но гласъ (чего) создает по видимости уже переносное значение ‘веление, зов (чувств, совести и пр.)’. Возможно двоякое толкование этого переноса в определенном синтаксическом окружении. Перенос в сторону отвлеченного значения может быть естественным развитием собственного значения слова — или это заимствование из переводных текстовых формул. Последнее вероятнее, и подтверждение этому находим во многих случаях. Перенос по типу олицетворения отражается обычно в устойчивых формулах, источники которых чаще всего известны. «Глас радости и веселья» у Кирилла (XII, 351.7) сюда не относится. С одной стороны, это устойчивая формула в славянском переводе Псалтири, с другой — это грамматический эквивалент к славянской формуле «радостный гласъ», ср. рядом две синтаксически возможные формулы: «воскликнѣте Богу гласомъ радости... в гласѣ трубнѣ» (XV, 342.11-12). Гласъ как ‘звук’ — ‘голос’: «и познавъше гласъ Господень вся силы небесныя» (XV, 342.44, а также сходные выражения XIII, 421.29; 424.27; 422.30 и пр.) с постоянным совмещением значений ‘звук’ и ‘голос’ (т.е. собственно ‘звук голоса’), поскольку высшие силы, о которых здесь всюду идет речь, «голосом» говорить не могут. Только сам о себе Кирилл может сказать «не хытростию бо словесъ възвышаю гласъ, но горестию душа» (Мол. 158об.) — ‘звук (голоса)’. Столь же совмещенными по значению являются и другие контексты Кирилла: обычно это значения ‘голос’ — ‘речь (слово)’, ср. «всѣверныя душеполезными спасеными наслажающе гласы» (XV, 348, и др.). Основным значением слова гласъ для Кирилла является ‘речь, слово, высказывание’; отмечается содержательнаясторона «голоса», смысл речений, а не форма высказывания (видимо, и как противопоставление к «книге», т.е. написанному, ср. примеры: XII, 351.31; 354.22). Власть. Общее значение ‘власть, господство’ в текстах Кирилла присутствует во всех контекстах, поскольку это — основное значение слова. Синтаксической позицией, способной актуализировать одно лишь это значение, является сочетание с глаголом (дати, получити и пр. — власть), ср.: 1) «дасть има власть на всѣхъ внѣшнихъ» (там же, 341.20), «даную ми от Бога Отьца власть и царство» (XIII, 418.28). Второе значение (оттенок того же значения) ‘могущество, сила, владычество’ выражает собственно проявление власти, ср.: 2) «тобѣ бо дасться власть всяка и сила на небеси и на земли» (XV, 339.40; 343.17); «не имаши на мнѣ власти никоеяже» (XIII, 421.25); сюда же отнесены и созначения ‘властность (возможность поступать по своей воле)’, ср.: «нъ животу и смерти имѣя власть — избави мя» (Мол. 95об.); синтаксическая позиция ясна и в данном случае. Затем выявляется значение ‘лицо, орган власти’, т.е. носитель власти, ср.: 3) «напасть... ли к власти обида зла» (XII, 349.24); «на плотнѣи бо чистотѣ держится ефуд, а не на власти сана» (XIII, 360.21); сюда же, видимо, можно отнести некоторые устойчивые сочетания, например «власти темные» (т.е. «власти тьмы», бесы), ср. XV, 340.29 и пр. В определенных синтаксических позициях актуализируется и значение объекта власти, т.е. ‘область, государство’ или ‘владение, собственность’, хотя последнее значение в текстах Кирилла и не представлено, а значение ‘область’ весьма спорно в контексте «и тъ измѣтаетъ неправедныя из власти» (XII, 344.31); скорее всего, это значение 2 или 3. В древнерусском языке такое значение слова достаточно распространено, однако семантическая отдаленность его от основного значения слова довольно рано вызвала необходимость в новой лексеме, которая и появилась, — волость. Распределение форм по стилистическому признаку (волость — власть) и в данном случае отражает свойственную древнерусскому книжному языку семантическую поляризацию: неполногласная форма соотносится с субъектом, а полногласная — с объектом властной силы (оппозиция «внутреннее — внешнее»). Такова последовательность метонимических переносов, обусловленных близкими контекстами (синтаксической позицией и некоторыми распространителями), которая обусловлена и общим значением гиперонима (символа в данном культурном тексте). Глава. Основное значение ‘голова (часть тела)’ присутствует во всех контекстах, в том числе и в цитатах из Писания. Прямое значение-субстрат возможных образных переносов, ср.: «дондеже на главѣ ти плѣшь будетъ» (XII, 356.10) и пр., всего 12 раз. Метонимический перенос связан с обозначением волос на голове: «пострижения главы твоея въспомяни» (там же, 356.27), «свои постригоста главѣ» (там же, 365.3) и др. Значение слова голова как ‘душа’, т.е. конкретно ‘человек’, представлено в некоторых контекстах при одновременном сохранении основного значения. Возникает игра смыслами: «превъзидоша безакония моя главу мою» (XV, 332.22), «възвратися болѣзнь на главу мою» (Мол. 92об.). Синтаксическая позиция ограничивает возможности переноса, связанного с цитатами (как в тексте из Мол.). Значение ‘то, что главенствует’ также сопутствует основному значению слова, определяясь узким контекстом, ср.: «суть бо вси под игуменом, аки уди телеснии под единою главою, съдръжими духовными жилами» (XII, 350.32), «сим бо тѣлом глава адова скрушена» (XIII, 412.44, т.е. «вождь ада» — сатана). Другие значения слова глава известны древнерусскому языку, но у Кирилла они не встречаются. Совмещенность метонимического значения с основным в одном и том же контексте — характерная особенность Кирилла и в данном случае; столь же явно наблюдается связь значения слова с грамматически обусловленным контекстом. Гнѣвъ ‘состояние сильного негодования, возмущения’, обычно с указанием субъекта гнева, т.е. «гнев ваш», «гнев жидовеск» и пр., которым может быть и Бог, хотя сочетание «гнев Божии» имеет и другое значение: ‘наказание (от Бога)’, ‘кара’, налицо перенос с субъектных отношений на объектные. Устойчивое сочетание с глаголом также организует формулу, ср.: «гнѣвъ возложити (послати) на кого-либо» ‘наказать’. Такой аффект, как гнев, не нуждается в лексически выраженной специализации значений, поэтому ни контекстными переносами, ни в виде самостоятельных слов слово гнѣвъ не разграничивало оттенков гнева — от глухого недовольства до исступления, как это представлено, например, в греческом языке. Все греческие слова этого значения одинаково переводились одним славянским словом гнѣвъ, которое благодаря этому не просто сохраняло свой исходный семантический синкретизм, но и, становясь гиперонимом литературного языка, выступало в качестве символа в определенных культурных текстах. Семантические корреляции, включающие в свой состав оппозиты разного ранга, влияют, по-видимому, и на тип лексического варьирования. «Смысловая группа “Бог” включает в себя именования единственного денотата, как просто называющие его в трех ипостасях (Бог-Отецъ, Христосъ, Святый Духъ), так и характеризующие его (Спасъ), однословные и дескрипционные (“Творець твари и законудавець”)»[169]. Таков, действительно, обычный прием антономазии, т.е. именования по одному признаку, собственному имени или описательно. Проблемы синонимии, о которой сразу же возникает мысль, здесь не обнаруживаются, поскольку даже однозначные слова в семантическом смысле не соотносимы друг с другом в текстовых формулах Кирилла; они определяются либо своим происхождением, либо конкретным текстовым окружением. Антономазия как прием снимает и проблему метафоризации, поскольку «содержание понятия», отраженное в слове, здесь не изменяется, внимание сосредоточено на каком-то единственном признаке денотата и выражается самостоятельной лексемой. Другими словами, антономазия выступает как бы обратной стороной метонимии, весьма обычной в текстах Кирилла, и действуют они в отношении к «объему понятия», переданному словом-термином. Но если положительная коннотация родового (гиперонима) «Бог» создает семантическое варьирование по лексемам, увеличивая их численность и не создавая при этом синонимии, то отрицательная коннотация оппозита, напротив, вызывает семантическое варьирование в границах одного и того же слова (лексемы). Рассмотрим этот процесс на примере слова бѣсъ (бѣси) в противопоставлении к слову Богъ. «Да и в послѣдни день въскресше с телесы неблазньно поклоняться Богови, а не имже ныня работаша, прельщени бѣсом» (XIII, 346.19). Числовая неопределенность подчеркивается грамматической формой, совпадающей и для дат. падежа мн. числа (работаша бѣсом), и для тв. падежа ед. числа (прѣльщени бѣсом). Однако в прямом значении, в противопоставлении к лексеме Богъ, это слово могло использоваться и в форме ед. числа: «не дай же о мнѣ радостьнику быти бѣсу» (Мол. 195), «запрѣти бѣсу» (там же, 107об.). Наоборот, в собирательном значении ‘нечистые (духи)’ это слово всегда представлено в форме мн. числа: «да не приступят бѣси, хотящеи ны убити грѣхом» (XIII, 412.41), «и бѣсы от человѣк прогнав» (XV, 336.35). Ср. также: «о Вельзаулѣ, князи бѣс, изгонить бѣсы» (там же, 340.6) с оригинальным текстом в Матф. (IX.34) по Острожской библии («о князи бѣсовьстѣмъ — изгонить бѣсы»). Отсюда возникает возможность метонимического переноса; ср. сказанное о бесноватом человеке (XIII, 422.8 и 424.12) в соответствии с таким употреблением в славянском переводе Евангелия, а также сочетание бес полуденный: «избави мя от всякыя стрѣлы летящая въ день и от срящи бѣса полуденьного» (Мол. 95об.), ср. Псалом 90 и греческий эквивалент сочетания. Семантический переход ‘дьявол’ → ‘злая (сила)’ → ‘бесноватый’ и/или ‘(насылающий) бесов’ складывается из формул разного происхождения, однако строго ограничен только данным семантическим развитием — на основе метонимического переноса. Если бы возникла необходимость, скажем, использовать слово бѣсъ для обозначения языческого божества, семантическое единство текста воспрепятствовало бы вторжению некоррелированного значения в семантику данного термина, как она представлена именно в системе Кирилла. Поучительный пример находим у самого Кирилла (XV, 338.28): «Ци ли на высокыя холмы хощете мя повести, идеже вы своя дѣти бѣсомъ закаласте? Пожроша бо, — рече, — дѣмоном (вариант по поздним спискам: бѣсом), а не Богу, — Богом, ихже не вѣдаша отци их». Ср. с этим оригинал: «Пожроша бѣсовомъ, а не Богу, Богомъ, ихже не вѣдаша» (Второз. 32.17 по Острожской библии). Греческое слово δαίμων ‘дух, божество’ подходит в данном случае как разъясняющее отношение к Единому Богу бѣсовъ, дѣмоновъ и «боговъ» (тоже во мн. числе). Символическое значение не возникает даже на основе обычной для этой лексемы формы мн. числа: богомъ, т.е. демономъ, а значит, и бѣсовъ. То же противопоставление возникает у имен абстрактного значения. Положительная коннотация дает возможность лексического варьирования для выражения общего денотата, например: любовь — любление, милость, миръ, снага и пр., может быть, в зависимости от контекстных значений соответствующих греческих слов (αγάπη ‘любовь’ и пр.). Это позволяет сохранить синкретическое единство в значении родового по смыслу слова, последовательно уточняя отдельные его признаки. Поэтому в 20 употреблениях слова любовь очень трудно определить оттенки значения, составить схему семантических переходов в зависимости от текстовых формул. В конце концов ‘привязанность’ или ‘склонность’ мало чем отличаются от значения ‘согласие’ или ‘отношение’, совместно представляя общее значение важного термина (символа). Напротив, слова типа вещь невозможно соотнести с однозначными им терминами, связанными с такими словами отношением гипонимии. Гиперонимичность слова вещь определяется семантической структурой корня и возможным варьированием грамматической формы. Например, у Кирилла это слово употребляется лишь в форме мн. числа и притом только в двух значениях: 1) ‘дело, событие (как результат)’: «забуди мирьскаго жития вещи и нетрудьный хлѣб» (XII, 356.12; ср. еще XII, 352.18 и 355.10; XIII, 411.16 и др.); 2) ‘вещество’— ῾υλη филос. ‘вещество, материя’: «по искушении телесныхъ вещей попечися» (XII, 352.5). Семантическая цепочка возможных в древнерусских текстах значений слова не выражена в произведениях Кирилла полностью, но может быть представлена на основании других источников того же времени[170]. Семантический синкретизм славянского слова и в данном случае поддерживается семантической связью этого славянского слова со множеством греческих, которые оно переводило, создавая гипероним литературно-книжного языка. Опасно, конечно, называть гиперонимом слово, не связанное с гипонимами, которых еще нет в этом языке. Однако восстановить исходный элемент впоследствии развивавшихся гипонимо-гиперонимических отношений историк все-таки обязан. Глагольные формы — наиболее подвижная часть текста, но и они в определенных условиях способствуют созданию образного значения. У глаголов переносное значение подразумевается и на основе обычных изменений грамматической формы (как и у имен), и в связи с параллельным к основному значению развитием отвлеченных символических значений. Последнее лучше всего видно на часто употребляемых глаголах, тут можно видеть «игру значений» и представить общее движение смысла в тексте. Въселити(ся) — ‘войти; ввести’: «Въ ту же мѣру... въ небесное царство въселити» (там же, 355.42), «и святых душ паче естества обогатѣша, от ада на небеса вселившеся» (XIII, 412.32). Таково основное значение слова, которое использовано в тексте самого Кирилла и подтверждается характером синтаксических связей (въселити въ... от ада на небеса). Второе значение слова приходит вместе с цитатой: «На руку своею написах стѣны твоя, Иерусалиме, и вселюся посреде тебе» (там же, 411.31), ср. Исайи 49, 16 (по Острожской библии): «Се в руку моею въписахъ грады твоя, и предо мною ecu присно». Парафраз с заменою глагола (вселюся // ecu присно) создает совершенно иное значение у глагола — ‘разместиться, поселиться (находиться)’, но вместе с тем уже и отвлеченно переносно как ‘приобщиться’ (тому, во что вошел, стать его частью). Третье значение связано с устойчивым выражением «вселиться в них» и также пришло из Писания. Говоря о православных, верных церкви, как о «вместилище» Духа Божьего, Кирилл часто использует цитату из 2 Кор. 6, 16, которая в Острожской библии представлена так: «Якоже рече богъ: “Яко вселюся в нихъ и похожу, и буду имъ богъ”»; ср. у Кирилла: «вселюся бо, — рече, — в ня и похожу» (XIII, 410.6, также XII, 341.35), а также и в другой форме: «вселися в ня» (XII, 351.36), «вся всельшаяся в ню» (там же, 342.28), ср. еще: «и слово плъть бысть и въселися в ны» (XV, 346.7) при Ио. 1, 14 (по Острожской библии): «и слово плоть бысть и вселися в ны». Таково значение слова при переводе греч. ’ξυοικήσω εν αυτοις и εσκήνωσεν εν ῾ημιν, т.е. в первом случае и ‘вселиться’, и ‘обитать’, ‘проживать’ (в доме), а во втором — ‘располагаться’ (как дома), т.е. ‘утверждаться’. Учитывая сходство синтаксических конструкций, в которых представлено данное сочетание значения (при разных греческих словах и формах их представления), можно предположить, что для Кирилла в данном случае важнее как раз переносное значение слова ‘утверждаться’. Итак, все три типа синтагм, употребленных в текстах Кирилла, восходят к различным по происхождению сочетаниям: авторское прямое значение, на которое накладываются переносные значения слова, вынесенные из переводных текстов, хотя при этом всегда определяемые основным значением славянского корня и не выходящие за пределы его семантики. Тем не менее, поскольку второе и третье значения слова, в сущности, являются одинаково переносными, можно допустить по системным соображениям, что и первое значение глагола воспринималось столь же символически; такое символическое значение можно было бы условно записать как ‘войти (внутрь)’ → ‘внедриться’ (т.е. ‘вознестись’). Теперь последовательность co-значений глагола становится ясной как воплощение символического значения: 1) ‘войти (внутрь)’ → ‘вознестись’ (т.е. внедриться); 2) ‘резместиться (внутри)’ → ‘приобщиться’; 3) ‘пребывать’ → ‘утвердиться’ (т.е. стать частью этого). Важно, что все значения этого слова, которые сегодня мы вполне могли бы передать различными приставочными (соответственно в-селиться, рас-селиться и по-селиться), в текстах Кирилла еще не специализированы лексически, эти значения представлены совместно в общей лексеме, актуализируются только контекстно. Дело в том, что древнерусская формула, в составе которой употреблено слово, особенно глагольное, могла быть образована только по принципу согласования: веселитися въ... а не поселитися въ, расселитися въ... Таково формальное ограничение семантических вариантов: грамматический контекст сдерживал возможный разброс co-значений слова. Семантические переходы от конкретных (движение подано аналитически, разными контекстами) к отвлеченным значениям предстают как корреляции и могут быть показаны на многих примерах употребления Кириллом глагольной лексики. На подобных семантических корреляциях в текстовых формулах, экспериментирующих семантическую доминанту глагольного корня («внутренний образ» слова), и строится скрытый символ повествования — в отличие от прямого символа, выражаемого именем. В подобных корреляциях, жестко скрепленных, с одной стороны, семантикой славянского слова, с другой стороны, возможными пределами переносных значений в переводных текстах, и развивается переносное значение славянских слов. Семантика каждого отдельного слова в этой системе понималась как малозначительный дифференциальный признак; важна была система символов, она задавалась умело подобранными и уместно употребленными переводными текстами, которые как бы направляли процесс развития переносных значений, но только контекстно обусловленных, формульно связанных, не разрушающих еще исходной синкретичности автономного славянского слова. Неслучайность цитат, полуцитат, а еще чаще намекающих парафраз (как и в случае с Исайей) в том и заключается, что именно цитаты организуют семантическую систему символов и одновременно являются ключом к пониманию этих символов. У имен прилагательных положение сложнее. По своему грамматическому свойству обозначать единственный признак они, на первый взгляд, не могут создавать единой семантической структуры, поскольку и по определению выражают не символ, а лишь его признак. Всю сложность возникающей в связи с этим проблемы покажем на прилагательных с отрицательным префиксом. Бесконечный ‘не имеющий предела’ как калька с греческого απέραντος ‘беспредельный’ в сочетании, обозначающем «вечную жизнь» на небесах, встречается только в оборотах, которые постепенно заменяли друг друга по мере привлечения в состав авторского текста разных источников. С современной точки зрения это синонимы, но их семантическая близость возникает как вторичное семантическое соотношение слов, употребленных в составе устойчивых формул, ср: «въ бесконечьные вѣкы» (Мол. 169, также XIII, 418.29) — «въ бесконечны живот» (XII, 347.15; XV, 344.21) — «бесконечную жизнь» (XIII, 421.21; XV, 333.61) и, наоборот (в отношении к смерти): «праведници в вѣчную жизнь, а грѣшници в бесконечную смертную муку» (XII, 347.41; 349.6, XIII, 426.5) — «плача оного бесконечного» (Мол. 99об., метонимия: ‘чрезмерный’). Любопытно, что в восточноболгарских переводах тем же словом бесконечный передавалось и греческое ακήρατος ‘чистый, непорочный’, чего нет в древнерусских источниках. Неясно, присутствовало ли это значение и в сочетаниях типа «бесконечный живот», хотя семантический синкретизм славянского новообразования допускает такое понимание: в первоначальном переводе формула «бесконечный животъ» еще не заменилась сочетанием «бесконечная жизнь». Однако количественная мера пространственного значения у прилагательного бесконечный выше качественного наполнения семантики слова (значение ‘непорочный’ не определяется компонентами славянского слова). Безначальный ‘самовластный, никому не подвластный’ — в сочетании со словом Отец (Бог-Отець), ср.: «Боже нашь, иже нашего ради спасения от безначального ти Отца пришедъ» (Мол. 194, также 161об., ср. «Боже всемогый и безначальный Господи» — Мол. 89). Эта калька с греч. άναρχος ‘безначальный’ (ср. анархия). Переносное метонимическое значение ‘извечный’ связано с воплощениями безначального Отца: «безначальный свѣтъ» (Мол.) и «безначальное слово» (ЖО, 90). В отличие от предыдущего прилагательного (‘бесконечный’), качественное наполнение слова выше, переносное значение ‘властность’ важнее чисто количественной (пространственной) его характеристики. Возможно, это несовпадение определялось семиотическими установками средневековой христианской культуры, согласно которым «конец» маркирован, а «начало» — нет. Характерно, что в обоих случаях временные и пространственные характеристики не дифференцированы и представлены в синкретизме. Такой же семантический синкретизм отмечаем во многих других прилагательных, ср. «далече Бога есмы» (XII, 345.13) — и далеко, и не скоро дойдем; «ближним и дальнимъ (XIII, 409.32) — одновременно и по времени, и по расстоянию; «в мале к тому не видѣти тобѣ» (там же, 413, 21) — и ‘снова’, и ‘вскоре’, и ‘поблизости’ и пр. одинаково можно «перевести» на современный язык наречие в мале. Неопределенность конкретной характеристики пространственно-временно́й ориентации закономерно представлена в текстах обобщенно-символического содержания, составляя один из главных признаков таких текстов. Итак, отметим, что образность текстов Кирилла Туровского создается этим автором путем раскрытия символа в парафразах с возможным метонимическим переносом в сторону обобщения основного значения, что постепенно и приводило к созданию ряда гиперонимов, столь необходимых литературно-книжному языку. В свою очередь, обращает внимание и зеркальная противоположность в отношениях между семантической структурой отдельного слова (возможно ее расширение) и семантической системой «однозначных» слов (возможно их увеличение). Семантика внутреннего и внешнего ряда имеет общую точку пересечения — символ во всем синкретизме его значений. Направленность семантических изменений в древнерусских текстах определяется также давлением со стороны заимствованных переводных текстов.К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО
В изучении Слов Кирилла Туровского особое внимание всегда уделялось стилистическим аспектам текста, связывающим их с другими произведениями XII в. «В рамках Слова чередуются тирады, в рамках тирады — предложения, в рамках предложения нередко — созвучные окончания»[171] — таковы макро- и микромиры художественной ткани этих произведений. Чтобы показать особенности филигранной работы писателя над словом, дальнейшие исследования должны коснуться собственно лингвистической характеристики древних текстов. Хотя теперь это почти неосуществимо в полном объеме, поскольку за восемь веков изменились и образное видение мира, и типы словесных связей, и значения многих слов, однако на широком фоне других произведений словесности и притом в исторической перспективе оказывается возможной (пока предварительная) расшифровка индивидуальных особенностей поэтического стиля Кирилла Туровского. Начнем с самого внешнего сопоставления. Григорий Богослов, говоря о распространении христианского учения, ограничивался широким сопоставлением с сельскими работами, фактически не упоминая о самом христианстве. Слушатель или читатель как бы домысливают за него, все время проводя развернутую параллель между проповедью нового учения и обработкой пашни. Кирилл ту же линию (фактически повторяя свой образец) ведет как бы в двух измерениях, передавая подтекст словесно, хотя и с одним необходимым ограничением, ср.:Григорий Богослов Нынѣ же ратай рало погружаетъ горѣ зря и плододателя призываетъ и подъ яремъ ведетъ вола орачь и прочертаеть сладкую бразду и надеждами веселиться.
Кирилл Туровский Нынѣ ратай слова словесная уньца къ духовному ярму проводяще и крепостьное рало въ мысльнехъ браздахъ погружающе и бразду покаяния прочертающе... надежами будущихъ благъ веселится.
Приведенные отрывки[172] показывают, чем Слово Кирилла отличается от его оригинала. Повествование, простое и четкое, выраженное именем и глаголом, идет свои чередом и полностью соответствует своему образцу. Такова канва, за пределы которой, кажется, трудно выйти. Однако в то же время и наряду с этим в повествование вплетается также словесно выраженный, но ненавязчиво поданный подтекст, ради которого и сказана проповедь. Он передается с помощью определения, представленного, главным образом, прилагательным; прилагательное же, являясь именем, в языке XII в. воспринималось как второстепенное имя, назначение которого не называть предмет прямо, а указывать на него косвенно, через свойство или качество, которое в каждом случае может быть индивидуальным, окказиональным, в разной степени выразительным. Особое пристрастие Кирилла к прилагательному, вообще к определению, по-видимому, объясняется возможностью создания полутонов и второстепенного плана, не выходя за пределы наличных грамматических средств и вместе с тем оставаясь понятным слушателю. Не случайно также особое внимание к определению со стороны других писателей средневековья, которые выделяются своим индивидуальным стилем. Вплоть до XVII в. история поисков поэтических средств выражения — это история разработки определения. Именно в этом книжники видели отличие своих произведений от поэтических текстов народного происхождения, в которых опорным словом был глагол, а подтекст исключался. Возвращаясь к приведенному тексту, отметим еще одну особенность стиля Кирилла. Он избегает сложных, искусственных по своему образованию слов (плододателя), предпочитая сочетание слов, а кроме того, устраняет ненужную дублетность (ратай — орачь). Вместе с тем в его тексте присутствует лексика условно-литературного канона. Из двух возможных вариантов иго — яремъ и волъ — унецъ Кирилл в обоих случаях выбирает второй, хотя он не всегда соответствует разговорному языку его времени (яремъ и унецъ); общее орфоэпическое построение текста также возвышенно поэтично (неполногласие, искусственные для русского языка причастия на -ащ-, -ущ-). И многие другие сопоставления такого же рода показывают нам, что новаторство Кирилла, стяжавшее ему славу златоуста, лежит в сфере формы. Когда, сравнивая Кирилла с Иларионом и Феодосием Печерским, говорят, что «Кирилл Туровский соединил в своих Словах витиеватость первого с простотой и силой убедительности второго»[173], имеют в виду, с одной стороны, строгое следование оригиналу с минимальным его комментированием, а с другой — пышный всплеск формы, максимально индивидуальной и ни с чем не сравнимой. И Феодосий, и Иларион творили в эпоху поиска формы для выражения поэтической мысли; в XII в., казалось бы, несоединимые стихии трезвой рассудочности и неукротимой эмоциональности создали чеканный сплав прозы Кирилла. Но когда мы задумываемся над тем, в чем первоисточник художественности Кирилла, мы сразу же сталкиваемся с его языком и стилем. Художественное открытие Кирилла и заключается в самом раннем в истории русского литературного языка и весьма последовательном сближении двух языковых стихий — церковнославянской и русской, в чрезвычайно тонком понимании их специфики и пределов использования в художественной речи. Практически в XII в. для древнерусской литературы Кирилл сделал то, что заботило русских писателей вплоть до Пушкина: каждый из них искал и находил единственно возможное для его времени, для его жанра и для его идеи соединение высокой славянщины и народного слова. Определив это, мы и приходим к выводу, что проблема творчества Кирилла Туровского — проблема по преимуществу лингвистическая. Речь идет не о простой расшифровке стилистической системы Кирилла, не о переводе его текстов на современный язык (чего они действительно требуют); следует понять смысл творческой разработки русского литературного языка XII в. и найти ее отражение в индивидуальном тексте Кирилла. Попробуем показать это на нескольких примерах, по необходимости текстуально ограниченных, но тем не менее выразительных. Первая особенность стиля Кирилла касается использования отдельных слов, хорошо известных русским читателям и слушателям в XII в. Вот три слова, почти синонимы, попавшие в литературный язык из народного русского или из церковнославянского языка: жизнь, живот, житье (в переводных текстах встречается еще и жить, не вошедшее в русский литературный канон и потому не участвовавшее в драматической борьбе за сферы семантического влияния). В русских текстах XI и XII вв. они предстают в неопределенном употреблении, часто смешиваются друг с другом, особенно в переводных текстах (см. Изборники 1073 и 1076 гг.), и фактически являются дублетами без определенной дифференциации в значении и употреблении. У Кирилла эти слова дают строгую иерархию, образуя семантическую перспективу, каждое из них включается только в свой контекст и тем самым получает только свое значение. Живот — это вечная жизнь духа, житье — это бренное существование тела. Такой дуализм наблюдается во всех контекстах, давая сочетания слов: живот — вечный, бесконечный, будущий, райский; наоборот, житье — мирское, это бытие телесное, которое иногда, в ряде контекстов, уточняется как определенная форма существования, например: келейное, иноческое, мирское, мнишское и т.д., и т.п. житье. Поэтому, когда речь заходит о животворном (духе, древе и т.д.), Кирилл употребляет слово животный, а не житейский. Третье слово данного ряда как бы покрывает своим значением два предыдущих: слово жизнь возможно в сочетании и с прилагательным вѣчная, но это также и сия жизнь, т.е. жизнь на земле. Тем не менее благодаря совмещенности и тем самым многозначности слова жизнь общий смысл слова не связан с бренным существованием тела; общее значение слова во всех представленных Кириллом текстах — ‘дух в теле’, одухотворенное тело, человеческое тело. Перед нами своеобразный семантический синтез слов живот и житье, который, по-видимому, и сохранил нам в качестве литературного именно этот вариант данного синонимического ряда. Кроме Кирилла, никто из писателей XII в. не представляет такого соотношения данных слов столь ясно и четко. В церковнославянских текстах они также выступают в роли механических дублетов, не имеющих каких-либо семантических или хотя бы контекстуальных различий. Индивидуальное использование Кириллом данного ряда слов подтверждается не только сравнением его словоупотребления с современным литературным языком, но и сопоставлением с некоторыми текстами XI в. Так, в Слове о законе и благодати Илариона жизнь — вечная жизнь духа (сочетания с вечная, нетленная, будущая и т.д.), а живот, напротив, — земная жизнь тела (в том числе и жизнь Иисуса). Поэтому у него и путь животный, и книги животные (а не жизненные). Третье слово он употребляет только дважды, оба раза в значении ‘форма существования’ (поучиноу жития прѣплоути, злаго ради жития, ср. еще житийския печали). Подобное соотношение слов живот — жизнь больше соответствует позднейшим изменениям в русском языке, что подтверждается и характерными сочетаниями производных прилагательных, ср.: животный порыв, животное (характеристика плоти), но жизненная идея, жизнетворный и др. (характеристика духа), но не наоборот. У Феодосия также житье и живот — дублеты, одинаково означающие телесную, земную жизнь и одинаково противопоставленные жизни вѣчьнѣи. В тексте Илариона точнее отражено общерусское соотношение слов, позже ставшее литературным; дублетность слов житье и живот указывает на то, что одно из этих слов в XI в. было заимствованным из древнеславянского литературного языка. Кирилл неожиданно нарушает, казалось бы, устоявшееся соотношение, противопоставляя живот житью и синтезируя их в одном, общего значения, — жизнь. С одной стороны, такое распределение лежит в русле всех прочих попыток Кирилла строить текст своеобразными триадами, с другой — перед нами творческая попытка пойти дальше предшественников, расколоть остававшуюся дублетность слов житье и живот, используя их в своих художественных целях. Особенность словесного искусства Кирилла вообще заключается в характерном для него попарном противопоставлении однозначных слов. С одним связывается материальное, земное, с другим — духовное, небесное. Во многих отношениях подобные противопоставления обусловлены столкновением русского и церковнославянского языков, давшим писателю своеобразные дублеты для выражения одного и того же понятия. Однако в некоторых случаях такое толкование было бы слишком прямолинейным, например, в отношении к паре благъ — добръ. Добръ всегда употребляется в сочетании со словами типа тело, жизнь, обозначая качество предмета; наоборот, благъ у Кирилла — это дух, бог, нечто неземное, обозначает качество духа и вообще суть явлений. Такое противопоставление принадлежит не только Кириллу; в неявном, не столь определенном виде оно присутствует и у других древнерусских авторов и переводчиков. Нельзя сказать, что эта пара — простое противопоставление русского слова добръ (обозначает все язычески-земное) церковнославянскому благъ (связано со всем божественно-небесным), поскольку и в церковнославянском языке было слово добръ, и для русского языка характерно слово благо — в другом, русском, его произношении (болого, бологъ). Механистическое расслоение: благъ — церковнославянизм с «высокой» семантикой, добръ — русизм с более житейской сферой употребления — кажется неудачным, несмотря на широкое распространение именно такого взгляда в современной литературе. Стремление исследователей во всех аналогичных случаях (глава — голова, град — город, благо — болого, время — веремя) видеть церковнославянизмы в русском языке учитывает только форму слова и ничего не говорит об отношении этого слова к общей лексической системе языка, в котором происходило подобное совмещение русского и церковнославянского пластов лексики. Только конкретно-историческое исследование творчества отдельных авторов такого уровня, как Кирилл Туровский, позволит определенно решить вопрос о пределах распространения и функции неполногласных церковнославянизмов в русском языке. Неполногласие в благо — это конечный результат длительной и устойчивой связи слова с высоким контекстом и с тем семантическим рядом, которым этот контекст, в конечном счете, определялся; эта связь постепенно устранила соотношение данного значения с русским болого, что навсегда связало его с заимствованной формой благо. Благо — церковнославянизм не из-за фонетического по своему характеру неполногласия, наоборот, само неполногласие является результатом закрепившегося только в высоком стиле значения. В такого рода перераспределениях между значением и звучанием двух дублетов разного происхождения важна роль образцовых писателей, чутко улавливавших не только семантические, но и стилистические аспекты происходившего «перетекания» смысла из одной формы в другую; только художник в состоянии уловить ту пропорцию этого соотношения, которая необходима в каждом конкретном контексте. Возвращаясь к стилю Кирилла Туровского, следует отметить еще одну его особенность. Широкая лексическая синонимия, возникающая при столкновении русского и церковнославянского языков, позволяет автору варьировать средства выражения при передаче той или иной мысли. Уже частотность употребления тех или иных слов в произведениях Кирилла оказывается весьма знаменательной. Так, из глаголов говорения, кстати сказать, очень частых в речи Кирилла, особенно выделяются глаголати и речи. Это глаголы, передающие значение речи в его «чистом» виде; со стилистической точки зрения они характерны тем, что одинаково представлены (и притом в одинаковых значениях) и в русских, и в церковнославянских памятниках. Таким образом, это общеславянские слова, которые тем самым ни в каком контексте не имеют и не могут иметь никакой стилистической окраски. Тем не менее Кирилл различает и эти глаголы. Глаголати служит только для введения прямой речи, употребляясь около 150 раз в примерах типа: и гла(гола)ша: человека не имамъ. Только в считанных случаях, в евангельских цитатах, этот глагол передает непосредственно процесс говорения (что се глаголете, о фарисеи?). Речи также может вводить прямую речь (около 30 раз), но вообще его функции гораздо шире: этот глагол может употребляться в самых разных сочетаниях, может быть вводящим словом (сирѣчь, пачеже рещи, рекъ и др.), указывать на процесс говорения и т.д., но всегда только во вспомогательном контекстуальном значении и лишь в тех случаях, если не требуется специального выделения слова, находящегося за пределами авторского внимания (ср.: но испытаем его добре, рѣша, взовемъ еще и второе прозревшаго...). Если же из общей ткани повествования требуется выделить глагол говорения, если именно на нем акцентируется внимание автора, то ни глаголати, ни речи не употребляются. Тогда вместо них, стилистически нефункционально нейтральных, самых общих по значению глаголов говорения, появляются стилистически окрашенные, частные по значению глаголы типа возглашает, вопиет, возвещает, поведает, беседует, сказывает (т.е. ‘истолковывает’) и др. В таком случае процесс говорения передается подобным красочным глаголом, тогда как глаголати, речи уходят на второй план, оставаясь вспомогательным средством выражения мысли: исповѣмъ бо, рече, на мя безакония моя — вводное рече однозначно указывает на речь (‘сказал’), тогда как исповѣмъ многозначно, оно сохраняет и исконное значение корня ‘знать, сознавать’ и вместе с тем в сочетании с приставками имеет уже значение ‘признаться, рассказать’. Аналогично положение в текстах Кирилла и другой частой в употреблении глагольной лексики: все, что встречается часто, стилистически не маркировано и потому используется как фон описания, является словесной тенью на заднем плане. Художественную функцию несут только редко употребленные, но зато многочисленные близкие по значению слова, вступающие в синонимические отношения друг с другом и с «фоновыми» опорными словами, не несущими художественной нагрузки. Если учесть, что в древнерусских текстах само противопоставление речи — глаголати также может использоваться в художественных целях (глаголати — стилистически маркированный по отношению к речи как более многозначному, общему для всех славянских языков и универсальному по употреблению глаголу), станет ясным, что данное в текстах Кирилла распределение стилистических тонов и полутонов также является индивидуальной особенностью этого автора. Так обстоит дело с выбором слов. Но Кирилл — мастер слова и в оформлении целого текста, в использовании слова как части текста. Легко заметить, что все его тексты как бы сотканы из своеобразных триад — троичных повторений одного образа, слова, значения или определения. Сама композиция его Слов, как это заметил и описал И. П. Еремин, трехчастна: вступление в тему, повествование — содержательная часть, заключительные хвалы. Ориентация на сакральное число «три» и следование ему на всех уровнях поэтического текста придают этому тексту переменчивый ритм, позволяя вместе с тем тонко варьировать каждую частную тему, вводимую в ткань Слова, — одну за другой, волнами, неутомимо и настойчиво, используя все возможности образа и слова. Потому общее впечатление от Слов кажется двойственным. С одной стороны, изложение как будто статично, это мелкие мазки, из которых складывается общая картина. С другой стороны, всегда присутствует впечатление действия, динамики, ритма. Покажем это на нескольких примерах разного типа.
«Старци быстро шествоваху да Б(ог)у поклоняться... отроци скоро течаху да прославятъ... младенци яко крилати окрестъ Ис(ус)а паряще вопияху...» (Слово на Вербницу)
— типичный пример нагнетания образа троичным членением текста. Автор воспользовался возрастными различиями своих «персонажей» и подал каждый возраст отдельно, отстраненно от другого, все более увеличивая темп движения в зависимости от возраста: быстро — скоро — крылато и параллельно с тем шествоваху (с достоинством и неторопливо) — течаху (бурной массой и стремительно) — крылато парили (даже оторвавшись от земли). Сюда же вплетается и градация по цели: поклоняться — прославять — вопияху. Возникает троичное усиление, идущее параллельно: характер движения (глагол в форме имперфекта указывает длительность прошлого действия), цель движения (глагол в повелительном наклонении и имперфект вопияху, показывающий нетерпение «младенцев», которые приступили к хвалам еще на пути к святилищу), ритм движения (передан нарастанием наречных форм); неуклонное повышение тона до звенящего с последующим обрывом и приступом к очередной триаде. Фактически значение приведенной триады шире, поскольку здесь не приведены побочные линии изложения, например, вариации слов Богъ и Иисусъ, вплетающиеся в текст на правах объекта действия. Может показаться странным столь тонкое сплетение повествовательных линий в одну фразу. Следует поставить вопрос: не случайное ли это совпадение? Предварительные разработки показывают, что говорить о случайности не приходится. Начать с того, что в тексте не использованы другие возможные для древнерусского писателя слова. Здесь нет слова борзо — а это типичный русизм, невозможный в южнославянском тексте; по этой причине автор и не решается использовать слово борзо в столь высоком по стилистическому заданию тексте. Однако вместе с тем определение крилати также является русизмом, в южнославянских вариантах ему обычно соответствует слово пернати. Тем не менее Кирилл предпочитает крилати, и совершенно правильно: только это слово и допустимо в данном тексте, поскольку речь идет о быстроте движения, а не о характеристике «персонажей» (яко крилати, но на самом деле крыл не имеющие). В другом случае дана последовательность действий, которые каждый раз уточняются все новым синонимом, но это не точный синоним, он привносит в контекст какое-то новое значение: «(спутник) приведе къ велице горе, имущи многа и различная оружия, въ ней же узреста зарю светлу, оконцемъ из пещеры исходящю. И приникнувша къ оконцу тому, видеста внутрь вертепа жилище... Сия вся соглядавъ, царь призва своя другы, и рече къ нимъ...» Представляется, что основное действие здесь связано не с движением (привел — приник — призвал), хотя и оно градуирует по принципу сужения действия. В центре авторского внимания — зрительный образ, в котором перекрещиваются и субъект, и объект действия, и характеристика самого действия: «заметил» — «посмотрел» — «увидел». Последовательность передана разными глаголами с одним общим значением, но каждый последующий все более конкретен. Описание дано как бы панорамой: широкий план, средний план, крупный план. Одновременно как бы укрупняются объекты рассмотрения: пещера вдали — оконце в ней — ограниченные рамкой окна предметы и лица в пещере. Такова динамическая структура текста. Действия оказываются неравнозначными и с грамматической точки зрения: узреста — моментальное завершенное действие, видеста — более важное длительное действие, смысл высказывания и оправдание всего текста вообще; после того как эторассмотрение закончено, автор употребляет уже не личную форму аориста, а причастие соглядавъ, которое также передает завершенное действие, однако второстепенное по отношению ко всем предыдущим «точкам зрения». Это отстранение личных форм от причастия совершенно оправдывает использование Кириллом на фоне общеславянских (в том числе и старославянских) зрети и видети также более редкого глагола глядети, который обычен для мораво-паннонских и древнерусских текстов (переводных и оригинальных; старославянские рукописи, кроме Супрасльской рукописи XI в., обычно избегают этого слова). «Неканонические» слова Кирилл, как правило, использует для воссоздания заднего плана своего повествования, органически вплетая их в общую ткань текста, но не выдвигая вперед. Чтобы яснее представить себе характер стилистической разработки в текстах Кирилла, всегда органически связанной и с темой конкретного повествования, и с присущим ему индивидуальным стилем, сравним приведенный отрывок с древнеславянским переводом «Истории Варлаама и Иоасафа», ставшим источником для данного описания Кирилла. Тексту Кирилла в этом отрывке соответствует следующее: «Видѣста свѣта зарю от(ъ) нѣкоего оконца сиающоу и на сію зряще, приидоша и видѣста подъ землею нѣкое яко пещероу жилище, въ неи же сѣдяше моужъ... Сущии же съ ц(а)ремъ на мнози таковыхъ смотряюще дивляхоуся... и рече ц(а)рь первосъвѣтникоу своемоу...» Именно этот перевод соответствует греческому оригиналу, в частности, и интересующие нас глаголы: ειδον... και ταύτη τούς οφθαλμούς επιβαλόντες, βλέπουσιν... επι ώραν ικανήν ταυτα κατανοουντες, εϑαύμαζον... Этих глаголов, следовательно, значительно больше, чем три, и они могут повторяться в тексте. Пластичность изображения у Кирилла достигается также единством образа действующего лица: все три глагола связаны с описанием действий царя (его одного или со спутниками), тогда как в оригинале действие перебивается: то царь, то сущие с ним. У Кирилла именно царь ведет действие, все остальные персонажи находятся возле него, то удаляясь, то приближаясь к нему. Так с нагнетанием синонимов возникает как бы разложение одного и того же действия (царь и его приближенные смотрят) на ряд составляющих это действие моментов. Типологическую параллель этому представляет мораво-паннонский перевод Жития святого Вита: «Рече же о(ть)ць его: б(о)зи придоша въ храмъ, и въсмияся · и оконъцъмъ глядаше въ клѣть яко свьтяше ся · отвьрьзоста же ся очи емоу и видѣ · анг(е)лъ стоящь окрьстъ отрочате» (Усп. сб., л. 126а). Здесь также представлено троичное расслоение одного и того же процесса «смотрения», однако с иной изобразительной заданностью. Недоверчивое взглядывание в оконце сменяется как бы насильственным, со стороны, раскрыванием глаз, после чего начинается собственно само смотрение. Своеобразие этого текста заключается в том, что здесь два «неканонических» выражения противопоставлены одной нейтральной форме (видѣ), тогда как у Кирилла, наоборот, нейтральные по семантике и стилистике глаголы зрети и видети ведут действие, а «неканоническое» слово уходит на второй план. Это также характерно для Кирилла, обычно предпочитающего нейтральный или высокий стиль низкому, приземленному. Очень часто триада-связка несет с собою внутренний, потаенный, смысл, понятный посвященному, но требующий интерпретации теперь. Вот начало заплачки Богородицы из четвертого Слова: «Свѣтъ мои и надежа и животъ, Сын и Бог, на древе угасе». Свет, надежа, живот — это символическое изображение знания, веры и жизни, обычная христианская символика, которую ниже, в следующем отрывке заплачки, варьируя эту мысль в новой триаде, автор как бы расшифровывает, возвращаясь к ней еще раз: «ныне мое чаяние, радости же и веселия, Сына и Бога, лишена быхъ». Соотнесены надежа — чаяние (русизм надежа и болгаризм чаяние), русизм живот — с описательной и книжной передачей той же вечной жизни: радость и веселие. Иногда внутренний смысл триады от современного читателя настолько скрыт, что только скрупулезное изучение всего лингвистического контекста с непременным учетом троичности каждого построения может помочь в расшифровке текста. Здесь мы сталкиваемся примерно с тем же положением, что и в случае с уже изученной Д. С. Лихачевым стилистической двучастностью псалтирных текстов, построенных по принципу антонимических противопоставлений («стилистическая симметрия»)[174]. В качестве примера рассмотрим возникающие при этом трудности интерпретации на одном отрывке — на самых первых словах первого Слова Кирилла Туровского: «Велика и ветха сокровища, дивно и радостьно откровение, добра и сильна богатьства...» «Вступление — часть речи, которой Кирилл Туровский придавал, и не без оснований, большое значение: текст хранит следы очень тщательной, заранее обдуманной работы. Кирилл, конечно, не мог не понимать, что успех речи в значительной мере зависит от того, как вступление будет построено. Здесь надо было сказать нечто такое, что, не предвосхищая содержания Слова, тем не менее могло положить ему основание, притом сказать так, чтобы сразу же привлечь внимание слушателей, заставить их насторожиться»[175]. Это оправдывает и наше особенное внимание к вступлениям в поэтическую тираду Кирилла Туровского. В приведенном вступлении ритм налицо, он содержится уже в попарном повторении грамматических типов слов — прилагательных и существительных. Однако в целом эта фраза воспринимается чисто риторической: звучная увертюра к теме, не больше. Потускневшие к нашему времени семантические характеристики слов только отдаленно напоминают об этой силе: здесь все масштабно, крупно, монументально. Великий... дивный (т.е. божественный)... сильный... Пожалуй, в современном языке трудно подыскать соответствующие этому поэтическому тексту эквиваленты; может быть, поэтому мы и не воспринимаем его поэтичности. Первое, что останавливает внимание: попарное сочетание именно данных определений необычно для древнерусских текстов, представляет собою как бы излом традиционных, столь обычных в то время и любимых проповедниками парных конструкций. В употреблении подобных дублетов (синонимов) можно установить по крайней мере три типа. Первый, самый простой, — это соположение синонимов или дублетов, используемых для усиления поэтического эффекта; так, неизвестный переводчик (или переписчик?) апокрифического Откровения Авраама ставит рядом слова жертва треба, чтобы усилить отрицательное отношение героя к языческому жертвоприношению. Такой неловкий прием неприемлем для Кирилла. Это чисто внешний поиск формы, вдобавок русское слово треба и церковнославянское слово жертва у Кирилла дифференцированы в соответствии с общим дуализмом его поэтического языка, ср.: «днесь... вся новая господеви приносится: ...и от крестьянъ требы, и от иереи с(вя)тыя жертвы». Налицо противопоставление крестьянской требы священной жертве (хотя слово крестьяне здесь, конечно, употреблено в исконном значении ‘христиане’). Второй возможный в древнерусской литературе тип усиления — это традиционный штамп, переходящий из текста в текст. Обычно в таком штампе соединяются близкие по значению, но различные по стилистической функции слова, которые, дополняя друг друга, как бы усиливают поэтический эффект речи: радость и веселие, дивно и славно, добро и лепо, сильна и славна, велика и славна, ветха и древня... Уже из перечисления видно, что именно таким типом сочетаний и воспользовался Кирилл в своей тираде, однако с одним отклонением: он перемешал внутренние связи, ассоциации, которыми опутаны были в глазах его современников указанные соединения слов, становившиеся от частого употребления штампами. Он убрал дублетность. Велика и славна, дивна и славна, сильна и славна — в каждом из этих сочетаний непременно присутствует в качестве составной части слово славна; оно привычно входит в данный набор штампов, оно и воспринимается в данном тексте как заложенное в его подтексте — на основе обычной ассоциации, связанной с частым употреблением подобных сочетаний. Слово славна безболезненно можно было убрать, поскольку оно само по себе предполагается и представляется в каждом элементе триады. Так возникает необычное для древнерусского текста соединение слов: велика и ветха; особенность этого типа сочетаний в том, что в подтекст уходит не только второстепенное значение каждого из слов сочетания (как в случае веселие и радость), но также и основное значение общего для двух прежде самостоятельных сочетаний велика и славна, ветха и славна слова сокровище. Вместе с тем это и намек на хорошо известное сочетание ветхий великъ день ‘древняя, еврейская пасха’ (отмечено, в частности, уже у Иоанна экзарха Болгарского) — небольшой излом сочетаний, за которым скрывается и общий смысл темы (в этом Слове речь идет об Антипасхе). Если рассмотреть значение каждого слова, входящего в сочетание, можно обнаружить еще одну закономерность: все они кроме общего славянского (обычного также и для церковного языка) имеют также и новое, характерное только для русского языка (уже в XII в.) значение (или оттенок значения). Великъ наряду с исконным значением ‘большой, огромный’ получает значение ‘значительный, замечательный’; по-видимому, в XII в. это был всего лишь контекстуальный оттенок значения, но он обнаруживается уже в Новгородской I летописи: от мала до велика ‘от меньшего до большего’ и вместе с тем от велика до оубога ‘от замечательного до незначительного’. Ветхий в русских текстах — не только ‘старый’, что является исконным значением слова; проявляется уже и новое, ставшее впоследствии основным для русского языка значение ‘ветхий, дряхлый’ (широко представлено в ранних записях той же летописи, а также в Правде Русской, в Сказании о Борисе и Глебе, в Хождении игумена Даниила, в переводных памятниках домонгольской Руси). Ср. в древнерусском переводе Пандект Никона Черногорца описания двух вдов, одна из которых одета в ветхы ризы, а другая — в добрыхъ ризахъ; противопоставление, таким образом, идет по линии ‘ветхие, дряхлые’ — ‘хорошие, добротные’, а не ‘старые’ — ‘новые’ (последнее см. в евангельском тексте: мехи новые противопоставлены мехам ветхым). Таким образом, в традиционном сочетании, начинающем Слово, русский читатель XII в. мог прочесть и осознать как бы наслаивающийся на традиционные значения слов и собственно русский подтекст: не только ‘большое древнее сокровище’, но и ‘значительное дряхлое... скрытое’. Дивно и радостьно откровение в восприятии русского читателя XII в. также оказывается многозначным сочетанием. Исконное значение первого слова связано с непознаваемым, поражающим воображение божественным бытием (ср. Дивъ с литовским dievas, древнеиндийским dēvа́s, латинским deus и т.д. с одинаковым значением ‘бог’). В древнерусском переводе Жития Василия Нового, например, встречаем дивный градъ, дивный и страшный градъ в значении ‘рай’, все употребления слова в этом памятнике связаны с небесами и небесной жизнью. Общее значение ‘удивительный’ обычно для русских текстов ХІ-XII вв., и только в некоторых местах Пандект Никона Черногорца можно обнаружить новый для слова оттенок значения ‘славный, знаменитый’ (некоторые подвижники называются безразлично то славными, то дивными, то чудными). Подтекст в Слове Кирилла создается уже самим разложением привычных сочетаний дивно и чюдно, дивно и славно, радость и веселье, вторые члены таких сочетаний, оставаясь за пределами текста, домысливаются любым начитанным книжником. Таким образом, дивный — это и ‘божественный’, и ‘удивительный’, и вместе с тем для русского в XII в. также ‘славный (знаменитый)’. Радостьно было связано, как правило, со словом веселье и обычно обозначало ‘чувство веселья’. Из этого постепенно вычленяется дополнительное значение ‘чувство удовлетворения’, а в расхожем сочетании радость и веселье между обоими синонимами постепенно распределяются разные оттенки значения: радость — это удовлетворение (обычно одного или каждого в отдельности участника празднества), веселье — это ликование (и потому всех участников празднества совместно). Метафорическое обозначение празднества стало связываться именно со вторым словом сочетания, ср. в древнерусском переводе Книги Есфирь синонимическое употребление дніе веселья и день добръ в одинаковом значении ‘праздник’. Тот же текст показывает, что к концу XII в. слово радость настолько отошло в своих значениях от своего первоначального дублета веселье, что потребовалась его замена другими словами; Книга Есфирь в этом случае дает слово охвота, охвотенъ ‘радость, удовольствие’, ср.: «и выниде Аманъ въ д(е)нь веселъ и охвотномь с(е)рдцемъ»; «градъ же Сусанъ оуохвотися и възвеселися» и др. Таким образом, наряду со свойственным церковнославянскому языку значением ‘ликование’ слово радость в русском языке XII в. получает дополнительное, впоследствии ставшее основным значение ‘чувство удовлетворения’. Поэтому в приведенном отрывке из Слова Кирилла можно усмотреть не только прямое значение ‘ликующе’, но и скрытое, потайное ‘удовлетворяющее’. Аналогичные наслоения можно видеть и в сочетании добра и сильна богатьства. Добро уже у Владимира Мономаха имеет значение ‘богатство, имение, благо’ в широком и материальном смысле, который и привносит в контекст это новое для слова добавочное значение. Игумен Даниил также неоднократно отмечает, что, например: «Ефесъ (а также Самария и т.д.) же градъ есть на Сусѣ... обиленъ же есть всѣмъ добромъ». Уже у Феодосия Печерского можно предполагать такое значение слова, ср.: «не чюхъ себе ничсоже добра приискавше, но токмо имыи бдѣнья бо и пощенья». Слово сильный даже по «Материалам» И. И. Срезневского имеет более 15 оттенков значения кроме исконного ‘мощный, могучий, властный’, которое и в данном случае следует считать основным. Специально русским, достаточно рано выделившимся значением этого слова является значение ‘обильный, пышный, богатый’ — соответствующие иллюстрации приведены И. И. Срезневским из Ипатьевской летописи под 1147 и 1187 гг. Учитывая все это, и данный фрагмент Слова Кирилла мы можем истолковать двояким образом: буквально ‘благое и могучее богатство’ и переносно ‘имение... изобилие... богатство’. Снова в подтексте наблюдаем как бы избыточное повторение одного и того же мотива, но, в отличие от предшествующего сочетания, с риторической градацией вверх. Может возникнуть сомнение в правомерности тех интерпретаций, которые сделаны выше; на первый взгляд они кажутся столь же поразительными, что и известные градации в тексте Хождения Афанасия Никитина, лингвистически расшифрованные Н. С. Трубецким[176]. Однако, допуская известную условность произведенной расшифровки (для более точной у нас пока нет необходимых материалов сравнения), повторим, что каждый элемент такого членения текста оказывается возможным обосновать вполне объективно — множеством словарных параллелей из древнерусских текстов. В частности, в последнем случае: почему Кирилл употребил именно слово добро, а не эквивалентное ему благо или, например, велико; благо и велико богатство — сочетание, которого мы ожидали бы от ординарного проповедника, вполне допустимое в XII в. и обычное для древнерусских текстов. Однако слово велико уже употреблено в той триаде, в которой оказалось нужным зашифровать общий смысл ‘значительности, величины’; благо же в этих триадах не используется вовсе, ибо оно чересчур однозначно и для подтекста, русского по своему замыслу и характеру, не годится: это церковнославянизм. В данном отрывке вообще нет нерусских слов, слов, которые не могли бы нести с собою необходимого для воплощения авторского замысла вторичного или переносного значения. Выбор слова лимитируется поэтической заданностью. Так образуется второй план подтекста: кроме предполагаемого читателем включения в текст опущенных автором слов (см. сказанное выше о последовательной связи с опущенным словом славный) появляются еще чисто семантические (первоначально, может быть, стилистические) возможности подтекста, понятные только русскому читателю или слушателю XII в. Однако внешним установлением этого не исчерпывается стилистическая характеристика нашего примера. Теперь, когда кажется ясным смысл и подтекст каждой отдельной триады, соединим их вместе. Общее значение первой, трижды обоснованное в подтексте и вместе с тем связанное с традиционным текстом, — сокровище (скрытое), общий смысл второй триады — откровенно (открыто), третьей — богатство. Итак, сокровище открыто, (и это) — богатство — христианская пасха не в пример иудейской, ср.:
велика и ветха сокровища ‘большое и древнее сокровище’, дивно и радостьно откровение ‘удивительное и радостное откровение’, добра и сильна богатьства ‘благое и могучее богатство’,
со следующим подтекстом (соответственно по строкам):
‘значительное... дряхлое... сокрытое...’, ‘удивляющее... удовлетворяющее... открывающее...’, ‘имение... изобилие... богатство...’.
Единственная условность, которую мы себе позволили, заключается в выборе части речи, данной в толковании подтекста: прилагательное — причастие — существительное. Это сделано намеренно, чтобы дополнительно передать ту восходящую градацию образа, которая несомненно в нем заключается, но иными средствами на современный язык уже непередаваема. Дано: значительное, но уже ветхое, сокрытое в дали времен — сокровище. Действие: поражающее воображение и мысль, удовлетворяющее всем чувствам, открывающее неизведанное — откровение. Результат: имение... изобилие... богатство — христианская Пасха. Соотнесение компонентов триад возможно и по вертикали, хотя тут уже нет полной уверенности в том, что таков был и авторский замысел (при слушании Слова четко воспринимается только линейное членение мысли и текста), однако «выход на вертикаль» весьма знаменателен: значительное — удивляет — имение, дряхлое — удовлетворяет — изобилие, сокрытое — открывает — богатство. Эта трижды три раза повторенная, как в преломлении зеркал, мысль относится к восхваляемому в Слове празднику и является гонгом, призывающим к развертыванию темы. Затем идут уточняющие детали того же вступления, опять-таки построенные по триадам: о строителях этого праздника, о его характеристике и т.д. Такова увертюра, с подтекстом и варьированием темы, рассчитанная на искушенного и обязательно русского слушателя. Ниже, в содержательной части Слова, Кирилл уже не столь причудлив в построении образа, там он не придает столь существенного значения форме, изощренной, временами неясной и зыбкой в мерцании словесных теней и неожиданных ассоциаций. Там форма блекнет, чтобы не затушевывать смысл изложения, не затруднять его восприятия. Приведенные примеры иллюстрируют направление творческой работы Кирилла над словом: работа тщательная, но не ради формы. В отличие от многих писателей XII в. Кирилл — в высшей степени автор, а не компилятор, и потому его текст можно и нужно изучать как индивидуально-авторский. Это повышает его значение и при изучении русского литературного языка XII в. В этих текстах происходило двоичное, вызванное столкновением русского и церковнославянского языков, попарное противопоставление слов, таких как нищий — убогий, благо — добро, радости — веселие. Имея этот материал, Кирилл умело сплетает из него текст, построенный таким образом, чтобы каждое слово независимо от своего происхождения получило какой-то один, обязательно свой и притом поэтически оправданный смысл. Единственное лежащее на поверхности средство для достижения этого — соединять попарные связи с каким-то третьим, близким по значению элементом, который бы нейтрализовал стилистически непримиримые антиподы. Для этого годились и разложение устойчивых сочетаний, и выбор слова с новым значением, возникающим на русской почве из исконного славянского. Триада Кирилла своим происхождением вряд ли связана с сакральным для христианства числом «три» — это необходимость художественного решения, вызванная состоянием литературного языка. Да и преувеличивать значение триад не приходится, хотя приведенные примеры как будто указывают на универсальность их в творчестве самого Кирилла: три уровня лексической, описательной наглядности в тексте (речи — глаголати — все остальные глаголы говорения), семантические триады (живот — жизнь — житье), троичное усиление как гиперболизация темы (велика и ветха сокровища...), троякий уровень представления действующих лиц или движения. Общий принцип пластичности изображения, использованный автором, — это смена однообразных, сфокусированных или, наоборот, расширяющих перспективу картин, лиц или действий, создающих при воспроизведении иллюзию движения. Мультипликационный принцип построения текста — характерная особенность древнерусской литературы, но у Кирилла она достигает наибольшей зрелищности и выразительности именно потому, что Кирилл Туровский не выходит за пределы однажды заданного ритма и умело использует все возможности современного ему литературного языка. Глубинную структуру его текста подчеркивают сравнения с другими текстами, проведенные выше. Мастерство и вместе с тем значение Кирилла для последующей разработки литературы и литературного языка заключаются в том, что он открыл важный для художника слова принцип: несообразности и внутреннюю противоречивость языка, как правило, представляющего двоичные противопоставления, он искусно устраняет в художественно проработанном тексте, где имеется возможность совместить все словарные противопоставления в синонимическом ряду. Говоря о компилятивности творчества Кирилла в содержательном плане, т.е. признавая зависимость этого церковного писателя от традиционных сюжетов, характеристик, композиций и т.д.[177], следует отметить оригинальность и чисто русскую по воплощению традиционных схем художественную форму Слов Кирилла. К этому должны быть устремлены и интересы исследователя.
СВЕТ И ЦВЕТ В СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ
Слово не читали — его произносили и слушали. Потому и отличается оно от многих других, риторически украшенных, но неживых каких-то памятников Древней Руси. Поэтика Слова поразительна, но неожиданной ее не назовешь. Эпический текст со всеми своими особенностями, текст звучащий, весь на слуху, выпукло-образный, яркий узор народного слова. В создании поэта нет ничего случайного, но всегда волнует вопрос: какими средствами он достиг той красоты и силы звучания, в которых, среди многих других, отразились также и представления его современников о цвете и звуке, красочные впечатления от безбрежности мира, открытого взору и слуху? Первое, что сразу же замечает современный читатель, — свет и тьма, которые окутывают каждый эпизод, каждую характеристику, каждое описание в Слове. Борьба света, солнца, золотой зари с тьмой, с черным, с разной густоты мраком — черно-белый контраст является здесь основой композиции. Но есть ли цвет в описаниях автора? И тут неожиданно выясняется; что есть и цвет, однако он как бы приглушен в своих оттенках, спрятан в предметах и лицах, ненавязчиво предъявляясь в каждый нужный момент; и нужно увидеть этот цвет в старинном, да еще за столетия и очень испорченном тексте. Приходится, вчитываясь в текст, расшифровывать значения древних слов, похожих на современные нам слова, но когда-то имевшие совсем иные значения. Отличительной особенностью старых произведений является то, что цветовые впечатления в них очень тесно связаны со звуковыми. Когда читаешь оригинал, да еще и в той интонации, какая свойственна была ему в древности, цветовые представления возникают неосознанно, как будто случайно, но в самой мелодике речи, в каждом звуке ее есть что-то такое, что совмещает в себе сразу все впечатления от прозвучавшего слова: древнее слово и было синкретичным в своих поэтических смыслах, которые всегда предъявлялись все сразу, слиянно, как цельность. Современному аналитическому сознанию приходится расшифровывать старинный образ такого рода. М. В. Ломоносов, в своей Риторике собрав многовековый опыт создания подобных образов, задумчиво записал: «В российском языке, как кажется, частое повторение письмени а способствовать может к изображению великолепия, великого пространства, глубины и вышины, также и внезапного страха; учащение письмен е, и, ѣ, ю — к изображению нежности, ласкательства, плачевных или малых вещей; чрез я показать можно приятность, увеселение, нежность и склонность, чрез о, у, ы — страшные и сильные вещи: гнев, зависть, боязнь и печаль»[178]. То же и в звучании согласных звуков: одни грубы и жестки, другие же «имеют произношение звонкое и стремительное» (как р) и «для того могут спомоществовать к лучшему представлению вещей сильных, великих, громких, страшных и великолепных», а «плавкие в, л, м, н имеют произношение нежное и потому пристойны к изображению нежных и мягких вещей и действий»[179]. Это — не личные впечатления великого поэта и физика. Свои сведения о символическом смысле звуков речи он получил из средневековых грамматик и риторик, в которых с особым тщанием описывались потаенные смыслы звучащей речи. Было известно, например, что а — «гласъ простъ», т.е. прямой, открытый и чистый («великое пространство» у Ломоносова), а о — «гласъ остръ», т.е. быстрый и резкий («страшные вещи»); р и л одинаково «немые», т.е. полугласные, но при этом л — «гласный», т.е. звучный (имеет «произношение нежное»), тогда как р — «согласный», или подобный — раскатистый и быстрый («произношение звонкое и стремительное»). Перечитаем несколько строк из «Плача» Ярославны:Я—ро—сла—вна ра—но пла—четь Въ Пу—ти—влѣ на за—бра—лы,
ар — кучи... И дальше, во всем этом отрывке находим постоянное повторение слогов — такой последовательности: на — ла — ла — лы... на — ра — ле ре — на — ря — ня рѣ — лѣ... Теперь уже трудно сказать, выбор ли слов определен поэтической установкой автора на плавные («немые»!) р, л, н, м, в и гласные а, е, ѣ или слова сами сложились в законченный фонический ряд, порождая в сознании слушателя представление о стремительном движении в небесных, земных и речных просторах, о силе и глубине — и вместе с тем о глубокой нежности, жалости и «ласкательстве». Важно лишь то, что поэт избегает звучаний, способных вызвать противоположные чувства, а это с несомненностью выдает в нем мастера, намеренно подбиравшего слова и звуки. Современные филологи пошли дальше своих средневековых коллег, не пожелавших описать нам символические значения звуков, которые не связаны с главными характеристиками описания; цвет для них никогда не был основным признаком, а потому они о нем и умолчали. Во многих специальных исследованиях показаны символические значения цвета — в звуке речи. Плавные согласные в речи создают эффект певучести, они — нежные, мягкие, светлые, но при этом р — звук темно-красный, а м — красный; с восприятием гласного а связано представление о ярко-красном свете, это вообще самый сильный, и громкий, и яркий звук, тогда как гласные е и близкий к нему ѣ — светлые, тоже «яркие» с блеском, но гораздо спокойней, чем а, и близки в этом смысле к л и н. Так оказывается, что разные степени красного составляют тот цветовой фон всего «Плача» Ярославны, который незаметно распространяется в сознании по мере расширения всего текста. Независимо от своих желаний «видим» этот фон и мы, уже сегодня — символические значения звуков и слов устойчивы в поколениях. Мы «видим» красно-багрово-темные тревожные тона, в разрывах которых время от времени проблескивает светлый луч. Пожалуй, нет ни одного стиха в Слове, который нельзя было бы определить и по цветовой гамме. Это замечают поэты, переводя Слово на современный язык. Есть совершенно явные признаки подобной звуковой инструментовки, но большинство их — скрыто. Из явных и намеренно подчеркнутых известно описание бешеной скачки победной конницы:
Пот_о_пт_а_ша пог_аные полки полов_ецкие...
Не следует преуменьшать значение таких совпадений, потому что только органическое слияние звука с цветом и светом способно насытить описание живыми красками жизни, а это и рождает ту самую интонацию поэтического текста, которая всегда является очень личной, авторской, своей. Но если звук и звучание в Слове всегда легко определить и описать (лежит на поверхности и говорит само за себя), цветовая гамма предметного мира, окружавшего героев поэмы и ее автора, требует истолкования, потому что изменились и сами принципы создания художественного текста, и значения многих слов сегодня уже иные. Так, и красный — совсем не красный, а просто красивый. Красные дѣвицы, красные дѣвкы, красная Глѣбовна — красивые женщины и девушки. Но и красный цвет в избытке представлен в Слове, хотя и передается он для нас несколько непривычно, как и положено было описывать цвет в XII в.: предметное слово, став прилагательным-определением, одновременно обозначает и качество, и цвет. Кровавый — одновременно и пропитанный, напоенный кровью, и красный от крови: «Немизѣ кровави брезѣ, кровавые зори, на кровавѣ травѣ», но точно так же и «злачеными шеломы по крови плаваша» — уже без всякого определения, посредством самого имени, хотя ясно из всех предыдущих эпитетов, что и здесь речь идет о красном. «Ту кровавого вина не доста» — указание на качество и основной признак (вина — метафора, но кровь реальна), и только после всего остального, как усложнение образа, слово кровавый воспринимается как цветовое определение. Этому помогает похожее сочетание — «синее вино съ трудомъ смѣшено». Синее ведь также не цвет в прямом смысле слова (синим тогда называли все си-яющее темным наблеском) и также метафора. Синим вином называли красное, а это очень близко к реальному цвету крови. Один и тот же цвет спокойно именуется по-разному, потому что не цвет был важен, а другие особенности реального мира. Цветовая характеристика оказывалась необходимой лишь там, где она выступала в символическом значении, каждый раз — особом. Кроме кровавого есть еще в Слове каленые и черленые. Сабли и стрелы — каленые, т.е. выдержанные в огне, вышедшие из пламени; цветовые определения даны скрытым образом, указанием на способ изготовления оружия, что неизмеримо важнее в этом случае. Но кроме стрел и сабель в воинском деле употребляются и другие предметы, символический смысл которых прямо-таки требует и цветового определения. Чрьленыя щиты русских воинов трижды встают на черной земле, а в последний раз даже так: «подъ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ», с усилением цветовой характеристики. Чер(в)леный — крашенный червецом, красный цвет в этом случае совершенно необходимо передать отдельным словом. Смысл слов с общим значением цвета определенно выявляется из столкновения их: «Чрьленъ стягъ, бѣла хорюговь, чрьлена чолка, сребрено стружие — храброму Святъславличю!» В описании трофеев, поднесенных князю Игорю, красный цвет перемежается с белым, контраст настолько выразителен, что не нуждается в истолковании. Важно лишь, что автору показалось необходимым и здесь на первое место поставить именно цветовые определения. Другое место в описаниях Слова: «Стлавшу ему зелѣну траву на своихъ сребреныхъ брезѣхъ, одѣвавшу его теплыми мылами подъ сѣнию зелену древу». Трава и дерево — зеленые, уточнять цветовым эпитетом вроде бы ни к чему, однако уточнение есть, но напрасно было бы считать его только цветовым. Всякое цветовое определение в этом тексте носит символическое значение. Несет его и указание на зеленый цвет. «Постлать зелену паполому» в другой части Слова — все ту же мягкую траву. Слово зеленый в древнерусском языке могло обозначать и желтый, и зеленый, и голубой цвет, вообще всякий светлый, яркий оттенок этих цветов. Упоминание зеленого в приведенных строках исполняет ту же роль, что и теплый в отношении к мглам или серебряный в отношении к стружию. У всех трех слов оказывается одно общее значение, которое и использует автор; на современный язык его можно было бы перевести как «светлые, прозрачные, акварельные тона» — это заметил в прошлом веке А. А. Потебня, описывая сочетания типа «чаша зелена вина» — одновременно и зелье, и зелень, и яркий наблеск светлого цвета, в отличие от синего вина — белое вино. Значит, и зелена паполома одновременно и травяная подстилка, и светлая, как трава, а сверх того, и многие другие значения, смысл которых сегодня нам уже непонятен. И в этом случае автор пользуется многозначным словом, которое помогает ему и описать реальный предмет, и представить его в символической цепи описаний и событий: и зелень, но и зеленый, и светлый, и блестящий... Нет ничего случайного и в форме определения. До нас дошла форма древнего краткого прилагательного, которая стоит перед определяемым именем: зелену траву, зелену древу, зелену паполому. Конечно, это не совсем обязательно зеленые предметы вещного мира с достоверно выделенными цветовыми признаками. Краткое прилагательное указывало на такие свойства предмета, которые еще с ним слиты, составляя его часть, притом не всегда существенную; сознанием этот признак еще не вычленен из предметности: виноград зелен не то же самое, что зеленый виноград, имеющий в составе определения выделенный уже признак. Только такой, вполне осознанный в качестве самостоятельного признак и может со временем получить переносное значение. Зеленый виноград— незрелый виноград. Тот же принцип — в древнерусских сочетаниях слов типа зелена паполома. Признак как будто дан уже определением, которое обращает внимание слушателя на один (чисто внешний, случайный) признак; между тем сделано это в «форме сказуемого». Вот синтаксическое противоречие, которое народная поэзия так никогда и не преодолела. Видимо — не нуждалась в изменениях? Чаша зелена вина — признак как будто возникает прямо в нашем присутствии, в форме выражения он еще не отлился в законченные формы определения, указывающего на постоянные свойства предмета. Несмотря на это, он уже выступает в роли определения к имени, этот предмет обозначающему. Скрытая глагольность таких определений делает их динамическими, и поэтическая формула оказывается важным средством выражения возникающего признака. Слушателю они помогают «увидеть» изображаемое, а увидеть очень часто важнее, чем просто услышать. В нашем восприятии образ мы прежде всего «видим», он потому и образ, что является видимым... Но вот исключительно странная особенность Слова. Противоположное по смыслу определение, которое обозначало не светлый, а темный сияющий тон («цвет»), в тексте всегда употребляется только в форме определения. Синий — полное прилагательное. Устойчивость признака вызывает его многозначность и превращает в символ. Слово синий встречается несколько раз — и так же, как остальные прилагательные цвета, не совсем в цветовом значении. «Да позримъ синего Дону», — говорит Игорь. Сам автор шесть раз называет Дон — великим, но только до битвы. Потом, после поражения русских дружин, когда Игорь бежит из плена, снова появляется образ великого Дона. Синим сначала зовется и море, в которое Дон впадает: «въсплескала (Обида) лебедиными крылы на синѣмь море у Дону... и несошася къ синему морю...», а потом без всякого определения: «и в море погрузиста». Еще раз в такой же последовательности, с определением и без него: «се бо готьскыя красныя дѣвы въспѣша на брезѣ синему морю... дѣвици поютъ на Дунаи — вьются голоси чрезъ море до Киева». И Ярославна сначала просит «вѣяти, лелѣючи корабли на синѣ морѣ», и только потом говорит: «Възлелѣй, господине, мою ладу ко мнѣ, а быхъ не слала къ нему слезъ на море рано». Сам же автор о море говорит просто: «чръныя тучя съ моря идутъ, хотять прикрыти (четыре) солнца». Здесь ли не место сказать о синем море? Но нет, просто море. Почему оборотень Всеслав «обѣсися синѣ мьглѣ», хотя в Слове мгла обычно предстает в естественной ее черноте? Потому, наверное, что черная мгла и мгла синяя — одно и то же. Поскольку синий в древнерусском языке — сияющий темный цвет и притом не обязательно синего тона (синяк попросту багров, а синец — как звали тогда негров — совсем не синий), естественно было использовать это определение только в тех случаях, когда было необходимо подчеркнуть внутренний блеск, свечение темного предмета или вещества. Важно и то настроение, с каким все это описывалось, и цель описания. Дон как победная цель сияет и манит — Дон за плечами поражения становится простым географическим понятием. Устойчивым цветовым символом в средние века было и сочетание красного, белого и черного цветов. Оно воплощало в едином образе и соединение трех стихий (огонь—вода или воздух—земля), и отношение к различным по важности божествам, и даже распределение пространственных границ мира (Русь Червонная—Белая— Черная), но прежде всего — оценочные характеристики нравственного характера. Если и в Слове все три цвета собраны вместе и совместно рисуют какой-то предмет или событие, значит — автор действительно понимал символическую силу этого букета цветовых сочетаний. И верно, единственным вполне определенным сочетанием цветов в описаниях Слова является как раз совокупность красного— белого—черного, хотя и выражалось это сочетание различным способом. Вот несколько примеров из текста Слова. «Чръна земля подъ копыты костьми была посѣяна, а кровию польяна». Кости — белые, кровь — красная, уточняющая характеристика при слове земля понятна сама по себе: черно-бело-красное... «Уныша цвѣты жалобою и древо с тугою къ земли прѣклонилось» — цветовая гамма скрыта за обозначениями реальных предметов, она приглушена в своем выражении, но выбор самих предметов подсказывает и окраску эпизода, и самое главное в данном отрывке: показывает усиление степеней скорби, потому что жалость — туга — склонение в скорбном молчании выражают действие посредством переноса на предметы природы. Пусть не смущает нас то, что всюду описание цвета передано различными частями речи, и прилагательным качеством, и свободным именем. Древнерусский читатель и слушатель прекрасно понимал и дополнительное — цветовое— выражение эпизода. Ведь он мог сказать и просто: «земля» — не добавляя слова «чръна», как он и сделал это в других случаях, как сказал и здесь в отношении к словам костьми и кровию; однако он все-таки уточнил первое слово ряда особым определением, тем самым как бы задавая тон всему последующему ряду слов: обратите внимание и на цвет! Уныша цвѣты... Цветы тогда были только красными (как и в современных глухих деревнях под цветом хозяйка всегда понимает только ярко-красный цветок), но ключевое слово и здесь переводит внимание также и на цвет цветка, а за ним и дерева, и земли: красный — и все остальные. Не все части Слова сохранились достаточно хорошо. В самом начале: Боян — «растѣкашется мыслию по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы». Здесь искажена временем первая строка, и потому естественные переходы мысли-образа оказались перебитыми. Однако параллельное упоминание дерева, земли и облаков помогает воссоздать и представление о цветовом ряде, особенно в уточнениях определением: ведь говорится о сером волке и о сизом орле, тогда как то, что было в начале этого ряда, нам неизвестно, нет ключа к расшифровке и целого образа. Таким образом, цвет как бы сгущался из неопределенных звуковых ассоциаций, через понятия о предмете или существе с типичной для них окраской, через значения слов, имеющих (хотя бы отчасти) и цветовое значение; сгущение цветовых определений шло в направлении к символическому образу всего Слова, нигде его не нарушая, не перебивая бесполезной цветастостью, а, наоборот, постепенно, кругами, все углубляясь, попутно прорабатывая все оттенки, доступные осмыслению средневекового автора и выражению их с помощью слова. В этом тексте вообще нередки возвращения к слову, однажды уже названному. Естественная многозначность таких слов позволяет включать их каждый раз с новой точки зрения, соотнести новый смысл образа с тем, который уже известен по предыдущим предъявлениям слова. Главное при этом — вовсе не окрасить повествование обязательно в какой-то «цвет», такой буквальности автор Слова никогда себе не позволяет. Он не гонится за внешним эффектом; так просто «получается», потому что многие слова в ту пору кроме прямого своего значения имели еще, в качестве переносных, и цветовое значение, и даже оценочно-нравственный подтекст содержали они в себе. Например, одно из них — жемчуг. И вещество, извлекаемое из раковин, и символ — символ скорби, печали, слез (в одном памятнике XII в.: «аки бисер слезы знаменуя»), да вдобавок еще и серебристо-белое, т.е. вполне определенное по цвету вещество. Символика цветовой гаммы разъясняется уже в самом тексте:
А Светъславь мутенъ сонъ видѣ въ Киевѣ на горахъ.
«Си ночь съ вечера одѣвахуть мя, рече,
Чръною паполомою на кроваты тисовѣ,
Чръпахуть ми синее вино съ трудомъ смѣшено,
Сыпахуть ми тъщими тулы поганыхъ тльковинъ
Великий женчюгъ на лоно и нѣгують мя».
Все прямые значения слов представляют мутно-черно-скорбные тона; сюда же относится и определение тисовъ — связан с трауром, и определение тъщими — связано с исконным значением корня (тоска), и трудъ — недуг, забота и горе. И паполома тут уже не зеленая, светлая, нарядная, а черная. И вот в символически траурный фон этой сцены как последний мазок опытного мастера, завершающий мысль, ввергается новый оттенок — слово жемчуг. Великый женчюгъ — крупный, яркий, брызнувший светом, но именно оттого еще и вдвойне скорбный:жемчуг во сне — к слезам. А вот уже и сами слезы: «Тогда великый Святъславъ изрони злато слово слезами смѣшено». Почти все слова, употребленные в этом отрывке, уже использовал автор и раньше, так что каждое из них в своем месте уже обросло необходимыми для автора представлениями и переживаниями. Было смѣшено — синее вино с трудомъ, а трудъ — и есть слезы, потому что в древнерусском языке трудъ — забота, страдание, беспокойство, и автору не приходится уже повторять, что трудъ рождает слезы; ведь слезы в данном случае — напоминание о женчюге в предыдущем стихе, в котором был великый женчюгъ — как теперь перед нами великый Святъславъ. Там одевают, черпают, сыплют — здесь, внешне как будто не повторяя описание все тех же принудительных действий, выражают все то же в сжатом определении, одним лишь словом — изрони. И дальше еще раз автор снова возвращается к тем же определениям и как будто бы в тех же словах: один из героев «изрони жемчюжну душу изъ храбра тѣла чресъ злато ожерелие». Определение к слову душа символически вырастает из всех предыдущих описаний, последовательно развивавших «тему» жемчуга. Другие примеры такого образа пока что не отмечены в древнерусской литературе, и вполне возможно, что образ этот, рождаясь в Слове, «снимается» с текста в виде законченной метафоры, которая потом, увы, не получила никакого распространения. Вот и вопрос: цветовое ли определение здесь важно или какое-то иное? И цветовое также. Ведь автор использовал не широко известный и в его время синоним слову жемчуг; не бисер многоцветный, а серебристый жемчуг привлекает его внимание. Для развития образа, перекликаясь переходящим мотивом света, потребовалось именно слово жемчуг. Постепенно перебирая в тексте значения слов и выстраивая их в определенном порядке, автор добивается своей цели. Он как бы сгущает сам текст, делая его исключительно емким также и в отношении к образу, который, развиваясь от стиха к стиху, усложняет мысль все новыми оттенками, каждый из которых совсем не случаен. В том числе — и цветовыми. Что может значить злато слово? Злато слово — совершенно иное дело, чем, скажем, злато ожерелие. Ожерелье и на самом деле могло быть золотым — парадная княжеская гривна. Злато слово — употребление определения (краткого прилагательного!) в переносном смысле, ‘исполненный высоких достоинств’. Золотой цвет — желтый, но также — цвет. Значит ли это, что и в каждом употреблении слова золотой (а их в Слове тринадцать) имеется в виду лишь материал, из которого сделаны шлем, стрела, седло, престол? По-видимому, не совсем так, и тут имеется некий символический перенос цветового обозначения. Еще Ф. И. Буслаев в прошлом веке, говоря об искаженном летописном тексте: «да будем золоти, яко золото», т.е. тверды и крепки, а может быть — и красивы, — говорил, что в подобном употреблении определения вместо имени кроется неясное символическое значение. В других древнерусских текстах, например в повестях о Борисе и Глебе XI в., обнаруживается вполне определенное различие между тем, что является златозарным, и тем, что всегда светозарно. Златозарный — озаряющий все вокруг блеск земного, простого, мирского света, тогда как светозарный — носитель собственного света, не отраженного через блеск другого предмета (небесные силы)[180]. Такое же распределение «сил цветоносности» находим и в Слове. Когда скачет всадник, «своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая», этот свет никак не похож на реальный свет. В других случаях: «утръпѣ солнцю свѣтъ, (соловьи) свѣтъ повѣдають, Игорь възрѣ на свѣтлое солнце», что также важно: Игорь — и никто иной, поскольку, как ясно из других описаний; «солнце свѣтится на небесѣ, Игорь князь в Руской земли» — так говорит автор уже в самом конце, тем самым как бы перекликаясь с восторженным кликом Всеволода: «Одинъ братъ, одинъ свѣтъ свѣтлый — ты, Игорю!» Все перечисленные характеристики организуют один, очень важный для смысла Слова переход, имеющий символическое значение. Игорь — не «светозарен», нет; никто на земле не может быть равен светозарному божеству. Однако Игорь — воплощение света, так что и имя его становится синонимом этих слов: солнце — свѣтъ — Игорь. Именно он символический противник черной мгле поганых («солнце ему тьмою путь заступаше!»), намеренно и постоянно противопоставленной солнцу — свету — Игорю. В таком контрасте и возникает сопоставление князя со светом, в обычных условиях невозможное. Здесь оно просто необходимо как воплощение символа. Вот еще одна цепь цветовых ассоциаций, связанных уже с обозначением животного: волк. Боянъ — «растѣкашется мыслию по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы», но и воины Всеволода «сами скачють, акы сѣрыи влъци въ полѣ», но также и «Гзакъ бѣжитъ сѣрымъ влъкомъ», тогда как Игорь князь соскочил с коня «босымъ влъкомъ». Чтобы понять смысл определения, и на этот раз выделяющего Игоря из среды, его окружавшей, следует приведенные примеры сравнить с другими. Когда нет сравнения, а речь заходит либо о реальных волках (зверях), либо об оборотне Всеславе (который мог быть действительным волком), тогда говорится просто: «влъци грозу въсрожатъ по яругамъ», Всеслав «самъ въ ночь влъкомъ рыскаше» (так сказано два раза). Древнерусский автор — реалист; он не станет усиливать определением «натурального» волка, внешние приметы которого всем известны. Но иногда сравнение как бы превращает простое имя в символический знак достоинства, и герой становится оборотнем. «Коли Игорь соколомъ полетѣ, тогда Влуръ влъкомъ потече» — еще одно разграничение, указывающее, что Овлур бежит не серым волком, подобно Гзаку, не босым волком, подобно Игорю, но просто волком, как и Всеслав, с которым тоже не все чисто. Уточняющий эпитет важен и как определение, ведь он уточняет мысль, ведя ее от общего понятия о «волке вообще» к конкретному представлению о данном волке. В противоположности выражений «лифт» и «скоростной лифт» такое же движение мысли: эпитет образует образ. Сравнение можно строить по самым разным признакам, но автор неожиданно избирает один из самых внешних, как будто случайный — цвет. Волк и волк, но в одном случае это— босый волк, в другом — волк серый. Предполагали еще в этом испорченном месте и бусый на месте босый — сероватый. Но это сомнительно: если уже использована одна возможность сказать сѣрый волкъ, другое определение с тем же значением слова в художественном тексте не нужно. Однако лишь в противопоставлении разных эпитетов можно понять и смысл уточняющих определений. Босый в данном случае родственно слову бѣсъ (общий корень, но с разными гласными); босый волк — стремительно, «бешено» несущийся хищник. Говорится же в Слове четыре раза о бръзыхъ комоняхъ (и только кони — борзые), а это ведь — полная параллель босому волку. Исконное значение корня борзый помогает понять смысл эпитета: борзые кони, возбужденные горячкой боя, мчатся так же бешено, как и босые волки. У древних славян корень бос- /бѣс- значил помимо прочего еще и ‘светлый (белый)’, а в оценочном смысле — и ‘хороший’, ‘удачливый’, даже ‘священный’. Автор Слова естественно и избирает для Игоря это определение. Князь, конечно же, босый, а не серый волк, к тому же он вовсе не волк. Это определение выбрано потому же, почему выше Игорь назван и светлым светом — в отличие от черных половецких предводителей. «Цветовые» определения — светлый и темный — как бы помимо воли возникают из представления о движущихся существах: в зависимости от энергии движения одни стремительны, а другие словно крадутся во тьме. То, что стремительно, — не углядишь, но в замедленных движениях можно разглядеть и контур, темный на фоне света. Вот вороны никак не могли быть босыми — они бусови: «всю нощь съ вечера бусови врани възграяху». Сизо-бурые, свинцового цвета с чернью малоподвижные птицы. В символике повествования они и не связаны с выражением стремительного, прозрачного, светлого. Если принять символический смысл определений, в том числе и вторичных — цветовых, только что отмеченное распределение оттенков и может быть верным: босый волк Игорь — бусови врани. Неслучайным оказывается и выбор слов для характеристики всего движущегося вообще. Волк здесь босый (Игорь), комони борзые, а река — быстрая. Быстрый когда-то и значило ‘ясный, прозрачный’, такое значение слова было основным. Быстра реченька — прозрачная, чистая, ибо стремительна в своем течении. В Слове Игорь еще и соколомъ полетѣ, а сокол в русской поэзии также всегда — ясный сокол, и опять-таки потому, что стремителен в полете. В самых разных оттенках символического образа Игорь всегда один: рыцарь света, который даже в своем поражении побеждает черную тьму. Последовательным включением в текст все новых — прямых и косвенных — определений автор делает Игоря действующим, стремительно перемещающимся носителем света, приписывая ему действия, которых на самом деле могло и не быть. Образная перспектива, постепенно создаваясь из самых различных слов, в конце концов сгущается на единственном лике, извлеченном из мрака как светлый герой. Он — воплощение света, хотя сам по себе — не свет. Войдем в обстоятельства XII в. В языке много слов конкретного значения, которые, в совокупности выражая общий для всех них смысл (как в данном ряду определений: светлый из стремительности), всегда оказываются привязанными к своему особому имени, которое следует уточнить эпитетом: борзый конь, быстра река, босый волк, да еще и сокол и все остальное. Можно ли было обойтись без них? Наверное, можно было, но тогда мы так и не узнали бы, чем бешеный бег волка отличается от стремительности волны на речных перекатах и от пьяной ярости боевого коня. Мир конкретен также и по своим признакам — оттого и образ берется из реального мира. Между тем поэту важен не только этот стих, не только такое определение. Мир не только конкретен, он еще и многообразен. Соединяя строки в текст и сталкивая друг с другом смыслы использованных им слов, автор дает нам возможность вычленить в сознании то общее, что свойственно всем однородным определениям, а образы героев представить в движении — на скаку, на лету. И тогда сразу видишь, что цвет тут важен не сам по себе, как статичный признак внешней характеристики, как красивая деталь описания, он рождается из действия и познается в движении. Динамизм поэтики Слова сам объясняет нам, почему так мало здесь прямого цвета и почему языческий красочный мир, растянувшись в противоположности, разошелся на две совершенно бесцветные струи: на черную тьму и на белый свет, сияющие каждая своим блеском. Да, таков цветовой фон повествования о походе Игоря. Приглушенный, скрытый в глубинах слова, только иногда он покажется как внешняя грань чего-то, на самом деле куда более значительного. Цвет в Слове менее важен, чем звук, а потому и дается чаще всего не впрямую. Прямых цветовых обозначений мало. Интересна и такая подробность: в Слове нет ни глаголов цветообозначения (рдеет... золотился... синело...), ни сложных прилагательных со значением цвета (светло-серо-голубой) или других цветовых форм, столь привычных нашему времени. Нет и чужих слов, выражающих цвет. Это все не случайно. В XII в. цветовая гармония мира виделась такой, какою представил ее нам автор Слова. Не было в речи слов, связанных только с цветом, — не было и самостоятельно важных признаков цвета. Важнее было обозначить не цвет самой вещи, а ее существенные характеристики: светимость и яркость (зеленый и синий) или отсутствие этого качества. Признак цвета слит еще со всеми другими признаками предмета или существа, но уж если он извлечен и показан в поэтическом тексте как важное свойство их, тогда такой признак — не просто цвет, как сегодня у нас, он — символ.
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ В СКАЗАНИИ О МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ
Говоря о поэтических особенностях Сказания о Мамаевом побоище, исследователи специально отмечают, что стиль этого памятника состоит «в соединении воинских формул с фольклорными образами и с элементами риторики»[181] в таком органическом сплаве этих трех составляющих, что безусловно можно говорить «о высоком поэтическом мастерстве автора Сказания о Мамаевом побоище»[182]. В этом смысле интересно проследить лексические варианты и синонимические ряды слов, использованные автором Сказания, и объяснить стилистическую функцию таких слов на фоне обычных для начала XV в. значений слов и идиом. Необходимо было бы сплошное и исчерпывающее изучение всего текста, и притом по разным редакциям и спискам. В настоящее время такую работу произвести невозможно: у нас нет критического издания текста. Ограничусь поэтому предварительной разработкой темы в плане постановки проблемы. Обилие материала, представляемого и одной редакцией Сказания, позволяет вполне однозначно решить эту задачу на материале и одной редакции, которую в соответствии с аргументацией Л. А. Дмитриева[183] мы признаем Основной, составленной между 1406 и 1434 гг.: она обладает и наибольшим единством в стилистическом отношении, она же является и самой распространенной. Предварительный просмотр нескольких списков Основной редакции Сказания показал значительные расхождения в тексте и частичные его изменения (выпуски, перестановки, сокращения). В сопоставимых отрезках текста стилистические или лексические правки не очень значительны, хотя в отношении к некоторым словам варьирование достигает, напротив, весьма широких пределов[184]. Каковы бы ни были источники, использованные автором Сказания, все они подчинены основному композиционному стержню произведения: подготовка, проведение и обсуждение результатов сражения. Трехчастность композиции выявляется довольно четко. Расположение противоборствующих сил также подчинено обычному для средневековых авторов тернарному разбиению. Зеленым (т.е. светлым) знаменам Мамая[185], объединившим темные силы поганых, противопоставлены червоные знамена Дмитрия[186], под которыми объединились светлые силы православных. Автор не случайно говорит о том, что шеломы русских воинов, их оружие, сбруя их коней — позолочены, золотые, поблескивают. Это перекличка цветовой гаммы с золотыми куполами соборов, также представленных в движении текста, но вместе с тем это и символическое обозначение света. В древнерусских текстах часто встречается изображение Бога как света (светоносный, светозарный), а верных ему людей — как отражающих этот свет (златозарные). Соответствующая традиция идет от Жития Бориса и Глеба, с которым часто перекликается и текст Сказания. Золотой блеск у русских воинов — это отблеск небесного света. Столь явной антитезе света тьме противопоставлено отсутствие всяких цветовых и световых обозначений для союзников Мамая. Они в тени, они выпадают из развивающихся событий, они не маркированы ни в авторском повествовании, ни в стилистической гамме. Последовательность троичного разбиения как средневековый стилистический штамп широко представлена на всех уровнях текста, и нет смысла разбирать его во всех подробностях. Такое разбиение отнесено даже и к «однородным» по функции персонажам, например к священнослужителям, с точки зрения основной композиционной струи исполняющим функции связи между Божьей волей и земной силой князя. Недостижимому и высокому Киприану противопоставлен спаситель и вдохновитель победы Сергий, который, в свою очередь, как некую материальную субстанцию выделяет с границ своего уровня ратоборцев Ослябю и Пересвета — уже скорее воинов, чем старцев. Каждый из этих уровней проявления Божьей воли имеет свой стилистический ключ, и в отношении к нему используется определенная лексика в соответствии с обычными для того времени представлениями о стилях высоком (Киприан) и низком (Пересвет). Удивлявшую исследователей необходимость включения Киприана в повествование можно толковать как потребность заполнить верхний уровень в этой триаде, поскольку с точки зрения церковной иерархии действительный молельщик князя Сергий не мог стать ее верхним пределом. Рассмотрение фактов начнем с наиболее ясных случаев. На первый взгляд безразличные в отношении к стилистическим нюансам текста, глаголы движения на самом деле образуют определенный градационный ряд. Если извлечь из текста ремарки автора и прямую речь героев, указывающие на последовательные действия Мамая, а затем и Дмитрия, выявится такая последовательность передвижений (в квадратных скобках показаны глаголы, использованные в письмах и монологах, т.е. имеющие, возможно, дополнительную стилистическую нагрузку): Мамай — въздвижеся от восточныя страны... нача подвижен быти... перевезеся великую реку... поиде же безбожный на Русь (т.е. до ее границ)... доиде... кочуетъ (дожидаясь союзников и осени)... хощеть ити на Русь (но один не решается)... [хощеши ити — размышления потенциальных союзников]... [грядетъ — неотвратимо, по мнению все тех же Олега и Ольгерда, хотя замедление действия все еще продолжается]... придетъ... [грядетъ... грядеть]... грядетъ. Постепенное усиление движения, основного для повествования, как бы пробуждает само действие; к каждому глаголу в этом последовательном ряду можно приписать его собственный отрезок текста, потому что каждое новое движение Мамая, пусть даже «статичное движение», возбуждает какое-нибудь действие со стороны его союзников или Дмитрия, или даже самого автора повествования. Так, у Дмитрия соответственно представленной градации по мере уяснения ситуации как результата действия Мамая и с помощью «чудесных помощников» Киприана и Сергия, а также и самого Бога возникают следующие реакции: нача молитися... въсклонися и рече... прослезися и рече... пригнув руце к персем своим, источник слез проливающи, т.е. в соответствии с постепенным и неуклонным у Мамая «поднялся» — «расшевелился» — «перешел границу» у Дмитрия пока еще пассивное желание замолить беду градационным рядом плача: «склонился, говоря (молитву)» — «пролил слезы, говоря (молитву)» — «изливая потоки слез». Сложность анализа в данном случае заключается в многопланности самого повествования. Например, как в данном случае, плачет не один Дмитрий, и другие «светлые» герои умиленно «выплакивают» победу: священники, княгиня и т.д. В частности, промежуточный плач княгини между двумя молитвами Дмитрия обогащает представленный градационный ряд еще одной ступенью: (Дмитрий) источник слез проливающи — (Евдокия) слезы льющи аки речьную быстрину — (Дмитрий) слезы аки река течаше от очию его. Приближение Мамая к русским границам и последующий ряд его неуверенных маневров соотносится с неопределенными же, но вполне сознательными недействиями Дмитрия, с его распоряжениями, представляющими как бы результат его самоуглубленного разговора с Богом или его представителями на земле: прииде... поиде... посла... разослав... поеде — все это стилистически и семантически нейтральные глаголы, в спешном мелькании текста их как бы не замечаешь: слова-связки, не больше. Но, подобно мгновенному, но повторяющемуся кадру, они фиксируют движение героя, а в сопоставлении с другим, стилистически уже выразительным рядом слов они как бы указывают на обыденность, обычность, привычность этих княжеских действий. Ситуация решительно изменяется в третьей части, когда и Мамай уже грядетъ... грядетъ... грядетъ. Действия Дмитрия соответственны, это уже не молебщик, а воин: въстаетъ... взыде... вседоша (на коня)... подвигошася... грядетъ. Этот ряд заключает высокое слово, знаменующее неотвратимость и непреложность предстоящей битвы в качестве заключительного члена градационного ряда, и оно применено по отношению к русским воинам, действия которых в экспозиционной части представлены как поиде... ведетъ языка... приидоша... грядутъ. Противоборствующие силы сошлись во всех своих составляющих. В соответствии с замыслом Сказания ни Олег, ни Ольгерд не даны в движении. Они статичны, и на этом фоне даже «статичное движение» Мамая в центральной части воспринимается как действие. Чего стоит единственное упоминание о том, что Олег начат приспешивати — это почти ироничное указание на неподвижную растерянность союзника Мамая, его приспешника. Таким образом, подбором и расположением слов, почти не повторяясь, автор дает нагнетание обстановки перед боем, причем инициатором во всех фрагментах является Мамай; действия Дмитрия и его воинов определяются действиями Мамая, тогда как союзники последнего вообще бездействуют. Лексика этой группы в большинстве списков передается без изменений, настолько она важна и функционально определена. В просмотренных списках лишь однажды в передаче косвенно-прямой речи — «что неуклонно Мамай грядетъ на Русь» (50) — другие списки дают нейтральный глагол идетъ (6, л. 44; 342, л. 9), что, может быть, точнее отражает смысл данного фрагмента текста. Основное выражение действия в сцене боя, естественно, принадлежит глаголу бити(ся): и аще побием (Мамая — 61), крепко бьющеся (69), побиени суть (69) и др., но в конкретном проявлении боя в отношении к определенным лицам используется глагол ударити: ударяют копья друг о друга, воины ударяют своих коней и т.д. — не в значении ‘убивать’. В этой сцене много устойчивых сочетаний, обычных для средневековых воинских повестей, и нейтральность традиционного штампа как бы стирает в глазах автора противопоставление русского воина вражескому: в бою они равны. Однако результат действия, как это и следует ожидать, в глазах автора неоднозначен в отношении к противоборствующим силам. Если враги русских бьют (то же нейтральное слово в значении ‘убивают’), то русские врагов секут (один раз изрываху — 71): татар сещи (71), и начаша их сещи и всех изсекоша (65), сечаху (71) и др. Гибель русских воинов описана отстраненно от самого факта сражения, как будто они умирают не насильственной смертью, а по велению свыше, что является необходимым условием победы (так же первоначально воспринимается героями и отсутствие Дмитрия среди убитых и живых). Для этого автор последовательно использует глагол стирати ‘размалывать’, ‘истреблять’ и вместе с тем ‘мучить’, ср.: «мнози же сынове русскые сътрошася» (69), «напрасно сами себе стираху» (69); в высоком слоге, например в речи святого, использовано и слово требити: «кто вы повеле требити отечьство наше» (65), «нъ не истребишася Божиею милостью (стяги Дмитрия)» (70) — это также связано с обозначением жертвы (требы), но в стилистически ином плане. Равные друг другу в бою, русские и вражеские воины погибают одинаково; например, от тесноты на поле битвы они издыхаху (69), слово очень удачно благодаря своей многозначности: одновременно это может передавать значение ‘задыхались’ и ‘испускали дух’. Пересвет и его противник в результате смертельной стычки также скончашеся (69), однако наряду с нейтральным словом умрети в характеристике результата общего действия автор снова различает два стана. «Аще не умретъ» (61), — говорят Ольгердовичи Дмитрию, «аще ли умру» (68), «тою же смертию умрети» (68 и 73), — говорит и сам Дмитрий, имея в виду смерть отдельного человека, но в собирательном смысле по отношению к русским воинам говорится «положили есте главы своя» (73, 75 и др.). Традиционный оборот сложити голову по отношению к врагам неприменим, поэтому автор использует древнее сочетание, обозначающее физическую смерть язычника, — лишитися живота, ср.: Юлиан, который «жывот свой зле сконча» (48), сам Мамай «испровръже зле живот свой» (76), враги в бою размышляют о «погыбели жывота своего, понеже убо умре нечистивый, и погыбе память их с шумом» (62). В этом рассуждении и передано основное различие между христианским воином, положившим свою голову за правое дело, и «безбожными агаряны», которые, утрачивая свой живот (телесную жизнь), не получают жизни небесной. Здесь было бы мало указать на древнерусскую традицию[187], соответствующие формулы объясняются и реальными контекстами самого Сказания. Сочетание живот вечный как обозначение жизни небесной, напротив, употребляется только по отношению к христианам, в том числе, естественно, и в евангельской цитате (отсюда это сочетание и распространилось): «въсприиметъ жывотъ вечный» (50); затем Дмитрий дважды его повторяет, все время подчеркивая противопоставление вечной жизни и смерти: «Ни без ума нам сия смерть, нъ жывот вечный» (57), «Нам ныне несть смерть, нъ живот вечный» (66). Дело, следовательно, не в самом слове живот как контроверзе голове, а в характере формулы, в которую это слово включалось; формулы же складывались в разное время и в различной среде и потому отражали не совпадающие в стилистическом отношении оттенки. Более того, противопоставление головы животу в современном значении этих слов было бы непонятным, поскольку в самом Сказании воплощением нравственных качеств Дмитрия и его воинов являются душа и сердце, тогда как Мамай и его союзники характеризуются умом и мыслью. В тексте 20 раз употреблены слова сердце, душа, дыхание, ср. Дмитрий — «нача сердцем болети» (49), «сердцем своим велми слезяше» (54), «храбрым людем в полкех сердце укрепляется» (61), «от великие горести сердца своего» (66) и т. д., но также — «из глубины душа нача звати велегласно» (63), «Господу Богу все возможна: всех нас дыхание в руце его» (67), «от великия горести душа своея» (67) и др. Из сопоставления этих контекстов ясно, что душа (дух) и сердце христианина для автора синонимы. Сердце может иметь и нечестивый, и трижды это слово относится к характеристике врага: «вниде въ сердце его (Мамая) напасть роду христианскому» (43) — так начинается Сказание, о нечестивом сердце Юлиана говорит Киприан (48), в молитве Дмитрий просит Богородицу «смирить сердце врагомъ нашимъ» (53). Таким образом, о сердце агарян говорят христиане, не отказывающие своим противникам в наличии этого воплощения нравственных чувств. Однако души, духа в них нет — это несомненно. Христианскому духу противопоставлены ненавистные христианину разум, ум, мысль, т.е. человеческая гордыня, противопоставленная смирению и покорству христианина. Один лишь раз Дмитрий говорит об уме — и в уничижительном смысле: «Ни без ума нам сия смерть, нъ жывот вечный» (57). Еще раз говорится о русском воине Захаре Тютшеве — «довольна суща разумомъ и смысломъ» (49). Все остальные 20 употреблений этих слов[188] относятся к Мамаю, но главным образом к Олегу и Ольгерду. Если Мамай «ослепну же ему умом, того бо не разуме, како Господу годе, тако и будеть» (44), то союзникам Мамая отказано и в этом: «скудость же бысть ума в главе его» (44), «они же скудни умом» (47), «горе мне, яко изгубих си ум, не аз бо един оскудех умом, но и паче мене разумнее Вольгерд литовский» (57) и др. Анализируя свои стратегические просчеты, Ольгерд и сам указывает на то, что он не мог «разумети суетныа свои помыслы» (58), «чюжую мудрость требуетъ» (58) и т.д. «Внешняя мудрость» «злых человек» формально и по содержанию противопоставлена душе правоверных. Впоследствии Олег сокрушается, что доверился мудрости католика Ольгерда и силе поганого Мамая, хотя у него, православного, были и более могучие источники внушения. По функциональным свойствам сила души выше силы ума. Для автора это несомненно — и это лучше всего доказывает, что автором был церковник. Хотя личная мудрость Дмитрия, которая фактически показана в Сказании, и явилась залогом победы («Увы нам! — говорят враги о засаде Боброка, — Русь пакы умудрися» — 71), но внушена эта мудрость духом — душой — сердцем. Последовательность в противопоставлении сердца уму как различных источников нравственной силы героев подтверждает целеустремленность автора в изложении своей позиции и цельность произведения вообще. Наконец, после описания сражения мы почти не встречаем в тексте глаголов, передающих движение героев, — действие по существу закончено. Само значение таких глаголов здесь как бы преломляется в общем контексте, ср.: русские воины «со всех стран бредуть под трубный глас... грядуще же весело, ликующе». Значение глагола брести в языке ХІV-ХV вв. вполне определенно: ‘идти вброд’. В основной части Сказания оно и использовано: «мнози же плъкы поганых бредуть оба пол» (68), «а (кони) в крови по колени бродяху» (72). Значение глагола грясти также вполне определенно: ‘идти’, ‘шествовать’, и в таком смысле он употреблен в основной части произведения. Теперь же усталые воины бредут, еле волоча ноги, и вместе с тем торжественно грядут в ликовании. Смещением в значении слов, употреблением переносного значения автор показывает завершение строгой линии повествования: празднество окончено, пир прекращен, все прежние связи порвались, а новые еще только организуются под черными стягами князя. Перелом настроения и разрыв связей, наступившие после сражения, стилистически демонстрируются буквально на каждом шагу. Вот слово, обозначающее победу. Прежде всего, победить может только верховный вождь, например, победить может Мамай (47) или Тохтамыш (76), но и Дмитрий (76), а также Пересвет, воплощающий в себе волю Бога и потому «победи велика, силна, зла татарина» (74); русские воины вражеских или вражеские воины русских, Олег и Ольгерд своих противников не побеждают, а всего лишь одолевают: «одолейте своего недруга», — говорит Мамай Ольгерду (47), «начаша погани одолевати» (69, 70), русские преследуют врагов «и не одолеша их, понеже кони их утомишася» (71) и т.д. Но важнее то, что и само слово победа в заключительной части Сказания как бы сохраняет еще внутреннюю свою форму: по-бѣда — то, что случается после бѣды, несчастного для обеих сторон события, и распространяется одинаково на победителя и на побежденного, на Дмитрия и на Мамая — связи разорваны, но действительный победитель еще неясен, что и случилось в действительности: сам князь еще не найден среди погибших. Вполне возможно, что в первоначальном тексте Сказания слово победа в неопределенном своем значении было представлено гораздо шире, ср.: «безбожный же царь Мамай, видев свою погибель» (71) — но в списке 342 «видѣвъ по бѣду свою» (32, об.; в списке 6 этого текста нет). Функционально важное противопоставление светлого, христианского темному, языческому лексически и стилистически проявляется в нескольких оппозициях. Основная из них лежит на поверхности, является общим местом и каждому ясна своим отношением к тому или иному члену антитезы: Мамай — поганый, еллин сый верою, идоложрец и иконоборец, злый христианскый укоритель, безбожный, все его воины безбожники агаряне, половцы, поганые, печенегы, поганые татары. Все эти определения, несмотря на различия в своем происхождении, — точные синонимы, они и варьируются довольно безразлично по всем спискам Сказания в большом числе вариантов: поганым половцем (53) = поганому царю Мамаю (6, л. 50) или поганым еллиномъ (342, л. 12); от поганыхъ измаилтянъ (59) = от татар безбожных (6, л. 62 об.) и т.д. Дмитрий, напротив, человек христиан, смирен человек и образ нося смиреномудрия, небесных желаа и чаа от Бога будущих вечных благ, и наипаче же въоруженъ твръдо своею верою и т.д. Мамаю принадлежит держава: «держава твоя пощадитъ, царю», — говорит ему Олег (45), «держава твоего царства», — вторит ему Ольгерд (46). «Елико довлеет твоему государьству», — обращается к Дмитрию Сергий, и в этом противопоставлении державы государству скрыто отношение автора к самовольному тирану Мамаю в отличие от Дмитрия, который держит совет с вассалами и подчиняется воле Бога. Вместе с тем оба слова объединяет их одинаковая многозначность: и держава, и государство в XV в. обозначали как само владение, так и верховного властителя, воплощавшего в своей личности державу-государство. Как частное лицо Дмитрий владеет отчиною, отоками, подобно другим князьям — владельцам княжений (даже и Олег). Все это в тексте Сказания равнозначные слова, синонимы, хотя по происхождению официально-книжное, высокое заимствование отокы и разговорное (в)отчина, разумеется, различны и стилистически дифференцированны, употреблены в различных контекстах, а в поздних списках заменяются, ср. «доволенъ есьми своими отокы» (49) = «отокы своими» (342, л. 8), но в списке 6 (л. 43) уже замена своею вотчиною — старое слово выходит из употребления к концу XVII в. Оба героя не свободны в своих действиях, оба осуществляют волю высших сил, причем Мамая подстрекает дьявол, и все его поведение окрашено в тона злобной принужденности: «мне убо, царю, достоить победити царя, подобна себе, то мне подобаеть и довлееть царьская честь получити» (47), «которые грады красные довлеют нам» (49) и др. — слово подобает, видимо, попало сюда случайно, потому что основные формы выражения обязательности в отношении Мамая достоит, довлеет, т.е. ‘следует’, ‘достаточно’, некатегоричны. Наоборот, в отношении Дмитрия 10 раз использовано подобает (один раз в устах Ольгердовичей — належить, один раз в устах Сергия — довлеет), ср.: «то подобает ми тръпети» (49), «не подобает тебе, государю» (65), «тебе подобает особь стояти... а намъ подобаетъ битися» (68) и т.д., ‘соответствует’, ‘приличествует’, но также без принуждения. Скрытый смысл данного лексического противопоставления заключается в том, что Дмитрию подобает действовать в удобное время по добрым мотивам и потому — успешно, тогда как Мамай обязан, принужден действовать ради самого действия. Этимологическая и семантическая связь слов подобает, удобно, добр и др. еще ясно сознавалась (подобное соотношение хорошо чувствуется и в современных говорах). В устах самого Дмитрия удобь и подобает еще одно и то же: «яко неудобь бе мощно таковому быти» (60) — «то подобаеть ми тръпети» (49), действовать подобает в подобное время, ср. поэтические повторы в словах Дмитрия и Боброка: «Уже бо время подобно и час прииде!» (69), «И мало убо потръпим до времени подобна» (70), «Наше время приспе, и час подобный прииде!» (71). В этом же значении используется и слово година — удобный для действия час, ср.: «Не уже пришла година наша», — говорит Боброк (70) — и вместе с тем точное указание на длительность боя в словах очевидца: «в шестую годину сего дни... в седьмый же час дни» (70) — с полным соответствием слова година слову час. Этимологически годъ — ‘благоприятное для действий время’, тем более соответствующие слова применимы только к Дмитрию, поскольку его действия связаны с добрыми делы (46), яко добрии въини у него (52), он связан с подвигомъ добрымъ (59), ждет подвига добраго (59), хотя ситуация складывается и не всегда добрѣ удобна (47). Единственный раз слово добрый отнесено к Мамаю и в характерном контексте: «ничтоже добра имам чаяти» (71). Добро Дмитрия есть реальный земной успех, который обеспечивается и предопределяется божественным благом; слово благо и производные в тексте Сказания и употребляются только в отношении к Богу или в речах Сергия применительно к людям — носителям блага: «вы бо есте въистину блазии рабы Божии» (68). Любопытно, что, кроме Дмитрия и Мамая, никто больше не связан столь явным обязательством действия — ни союзники, ни священники, ни воины. Необходимость действия — это проявление государства-державы. Когда речь заходит о Боге, употреблено другое слово: «как Господу годе, тако и будет» (44; в списках новая форма: угодно, см. 6, л. 33). Это уже не обязательство, а самовольство, оно не имеет ничего общего с верховными обязательствами Дмитрия или Мамая. Столь же последовательно выражено и различное отношение к похвале или порицанию обоих героев. Похвала передается тремя словами: слава, хвала, честь. Внутреннее взаимоотношение слов слава—честь на материале древнерусской литературы уже было рассмотрено[189]. Слава прилагается к князьям, честь — материальное выражение славы и относится к вассалам. В Сказании эта система обозначений несколько сдвинута, поскольку появляется слово хвала, а сама композиционная сложность произведения вызвала необходимость в противопоставлении «положительного» героя «отрицательному». Кроме того, автор-церковник иначе смотрит на феодальные представления о чести и славе. В Сказании Дмитрий, Боброк и другие славят Бога, Бог — царь славы, он субстанция славы («да и ти познают славу твою», — говорит Дмитрий в молитве о своих врагах), поэтому слава — вершина и апофеоз действия, и когда Боброк сообщает Дмитрию, что «твой връх, твоя слава будетъ», он говорит о победе. Воины Дмитрия не могут получить славы, они в состоянии лишь причаститься к ней в результате своих мужественных действий, непосредственным их трофеем, как и в раннефеодальном обществе, остается честь, вот почему воины Дмитрия «хотят себе чьсти добыти и славнаго имени». Но Бог, кроме того, еще и свет («светодатель», — говорит Дмитрий), он светоносен, его праведники, например патроны дружинной среды Борис и Глеб, светлые, они сияют отраженным от Бога светом. Дмитрий этим качеством не обладает, как не обладает им ни один из живых праведников. Это только льстивый Олег может передавать Мамаю свои верноподданнические восторги, называя его преславным или всесветлым царем. Уже в таком словоупотреблении проскальзывает авторская ирония над обезумевшим от нерешительности Олегом: ведь на самом деле Мамай — нечестивый царь, это определение неоднократно повторяется в тексте Сказания. Дмитрий не может быть светлым, но он славный. Славе как верховный носитель земной власти Дмитрий причтен после своей победы, он причтен и к чести, потому что, подобно рядовому воину, пошел в бой и сражался наряду с ратниками. Русские воины, как это и определено феодальными канонами, получают дары и честь, ср.: «даров и чьсти от них приимах, многими дары почтивъ» и т.д. Распространить на враждебные силы это устойчивое соответствие славы и чести автор не может. Похвала Олега и Ольгерда Мамаю передается словом хвала, сам автор и русские воины связывают Мамая только с признаком нечестье. И Мамай в ответных словах союзникам благодарит их: «за хвалу вашу, за хвалу вашу великую». Хвала — самая высокая оценка, данная человеком, она является земным эквивалентом славы, которую раздает Бог. В этом противопоставлении и содержится основной смысл антитезы: она распространяется на Дмитрия и Мамая — ни Ольгерд, ни Олег, ни кто-либо еще в нее не включаются. Антитеза проявляется и в порицании героя. Мамай, враги, их союзники (Ольгерд) осуждаются словами студ и срам — обычным средством выражения соответствующего понятия не только в древнерусском языке, но и в большинстве современных русских говоров; говорится о бестудии их, «погани половци с многым студом омрачаются». Мамай и сам говорит: «Сраму своего не могу тръпети», Ольгерд «възвратися въсвоаси с студом многым», Мамая «увидели и посрамлена и поругана», Дмитрий «посрами их суровство» и т.д. Такими словами обозначалось чувство стыда (студ, стыд) и порицание за непристойные действия (срам). Дмитрий — герой иного плана, он воплощает благую сторону, он положительный герой, поэтому столь физические и приниженные характеристики к нему не могут относиться. В систему слов, выражающих порицание, входит слово смех как высокая форма осуждения с точки зрения церковника[190]. Заметим, что в случае похвалы разрушение старого ряда слава—честь включением нового слова хвала происходит в сторону Мамая, а в данном случае, наоборот, разрушение ряда стыд— срам включением слова смех происходит в отношении к Дмитрию. В обоих случаях слова хвала и смех шире по своему значению предшествующих слов, они как бы вбирают в себя значение обоих слов, например, в последнем случае смех включает в себя и ощущение собственного стыда (студ), и порицание со стороны (срам), но в обоих же случаях новое, третье слово ряда является стилистически маркированным. Дмитрий в молитве просит: «Не дай же нас в смех врагом нашим» (65), сам автор цитирует «не дасть в поношение врагом быти и в посмех» (46). Здесь между поношением и смехом поставлен знак равенства; «събирают себе досажения и понос» (47). В проявлении чувств героев — проявление все той же антитезы, воплощаемой в разных словах. Более 40 раз в Сказании употребляются слова уныние, печаль, горесть, скорбь, плач, и почти все они отнесены к Дмитрию или связаны с его действиями. Врагам или их союзникам эти переживания не свойственны, им вообще не свойственны никакие переживания, поскольку у них нет чувств и эмоций, а только рассудочное желание исполнить волю дьявола; только однажды эта ситуация переворачивается: после поражения Мамай «плачющи гръко, глаголя...». Исключительная напряженность событий, поставивших Русь перед новым нашествием, определяется высоким и конкретным словом беда («беда, княже, велика, сию беду великую, избави, господи, от такия беды»), Ольгердовичи эту ситуацию определяют иначе: «яко велика туга и попечение належит великому князю Дмитрию Ивановичю, великая бо туга належит имъ от поганых измаилтянъ» — это взгляд со стороны первоначально не участвующих в горниле беды союзников, сочувствующих Руси; войдя в это горнило по собственной воле, они говорят уже: «Братие, в бедах пособиви бывайте». Мамаю, разумеется, ни беды, ни туги, не предвидится, он вне этого, но его союзники, Олег и Ольгерд, говорят о притеснениях со стороны Дмитрия, выражая это словами зло, обида; слово обида как самое общее и неопределенное по значению и стилистическим оттенкам употребляется и в отношении к Дмитрию. Наоборот, семантическая насыщенность обозначений перемещается автором с Дмитрия на Мамая, когда он говорит о проявлении необузданного гнева. Дмитрий рисуется коленопреклоненным молельщиком, и поэтому единственный раз, когда в отношении к нему употреблено соответствующее слово, оно (если это не конъектура) сопрягается с противоположным по смыслу словом, образуя неожиданный оксюморон: узнав о нашествии Мамая, Дмитрий «наплънися ярости и горести»(49). Зато воинственная решимость Мамая рисуется в градационном ряду так: «акы неутомимая ехыдна гневом дыша» (44), «неуклонно яряся на христианство» (47), «неуклонным образомъ ярость нося» (48), «яряся зѣло» (76), «грозою идя» и т.д. Подобно кулачному бойцу перед схваткой, Мамай разжигает себя в послании к союзникам, которые, в свою очередь, ему вторят: «огрозитися, имя ярости твоея, устрашаю Русь, погрозим ему, ярость его» — полный параллелизм этому «физиологическому» движению души врага составляют фрагменты, описывающие реакцию живой природы на эту беду: «и мнози зверие грозно воют, ждуще того дни грозного... от таковаго бо страха и грозы великыа древа преклоняются» (61) и др. В древнерусском языке гроза — высшее проявление ярости. Подобные животные проявления со стороны Дмитрия, конечно, невозможны. Угроза, гроза, ярость — это свойственно Мамаю как носителю злой силы. Гневаться может и Бог, но гнев — это справедливое проявление недовольства: «нъ не до конца прогневается Господь на нас», — уверен Дмитрий. Древнее, часто встречаемое в текстах сочетание гнев и ярость здесь также разложено на антитезу с тем же сквозным противопоставлением высокого и справедливого (гнев) животному и необузданному злу (ярость). Глагольная лексика особенно наглядно выявляет противопоставление высокого архаизма обычному разговорному варианту, впоследствии закрепившемуся в русском литературном языке в качестве единственной возможности выражения. В таких случаях лишь применительно к Дмитрию и его воинам употребляется вариант высокий — враждебная сторона характеризуется нейтральной в стилистическом отношении лексемой. Во время создания текста оба варианта были живыми, отчасти сохраняли свое исходное семантическое различие, и поэтому в повествовании древнерусского книжника подобное стилистическое разграничение слов безусловно является авторским приемом. Так, сопоставляя различные отрезки текста, можно обнаружить, что по отношению к Дмитрию и его воинам используются глаголы хотети и желати, а по отношению к враждебной силе — только нейтральный глагол хотети; по отношению к Дмитрию — речи (реша), рече, рекоша и др.; по отношению к врагам — глаголати; некоторые отклонения, впрочем, возможны в списках Сказания. В списке 6 прямая речь Мамая и др. не вводится словами типа глаголя, молвя, подобно другим спискам (ср.: «кликнуша еллинским гласом, глаголюща... погани же бежаще кричаху, глаголюще... »), а рече в этой функции последовательно сохраняется в отношении к прямой речи всех героев повествования. Видимо, здесь проявляется постепенное стирание исходного авторского разделения стилистических характеристик последовательной заменой всех вариантов общей безразличной в стилистическом отношении формой рече. В Сказании использованы и другие глаголы говорения, но не в отношении к Дмитрию или Мамаю: говорят бояре и — галки, молвят стяги и т.д. Ряд глаголов использован еще в исконном своем значении без признаков переносного значения: сказати ‘истолковать скрытый смысл’; так, Боброк сказывает приметы перед боем, послы Олега и Ольгерда сказывают смысл посланий Мамая к ним. 43 раза в любом контексте использованы слова с корнем вид(ети) — видеть наиболее общее слово для передачи соответствующего действия. Но когда автор употребляет стилистически маркированные варианты (синонимы к этому глаголу) смотреть или зреть, его авторская позиция вполне определенна. Смотрение относится к Богу («Божьего смотрения», «виждь смотреливымъ своим оком на люди своя») и к Мамаю с позиции Олега и Ольгерда (которые последовательно соотносят его с Богом, за что, собственно, и упрекает их автор), ср.: «твое смотрение нашея грубости». Глагол зрети встречаем в поэтических повторах автора: «грозно, братие, зрети тогда, а жалостно видети и гръко посмотрити человечьскаго кровопролития» (72); «умилно бо видети и жалобно зрети таковых русских собрания». Перед нами обычное со времен Кирилла Туровского перемещение читательского внимания с одного аспекта зрения на другой; смотреть → видеть → зреть, т.е. собственно ‘всмотреться’, ‘увидеть’ и ‘осознать’ лицо или явление. Евдокия, прощаясь с мужем, «уже бо конечьное зрение зрить на великого князя» (55), поэтому же и татары «плъкы русскыа узреша, узреша множество великое людей» (62) и т.д., т.е. осознают конечный результат события — появление русских войск. Ничего не говорится о самом процессе «вглядывания» и «изучения» ситуации: вражеское войско, враги вообще в словесном воплощении авторского замысла даны как статичные носители предопределенного действия, поэтому и описываются лишь в тот момент развития действия, когда само действие требует показа их участия в событии. Автор и ограничивается указанием на результат: не посмотрели, не увидели, а уже осознали неотвратимость сражения. То же показано и явным образом: русское воинство долго шло к месту сражения, но враги узнали об этом (узреша) в самый последний момент, погнавшись за русской сторожей. Зрети в этом смысле (внутреннее зрение) соотносится со значениями глаголов знати и ведати. Согласно Сказанию, ведают по существу все участники действия — это внешняя мудрость, сумма практических знаний, в плане процесса познания соотносимых с видети. В древнерусских рукописях смешение глаголов видѣти и вѣдѣти — довольно обычная вещь[191]. «А не ведый того оканный» — о Мамае, «не ведаху бо» — Олег и Ольгерд «не ведый того» — о Дмитрии, также и Пересвет с Ослябей «бе бо ведомы суть ратницы в бранех» и т.д. То, что вѣдаешь, можно передать другому — повѣдати, этим объясняются некоторые смещения авторского текста по спискам, ср. «подобаетъ намъ поведати величества и милость Божию» (43), чему в списке 342 соответствует «повѣдати величества Божия» (1), а в списке 6, видимо, исходное сочетание: «подобаетъ намъ вѣдати величия Божия» (32). Совсем иное дело — знати, т.е. быть включенным в познание высшей духовной мудрости, подобающей Богу. Этот глагол употреблен только в устах Дмитрия; в своих молитвах, т.е. в самых высоких стилистически фрагментах текста, он отмечает, что Владимир Святой уподобился познати православную веру, сам Дмитрий и его подданные только с помощью Богородицы познахом Бога, даже враги познают славу Твою (Бога), если на то будет воля Божья. Знати, таким образом, соотносится со зрѣти и является содержанием и смыслом этого последнего действия. Стилистическое разграничение пар знати—зрѣти и видѣти—вѣдѣти в тексте Сказания несомненно. Именно содержательной наполненностью в употреблении всех таких синонимов можно объяснить устойчивость соответствующих лексем в тексте: по спискам они не варьируют, поскольку до XVII в. различие между соответствующими словами, хотя бы и на стилистическом уровне, осознавалось весьма определенно. Аналогичную оппозицию двух противостоящих сил можно проследить на любой группе лексики. За недостатком места я не буду останавливаться на характеристике чисто внешних, с точки зрения автора Сказания, — вторичных типов противопоставления в этой развернутой антитезе. Например, легко заметить, что Олег пишет грамоты, Мамай шлет написание (т.е. текст послания) и дает ярлыки, Сергий посылает в книгах написание (текст священных книг), Ольгердовичи обмениваются буквицами (по некоторым спискам — грамотами), а Дмитрий ничего не пишет, он полагается на живое слово: свое — перед Богом, и своих гонцов — перед союзными князьями. Поэтому если Ольгерд шлет к Мамаю посла, Ольгердовичи к Дмитрию — послов, все союзники Мамая неоднократно — также послов (в одном случае может быть искажение: Олег Ольгерду вестника посла), то Дмитрий имеет дело преимущественно с вестниками; Сергий, в свою очередь, посылает к Дмитрию посолъника, посланного старца — но не посла. Для этих слов разночтения в списках оказываются очень частыми, ср.: Олег — Мамаю «писа грамоты своа» (45) — в списках ярлыки, Олег — Ольгерду «со своимъ написанием» (45) — в списках ярлыки; Ольгерд — Мамаю шлет грамоты (46) — в списках ярлыки, Мамай вообще шлет только ярлыки (ср. совпадение текста с этим словом по всем спискам, просмотренным нами, что показывает возможность первоначальности именно такого слова в отношении к вражеским посланникам и их грамотам). Собирательное обозначение войска — сила, орда, рать, иногда въинство, войско применительно к врагу, русские войска даны и собирательно (войско, воинство), и индивидуализированно — перечислением витязей, поляницъ, ратниковъ, въиновъ, воевъ, богатырей, удальцов, удалых людей. Само богатство синонимического ряда представляет собою явный контраст по отношению к обезличенной враждебной силе; ср. такое же соотношение и в былинных текстах. Столь же дифференцированно и отношение к самому понятию ‘враг’. Для Дмитрия и его союзников все их неприятели — это враги, супостаты, противные враги, супротивные, противники; Дмитрий для Олега и Ольгерда всего лишь недруг, у самого Мамая, судя по данному словоупотреблению, врагов нет. В глазах автора Сказания Дмитрий не может быть врагом в объективном смысле этого слова, потому что в слове совмещаются значения ‘неприятель’, ‘злая сила’, ‘дьявол’. Такая идея врага как нерасчлененного целого постоянно присутствует в тексте, осознается каждым переписчиком текста и в некоторых случаях даже заменяет более бытовое, а следовательно, и приземленное в стилистическом отношении: слово супостат, ср.: «Имаши, господине, победити супостаты своя» (52) — врагы (342, л. 10об.); «на мя оплъчишася супостати погании» (53) — врази (342, л. 12 об.) и т.д. Повороты сюжета диктуют выбор лексики и для обозначения пространственных перемещений действия. Так, на первый взгляд кажется неопределенным употребление синонимов Русь и русская земля; иногда даже кажется, что здесь на новое для XV в. обозначение накладывается реминисценция из Слова о полку Игореве с его повторением русская земля. На самом же деле и употребление этих синонимов отражает авторскую позицию в отношении к действию. Русь — представление России извне, со стороны, во всей ее целостности: Мамай идет не на русскую землю, но на Русь; Дмитрий говорит о русской земле только до выхода его войск за ее пределы; перейдя границу, он также говорит о Руси. Сам автор, верный своему правилу дифференцировать все явления и события, связанные с русскими, говорит не собирательно о Руси, а о русской земле, подразумевая землю московскую, землю рязанскую, землю Залесскую, землю волынскую и т.д. В одновременном использовании двух терминов с одним значением оказалось возможным передать и впечатление монолитности — в противопоставлении отдельным русским землям, и впечатление отдаленности — в противопоставлении позиции наблюдателя, находящегося на русской территории. Сам автор никогда не говорит о Руси — только о русской земле, потому что он географически и является тем самым наблюдателем, который не выходит за границы русской земли и, следовательно, отражает точку зрения русской стороны. Для позднейших переписчиков позиция автора становилась неясной: почему Русь — это именно московская, рязанская, даже новгородская и другие земли совместно? В результате в различных списках появлялись исправления текста, ср. в 342 по сравнению с изданным текстом: «злата и сребра и богатства много наполнися земля московская» (45) = «много в Руси» (2 об.); «и хощеть ити на Русь» (44) = «на русскую землю» (2 об.); наоборот — «на русскую землю» (45) = на Русь (342, 2 об.) и т.д. В XVII в., когда список создается, Русь и русская земля — только московская земля. Разнобой по спискам, несовпадение исправлений показывает, что перед нами именно бессистемная правка исходного текста, затемнившая исходное распределение терминов. Пространственно-временная четкость изображения в том виде, как она проявляется в словесной структуре текста, вообще поразительна. Это стало основным средством воссоздания иллюзии движения-войска, героев, событий, хотя наряду с тем используются и обычные возможности поэтического текста (смещения в композиции, сопоставления разных планов повествования, развернутые сравнения с жизнью природы и т.д.). Примеров такого рода множество. Противопоставление места боя времени сражения передается словами побоище и брань, ср.: «како случися брань на Дону великому князю... с поганым Мамаем» (43); «велика брань была русским князем на Калках» (55), «господь с нами, силен в бранехъ» (63), «утверъдися акы некыми крепкими бранями» (67) и др. — 10 раз; «(после боя) разсыпашася вси по велику, силну и грозну побоищу» (72), «мало выехав с побоища» (73), «выехав на велико, силно и грозно побоище» (73; и рядом: «отъехав на иное место» — 74), «поганый же Мамай тогда побеже с побоища» (75) и др. — всего 7 раз. Бой — это взаимное действие двух враждебных сил, и здесь не может быть позиции наблюдателя; поэтому различий в употреблении этого слова по отношению к русским и их врагам нет; оно вообще встречается редко и совмещает в своем значении пространственно- временные границы этой беды (ср. плач Евдокии, которая говорит о битве на Калке: «От тоа от Калацкиа беды и великого побоища татарскаго» — 55) — «князи белозерские, подобии суще к боеви» (51), «Аз же преже сего множество теми приметами боев искусих», — говорит Боброк (65) — место сражения (побоище) и время боя (брань) здесь представлены совместно как факт сражения, как беда. Если побоище — собирательное обозначение места боя, то место всегда конкретно локализует «пространство события», ср.: «(у поганых) от великиа силы несть бо им места, где разступитися» (68); «(в стычке Пересвета с татарином) едва место не проломися под ними» (69); «яко немощно бе вместитися на том поле Куликове: бе место то тесно между Доном и Мечею» (69). Конкретность пространственных обозначений всегда связана с этим словом, довольно частым в Сказании, ср. еще: «(Ольгерд — Мамаю) Да приидетъ держава твоего царства ныне до наших мест» (46); «на месте, рекомое Березуй» (60); «рекы же выступаху из мест своих, яко николи же быти толикым людем на месте том» (66); «(Мамай) выехав на высоко место с трема князи» (68) и др. Слово место до сих пор встречается в русских говорах для замены любого другого слова с конкретным значением (так и у Аввакума). Напротив, слово время используется для передачи конкретной, данной временно́й границы, точно соотнесенной со словом место, ср.: «(Олег — Мамаю) Ныне же... приспе твое время» (45), «в то же время» (58), т.е. «по малех же днехъ» (59), начинают совещаться Ольгердовичи, движение войск и подготовка к бою происходили «во время ведра» (62, 63), перед боем Дмитрий говорит: «Уже во время подобно, и час прииде» (69) — слово часъ уже явно обозначает конкретный отрезок времени, как и в современном русском языке (см. дальше: «часъ же третий» и др.), и тем самым не входит в систему изобразительных средств Сказания: это термин. Однако конкретность времени в тексте противопоставлена абстрактно-собирательному слову век, всегда соотнесенному с вечной блаженной жизнью: «А они в векы царствуют» (55), — говорит Евдокия о своих сыновьях, также и в речах Дмитрия: «В ономъ веце со святыми» (50), «в будущий век» (50) и т.д. Аналогичное противопоставление, хотя и скрытое, представлено и в паре путь—дорога. Слово путь обозначает временные или абстрактно-собирательные (а тем самым, скорее, узуальные) границы действия, слово дорога всегда ограничивает конкретно-пространственные пределы движения, ср.: «(Ольгердовичи) хотеше совръшити сим путем подвига сего добраго» (59); «предложитъ бо нам путь на Северу, и тем путемъ утаимся отца своего» (59), «но застали намъ путь» (57 — говорит Олег о блокаде со стороны Дмитрия), также в цитате путь нечестивых (47) — сочетание, которое стало камертоном в определении семантических границ слова, поэтому и в конкретных своих значениях слово воспринимается как обозначение обобщенных действий: «а сам государь князь великий, путем едучи» (57), ниже он же «поехаша путем» (60), тогда как его воины и вассалы перемещаются по дороге (на Брашеву дорогу, единою дорогою и т.д.). По-видимому, такое соотношение слов в поэтических текстах держалось довольно долго, во всяком случае среди разночтений в просмотренных списках нашлось лишь одно, связанное с употреблением этих синонимов: «Но застали нам путь», — говорит Олег по изданному списку (57); «путь заступают», — толкует это место писец списка 6 (59), но «застали намъ дорогы», — уточняет переписчик списка 342 (17). Конкретизация словом дорога разрушает точность художественного образа, включенного во временно́й план повествования, снижает поэтическую ценность горестного признания Олега, который, по существу, уверяет Мамая, что у него в силу создавшихся условий нет никакой возможности (предельность действия) выступить ему на помощь. Рассечение временных и пространственных границ повествования и передача этого словесными средствами литературного языка выявляют в авторе Сказания человека нового времени. Следует подчеркнуть хотя бы на последнем примере, что возможность этого возникает только при умелом столкновении разговорных русских слов (дорога) с высокими словами церковнославянского языка (путь), семантика которых еще невидимо связана с обычным для священных книг употреблением (путь нечестивых), а потому стилистически и семантически еще не сводимых в одну общую лексическую систему. Противопоставление собирательно-абстрактных и конкретно-чувственных явлений, также материализованных в лексических парах, выявляет в авторе книжного человека, осознающего необходимость подобного членения в художественном тексте. Автор даже как будто различает особенности авторской речи в ее противопоставлении речи своих героев: последняя несколько архаизирована по отношению к началу XV в. Так, Олег говорит: «Аз чаях по преднему, яко не подобаетъ русским князем противу въсточнаго царя стояти» (57); Дмитрий: «Преднии (воины) уже испиша и весели быша и уснуша» (69) — с древним значением слова передний ‘первый’, ‘прежний’ во временно́м значении: передний тот, кто находится сзади[192]. В авторской ремарке это многозначное в XV в. слово заменяется более точным: на пръвое возвратимся (60) — в более ранних русских текстах этому соответствовало сочетание на преднее возвратимся. Автор Сказания не позволяет себе смешивать пространственно-временные характеристики и в тех словах, которые в его время еще только изменяли свое семантическое содержание. Например, в ХІV-ХV вв. происходило, сначала в отдельных сочетаниях, изменение значения слова правый: не только ‘справедливый, истинный’, но и ‘находящийся справа’. Лишь в конце XV в. в московских грамотах и летописях правый в новом значении употребляется уже безотносительно к противоположной, левой, стороне, происходит окончательное выделение понятия правый не в связи с левым. На протяжении же XV в. оставалось возможным только сочетание правую руку — левую руку, всегда совместно, как это и дано в традиционной воинской формуле, ведущей начало с XII в.: «(Дмитрий) правую руку уряди себе брата своего князя Владимира, а левую руку... » (56); «а с правую руку плък ведетъ Микула Васильевичъ, а левую же руку плък ведеть Тимофей Валуевичь» (68). В случае если требуется указать одну правую сторону, вне ее зависимости от левой, автор использует слово десный: «и приниче к земли десным ухом на долг час» (64); «уклонишася на десную страну в дуброву» (72); впрочем, не в воинской формуле, например в сочетании со словом сторона, старое слово возможно и в случае противопоставления левой части, ср.: «по десной же стране плъку татарскаго ворони кличуще, а по левей же стране...» (64). Автор не может выйти за пределы семантической системы своего языка, а последующие переписчики рассматривали эти расхождения как чисто стилистические. В тексте Сказания довольно много словоупотреблений, указывающих на время составления произведения. Слово победа еще отчасти сохраняет исконную неопределенность значения и потому одинаково соотносится с победителем и побежденным. Слова година и часъ в Сказании также еще выступают в качестве полных синонимов, обозначая один и тот же конкретный отрезок времени. Слова скоро—борзо и твердо—крепко также еще не смешиваются в своих значениях, как это стало обычным в более позднее время. В тексте Сказания употреблено только слово животъ, а слова жизнь нет — последнее вошло в литературный русский язык лишь с конца XV в. Слово трупъ употреблено в древнем своем значении ‘пень’, ‘вырубка’, ‘поваленный ствол’, ср.: «егда в мертвомъ трупу лежитъ» (72), «а трупу человечья» (72), «иматъ пасти трупа человечья» (66). Здесь употреблены архаические слова, которые после XV в. либо исчезли, либо перешли в разряд диалектных: узорочье, рыдель, яловцы, нолны, пахать ‘веять’, съто ‘сотня’, буйный, буявый, распудити, дивий. В реминисценциях из Слова о полку Игореве некоторые тексты автору уже неясны; так появляются силнии млъниа (69) на месте синии млъниа (т.е. ‘сверкающие’); ударимся на великыа стада жировины (71) вместо ожидаемого прилагательного жировныя, т.е. ‘богатые, обильные’, и т.д. Примечательной особенностью стилистического оформления в Сказании является полное отсутствие вариантов для вспомогательной лексики; здесь использованы только мощно, вельми, токмо, ради, тольма и др., в то время как варианты этих слов отсутствуют — на 16 употреблений предлога ради нет ни одного случая с использованием равнозначного ему дѣля. Правда, наряду с вельми в отношении к Мамаю дважды употреблено слово зѣло, но характер текста позволяет подозревать позднейшую вставку в градационном ряду: велико зело изрядно (65 — все слова с одним значением). Перед нами определенно художественный прием, состоящий в том, что автор убирает вариативность вспомогательной лексики, чтобы не перегружать текста излишними, не несущими функциональной нагрузки вариантами. Однако тем самым оттеняется функциональная важность и стилистическая насыщенность тех лексических вариантов и синонимов, которые связаны с семантическими вариациями текста. Они релевантны в тексте и потому проявляют свое различие, в тексте возникает их взаимное противопоставление. Не вхожу здесь в рассмотрение собственно стилистических средств построения художественного текста, использованных автором Сказания, — все они основаны на умелом использовании наличного лексического материала. Любопытны соотнесения слов типа поспешати — ускоряти, уповати — надеятися — чаяти, учредити — урядити — уставити, опълчитися — въоружатися, пособити — помогати, оставити — отступити, испытати — искусити и др. Причудливое варьирование семантических оттенков в глагольной лексике позволяет создать, если можно так выразиться, вибрирующий фон повествования с постоянным вниманием к словам, передающим перемещение пространства во времени, или, что точнее, к постоянной смене пространственных отрезков, данных во временно́й последовательности. Первоначальные источники произведения, сколько бы их ни было, включены в общий повествовательный ряд, а общность лексико-стилистического варьирования, рассмотренного здесь в основных чертах, распространяется на весь текст в целом. Следовательно, можно говорить о Сказании как о единой в словесно-семантическом отношении структуре. Вместе с тем это структура, характерная для художественного текста нового времени, потому что разностилевые элементы сопрягаются здесь в полном соответствии с содержанием конкретного фрагмента поэтического текста, а не соотносятся с определенным жанром или определенным типом текста, как это было характерно для древнерусской литературы. Стилистическая расшифровка текста показывает, что серия тернарных оппозиций, связанных с действующими лицами (Дмитрий — Олег — Мамай или Киприан — Сергий — Пересвет), местом или временем действия (Русь — побоище — Русская земля) и т.д., строго соотнесена каждый раз с особыми словами или их значениями. Накладываясь друг на друга, совмещаясь в последовательности текста, эти слова создавали перспективу действия, сплетали сложную ткань стилистического подтекста, понятного современному читателю, но уже почти неясного для нас. Это лингвистический уровень художественного текста, несущий дополнительную, «словесную» информацию о действии и действующих лицах. Движение текста создавалось также и выбором слов, и понять это можно, только проецируя словоупотребление памятника на семантическую систему XV в. Работа эта очень сложна из-за отсутствия методики описания и словарей. Тем не менее начинать такую работу необходимо, поскольку без ее исполнения невозможно расшифровать древний текст во всем богатстве его художественных средств. Уже на примере Сказания видно, что: 1) налицо единая стилистическая отработка текста независимо от происхождения его составных частей; 2) этот текст составлен в первой половине XV в., т.е. еще до совмещения церковнославянского и русского лексических пластов в границах одного текста; здесь много лексических и семантических архаизмов русского языка; 3) умелое использование семантических дублетов в художественном тексте позволяет оттенить своеобразие каждого слова, употребленного автором, объективно осознать его основное значение, в определенном контексте выявить оттенки его значения.РАЗГОВОРНЫЙ ЯЗЫК МОСКОВСКОЙ РУСИ КАК ИСТОЧНИК И ОСНОВА ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА XVII века
Напомню основные тезисы Б. А. Ларина, связанные с этой проблемой (как я их понимаю и в моем истолковании). Изучение литературного языка, его становления и развития невозможно без параллельного углубленного изучения «разговорного языка», поскольку «важным характерным признаком образования национального языка надо считать органическое, проникающее сближение ранее противопоставленных и обособленных систем письменного и разговорного языка. Контаминация, все более глубокое взаимное влияние их только начинает давать первые нестойкие плоды в XVII в., но это подготовляется всем предшествующим развитием языка и общества. Сперва функционально разграниченное чередование, потом переплетение, чередование в пределах одного выражения, когда экспрессивную функцию приобретает именно сочетание или чередование элементов этих двух систем, и еще позже — создание нового типа литературного языка, развитие новых типов разговорного языка»[193]. Сложность проблемы заключается в ее новизне: «она не завещана нам предками и ставится только в советском языкознании»[194]. Решению же этой проблемы сознательно и активно препятствуют те филологи, которые не понимают диалектики сложения национального литературного языка и потому односторонне изучают либо только церковнославянский язык русского извода (как единственно литературный язык средневековой Руси), либо только один вариант «разговорного языка», а именно деревенские диалекты: «игнорируя социальные диалекты, кроме крестьянских, те, кому бы следовало ставить проблему разговорного языка во всю ширь, предпочитают рассуждать о тысяче и одном стиле литературного языка как своего рода сублимации социальных диалектов, чтобы не поколебать догмата о единстве и общенародности национальных языков. Я считаю этот догмат схоластической абстракцией, тормозящей нашу работу...»[195] Другими словами, изучение указанной проблемы, исторической по существу, ведется описательно-типологическими методами, что нарушает историческую перспективу и разрушает предмет изучения. Историк языка понимает диалектический процесс как развитие соответствующих форм общенационального языка, и таких форм может быть несколько. Сам Б. А. Ларин полагал, что роль социальных диалектов городского населения в этом процессе была важнее, чем народных говоров. Последующие события показали правоту его точки зрения: сегодня многие исследователи (Б. А. Успенский и его московские коллеги), сводя всю национальную специфику литературного языка именно к местным крестьянским диалектам, отказывают всем формам русского языка в праве называться литературными, т.е. культурными (тем самым культурным считается только культовое). Но ошибочно было бы полагать, что, например, в XVII в. наряду с литературным славянским (= церковнославянским) существовал всего лишь разговорный русский, не получивший литературных форм. Недобросовестность филологов указанной ориентации доходит до цинизма. Так, принято ссылаться на высказывания Г. В. Лудольфа (1696 г.) о том двуязычии (диглоссии ли?), которое существовало в Московской Руси XVII в. Цинизм подобных отсылок заключается в некоторых умолчаниях. Б. А. Ларин приводит полный текст высказываний Лудольфа, из которых многое проясняется: «Для русских знание славянского языка необходимо, потому что не только Св. Библия и остальные книги, по которым совершается богослужение, существуют только на славянском языке, но невозможно ни писать, ни рассуждать по каким-нибудь вопросам науки и образования, не пользуясь славянским языком... Но точно так же, как никто из русских не может писать или рассуждать по научным вопросам, не пользуясь славянским языком, так и наоборот — в домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка, потому что названия большинства обычных вещей, употребляемых в повседневной жизни, не встречаются в тех книгах, по каким научаются славянскому языку. Так у них и говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски». И далее: «Поэтому, чем более ученым кто-нибудь хочет казаться, тем больше примешивает он славянских выражений к своей речи или в своих писаниях, хотя некоторые и посмеиваются над теми, кто злоупотребляет славянским языком в обычной речи»[196] (курсив Б. А. Ларина, разрядка моя. — В. К.). Приведенные слова Лудольфа очень точно отражают языковую ситуацию XVII в. в Московской Руси. Во-первых, разведены по функциям устная и письменная формы языка, который можно описать как один и тот же язык. Во-вторых, также разведены проявления этого языка (назовем его «славянорусским») в зависимости от жанра и типа литературы, что также было важным для средневековой культуры с ее ограниченно-функциональным, иерархически-этикетным, замкнутым на определенных сферах деятельности распределением культурных ценностей. Полярность «языков», описанная Лудольфом, может быть понята и стилистически, и функционально, и узко жанрово: все зависит от точки зрения современного исследователя, поскольку в XVII в. все указанные признаки различения налицо и совпадают в пределах каждого «языка». Сам Б. А. Ларин надеется, что со временем этот вопрос будет решен «исторической стилистикой, которая существует пока только в декларациях»[197]. В-третьих, важно указание Лудольфа на «вещи», которые можно обозначить с помощью того или иного языка. Тут мы переходим к проблеме семантической, поскольку различие «между двумя типами языка» того времени оказывается всего лишь различием между словами бытового характера (обиходная речь горожан) и терминологией «по научным вопросам». Развитие русского языка на протяжении нескольких столетий сегодня уже можно описать как процесс образования литературных его форм на основе форм естественного языка (разговорной речи). Это: 1) последовательное вычленение словоформ из устойчивых разговорных формул, в результате чего, обратным образом, происходило и образование грамматических парадигм каждого конкретного слова, и кристаллизация семантической структуры каждой отдельной лексемы — в их автономном противопоставлении всем другим грамматическим парадигмам языковой структуры и всем остальным лексическим единицам языковой системы. Происходило то, что И. А. Бодуэн де Куртенэ удачно назвал усилением системности языка, что и позволило в конце концов осознать такую системность сначала на отстоявшихся формах прекратившего развитие церковнославянского языка (Грамматика Мелетия Смотрицкого, 1619), а затем и на развивающихся формах национального языка (Грамматика М. В. Ломоносова, 1755)[198]; 2) создание четко организованных лексико-семантических систем на основе метонимических переносов (связанных с разработкой объема понятий, передаваемых словом), а затем и переносов метафорических (связанных с отработкой содержания понятий, отраженных словесным знаком). Таким образом, этот процесс был органически целостным процессом развития логически сопряженных лексем-слов, в результате чего и образовались сложные ряды слов, маркированных содержательно (например, антонимы), логически (прежде всего гиперонимы) и стилистически (наиболее полно синонимы). Несмотря на краткость изложения, приведу пример, хотя бы в виде иллюстрации. Содержательные противопоставления отражают реальные отношения в природе и в обществе, ср.: жара — холод. Кардинальные противопоставления такого рода организуются в результате сложных гиперонимо-гипонимических отношений, выстраивающих слова в строгую цепь иерархии. Слово жара, в частности, в современном его значении является заключительным этапом развития множества частных значений слова и других слов, выражавших разного типа горячие и горящие источники жара. В древнерусском языке гиперонимы поставлялись отглагольными основами, как и в данном случае: жара, жаръ от жарити//горѣти, ср. одежда от одѣти, обуща от обути, имение от имѣти, знакъ от значити и пр. Гиперонимы в своей совокупности по мере их образования и составили тот верхний слой терминологической лексики, который по неясной причине некоторые наши современники считают возможным признать за единственно литературные слова. Смысл исторического процесса развития языка — создание литературного языка — и заключается в неуклонном развитии гиперонимов, что и привело прямым образом к возможности логического анализа средствами русского языка («подведение типов и видов под общие классы предметов»). Именно об этом и говорит Лудольф, на это же указывают и косвенные данные, которые также приводит Б. А. Ларин. Гиперонимизация способствовала и более четкому различению объективно существующего и субъективно воспринимаемого с возможными оценочными характеристиками реалий. Если ограничиться тем же примером, то жара обозначает источник, то, что горит (например, горящее пламя — этимон слова), тогда как зной (букв. ‘тление’) — переживание этой жары (‘сухость’, ‘духота’, ‘пот’ и пр. — возможные исходные значения слова), а пекло — оценку такого переживания с возможными ассоциациями религиозного характера (пекло — геенна огненная, ад). Такова вторая функция гиперонима в тех формах языка, которые поднимаются уже до уровня литературных: гипероним усложняет семантическую перспективу сознания в интеллектуальных (зной) и эмоциональных (пекло) его удалениях от обозначения реальности (жара); он обогащает язык как важную систему культурных ценностей. Другими словами, он также создает необходимую степень литературности языка. Те же источники, приведенные Б. А. Лариным, намекают и на стилистическое разграничение соответствующих слов, хотя такие слова и распределены в текстах различного жанра (эквивалент современных стилей). Словообразовательные ряды восполнялись именно по стилистическому принципу, отсюда их широкая вариативность столь долгое время, ср. жар, жара, жарынь, жарища и пр. Стилистические противопоставления возникали и у оппозитов, в нашем случае это — холод, мороз, стужа и пр. (немаркированный член содержательной оппозиции всегда представлен в «русской» полногласной форме — поскольку он может варьировать в более широких пределах, чем маркированный оппозит). Наконец, последнее в череде вопросов, связанных с высказываниями Лудольфа. Дело в том, что «разговорное» вовсе не исключает характеристики «литературности», если под «литературным» не понимать ограниченно «письменного» (литеры). Наддиалектные формы речи, отраженные, в частности, в фольклорных текстах, представляют собою тоже одну из форм литературного языка, общеобязательного для соответствующего жанра и потому обладающего своей нормой. Историкам языка известны многие особенности местных форм средневековой письменности, которые восходят к таким наддиалектным нормам: с аканьем пишут слово напевать и на севере, где аканья не было, с цоканьем или со вторым полногласием отражают написания слов типа цапля или деревня писцы в южнорусской зоне. Язык московских канцелярий распространил свои нормы далеко за пределы Москвы. Ирония А. В. Исаченко, высказавшего сомнение в том, что «приказный язык» можно называть русским литературным языком[199], носит чисто публицистический характер. Точнее на этот счет высказался Б. А. Ларин, отметивший различия по «языку» даже в текстах одного и того же времени, например в Посланиях Ивана Грозного и в Домострое[200]. С точки зрения современных нам представлений можно было бы говорить (формально) о соединении высокого и низкого (у Ивана Грозного) или высокого и среднего (в Домострое) стилей. Одни и те же факты квалифицируются разными исследователями различным образом именно потому, что сам объект-язык XVII в. — не тот, на котором создана соответствующая терминология и традиция его объяснения. Не с узко формальной, а с содержательно-семантической точки зрения язык, например, Домостроя — это опыт синтеза литературно-книжной и народно-разговорной речи в момент, когда «старина поисшаталась» и пути развития нового литературного языка еще не были ясны. Одни и те же вещи именуются тут разными словами, пришедшими из старых формул: племя и сродник, брашно и снѣдь, гобино и изобилие, мыльня и баня, дети и чада, гнев и гроза, конец и кончина, деревня и село, купля и торговля, грех и вина, люди и слуги, время и пора и многие другие, которые уже могут на пространстве этого конкретного текста соединяться по принципу типично устной речи — семантическим удвоением, создающим стилистический фон описания: ярость и гнев, любовь и правда, поместье и вотчина, любовь и страх, мера и счет, добродетель и любовь, бесчиние и невежество, учение и наказание, вежливо и ласково, любити и жаловати и сотни других. Книжный и деловой «языки» не сошлись еще в синтезе, их объединяет пока лишь общая их зависимость от разговорной речи — в интонации (ладе) повествования и в некоторых совпадающих по смыслу словах, не ставших еще синонимами. Но традиционно замкнутые формулы уже разрушаются. Язык Домостроя создает иллюзию народного языка, но даже к деловому тексту этот язык не очень близок. Это та самая форма «социально окрашенного» синтеза городской речи, о которой говорит Б. А. Ларин. «Литературность» языка Домостроя состоит как раз в возможном соединении прежде несоединимых в одной фразе слов или форм. В противопоставлении таких слов в общем контексте постепенно и осознавалась идея стиля — высокого (т.е. архаического) и нового (простого). Направляли этот процесс прагматические установки, которые здесь названы содержательными. Так, в Домострое впервые словесно разведены необходимые в этом тексте противопоставления биологической, социальной и духовной ипостасей личности и бытия, ср. соответственно жена — женка — женчина, мужь — мужикъ — мужичина, животъ — житие — жизнь и пр. И словообразовательные потенции языка, и стилистические возможности варьирования в тексте, и соединение прежде разностильных жанров средневековой письменности — все это направлено на одно: на развитие новых форм выражения усложнявшихся реалий жизни[201]. В этом, на мой взгляд, и заключается важность сформулированных Б. А. Лариным тезисов: литературный язык — язык культуры, развитие культуры предопределяет развитие народного языка, но с помощью и при поддержке языка культа; все остальные процессы, которые в настоящих заметках описаны по необходимости кратко, вытекают из этой основной — семантически релевантной — потребности общественной жизни. Той самой жизни, которая складывается в городах. Необходимость изучения социальных диалектов в их исторической проекции по-прежнему остается важной задачей русистики.ЛЕКСИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ XVII века
Рассматривая употребление глаголов говорения в Житии протопопа Аввакума (вариант А)[202], обнаруживаем любопытное распределение основных из них в зависимости от контекста (см. таблицу).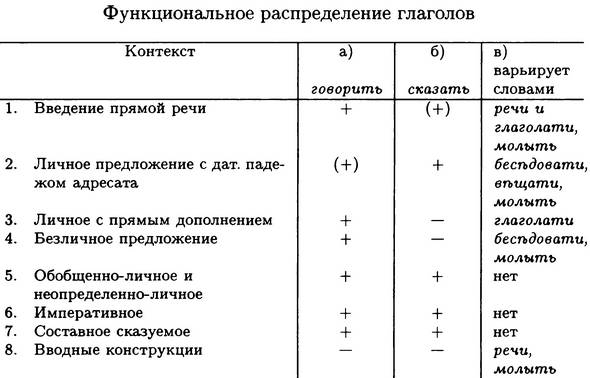
Примеры: 1. а) а я говорю..., а самъ говоритъ и др. 60 раз; б) только 3 раза: лгалъ в тѣ поры и сказывалъ: «нѣту ево у меня» (39), (и он) сказывалъ: «какъ де...» (57), и мнѣ сказали: (следует прямая речь) (76); в) реку, реклъ, рече и др. 18 раз, ср. и я реклъ: «о имени господни повелеваю mu... (48); глаголетъ, приглаголя и т.п. 5 раз; молылъ 1 раз, ср. а Евфимей... молылъ: «Прав де ты...» (60); 2. а) 2 раза в сомнительных контекстах: и я ему говорилъ сопротивъ (51), и сталъ разговаривать отцу (36), т.е. «делать выговор»; б) а еще сказать ли тебѣ (77), сказалъ ему в послании (61) и др., всего 20 раз; в) еще вамъ побесѣдую о своеи волокитѣ (57), еще вамъ про невѣжество свое побесѣдую (67); и я промолылъ ему (23, также 37); нача мнѣ плакавшеся подробну возвѣщати во церкви (9), азъ грѣшный и то возвѣщу вамъ (47) и др.; 3. а) молитву говорю, кафизму говорилъ, псалтырь говорилъ и др. 12 раз; б) нет; в) 2 раза в начале Жития: не глаголати Господа (2), святую Троицу в четверицу глаголютъ (6); 4. а) полно о томъ говорить и др. 15 раз; б) нет; в) 1 раз: полно о томъ бесѣдовать (49); к слову молылось (54), а с кемъ молыть (57) и др., 4 раза; 5. а) и б) говорили — сказывали, ср. и к мѣсту, говорили, на дворецъ к Спасу... (15); в) нет; 6. а) и б) говори! — скажи! очень часто; в) нет; 7. сталъ говорить, станемъ говорить, далъ говорить, велено говорить и т.д., но — не могу сказать и др.; 8.только тип в) ср. взяла силу вода, паче же рещи, богъ наказалъ (36), а клятвою тою — дурно молыть! — гузно тру (40), просто молыть, отрекся предъ Никоном Христа (51) и др. Отсутствие глаголов говорить—сказать в группе 8 указывает на важное лексическое значение в тексте, не допускавшее их фразеологической связанности в передаче второстепенного действия. Здесь возможны только традиционные книжные или разговорные конструкции. Таким образом, по своему лексическому значению глаголы говорить и сказать свободны, в том числе и в отношении друг к другу. Это ясно из других контекстов Аввакума, в которых говорить всегда соотносится с языком (говорить безъ языка — 63, говоритъ языкомъ — 63, а самъ не говорилъ, связавшуся языку его — 70 и т.д.), а сказать — ни разу не соотносится, в свою очередь, имея значение ‘сообщить, поставить в известность’, ср. в сходных контекстах и то возвѣщу вамъ (47) — людямъ не сказывалъ о тайнѣ сей (54); ср. еще примеры с одновременным употреблением обоих глаголов: «приехавъ в Тоболескъ, сказываю [об этом, т.е. сообщаю], ино люди дивятся тому» (44); «и наутро Никону сказали (= сообщили), и онъ росмѣяся говоритъ [языком, т.е. изрекает]» (17); «(я) кое о чем говорилъ [слова, т.е. изрекал], сказалъ (= поставил в известность) ему в послании... » (61) и др. В этом содержится и расхождение между контекстами 1 и 2: фактически личное предложение с дательным адресата также может вводить прямую речь (ср.: мнѣ плачучи сказалъ — далее прямая речь, 15), но только указание на адресат сообщения позволяет автору использовать глагол сказать. Во многих контекстах соотношение говорить с молвить, а сказать с возвѣщать, бесѣдовать ощущается еще весьма определенно (см. примеры), сохраняя исконное противопоставление данных глаголов в значении. Ср. в «Материалах» И. И. Срезневского[203] около 15 оттенков глагола съказати, связанных со значением ‘сообщить, научить, назвать, определить’, в его противопоставлении к глаголати. Говорити и молвити в своих значениях связаны именно с глаголати и встречаются (по материалам Срезневского) только в древнерусских (переводных и оригинальных) текстах. Лишь речи=рещи употреблялось во всех контекстах, во всяких текстах и в любых значениях, соединяя в себе и съказати, и глаголати. Таким образом, еще у Аввакума, в XVII в., способность входить в ту или иную синтаксическую конструкцию определяется семантикой глагола, отличной от современной. Лексическая автономность данных глаголов определяла их грамматическую характеристику — они разновидовые. По этой причине в группе 7 они и сочетаются с противоположными по виду вспомогательными глаголами (сталъ говорить, но могу сказать); в группе 6 они также входят в дополнительное распределение по виду (говори! — скажи!); в группе 5 видовое различие нейтрализовано в соответствии с требованиями контекста (говорили — сказали). Там, где по своей видовой характеристике сказать—говорить входят в дополнительное распределение (5-7), они не могут дублироваться иностилевыми вариантами, т.е. у них нет контекста в. По своей структуре контексты группы 5-7 можно считать достаточно новыми для русского языка, и именно здесь видовое соотношение между нашими глаголами сформировалось окончательно. В других же контекстах еще возможны видовые противопоставления внутри глагола (говорить — сговорить, сказать — сказывать), но всегда именно говорить является опорным словом семантического ряда, поскольку в русском языке только оно с самого начала имеет основное и единственное значение этого ряда — ‘глаголати’; это видно и на контекстах 3-4. В отношении к говорить и строятся все новые грамматические и стилистические варианты данного семантического ряда. Учитывая конкретный текст, в данном случае текст Жития, можно установить как бы совмещенную в одном произведении и сознательно организованную двойную систему отношений стилистического свойства: наряду с обычной парой сказать—говорить здесь возможна также пара речи—глаголати. Поскольку соотношение этих стилистических пар именно таково (сказать: говорить = речи: глаголати), происходят все выравнивания, способствующие данному соотношению, т.е. речи утрачивает одно из старых значений (связанных с глаголати), сохраняя только значение ‘сказать’ и притом получает характеристику совершенного вида. Последнее кроме примеров из сочинений Аввакума подтверждается и лексикографическими данными. В рукописном лексиконе XVIII в., приписываемом Татищеву, находим: «реку = скажу, молвлю» (но не говорю!)[204]. Видовая дифференциация, став фактом языка, проникает и в высокий стиль, раскладывая сложившиеся отношения в соответствии с новой моделью и включая высокий стиль в активный фонд нового литературного языка. Но самое важное новшество заключается в другом. В действительности со стилистической точки зрения данное попарное соотношение вовсе не бинарно, оно включает в себя и третью пару — бесѣдовать (вѣщать): молыть = говорить: сказать = глаголати: речи. Большинство глаголов данного ряда давно известно русскому языку, но только к XVII в., когда образовалось описанное здесь соотношение с четким попарным противопоставлением по виду и общим стилистическим противопоставлением (соответственно низкий стиль — средний стиль — высокий стиль), — только тогда обозначились и стилистические границы этого ряда, наметился выбор нормативного варианта. Нормативным, стилистически нейтральным всегда оказывается средний член противопоставления, по отношению к которому крайние члены выступают как стилистически маркированные. Создание нормы при стилистических вариантах и возможно с включением в систему нейтрального «среднего» числа. Нагляднее всего эту особенность формирования литературной нормы можно наблюдать на изменении однозначных по своему характеру слов, например наречий. Совмещение разных наречий одного значения в границах складывавшегося эталона требовало известной осмотрительности и художественного такта. В первоначальном варианте Жития (А) зѣло и гораздо употреблены по 20 раз, но с интересным различием в правилах сочетаемости: зѣло обычно только в препозиции к краткому прилагательному (зѣло скорбенъ, зѣло густо, зѣло бысть велика и др.) с единственным употреблением при глаголе (зѣло мучалъ); гораздо 10 раз употреблено в постпозиции к прилагательному (богатъ гораздо, жирны гораздо, велика гораздо и др.), остальные примеры его употребления связаны с глаголом (в препозиции: гораздо осердясь, гораздо почитаетъ, гораздо прилежалъ и др.). Следовательно, синтагматически эти наречия находятся в дополнительном распределении, но только в данном художественном тексте. Уже в варианте В того же Жития находим следующие исправления[205]: «пить мнѣ захотѣлось и гораздо от жажды томимъ...» (240) = «а мнѣ пить зѣло захотѣлось» (59); «травы... благовонны гораздо» (235б) = «зѣло» (556); «три залавка чрез всю реку зѣло круты» (214) = «три залавка гораздо круты» (36б). В В находим также контекст «(рыба) зѣло жирна гораздо» (55б), которому в более подробном изложении А соответствует двойное членение: «а рыбы зѣло густо в немъ, осетры и таймени жирны гораздо» (235б). В В это — контаминация, в которой сошлись оба наречия как дополняющие друг друга, т.е. не абсолютные с точки зрения автора синонимы. Синтагматическое распределение зѣло и гораздо в Житии А могло быть сознательным действием автора, на самом деле в его речи оба они вполне возможны в соединении с любым предикатом. На это указывают другие тексты Аввакума. В его письмах зѣло величитъ, зѣло гнусно (ср. даже зѣло зѣло творятъ и т.п.); а гораздо имеет даже варианты: гораздо бы изрядно, глупъ ведь я гораздо, жаль мне ея гораздо; в «Книге бесед» зѣло употшивали и не любитъ... гораздо, т.е. одинаково при глаголе. По-видимому, в XVII в. гораздо и зѣло различались и семантически, ср. исправления самого Аввакума в тексте Жития по варианту В: «вскричал зѣло громко гораздо» (337) = «вскричал зѣло жестоко болно» (101); «лукъ... болши романовского... и слатокъ зѣло» (235-2356) = «и слаток добре» (556); ср. совмещение обоих наречий в одном тексте (вариант В): «привели во свѣтлое мѣсто, зѣло гораздо красно» (78) и некоторые другие. Несмотря на лексическое сходство (общее значение ‘очень’), различение гораздо и зѣло шло еще и по линии стилистической: гораздо = ‘больно, много, чересчур, вполне’ (стилистически маркировано), зѣло = ‘добре, весьма’ (и также стилистически окрашено — со стороны высокого стиля). По этой причине гораздо и зѣло в языке Аввакума — не варианты разных языков, а неполные синонимы литературного языка его времени. Как и во многих случаях, их совмещение в границах одного литературного языка, несмотря на разное происхождение, обусловлено отсутствием нейтрального «среднего» варианта, не маркированного стилистически ни в каком тексте и вместе с тем семантически общего для обоих наличных вариантов (т.е. в данном случае и гораздо, и зѣло). Таким «средним» вариантом могли бы стать многие наречия, в том числе и употребляемые изредка самим Аввакумом. См. в его текстах: «море... не болно о том мѣсте широко» (Житие А), «не болно он боится» (Книга бесед). Наречие силно в данном значении встречено только в Житии и только в сочетании со словами категории состояния: «и я радъ силно, жаль мнѣ силно ево». Недостаток этих наречий — в их семантической многозначности. «Средним» вариантом могли стать также добре, весьма, вельми, но не стали им из-за своей стилистической ограниченности. На протяжении XVIII в.[206] добре встречается лишь в петровское время, вельми держится дольше, но к концу XVIII в. и оно дает лишь единичные употребления (Державин, Капнист), весьма распространено в течение всего века, чуть заметно сокращаясь к его концу, но всегда оно стилистически ограничено. Однако к концу XVIII в. зѣло и гораздо также меняют свои функции. Зѣло сохраняет прежнее значение, но становится приметой высокого стиля (употребляется, например, в одах Державина), пересекаясь с весьма; ср. упомянутый уже рукописный Лексикон XVIII в., где «зѣло = весьма, очень» и контекст из географического описания того же времени: «проливъ въ разныхъ мѣстахъ весьма узокъ и... зѣло опасен»[207]. Гораздо в первой трети XVIII в. не употребляется только авторами — выходцами с Украины, но затем оно выходит из данного ряда, развивая свойственное ему теперь значение (гораздо ‘много’, ср. гораздо умнее — много умнее). Причиной всех таких смещений на протяжении XVIII в. явилось включение в систему «среднего» варианта очень. У Аввакума этого наречия еще нет, но в демократической литературе конца XVII в. оно уже регистрируется, ср. «Азбуку о голом и небогатом человеке» и «Повесть о Ерше Ершовиче»: очень заменяет прежнее гораздо с глаголом (очень одолела, не очень... шумите). Первоначальный вариант этого этимологически неясного слова искажен поздними записями, но материал XVIII в. указывает его вполне определенно: очюнь, очунь. Именно такое написание находим еще у Ф. Поликарпова, который толкует это наречие как вельми и зѣло[208], затем у А. Кантемира (1730 г.), неоднократно у В. Тредиаковского (1730 г.), в «Ведомостях» за 1731, 1733, 1735 гг., в Лексиконе 1731 г. (очюнь = зѣло, весьма, велми, черезъ чюръ, по премногу), но там уже и в новом написании очень, которое сопоставляется с гораздо[209]. Со второй трети XVIII в. очюнь встречается лишь в комедиях и пародиях, например, в комедии М. Попова «Немой» (1766), в речи действующих лиц, у А. Сумарокова в комедии «Тресотиниус» (1787), где пародируется В. Тредиаковский. Сам В. Тредиаковский в это время даже в баснях употребляет уже только форму очень[210]. У всех других авторов (Ломоносов, Княжнин и др.), а также в частной переписке окончательно упрочивается новая форма очень. Анонимные произведения начала XVIII в. также дают колебания: очунь в «Истории об Александре российском дворянине» и очень в «Гистории о Василии Кариотском». Так на протяжении примерно полувека слово, вошедшее в язык контекстуальным вариантом наречия гораздо, постепенно расширяет свои синтагматические функции, все более включая в сферу своего действия остальные наречия данного семантического ряда; изменяет форму, тем самым разрывая всякие этимологические и смысловые связи с производящим корнем, и благодаря этому резко отделяется от низкого стиля, становится общим словом, возможным на разных стилистических уровнях языка. Дело не в том, что это наречие смогло так быстро пройти все стадии указанного изменения; дело в том, что система языка к этому времени нуждалась в нем, в стилистически нейтральном и семантически общем слове. И только после включения «среднего» члена в ряд гораздо — очень — зѣло состоялся переход зѣло на уровень стилистического варианта и семантическое сужение гораздо, ограничение контекстов, в которых они могли употребляться. Возвращаясь к глаголам говорения, на других текстах Аввакума попробуем проследить собственно стилистическую их характеристику в середине XVII в. В Книге Бесед глаголать и речи встречаются чаще, нежели говорить, а глагол сказать вообще не употребляется, глагол молвить лишь один раз, по-видимому, случайно, в тексте, требующем низкого стиля (молвить сором — 292 как вариант обычного говорить сором — 389 и др.). В некоторых письмах Переписки соотношение глаголов больше напоминает положение в Житии А (реку: глаголю = скажу: говорю), но в целом высокий стиль здесь представлен много шире, чем в Житии; это ясно даже из редкости употребления глагола сказать (всего 4 раза), которому предпочитается глагол речи. Зато низкий стиль дает пару, более выразительную, чем в Житии: молвить — вякать (не бесѣдовать), тогда как в Житии употреблено только производное от этого глагола (вяканья моего). Конкуренция среди глаголов не высокого стиля еще в самом разгаре. Так, сказать и молвить еще не всегда пересекаются с говорить — это синонимы, а не варианты. Самое же главное заключается в следующем. Один и тот же текст Аввакума может содержать в себе причудливую смесь разностильных фрагментов — и каждый раз определенный стиль обслуживается своим собственным набором лексических единиц. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть письмо Аввакума к Алексею Копытовскому, в котором воссоздана сложная мозаика стилистических вариаций в зависимости от содержания текста и авторского отношения к высказываемому. Имея в виду другие тексты Аввакума с принципиально иной стилистической ориентацией и тем самым иную организацию словарного материала, например, высокий стиль в Книге Бесед и стилистическую неустойчивость в письмах (последнее определяется также адресатом послания), можно определенно говорить, что у Аввакума еще нет жанра со свойственным этому жанру стилем — у него есть контекст, который каждый раз требует своего лексического варианта. Принцип художественной речи Аввакума в целом продолжает древнерусскую традицию с ее безразличием к стилистической цельности текста, но с чрезвычайным вниманием к каждому отдельному фрагменту, который можно переставить местами или вынести в другой текст, но обязательно в том же самом словесном оформлении. Иное дело — Житие. Это явная попытка создать новый литературный язык с присущим жанру стилем. Отсюда строгая законченность системы, описанной выше, которую (вполне возможно) Аввакум прозрел, а не наблюдал в языке своего времени. В последующих переработках текста он все четче передавал свою ориентацию на «средний» в семантическом ряду и стилистически нейтральный глагол. Ср. правку первоначального текста Жития А по варианту В: «и я ему заказалъ, чтоб... » (251) = «и я... сталъ ему говорить» (67); «онъ меня лаетъ, а я ему реклъ... » (199б) = «а я ему говорю» (18); «послѣднее слово ко мнѣ рекли» (255) = «со мною говорили» (72); «еще вамъ про невѣжество свое побесѣдую» (267) = «скажу» (84б); «такъ и ругатца не сталъ» (2396) = «такъ и говорить пересталъ» (58); «давно ты кричишь» (324) = «говоришь» (156); «льстяще глаголют» (320б) = «говорят» (151б) и т.д. Действительно, материалы XVIII в. убедительно показывают, что вплоть до Пушкина ряд глаголать: речи = говорить : сказать = бесѣдовать: молвить сохранялся довольно устойчиво, известную нормативность в плане стилистическом создают только Ломоносов и поэты его времени. Большое количество сопутствующих изменений препятствовало столь быстрому преобразованию этого многозначного ряда, как это мы наблюдали на примере наречий. Описанные здесь изменения могут служить иллюстрацией этапов последовательного смещения характеристики слова в связи с преобразованием стилистической системы. Эти этапы таковы. 1. Два разных литературных языка с самостоятельными лексическими системами и с автономностью их жанрового использования (этап автономных лексем). 2. Совмещение этих языков на уровне контекста, возможное употребление вариантов разных языков в зависимости от текста, в грамматическом отношении частичное пересечение прежде самостоятельных лексических единиц (говорить—сказать наряду с наличием видовых пар типа сговорить—сказывать — этап стилистического варианта). 3. Интенсивное воздействие со стороны разговорной речи и просторечия, т.е. включение в конкретный семантический ряд третьего члена с образованием нейтрального, стилистически не маркированного звена: на этом переходном этапе происходит всестороннее урегулирование системы, выравнивание всех ее членов по общим признакам. 4. Образуется единый литературный язык с обобщением среднего, в обе стороны стилистически не маркированного члена корреляции (этап синонимов разной степени близости)[211].
ВЫБОР СТИЛИСТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНОЙ ФОРМЫ В РЕДАКЦИЯХ ЖИТИЯ ПРОТОПОПА АВВАКУМА
Известно, что протопоп Аввакум, крупнейший писатель XVII в., несколько раз переписывал свое Житие, каждый раз производя соответствующие исправления текста, уточняя его, сокращая или, наоборот, расширяя, заменяя слова, выражения и целые фразы. Б. А. Успенский в разговоре со мною высказал однажды мысль, что Аввакум мог знать этот текст наизусть, а затем, по мере надобности, только записывал его в очередной раз; и таких «списков» могло быть много, больше, чем дошло до нас. Такая техника создания каждый раз нового текста многое бы объяснила, но нужно ли допускать заучивание наизусть, если Аввакум всегда при этом рассказывает о себе самом? Это запись «устных рассказов», неоднократно, возможно, воспроизведенных в беседах. Нам же в данном случае важно то, что при сравнении текстов от самой первой, дружининской, до самой последней редакции Заволоко налицо предстает вполне сознательная работа над текстом. Предпочтительность выбора Аввакумом тех или иных форм или слов весьма поучительна в плане изучения русского литературного языка XVII в. Предварительные публикации на эту тему[212] позволили сделать вывод, что с каждой новой редакцией (= списком) Аввакум одинаково устранял как высокие (книжные), так и простонародные («вяканье») формы, последовательно заменяя их нейтральными, ср.: лаяла до укоряла 215 — браня 38; а дьявол смѣется 317б — радуется 149; он же прискоча 29б — приступя 51б; кричал с воплем ко Господу 227 — с воплем Бога молил 496; кричиш 324 — говориш 156; прибрел к Москве 203 — приехал 22; бродити 236б — ходити 93б; потом в лѣсъ збродилъ 24 — и в лѣс сходя 46б; волочился за волок 216б — за волок бродил 40; волоча многажды в Чюдовъ 255 — водили 71б; сюды приволоклися 259б — сюды приехали 76; а меня с другим кормщиком помчало (по реке) 216 — понесло 39; также другии перьстъ отсѣкши кинулъ 332б — бросилъ 223; а се посулили мнѣ 244 — да мнѣ жо сказано было 60б; тамъ снѣгу не живетъ, морозы велики живутъ 240 — снѣгу там не бывает, токмо морозы велики 105; и однако не ухоронилъ от еретических рукъ 252б — не утаилъ 69; люди учали с голоду мереть 217 — стали умирать 41; «Лука та московский жилец, у матери вдовы сынъ был единочаденъ, усмарь чиномъ, юноша лѣтъ в полтретьяцеть» 260б — «московитин родом у матери вдовы сын был единочаденъ, сапожник чином, молод лѣты, годовъ в полтретьяцеть» 71-71б; в текст входит несколько формул типа молод лѣты, с чем связаны и архаические формы слов, и необходимое разнесение близких по смыслу слов на разные концы высказывания, и столкновение синонимов (лѣты годовъ входят в разные формулы), и т.д. Замена слова портки 326 словом одежду 158 указывает на влияние среднего стиля, но не по форме (не одежу, но и не ризу); то же касается любых второстепенных для текста слов: топерва 281 — нынѣ 97; древо кудряво 281 — древо многовѣтвено 97; возможны и столкновения стилистически разных слов, ср. дуру такую здѣлал 318б — такую дуру сотворил 150, т.е. замена нейтральным глаголом все равно разрушает стилистическое единство формулы. Наоборот, к нейтральному стилю устремлены и формы, вышедшие из традиционных книжных формул. В этой группе примеров кроме глаголов довольно много имен и наречий, разрушается и семантическая цельность ключевого слова. Даже у специально «церковных» слов отмечается снижение стиля, обычно путем замены словом, более распространенным в разговорной речи, ср.: ввели меня в соборный храмъ 247 — в соборную церковь 63б; архиепископъ 208 — владыка 29; кричал ко Господу 227 — молил Бога 49б; простите Господа ради 240б — простите Бога ради 59б (и часто, поскольку для обеих редакций слово Богъ обычно в сочетаниях типа спаси Бог 226-48б, вѣдает то Бог 247-63 и др.); возможно появление уточняющих распространителей: «не пеняю уже на Бога вдругорят» 214 — «да уже к тому не пеняю на спасителя своего» 37, ср. еще распределение слов, обозначающих противоположную силу: «не их то дѣло, но сатаны лукавого» 206б — «не их то дѣло, но дьявольское» 26б, — и определение дьявольским поучениемъ 208 — бѣсовскимъ поучениемъ 29, обычное же противопоставление сатаны бесу (бѣси и дьявольское несоединимы в общем контексте); в странѣ варварстѣи 213б — в варьварьской землѣ 35б; познаютъ или благая или злая 267 — или добрая или злая 84; творити поклоны, 204 — класть поклоны 24б; великие пакости творил 236б — пакости многие творил 93б; презрѣлъ 322 — преобидѣлъ 153; аз же вострепетах 337 — ужасся 101; просвиромисания 239б — просвиры вынимаютъ 58; онъ мнѣ строилъ кадило и свѣщи 269 — подносилъ 86б; «на рѣлехъ повѣсилъ, он же от земных на небесная взыде» 260б — «на висилице повѣся, он же и скончался» 71б; «держа ево рыдаютъ и плачютъ повиюще ко владыке: Господи!» 268б — «плачютъ моляся кричать: Господи!» 85б; бѣси зѣло мя утрудиша 337б — умучиша мя 101; и перестал играть 283б — и пересталъ скакать 99; в платье облещись 251б — платье вздѣть 68; велѣлъ вздѣть платье 252б — велѣлъ ему платье носить 69 (в другом значении); велѣлъ в Чудовъ монастырь отослать 245б — велѣлъ в Чюдовъ отвести 61б; ево велѣлъ отпустить 245б — приказалъ 62; иногда происходит текстовое упрощение: «пить мнѣ захотѣлось и гораздо от жажды томимъ» 240 как типичное повторение разностильных синтагм для выражения одной и той же мысли, в В: «а мнѣ пить захотелось» 59; украшен пестротами 198б как выражение «пестрости мира» — красотами испещренъ 16б; очень часто глаголы рекл, реченное, глаголет и т.п. заменяются нейтральной формой говорили, писанное, говорят, вместо побесѣдую 267 — скажу 84б, вместо возвѣщаетъ 230 — рассказал 52б и др. У имен та же тенденция: и с царицею и с чады 259 — дѣтми 76; не могли с нимъ домочадцы ладить 274 — домашние 91, «и принесла ко мнѣ два дѣтища и положа предо мною робятишекъ» 282 (такое же повторение разностильных формул с сокращением до одной нейтральной) — «и робятишек двоих положила пред меня» 97б; «писано о семъ в кронике латынскомъ» 333 — «о семъ писано в лѣтописце латынском» 113; «и с побѣдою ли будутъ домой» 226б — «и з добычею ли будутъ домой» 49; «желѣза всѣ грянули с меня» 242 — «чеп вдруг грянула с меня» 68б (но никаких изменений в другом контексте, когда речь идет о противопоставлении разного вида цепей: «сняли большую чепь да малую положили» 206б = 26б; тут не годится отвлеченное слово желѣза). Ср. также замену наречий, предлогов и т.д.: доволно 236 — невоздержно 56, дивно 206 — чюдно 26б, впять 193б — назад 95, днес 312 — нынѣ 143, яко же самъ 317б — каков сам 148б, развѣ избранных 323 — кромѣ 154б, яко заменяется часто на что (244б — 60б и др.). Стилистическая форма вспомогательного слова всегда оказывается синтаксически связанной с текстом, а выбор варианта в окончательном тексте определяется характером традиционной синтагмы, ср.: аз же его понаказавъ 251 — и я ево 67б; аз же окаянный 267б — а я окаянной 84б; аз же недоумѣюся 268 — я недоумѣюся 85; традиционное сочетание аз же эквивалентно новой форме а я (или и я), ср. совпадение формул в обоих текстах: аз же помощью Божиею 268б = 86, но также и я ему говорю 270б = 88; ср. еще связанность с разговорным су в противоположность противительному же: я су встал 225б — аз же вставъ 48. Стилистическая форма всюду оказывается синтаксически связанной, и выбор варианта у Аввакума еще вполне определяется характером традиционного для средневековой литературы сочетания. Контекстно свободное слово еще сдерживается контекстно связанной словоформой. Другие вспомогательные слова текста у Аввакума взаимообратимы также в зависимости от синтаксического контекста, в числе варьирующихся наиболее часто (осознаются как стилистические варианты) находим паки — опять, таже — посемь, егда — таже. Ср.: опять поехали вперед 211 — паки 33; и опять вырос (язык) 263б — паки 82б; наоборот — паки в Москву 247 — опять к Москвѣ 63; таже по другом 212б — и паки по другом 34б; таже приволоклись 224б — паки 47; таже меня взяли от всенощняго 205б — по сем меня взяли 25б; таже по времени посла Ное провѣдати ворона 325 — посем по времени... врана 157б, ср. и наоборот: посем взяли 262б — таже 66б; потомь де меня привели во свѣтлое мѣсто 280б — тажде привели меня... 96б; егда меня сослали 281б — таже 97б. В сущности, все эти формы могут сохраняться без изменения, примеров довольно много: и потом в кѣлию пришедъ 250, посемь посла голубя 325б и 157б, на тех же листах посем паки посла врана, таже ковчегь ста на горахъ и пр., однако лишь в тексте, требующем сохранение высокого стиля (повествование о Ное). Взаимоотношение высоких книжных союзов или наречий с разговорными русскими, по-видимому, развивали в процессе функционирования и семантическую дифференциацию. При этом архаический вариант семантически обладал более общим значением, выступая в качестве гиперонима, в частности, он мог совмещать в себе выражение как времени, так и пространства, как условия, так и причины, и т.п., ср. паки в Москву — опятъ к Москвѣ, т.е. ‘назад’ в пространстве или ‘снова’ во времени, предпочтение одного из наречий связано с различением в смысле выражения. При этом характерна замена у многозначного (по неопределенности смысла книжного) таже, которое одновременно выступает в значениях и ‘потом’, и ‘снова’, и ‘как только’, что сегодня уже препятствует установлению стилистического ранга слова, тем более, что союз употребляется в форме таже в списке Дружинина и в форме тажде в списке Заволоко для значения ‘потом’ (и таже в обоих списках для передачи значения ‘егда’, ср. 280б = 96б, 281б = 97б и пр.). Совмещение разнородных фонетических признаков вообще становится у Аввакума характерным приемом, ср. последовательное написание прежней, по прежнему, не пережний и не прѣждний. Стилистическое усиление происходит и в этом случае, ср. замены первого списка в списке Заволоко: по прежнему 283б — паки 99, противъ прежнева 263б — по прежнему 83, по прежнему 332б — по прежнему паки 113, тако же 207б — по прежнему 28 и т. п. Подробное сопоставление результатов авторской правки текста самим Аввакумом избавляет нас от необходимости приводить другие примеры начавшегося сопряжения текстовых формул на основании чисто стилистической организации текста, выбора вариантов (не синонимов!) и выявления нейтрального из их числа. Проявления пресловутого «вяканья» вовсе не сводятся только к употреблению простонародных, т.е. «подлых», слов. Однако до какой степени стихийным является для Аввакума стремление к упорядочиванию наличных словесных средств в инстинктивном (?) поиске нормативного, среднего, стилистически нейтрального варианта? Стилистика Аввакума вообще подчинена одной цели, свойственной данному жанру средневековой литературы — жанру жития (и тем более соединенного с жанром слова). Эта цель — убедить читателя в истинности взглядов и мнений, излагаемых автором, и сделать это наиболее удачным образом в новых условиях можно было, только становясь предельно понятным адресату. Адресат изменился, он стал демократичнее, он к тому же менее образован — он нуждается в понятном для него языке. Направленность на адресата — первое, что всегда определяет выбор авторского стиля в границах жанра. В зависимости от адресата отчасти изменяется и язык са́мого известного произведения Аввакума, его Жития. Мы видим, что текст этот существует в вариантах, но как Текст он един; композиция, основные эпизоды, немаркированные элементы речи остаются неизменными, хотя в каждом новом авторском варианте мы находим неуловимое изменение стиля — факт, удостоверяющий сознательное отношение автора к проблеме стиля и его возможности для выбора нейтральных вариантов в речевой практике XVII в. Второе, что определяет стиль Аввакума, — жанр. Что бы он ни писал: богословский трактат, послание или житие, — все его тексты представляют собою проповедь, изложение взглядов, убеждений и — веры. Но эти убеждения и взгляды — его личные: проповедь становится исповедью. Перед нами во всех случаях — ораторская проза, отточенная до изощренной тонкости, за которой не заметно функциональной оправданности жанра и начинается, собственно говоря, совершенно новая «большая литература». В исторических изменениях этого жанра именно житие впитало в себя так много структурных и поэтических элементов других средневековых жанров, что при совмещении объективного повествования и авторской исповеди отразился синтез выражений, пригодных для передачи самых разных сторон жизни. Потребовались и новые языковые средства, хотя и приемы риторики здесь все еще сохраняются, поскольку иной формы убеждения пока нет в литературе. Таким образом, две средневековые устные стихии — риторический прием и живое слово — сошлись на пространстве общего текста. Это важно, ведь культура средних веков — особая культура, это культура не знания, а — веры, поэтому и содержательная сторона информации подлежала проверке не мерой истины, а силой авторской убежденности, уверенности автора в правоте своих слов. Истина как таковая считалась известной и установленной, задача заключалась в способности «заразить» ею других. Можно проследить, как от века к веку изменялся язык проповедников, он шел в ногу с развитием самого древнерусского языка. Конкретность высказывания позволяла отступать от высокой книжной традиции также и в отношении к лексике и грамматике. Создавался свой канон стиля, в житии ориентированный на средний стиль. Творения Илариона или Кирилла Туровского, переписываясь веками, почти не изменялись стилистически. Во времена Аввакума это уже невозможно, и сам автор за свою жизнь несколько раз изменяет свое отношение к стилю своих творений. Аввакум изменяет форму, поскольку изменился и «природный наш язык». Заслуга Аввакума не в том, что он «вяканье» сделал компонентом серьезного литературного стиля (он не сделал этого окончательно и постепенно отошел от обнаженности народной речи), да и без развития предшествующей традиции жанра он не был бы понят современниками. Заслуга Аввакума в том, что он сумел такое «вяканье» возвысить до уровня нормальной речи, т.е. не просто уравнял «подлый стиль» с традиционным риторически-книжным, но и показал его важность, образцами своего текста доказав его силу как средства внушения. Принцип демократизации языка вообще лежит вне литературных и лингвистических сфер стиля и его модификаций, он определяется преобразованием эпохи. В результате работы Аввакума маркированным, отмеченным как «непотребный», но все же уже замеченным стал стиль, до тех пор совершенно незаметный, более того — принципиально не замечаемый, непризнанный, поскольку он, в отличие от высокого стиля абстрактной панхроничности, служил для выражения практического действия, а не высокого деяния, конкретной личности, а не всеведущей вечности, короче — был языком бытового плана. В XVII в., когда изощренность техники заменилась изощренностью языка, следовало подумать, каким образом можно обойтись наличными средствами народного языка, не опускаясь при этом до бытового разговора. Решительность, с какою Аввакум поначалу вверг текст своего Жития в пучину «вяканья», а затем незаметно повернул этот текст в сторону среднего стиля, показывает, что путь этот сам писатель прошел довольно быстро, воспринял сознательно задачи, которые стояли перед русским писателем его времени, и произвел предварительную работу по отбору языковых средств, которые можно было бы отнести к числу элементов среднего стиля. Пока такая работа не произведена практически, в образцовых текстах, невозможно было бы приступить к теоретическим рассуждениям относительно языка и стилей в художественном тексте.ЯЗЫКОВЫЕ ФОРМЫ «ПЛАЧА» В ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТАХ XVII века
«Плач» как жанр, свойственный и народной, и литературно-книжной традициям, интересно проследить во взаимоотношении различных стилевых средств, использованных в этом типе литературных текстов. По происхождению плач — всего лишь компонент более ранних литературных жанров. В житии, например, плач всегда переходит в похвалу (с XVI в. это стало уже традицией), а в повести — в молитву. Функциональная амбивалентность плача интересна как возможность совмещения разностильных элементов еще в тот момент развития литературного языка, когда о «стиле», в сущности, еще и речи не было. Да и сам плач как жанр раздваивался в зависимости от объекта причети: о конкретном человеке говорили самым простым языком, русским, но литературно обработанным; обобщенные персонификации все более отвлеченного идеального характера требовали высокой речи, и здесь складывался свой формульный тип. Примечательно, что простую речь в формах народного плача литература XVII в. связывает обычно с женщинами, которые фактически не знали высокого «славянского языка». Тем не менее и в их художественно обработанную речь уже включаются книжные формулы — по традиции. Сравним языковые формы двух плачей XVII в. Плач матери (Марии Нагой) о царевиче Димитрии:И возопи она государыня громко велиимъ гласомъ: — Увы мнѣ, бѣдной вдовѣ! увы мнѣ, горкой и безмочной! Как сие дѣло сотворилось, кой злодѣй дерзнулъ сего сущаго младенца погубить и неповинного агньца неповинную кровь пролить? Кому он, государь, зло сотворилъ? О горе мнѣ, бѣдной и горкой вдовѣ: первое государя своего царя и великого князя Ивана Васильевича осталась, и потомъ, бѣдная, возлюбленным своимъ чадомъ утѣшалась и печаль свою и кручину имъ, свѣтом своимъ, забывала и впередъ у господа Бога об нем милости просила, и кормилца себѣ ожидала, а нынѣ х чему я, окаянная, достойна, кто меня воззоветъ материею, кѣмъ себя утѣшу, чего мнѣ ожидати, кромѣ своего безчеловѣчия? О горе мнѣ, бѣдной, о погибѢли сына моего! О свѣтъ мой, драгое мое чадо, како еси меня оставилъ въ бѣдѣ сей сущей, кому приказалъ утѣшать меня? Востани, милое мое чадо, и призови убойцовъ своихъ, да и меня съ тобою погубятъ! Не могу на тебя, свѣта моего, мертва зрѣти и безъ тебя жива быти не хочю! Имѣвши, милое мое чадо, дерзновение къ господу Богу, помолися о мнѣ чтобъ мнѣ съ тобою вкупѣ умереть. О злые душегубцы! Чего ради меня прежде не погубили? что он вамъ, государь, зло сотворил? какую неправду учинилъ сей сущий незлобивый младенецъ? Азъ бо вамъ всѣмъ зло сотворяю, — за что меня пощадили, а такого незлобиваго агнца напрасно закололи? Молюсь вамъ, бѣдная вдовица, не оставте и меня живу, да не разлучайте и меня съ моимъ свѣтом, дайте мнѣ съ ним вмѣстѣ умереть! И много она государыня кричавъ и причитавъ и жалостно и умилно глагола[213].
Совмещение делового и книжного стиля в данном случае очень заметно. От народно-поэтической основы текста остался только тематический каркас, который наполняется либо традиционно книжными оборотами, либо штампами делового языка того времени. Этот текст окружают повествовательные аористы, они подводят к монологу-плачу (возопи) и выводят из него (глагола), служа формальными границами самого жанра в составе повествовательного целого. Синтаксическая перспектива текста обходится без единой причастной формы, которых много вокруг плача, и вообще избегает сложных синтаксических конструкций, тем более книжных. Сам плач построен на разговорных перфектных формах, которые перемежаются с формами презенса, императива и простого будущего. Из 30 сказуемых половина — перфекты, причем во 2-м лице даже с ecu — свидетельство того, что автор сознательно употребляет перфект именно в этой части повествования, поскольку даже согласно Грамматике Мелетия Смотрицкого вспомогательный глагол сохранялся только при форме 2-го лица. Между тем правила относительности времен не соблюдаются, они уже неизвестны. Глагольные формы распределены стилистически, но пока по правилам книжного текста: «художественное настоящее причети замкнуто» — это «надвременное настоящее»[214]. Тексты XVII в. показывают развитие в сторону дифференциации значений презенса, но «художественное» и реальное время здесь еще не расчленены. Поскольку стилевая манера исполнения явно «свободная» и тип текста не получил еще цельного стилистического образа, встречаем частые повторения одних и тех же слов или оборотов, и автор, не заботясь о поиске синонимов, не стесняется повторять одни и те же слова, хотя смысл их меняется, например, противопоставить дѣло сотворилось — зло сотворилось, и второе повторить несколько раз, как бы в забывчивости множить выражение о бедной и горькой вдове (в вариациях) и т.д. Традиционные формулы разбиваются включением не свойственных им определений, что очень похоже на влияние со стороны книжных стилей (в разговорной речи предпочитают глагол). Так, сочетание неповиннаго агньца как бы «переводит» традиционный образ «незлобивого агньца», но этот последний вплетается и в характеристику самого Димитрия: сущаго младенца, сущий незлобивый младенецъ. Смысловое задание лексических поновлений понятно, как и необычное сопряжение причастия сущий: въ бѣдѣ сей сущей — сего сущаго младенца (это старое искажение исходной формы съсущаго — молоко матери). Обращение к погибшему отроку варьируется в зависимости от происхождения оборота: то возлюбленное чадо, то милое чадо, то драгое чадо — отражение книжных, народно-поэтических и контаминированных на их основе (драгое) выражений, в конце концов переходящее в традиционное выражение свѣтъ мой — также смешанного происхождения (в его основе лежит калька с греческого). Образно-символические контаминации такого рода нередки и в современной народной поэзии. Формальная сторона текста также выдает попытку сознательно регламентировать архаизмы и новые формы, хотя пока это делается не в зависимости от стиля, а исходя из происхождения синтагмы, ср. последовательное окончание прилагательных в род. падеже на -ого, но сущаго младенца, незлобиваго агньца в традиционно книжных оборотах. Инфинитивы все разговорного характера (на -ть), а формы настоящего времени уже книжные (на -тъ). И в данном случае точнее было бы сказать, что это новые флексии московского койне, обязанные влиянию северных говоров, но в традиционном тексте это, конечно, контаминация книжных и русских форм. Новый язык создается на основе схождения тех формальных вариантов, которые совпадают друг с другом, а не различаются, т.е. -ть/-тъ в русских говорах и -тъ в книжных текстах: предпочтение отдано форме с -тъ, и тогда -ть становится диалектной формой. Обычно и употребление сокращенной формы -сь, хотя в устойчивом выражении молюся вамъ сохраняется полный вариант книжного типа. В служебных словах то же самое, предпочтение отдается контаминированной, т.е. «литературной», форме, ср. чего ради, а не книжное чесо ради и не разговорное чего для. Фонетические формы также целиком русские (безмочной, хочю, кой, убойцовъ и др.), хотя в устойчивых формулах могут встретиться и архаические, ср. азъ бо в традиционном обороте речи. В зависимости от синтагмы употребляются и полногласные/неполногласные формы. В авторской речи вообще преобладают усредненно неполногласные, ср. гласомъ, а в самом плаче традиционный оборот драгое мое чадо и книжное слово младенецъ, тогда как глаголы — подвижная часть любого древнерусского текста — всегда полногласные, ср. ангца закололи, вкупѣ умереть; наречные формы, как семантически не столь важные, варьируются в зависимости от контекста: впередъ милости просим — бытовое выражение, прежде не погубили — книжное. Требования ритмики, важные в плаче-молитве, вызывают к жизни «пустые» с грамматической точки зрения морфемы: возоди, востани, сотворяю и др. с обязательным гласным в префиксе, ставшим обычным в народной поэзии, хотя разговорная речь их не допускает. Двусмысленность некоторых формповелительного наклонения проявляется в столкновении сочетаний да погубятъ и да не разлучайте; это, конечно, не императив в прямом смысле слова, а тоже ритмическое восполнение с модальным усилением. В плаче о князе Скопине-Шуйском народные элементы речи еще больше усиливаются. К концу века расхождение между народным и книжным вариантами уже настолько значительно, что монолог женщины и окружающая его авторская речь стилистически совпадают:
И как въсходитъ въ свои хоромы княженецкие, и усмотрила его мати и возрила ему в ясные очи: и очи у него ярко возмутилися, а лице у него страшно кровию знаменуется, а власи у него на главѣ стоя колеблются, — и восплакалась горко мати его родимая и во слезахъ говоритъ ему слово жалостно: — Чадо мое, сынъ князь Михайло Васильевичь! для чего ты рано и борзо съ честнаго пиру отъѣхалъ? любо тобѣ богоданный крестный сынъ принялъ крещение не въ радости? любо тобѣ въ пиру мѣсто было не по отечеству? или бо тебѣ кумъ и кума подарки дарили не почестные? А хто тобя на пиру честно упоилъ честнымъ питиемъ? — и съ того тебѢ пития вѣкъ будетъ не проспатися, и колко я тобѣ, чадо, въ Олександрову слободу приказывала: не ѣзди во градъ Москву! — что лихи въ Москвѣ звѣри лютые, а пышатъ ядомъ змиинымъ измѣнничьим![215]
«Слово жалостно» — это и есть плач, причем совершенно народного стиля, былинное причитание «матерой вдовы» по сыне. Постоянные эпитеты еще не расположились безусловно каждый со своим именем и свободно перемещаются по тексту, но их характерные признаки уже определены и в скором времени должны превратить их в эпитет украшающий, постоянный. Честное питие мало чем отличается от почестных подарков, но формы слов пока различаются, потому что в основе их разные типы сочетаемости (подарки по чести, питье и пир же — в честь), крестный сын еще и термин реального быта; эпитеты отчасти не сошлись в противоположностях, отчего возникает неожиданная метафора: лихие люди в Москве — звѣри лютые, с опущением необязательного слова люди рождается образ зверей лютых — насельников стольного града, что подтверждается и употреблением краткой (предикативной формы) лихи; звѣри лютые (не дивии, дикие или какие-нибудь еще) тоже становится приметой фольклорного жанра, хотя происхождение сочетания — книжное. Краткие предложения, отсутствие причастных форм, инверсии разговорной речи, ритм повествования согласуются в едином построении «слова жалостна». Все формулы текста — живые, разговорные, пришли прямо из быта. Некоторые повторения (типа чадо милое — сынъ) обязаны все тому же столкновению формул разного происхождения, не до конца усвоенных жанром. Центральным средством организации текста является глагол, именно к глагольным формам тянутся все остальные части речи, в том числе и единственная — наречного деепричастия: стоя употреблено в том же значении, что и борзо, страшно, горко. Однако, в отличие от предыдущего текста, перфект и презенс тут нерасторжимо слиты как «настоящее историческое» и «экспрессивно-прошедшее», они не различаются в выражении реального времени, потому что тексту плача выражение временных пределов действия противопоказано: речь идет сейчас, и действие происходит сейчас же. Перераспределение фонетических форм также знаменует новый этап разграничения полногласных и неполногласных форм. Неполногласие обычно (такие формы немаркированы), поскольку и слова встречаются либо в авторской речи (власи на главѣ), либо в устойчивом сочетании (во градъ Москву), но слово хоромы не может иметь неполногласный вариант, потому что хоромы-то княженецкие, это не храмы честные. Смысловая дифференциация диктует выбор варианта, но нейтральным вариантом всегда остается неполногласный. Воздействие со стороны деловой письменности на выбор стилистических средств при создании типичного «народного» текста в XVII в. несомненно. Иногда исполняется это весьма неумело, простым механическим согласованием частей, как это сделано в «поэтической редакции» Повести об азовском осадном сидении — молитва и плач осажденных турками казаков перед решительным штурмом:
Почали уже мы прощатся: Прости нас, холопей своих далных, государь царь и великий князь Михайло Федоровичь, всеа России самодержец: вели, государь, помянут души наши грешныя! Простите, государи все патриархи вселенские [перечень]. Простите, государи православныя крестьяна; помените, государи, наши души грѣшныя со всеми родители, на позор мы учинили государьству московъскому. Простите нас, лѣса темная и дубровы зеленыя; простите нас, поля чистые и тихия заводи; прости нас, море синее. Прости нас, государь наш, тихой Донъ Ивановичь! уже намъ по тебѣ, атаману нашему, з грознымъ войским не ѣздить, дикова звѣря в чистом поле не стрѣливат, в тихом Дону Ивановиче рыбы не лавливать.[216]
Совмещение официального отчета с народной песней видно по стилистическим границам. Наложение разнохарактерных текстов оказалось возможным по ключевым словам: Михайло Федоровичь — Донъ Ивановичъ, государь царь — государь наш, простите — прости и т.д. Не все эпитеты и здесь стали постоянными (ср. тихие заводи и тихий Донъ), но уже каждое имя обязательно связано с типичным признаком выделения, как и любое имя «деловой» части текста, хотя и с другим стилистическим знаком. Собственно, по характеру эпитета можно судить о стиле, потому что в первом случае определения терминологизованы (великий князь, души грешные, патриархи вселенские, православные христиане), а во втором они выделяют образный признак как идеальное выражение сущности данного предмета (леса — темные, дубравы — зеленые, поля — чистые и т.д.). Способ выражения один и тот же, но смысл и направленность их разные. Составитель текста разницы этой еще не видит. Сходство же их в том, что пределы традиционных формул здесь расширены, и сами формулы могут, по существу, составить целый текст, ибо принцип нанизывания однородных членов бесконечен, структурная рамка не закрыта и может пополняться. Но чтобы не случилось полного разрыва между традиционной двух-трехсловной формулой и ее компонентами, происходит интересное преобразование внутри формул: прежде чем распасться на отдельные семантически независимые слова, слова эти восполняются только им принадлежащими определениями, и тогда разрушение формулы не кажется столь уж трагическим событием: возникают новые формулы-определения, функционально — отдельные слова, но семантически — одно слово. Разрушение формул в книжном варианте жанра иное: не метонимической тавтологией (свет светлый, чисто поле и др.), создающей новые квазиформулы, а усилением синтаксических связей внутри традиционных формул (поэтому здесь много причастий и сохраняется аорист как нейтральное повествовательное время) и метафорическим переносом, всегда опирающимся на развернутое сравнение, ср. в Слове плачевном Аввакума:
Увы, светы мои, кому уподоблю вас? Подобии есте магниту каменю, влекущу к естеству своему всяко железное. Тако же и вы своим страданием влекуще всяку душу железную в древнее православие. Иссуше трава, и цвет ея отпаде, глагол же господень пребывает вовеки. Увы мне, увы мне, печаль и радость (!) моя осажденная, три каменя в небо церковное и на поднебесной блещащеся. .. Увы мне, осиротевшему! Оставиша мя, чада, зверям на снедение! Молите милостиваго Бога, да и меня не лишит части избранных своих! Увы, детоньки, скончавшияся в преисподних землях!.. Соберитеся, рустии сынове, соберитеся, девы и матери, рыдайте горце и плачите со мною вкупе другов моих соборным плачем![217]
Традиционные книжные формулы и здесь пронизаны народно-поэтической лексикой (теперь это обязательная примета жанра), но риторический характер всех построений и наличие книжных слов выводят подобный текст за пределы народного плача. Это все тот же отвлеченный и максимально типизированный плач, который может быть использован по любому аналогичному поводу. Столкновение традиционных формул с опущением компонента приводит к оксюморону (печаль и скорбь + радость и веселье = печаль и радость!), формальные архаизмы (горце, рустии и др.) сохраняются намеренно. Общее направление в развитии жанра повторяет то, что нам известно уже по жанру притчи[218]. По мере разрушения исходного синкретизма жанра происходит и дальнейшее расхождение текстов по языку и по формульности, что создает постепенно кристаллизирующееся различие по стилю. Во всех преобразованиях основным является текст — изменяется сначала он, затем — отношение к нему, тогда как разведение языковых форм (возникающих, новых, живых — и остающихся неизменными, старых, архаических) — всего лишь следствие, вытекающее из развития текста. Стилистически немаркированным, т.е. нормативно нейтральным, элементом все время остается народная речь, а маркированная «книжная», постоянно с ней соотносясь, постепенно, по мере развития живого языка, организуется в условный набор архаизмов (а в содержательном смысле — в набор штампов), т.е. цитат, формул в соответствующем словесном их наполнении. Обратным образом и расширение формул путем словесного их наполнения приводило к увеличению объема самого «жанра» в составе общего целого «текста», а это, в свою очередь, — к искажению границ и объемов такого сборного текста. Последовательное расширение и бесконечное дробление текстов уже не могли совладать с их стихией, в этом был тупик для дальнейшего развития языка, прежде всего — литературного языка. Можно высказать предположение, что как раз преобразование функции текста в границах жанра и создавало возможности для развития его стиля в языке. По-видимому, и осознание и стабилизация нормы как важной характеристики литературного языка также обратным образом связаны с формированием стилей, поскольку последние в своей совокупности обеспечивали реальную возможность кристаллизации нормы. На жанре плача это можно проследить наглядно, поскольку процесс тут двусторонний: народная речь влияет на книжный стиль, и книжный стиль влияет на народную традицию тоже.
ЯЗЫК И СТИЛЬ ФОЛЬКЛОРНОГО ПЛАЧА И ДУХОВНОГО СТИХА
По-видимому, многие средневековые жанры амбивалентны, поскольку, несмотря на разность происхождения, в своем употреблении зависели от целевого назначения. Деловая — функциональная — направленность текста определяла выбор поэтических средств и языковых форм. В частности, жанр плача, причети, раздваивался в зависимости от объекта: о конкретном человеке говорили самым простым языком, русским, но литературно обработанным; обобщенные персонификации, все более отвлеченного идеального характера, требовали высокой речи, и здесь складывался свой формульный тип (ни один из таких типов не был задан, а постоянно развивался). Сравнение текстов плача и стиха поможет лингвисту установить степень взаимного влияния их друг на друга, определить пределы языкового варьирования. Мы постоянно (и справедливо) говорим о влиянии народных образов и разговорной речи на развитие древнерусского литературного языка. Однако одновременно происходил и обратный процесс — влияние стиля и формул книжной литературы на литературу народную, долгое время устную. Это должно стать темой особого исследования, но сейчас уместно коснуться некоторых общих проблем обратного влияния книжной формулы на народную. Трагедия жертвенности прежде всего поразила воображение народного певца, и уже с древнейших времен стали развиваться духовные стихи о блудном сыне, об Адаме, утратившем рай, о странствиях блудного сына или Алексея, человека божья, по разным причинам оставивших отчий дом. Если вглядеться, окажется, что народная поэзия и из книжных текстов предпочитала не служебные, не нравоучительные, не риторические, а только такие, которые совпадали с народным представлением о судьбе и доле, о жизни человека в обществе, каким-то образом пересекались с русскими же мифами о покинувшем дом сыне (как в сказке), о страдальце- защитнике (как в былине), о горе оставленной матери или жены (как в песне). Совмещение жанров и здесь происходило по той же схеме размежевания в границах одного и того же жанра. Трагедия общества и мира — в жанре высокой ипостаси, трагедия личности, человека — в народной форме того же жанра. Предпочтение тех или иных тем определялось и обстоятельствами культурной, социальной и политической жизни восточных славян эпохи средневековья, особенно стабилизировалось на излете татарского ига — как предчувствие грядущего освобождения. Историки языка не случайно говорят о конце XIV в. как о времени стабилизации русских говоров[219], а следовательно, и жанров народного творчества. Дошедший до нас фольклор нельзя рассматривать как остатки дохристианской славянской древности, потому что и по языку, и по формулам, и по тематике все его жанры, продолжая некоторые вечные темы мировой литературы, являются развитием средневековой литературы, которое происходило параллельно и по тем же причинам, что и развитие книжной литературы. Это развитие первоначального мифа в разных его формах, но в точках соприкосновения двух мифов — языческого и христианского — могли образоваться плодотворные литературные традиции, взаимно восполняющие ограниченность друг друга. Сравним текст Плача Адама, который восходит к служебному, но в народной традиции связан с апокрифическим сказанием об Адаме и Еве:Адама падъшаго Сѣди Адамъ тъгда и плакася. предъ пищею райскою. бия въ лице свое и глаголаше. милостиве. «Помилуй мя падшаго». Видѣвъ Адамъ. издринувша. и заключила божествьнааго ограда двьри. и вздъхнувъ вельми глаголаше. «Помилуй мя падшего. Поболи со мною. раю зижителю обнищавшю. и шюмомъ твоихъ листъ умоли съдетеля. тебе не затвори млстве. Помилуя мя падшаго».[220]
Апокрифическое сказание об Адаме И пакы придохом въ Едем, и плакахомся: «Раю мой, раю, пресвѣтлый раю, красота неизреченна. меня ради сотворенъ ес, а Евги ради затворен ес; милостиве помилуя мя, падшаго...» и сѣде прямо раю и плакашеся по райском житии. И приде нощь и бысть тьма и въскрича Адамъ глаголя: «Горе мне, преступившему Божию заповѣдь, изгнану изъ свѣтлаго райскаго житьа, пресвѣтлаго немерчающаго свѣта!» «О свѣт мой пресвѣтлый, — плачася и рыдая глаголаше, — уже не узрю сияния твоего и немерчающаг свѣта ни красоты райскиа не вижю, господи, помилуй мя, падшаго» (с. 2).
Народный духовный стих Плач Адама
Расплакался Адам, перед раем стоя:
«Ты рай мой, рай, пресветлый мой рай!
Меня ради, Адама, сотворен строен;
Меня ради, Адама, рай заключили;
Ева согрешила, Адама прельстила
Весь род наш отгнала от раю святаго,
Себе помрачила, во тьму погрузила!»
Адам вопияше к Богу со слезами:
«Боже мой милостивый, помилуй нас грешных!
Увы мне, грешному, увы мне, беззаконному;
Уже я не слышу архангельска гласа,
Уже я не вижу райския пищи.[221]
Сам жанр — плач — определен уже народной традицией и является производным как от темы, так и от стиля произведения. Разошедшиеся после XIV в. линии развития текста в книжной традиции требовали бы иного названия: молитва. Молитва-плач в народной традиции разворачивается как скорбный плач, чему способствует и исходная тональность, которая остается почти неизменной. Границы ритмических колонов в славянском переводе (дан по русскому списку XII в.: ГИМ. Синод. 319) соответствуют паузам в греческом оригинале и, следовательно, сохраняет метрическую структуру оригинала; славянские слова и по числу слогов отражают оригинал. Более того, в последующих исправлениях и уточнениях текста, чрезвычайно распространенного (а для раскольников и вообще очень важного), все замены сохраняют, в общем, ритмику исходного варианта, ср. затворившаго вм. заключьшаго, предъ пищею заменено на прямо пищу, жителю вм. зижителю, и обычное для средневекового текста уточнение формулы: «бия въ лице» — добавлено «руками», но устранено «свое». Поэтичность исходного текста достигается повторением мотивов, ключевых слов, лаконизмом сочетаний, ритмической структурой. В последовательности преобразования текста от канонического к потаенному, а от него — к распространенному народному стиху есть своя художественная логика, определяемая и развитием языка, в том числе литературного. Перед нами последовательное расширение текста, что связано с необходимостью истолковать заключенный в нем символ, перевод символа на понятный художественный язык. Способов «перевода» известно два: книжная и народная традиции по-разному осмысляют исходный текст. Пища райская — искажение греческого оригинала, в котором τρυφή ‘наслаждение’ принято за τροφή ‘еда, средства пропитания’, но и ‘образ жизни, поведение’. Отвлеченный смысл подлинника «райское блаженство», по-видимому, вполне осознанно было понято как «пропитание в раю», что и осталось как смысл уже славянского текста. В апокрифе символ разрабатывается подробно на уровне эпитета, с более точным определением смысла райского блаженства — это не только добрая еда; ср. выделенные курсивом части текста, показывающие последовательное усиление идеального признака рая — свет, пресветлый свет, пресветлый немерцаемый свет и т.д. — все это и есть красота неизреченная, красота райская (обороты, которыми начинается и завершается перечень признаков, а на самом деле риторически разработанный один-единственный признак). В народном стихе этот признак сгущается уже в субстанцию света, он вполне материализован, хотя и не назван. Именование совершается посредством глагола с противопоставлением света тьме, что отчасти связано со случайным включением в апокриф традиционного оборота «и приде нощь, и бысть тма», ср.: «себе помрачила, во тьму погрузила». В книжном сказании и в народной поэтике разные принципы раскрытия символа: выделение типичного признака эпитетом — или описание глагольным действием. Чрезвычайно характерное различие, кардинально разграничивавшее книжную и устную культуру художественного слова эпохи средневековья. По этой причине и ключевые слова текстов постоянно выражены формами глагола: плакати — затворити — пасти. Характерно обилие причастий в исходном тексте (это перевод с греческого), но только действительных причастий, иногда в очень архаичной форме. Все они вполне укладываются в синтаксическую перспективу с простыми претеритами и императивом обращения. В апокрифе формы аориста и имперфекта сохраняются; хотя они употреблены не всегда верно, но количество действительных причастий уменьшается за счет страдательных, и это дополнительно, на глубинно-грамматическом уровне подчеркивает «страдальческий» характер события. Народный стих еще больше модернизирует изложение, поскольку разговорные формы перфекта являются здесь текстообразующими, а деепричастие уже точно выделилось из неопределенности причастных конструкций. Имперфект сохраняется стилистически оправданно, в традиционном обороте «Адам вопияше к Богу», как переход к молитве и в противопоставлении к начальной формуле «расплакался Адам». И на других особенностях народного стиха заметно совмещение двух стилей повествования. Последовательная смена образа в исходном тексте: пища райская — двери ограды — шум листьев райского сада — недифференцированно подана в апокрифе, в котором вариации «света светлого» представляют собой отвлеченные формы именно этих композиционных последовательностей — от отвлеченного к самому конкретному (шум листвы). В духовном стихе обычная для него контаминация: начало как в апокрифе («пресветлый рай»), а завершение как в стихе («райская пища»). Совмещение двух образцов характерно для вторичных жанров и является способом порождения нового текста. То же и в словесном наполнении формул. В исходном тексте нет Евы, но в стихе она появляется из апокрифа, иначе неясна причина изгнания из рая. Эмоциональное усиление текста происходит параллельно с его расширением и совершается в границах синтагмы. Ср. последовательное усиление образа от текста к тексту: «сѣди Адамъ и плакася» — «придохомъ въ Едемъ и плакахомъся» (с повторением прежнего) — и «расплакался Адам, перед раем стоя» — этикетность поведения изменяется по мере освящения самого сюжета. «Въздохнувъ вельми глаголаше» — «и въскрича Адамъ глаголя» («плачася и рыдая глаголаше») — «Адамъ вопияше со слезами». Не только своеобразное «усиление чувства», но и семантическое изменение глаголов диктовало подобные замены. Тема «плача», постоянно усиливаясь, сконцентрирована уже не только в глагольных, но и в именных формах. Глагольные формы остаются ведущими в плане усиления экспрессии чувства и в других компонентах текста, ср. Адама из рая издринувша — изгнану — отгнала; однако ключевые глаголы неизменны при всех преобразованиях текста, ср. постоянное употребление формулы «милостиве помилуй». В служебном тексте заключьша противопоставлено затворити, в апокрифе только один глагол: сотворен, затворен — игра слов, определяемая содержанием. В народном стихе игра слов продолжается, но основана она уже на выделении прежде грамматически связанных основ (сотворен и затворен — глагол с разными приставками), тут уже сотворен — строён есть перевод книжной формулы (т.е. создан) на разговорную (т.е. выстроен). Однако добавлен и оборот исходного текста рай заключили, потому что простое совмещение книжного и апокрифического вариантов не годилось для народного стиха. Тематическое следование формул требует семантического включения в текст и тех сочетаний, которые опущены. Например, в духовном стихе нет «и заключьша... ограда двьри», поэтому сохранение ключевого слова заключили было бы ничем не оправданным, если не оговорить, что рай выстроен, т.е. представляет собой «здание» (ограда). Святой рай известен только народному стиху, это также раскрытие символа, до того вполне ясного, но стих сохраняет и символ (пресветлый рай), и его раскрытие (рай святой), что позволяет создать и метафорический перенос, пока еще только в столкновении двух равнозначных формул. Следует заметить, что и в русских былинах, вообще в фольклорных текстах «земля святорусская» и все остальные сочетания с этим эпитетом безусловно вторичны, но не обязательно связаны с книжной традицией. Подобные характерные особенности каждого из сопоставляемых здесь текстов показывают, что общим для них всех остаются сюжет и тема, может быть — ритм, если произведение с самого начала является поэтическим, но никак не язык, т.е. ни формальные, ни семантические особенности изложения, каждый раз свои, авторские, поскольку перед нами цельные тексты, каждый со своим собственным художественным заданием, ограниченным поэтикой соответствующего уровня. Это не различие в жанре, поскольку жанр общий, но и не различие в стиле, ибо стиль один и тот же, что видно даже по повторению формул, варьирующих на словесном уровне, и особенно по фоническим особенностям звучания: неполногласие даже увеличивается в народном стихе (непоследовательно, но это зависит уже от исполнителя), а русские формы типа вижю сохраняются в любом варианте как формальный признак «высокого стиля». Определяющим в характере языка является различное отношение к «идее» произведения и разные, можно даже сказать противоположные, возможности языковыми средствами передать смысл исходного текста. Внешнее впечатление изменчивости текста придают ему, изменяясь, текстообразующие средства литературного языка. Прямая речь сохраняется всюду, это важное структурное средство «субъективации впечатления», но звательная форма изменяется: просто раю — пресвѣтлый, раю — пресвѣтлый рай — с постепенным устранением архаической формы зват. падежа, первоначально в сочетании с определением, которое нейтрализует семантику грамматической формы, а затем и совершенно убирает ее даже на уровне формы. По-видимому, различие между «книжным» и «народным» в формах средневекового литературного языка и следует понимать прежде всего на уровне формы, а не семантики текста. Клитические местоимения мя исчезают, уступая место полным местоименным формам, а общее повествование незаметно переходит от «страдательно»-объектного к действенно-субъективному: не в третьем, а в первом лице, ср. в народном стихе я, мне, мой и др. Переключение с объективно внешнего на внутренне личное сопровождается и общей перекомпоновкой вспомогательных слов (устраняются архаизмы вельми, прямо, пакы), союзов и т.д. Происходит экспансия личного чувства на весь текст в целом, и здесь уже нет стороннего наблюдателя, рассказчика, который стоит над героем и над действующим лицом; сказание превращается в лирическую песню. Развитие духовного стиха шло по линии распространения «плача» как основной формы выражения личного чувства. Возникали дополнительные, восполняющие текст, фрагменты на основе вторичных народных плачей такого рода. Так, в первоначальных редакциях (и перевода, и обработок) Жития Алексея, человека божия, очень популярного в средневековье, никаких плачей не было, но затем они вставляются в тексты, а в редакции XVII в. плачи весьма часты: плач покинутой жены Алексея особенно длинный и риторически разработанный: «О источници и моря, взаимо дадите воду главѣ моей и дадите очима моима толико слезъ, да возмогу плакати злополучение мое ко удовлению» (с. 332). Народный стих на ту же тему: «Увы, увы, моря и реки, / дайте очам моим слезы, сегодняшний день прослезиться, / горячими слезами облиться» (с. 332). Славянизмы (источники, толико слез, сложные сочетания и т.д.) заменяются типично русскими синтагмами, причем вполне разговорными: моря и реки, горячими слезами облиться и др. На этом же тексте легко видеть, насколько и каким образом изменялось словесное наполнение формул. Обстоятельное исследование В.П. Адриановой-Перетц дает возможность строка за строкой проследить развитие формульности в процессе внедрения текста в народную поэзию. Например, описание женитьбы Алексея претерпело следующие изменения[222]. По разным спискам Жития:
«Доспѣвшу же ему въ возрастъ совершенный и въ лѣта супружества». «И научаше ся дондеже прииде в возрастъ законный...» «Егда же бысть по закону възрастьшю ему время оженити его...»
В духовном стихе это передается следующим образом:
Как будет Алексей в возрасте, в законе,
Поизволил его батюшко женити...
Ишше стал Олексей годов 16,
Ишше стал Олексей от уж (?) возростати,
Возростати Олексей стал, подыматьце,
Он до тех до своих двадцеть годов,
Шьчо задумал ево батюшко женити,
Дэ его сьвета мать, та тоже.
В тексте Жития: «И обручиша ему дѣвицу царьскаго рода...», в разных списках происходит постепенное выравнивание формулы: берет — он «от рода царска дѣву» — «отроковицу от рода царска» — «красную отроковицу от рода царска» — «едину красную отроковицу от рода царска» и т.д., так что в результате последовательных уточнений (не деву или девицу, а отроковицу берет в жены герой) и расширения текста в народном стихе образуется:
Единую красную отроковицу
Великого царского рода.
Вариантность присутствует и на уровне духовного стиха, который поначалу получает отработанный книжный вариант и уже, в свою очередь, «обкатывает» его в варианте устном, ср. «нѣкая худая одѣяния» в тексте Жития, и варианты стиха: «рубище раздрано», «платьице печально» — «платьице старецкое» — «ризу власяную» — «черную рясу» — «черные ризы» (с. 264). В книжном тексте в центре повествования Алексей, и этой точке зрения подчинены все языковые средства; в народном же сохраняется разнообразие точек зрения (разные герои «смотрят» на Алексея), и герой постепенно выявляется под их взглядом. Происходят разные изменения и в языке. Формула как минимальный текст постоянна, постоянным может быть и ключевое слово, но все остальное изменяется. Народный текст все конкретизирует и очень не любит определений. Там, где определение появляется, проникая из терминологии быта или из книжности, оно становится постоянным эпитетом неустойчивого пока характера: ясно, что отроковица «красная», но вариации определений все время уточняют постоянно ускользающий признак красоты; ясно, что «отроковица рода царского» принадлежит к «великому» роду, и т.д.; «платьице» также изменяет свои характеристики, но они, строго говоря, относятся не к данному типу одежды, а к сочетанию, которое его обозначает. И всегда понятно, что рубище — раздрано, риза — власяная, ряса (риза) — черная, и т.д. Постоянный эпитет образуется не при слове, а при понятии об объекте, но такое понятие создается с помощью ключевого слова. «Нѣкая худая одѣяния» может быть самого разного вида — отвлеченность характеристики в принципе допускает различные конкретизации, что и происходит, и в результате за всеми конкретными сочетаниями остается некий понятийный инвариант, который на современном языке может быть обозначен как «плохая одежонка»; на основе такой формулы исполнитель может конкретизировать форму в любом ее виде. Устраняются и книжные структуры, ср. «възрастъшю ему» — «возростати стал»; стал как связка заменяет многие конкретные формы, как бы поддерживая лексически важный глагол в форме инфинитива. «Возраст совершенный», «возраст законный» — тоже разносторонние характеристики реально одного и того же состояния: факт совершеннолетия совпадает с возможностью законного брака. Вариации, следовательно, допускают любые замены. Можно вообще сказать, избегая всяких определений: «в возрасте, в законе» — но можно и описать положение жениха по годам, равным определенному социальному достоинству, как бы раскрывая неопределенность исчислений типа «въ лѣта», «время» и т.д. Все варианты народного текста можно, в принципе, собрать в инвариант книжного — и тогда в содержательном смысле книжный, исходный текст окажется родовым по отношению к видовым определениям народной песни, и напротив — абстрактность книжного текста обернется конкретностью народного (русского) его воплощения. Они не противопоставлены друг другу — они дополняют взаимно устраненные оттенки смысла, взятые в их динамическом отклике и на душевную потребность, и на требование времени, и на особенности своего языка. Таким образом, и на уровне цельного текста противопоставленность отвлеченно-книжного конкретно бытовому хорошо осознается, являясь моделью для любых перестроений текста. Чтобы не уходить далеко в сторону от жанра плача, закончим сопоставления народным стихом гражданского звучания — Плачем земли, сравнивая его с книжным текстом такого же характера и названия (сохранился в составе Повести о Меркурии Смоленском, памятнике XVI в.). Книжная повесть отражает уже влияние фольклорной традиции:
Общая наша мати земля жерлом стоняше, глаголющи: «Сынове, сынове русстии, аз зрю изъоставающи вас, чадолюбимых бывших мне. Чаде мои, чаде мои, прогневавшей Господа своего и моего творца Христа Бога, вижю вас от пазухи моеа отторгаемы и в поганьскиа руки немилостиво впадша вас праведным судом Божиим, иго работно имущих на плещах ваших. К тому бо аз, бедная вдова, бых. Что первое сетую? Мужа ли или любимых чад вдовьство же менит запустение монастырей и святых церквей и градов многых!»[223]
Ф. И. Буслаев, который считал этот плач «одним из драгоценнейших памятников русской поэзии темных времен татарщины» и связывал его с народно-мифологическими представлениями о матери — сырой земле, видел в нем народный символ, однако художественная (формульная) и стилистическая обработка этого текста полностью книжная. Перед нами архаические формы языка, иногда намеренно архаизованные, иногда даже искаженные в угоду ложно понятого архаизма (чадолюбимые вместо чадолюбивые, изъоставающи вместо многих других обычных эквивалентов, ср. еще праведным судом Божиим с распространением и контаминацией двух формул праведным судом и судом Божиим и т.д.). Все это выдает их вторичность при сознательном отборе накопленных текстами стилистических средств. Общая установка поэтического стиля закончена: абстрактные идеи передаются «высоким стилем архаизма», а конкретно-бытовые — обычным языком. Устойчивые формулы книжного характера (выделены курсивом) переходят из текста в текст как штампы, но в народном варианте текста иное направление формульного выравнивания:
Растужилась, расплакалась матушка сыра земля пред господом Богом:
«Тяжол мне тяжол, Господи, вольный свет,
Тяжеле много грешников, боле беззаконников!»
Речет же сам Господь сырой земли:
«Потерпи же ты, матушка, сыра земля,
Потерпи же ты несколько времечка, сыра земля!»
Традиционность народных сочетаний также несомненна, во всяком случае в отношении к эпитету: определения не могли развиваться в народном тексте, они тут же «омертвлялись». Но раз войдя в синтагму с ключевым словом, они вместе образовывали то терминологическое единство, которое активно продолжает древнерусскую традицию поэтических синтагм.
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА В ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
Виктор Владимирович Виноградов в своих работах по истории русского литературного языка неоднократно указывал на необходимость определения «существенных дифференциальных факторов между разными периодами развития литературного языка»[224]. Эта задача является основной в уяснении постепенного развития литературного языка, в осознании кардинальных изменений в нем на протяжении последнего тысячелетия. «Литературный язык, в отличие от письменного, фиксирует далеко не все вообще изменения, которые наблюдаются в разговорно-диалектной речи, но в основном те, которые соответствуют его общественно утвержденным или укрепляющимся нормам. Литературный язык как бы открывает широкую дорогу тем тенденциям, которые начинают господствовать над старыми, отживающими уже формами. Есть ли такой регулятор и двигатель у литературного языка — в отличие от письменной фиксации разнообразных форм — уже в донациональную эпоху? Несомненно, есть»[225]. Одно из отличий литературного языка в эту эпоху, между прочим, заключается в том, что «понятие ‘стиля языка’ в том смысле, в каком оно применяется [например] ко времени существования трех стилей, не применимо»[226]. Стиль языка — категория историческая, стиль языка — категория структурная. Никакие упрощения беллетристического характера здесь недопустимы. «Термин система по отношению к литературному языку получает особый, осложненный смысл. В некоторые периоды развития, например, русского литературного языка к нему гораздо более применимо понятие ‘системы систем’. Так, кстати, обстояло дело в эпоху, непосредственно предшествующую образованию единой национальной языковой нормы (т.е. XVII и XVIII вв. вплоть до 20-30-х годов XIX столетия), когда складывалась, стабилизировалась, была теоретически осмыслена и упорядочена М. В. Ломоносовым, наконец, подверглась коренному преобразованию и творческому переоформлению система трех стилей русского литературного языка. Однако само понятие ‘стиля языка’ предполагает внутреннее единство структуры литературного языка... Стили языка, различаясь произносительными нормами, некоторыми своеобразиями морфологии и особенно синтаксиса, формами словообразования и больше всего своим лексико-фразеологическим составом, имеют общую структурно-грамматическую базу и значительный общий словарный фонд»[227]. В размышлениях В. В. Виноградова обнаруживаем поиск объективных критериев выделения стилистического варианта как средства художественной выразительности языка. В настоящей заметке на примере развития русского словесного ударения в самый напряженный момент истории русского литературного языка предлагается объяснение стилистического варианта с точки зрения стилевой структуры литературного языка. Примеры с ударением выбраны для удобства и краткости изложения, потому что словесное ударение вообще является наиболее чутким к изменению языковым средством, непосредственно связано со всеми другими уровнями языка и косвенно отражает изменения в них[228] (не говоря уже о важности просодии для пиитической практики XVIII в. — века поэзии) и кроме всего прочего является связующим звеном между устной и письменной формой литературного языка, а такое единство, как известно, — одна из существенных характеристик литературного национального языка. Вернемся к теоретическим рекомендациям М. В. Ломоносова относительно словарного различения трех стилей: с точки зрения стилистического варианта обнаруживаем парадоксальную ситуацию. Выясняется, что теория «трех штилей» кодифицирует только два стиля. В самом деле:I Высокий стиль Церковнославянизмы, понятные русским Слова, общие для церковнославянского и русского языков
II Средний стиль Церковнославянизмы, понятные русским Слова, общие для церковнославянского и русского языков Просторечие, диалектизмы
III Низкий стиль Просторечие, диалектизмы, разговорно-бытовая лексика
т.е. с точки зрения функционального распределения: I + + − II + + + III − − + В средний стиль «по рассмотрению» могут войти и «высокие» церковнославянизмы, и «низкие» просторечные слова, т.е. почти все пять категорий слов, выделенных Ломоносовым, хотя ядром этого стилевого яруса являются все-таки слова, общие для церковнославянского и всего русского языка в целом. Другими словами, средний стиль включает в себя все возможные стилистические варианты слов, противопоставляясь и высокому и низкому, которые находятся в состоянии дополнительного распределения: они могут быть противопоставлены среднему слогу только совместно. «Ломоносов понял, что соединение церковнославянских элементов с вульгарными русскими в литературном языке не может звучать приятно для человека с развитым вкусом, и потому устранил это соединение. Он воспользовался живым русским языком...»[229] С функциональной точки зрения в XVIII в. литературный язык имеет стилистически нейтральный слог (им является средний стиль) и стилистически окрашенный слог в качестве маркированного члена оппозиции (высокий слог + низкий слог). Рассмотрим создавшуюся ситуацию с точки зрения поэтической практики. На примере акцентных расхождений в языке поэтов XVIII в. можно отметить, что порицаниям подвергался не А. П. Сумароков с его подчас диким смешением традиционных, общерусских и диалектных ударений (такое смешение допускается средним стилем), а Тредиаковский — единственный автор середины века с закономерно выдержанным ударением, но ударением архаическим. Например, старое русское ударение степеней сравнения у прилагательных ни у одного из современников Тредиаковского не отражено так последовательно, как у него, ср. закономерные с точки зрения древнего распределения акцентовки превосходной степени: а) у производных от баритонированных основ ударение на корне — сла́бейше, мно́жайшем, си́льнейших, сла́внейших и т.д.; б) у производных от окситонированных основ ударение на корне — до́брейший, бе́лейших, му́дрейшим, пе́рвейших, хра́брейших и др.; в) у производных от окситонированных основ с суффиксом -ьн- ударение на корне — мо́щнейший, бе́днейше, кра́снейших и др.; г) у производных от подвижных основ ударение на суффиксе — густе́йшего, просте́йшу, сладча́йший и т.д. У Ломоносова накоренное ударение сохраняется только у прилагательных первой группы (оно поддерживалось в то время ударением производящего имени), например, сла́внейшим, си́льнейшим и т.п., а уже у Сумарокова и далее у Хераскова все более распространялось обобщенное (новое) ударение на суффиксе. Кроме того, нет никаких указаний на взаимное недовольство ударением отдельных слов или форм у Ломоносова и Хераскова, хотя очень часто их акцентовки прямо противоположны: у первого — в основном северновеликорусские, у второго — южновеликорусские. Подобные расхождения воспринимались как вполне допустимые колебания в границах среднего стиля. Напротив, известны упреки Сумарокова в адрес Ломоносова по поводу тех диалектных акцентовок последнего, которые для большинства русских говоров в то время оказывались уже архаическими. Например, допустимое в древнерусском языке ударение быстро́, сохраненное архангельским говором, вызывает возражение со стороны Сумарокова как нерусское[230]. Это возражение со стороны среднего стиля, не приемлющего архаизма. Вместе с тем с точки зрения «высокого» архаического (церковнославянского) и с точки зрения «низкого» просторечия (русского диалектного) такое ударение допустимо: крайности сходятся. И на многих других примерах можно проследить ту же зависимость: почитателю среднего стиля в литературном языке Ломоносова не нравятся только те «простонародности», которые со стороны общерусской нормы воспринимаются как архаизм. Если в отдельных случаях такая связь (архаического и диалектного) неясна теперь, с течением времени она устанавливается более или менее определенно. Так, до недавнего времени чисто диалектным признавалось слово грамотка ‘письмо’ (за его употребление Сумароков также упрекал Ломоносова). Новгородские берестяные грамоты показали,что в указанном значении это слово употребляется очень давно, а сейчас сохранилось только диалектно. Следовательно, в отличие от предыдущей эпохи, в XVIII в. актуальным было не противопоставление «церковнославянское — русское», а противопоставление «живое русское (= общерусское) — архаическое (в том числе и славянизмы разного рода)». Особенность XVIII в. в развитии литературного языка заключается в том, что на место старого противопоставления «высокой славянщизны» и «простонародного речения» (нейтральным являлся первый тип языка) с образованием на национальной основе «общерусских» стилевых норм пришло новое, указанное выше противопоставление, в котором «общерусское» (т.е. кроме общерусского также церковнославянское и русское диалектное, понятное всем русским) создает нейтральный стиль. При таком толковании постепенное преобразование стилевых типов подчиняется всем закономерностям изменения, присущим любой системе языка. Укажем основные. Во-первых, при образовании новой функциональной оппозиции существенно важным становится четкое противопоставление двух стилевых типов, а все остальные переходят на положение вариантов одного из них (как правило, маркированного). До XVIII в. понятие стиля неприменимо по отношению к русскому литературному языку именно потому, что противопоставленные друг другу два типа литературного языка не имели вариантов. Вариантность — это форма существования стиля. По своему происхождению стилистический вариант — это элемент определенной языковой системы, которая в результате образования нового типа противопоставления вынуждена совмещаться с другой, прежде самостоятельной в стилистическом отношении, системой (русские диалекты по отношению к церковнославянскому языку в середине XVI и в середине XVIII в.). Стилистический вариант (фонетического, лексического, синтаксического и другого типа) всегда входит в систему, которая в данный период нерелевантна. При возникновении новой оппозиции она может стать членом противопоставления или перейти в другой стилевой ряд. Так, «общерусские» элементы языка до XVIII в. были вариантом маркированного члена противопоставления («простонародное речение»), а в XVIII в. стали немаркированным членом нового противопоставления. Во-вторых, утрата противопоставления выражается в обобщении немаркированного (в данном случае — стилистически нейтрального) члена возможной в прошлом оппозиции. В конце XVIII в. продуктивным оказался средний стиль, на основе которого и создается в XIX в. современный русский литературный язык. Поскольку в XVIII в. соотношение «стихий» таково, что порицается все «архаическое», в том числе и диалектные архаизмы, нейтрализация противопоставления «общерусское — архаическое» не затронула тех элементов диалектной системы, которые совпадали с «общерусскими» по признаку «современности». Следует согласиться с В. В. Виноградовым, что во всех случаях функциональные изменения стилевых рядов определяются внелингвистическими факторами, поскольку понятие литературного языка имеет и социальную характеристику. Как кажется, приведенная схема развития литературной нормы позволяет более точно и однообразно классифицировать стилистические варианты разного рода на разных этапах развития литературного языка.
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СТИЛЯ И НОРМЫ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ XVIII века
Норма — динамический процесс экспликации инварианта на основе речевых вариантов, выработанных развивающейся системой языка, которые в данном их функционировании воспринимаются как варианты стилистические. Для создания ситуации выбора нормативного варианта необходим такой уровень развития естественного (народного, разговорного) языка, когда в результате функционального усложнения речевых формул уже образовались различные стили, т.е. уже произошло углубление структуры языка. К началу XVIII в. такая ситуация в России сложилась, над системой естественного языка уже надстроилось несколько стилевых уровней с равноценными для общей структуры национального языка их вариантами. Это создавало проблему сведе́ния многих видовых вариантов стиля к единому родовому инварианту нормы, что сегодня мы и воспринимаем как процесс сложения норм русского литературного языка. Это чисто метонимический процесс перехода к гиперониму: от конкретно видовых к отвлеченно родовому в организации законченной структуры национального языка. Однако конечный результат получился неожиданным, он прервал средневековую традицию построения парадигм посредством метонимических переносов с части на целое, с видов на род и т.п. Явилось новое качество: иерархия структурных уровней и функциональных уровней была создана не по линии привычной субординации, подчиненности одного нижнего одному же верхнему, т.е. не по смежности (у каждого члена только один, соседний по расположению маркированный член координации), но совершенно иначе. Все множество стилистических вариантов подчинилось одному-единственному системному инварианту. Это новое качество языка имело принципиальное значение как для дальнейшего развития языка, так и для осознания его признаков, единиц и, в конечном счете, самой системы как цельности и целостности языка. О XVIII в. обычно говорят как о времени сложения теории трех стилей, вообще как о моменте создания нового качества по всем направлениям культуры и языка. Это верно лишь с точки зрения результата, сам же процесс ни в каком отношении не был новым, а его первоисточники вообще лежат в глубокой древности. Напомним некоторые факты, приведем известные параллели, укажем основания, из которых выясняется, что XVIII в. — время завершения многовековой тенденции, тотчас создавшей тенденции новые. Историческая заслуга деятелей этого века в том, что они ничего не ломали в действии принципа — они смиренно и терпеливо продолжали начатое предшественниками, но продолжали в верном направлении. Органически присущая языку тенденция сама развивалась таким образом, что породила новое качество языка. Итак, стиль — историческая категория (см. «Общие понятия исторической стилистики» в наст. сб.). Формирование стилей возможно лишь в контекстах авторитетного достоинства, стиль языка обогащает функции языка, стиль речи усложняет структуру языка. В древнерусской традиции, как кажется, не было никакого представления о стиле и стилях, поскольку и функционально, в зависимости от типов высказывания и текстовых жанров, не существовало еще свободных языковых элементов, независимых от речевой формулы-синтагмы. Содержательно это значит, что в языке не существовало осознаваемых стилистических вариантов. Уже показано на многих примерах[231], что открытие высокого стиля на фоне среднего совершилось в начале XV в. Епифанием Премудрым, и с этим связано так называемое второе южнославянское влияние, т.е. попытка чисто внешним образом формализовать сделанное открытие, лишив его содержательной ценности как факта культуры, прежде всего — как литературного языка. Такова эта форма культурной реакции на происходившие в естественном языке изменения. Открытие же низкого стиля справедливо приписывают протопопу Аввакуму в середине XVII в., хотя, конечно, и в этом случае не один он участвовал в работе над «освежением» лексического запаса ветшающих литературных форм за счет живого, естественного языка. Непосредственной реакцией на это опять-таки явилось так называемое третье южнославянское влияние (но уже со стороны юго-западных литературных школ) — такая же попытка формально перекрыть все сущностные изменения, которые наметились в русском языке к тому времени. Происходило аналогичное тому, что было в начале XV в., но с обратным знаком. У Епифания архаические формы родного языка стали восприниматься на фоне живой речи как высокий стиль; у Аввакума, наоборот, результаты ускоренного развития русского языка стали осознаваться как «вульгарное вяканье» на фоне традиционно неизменного книжного слова. В возможной классификации наличных языковых средств оказались слитыми попарно два дифференциальных признака: старое—новое и разговорное—книжное, что и затрудняло создание теории трех стилей, поскольку речь шла все-таки о четырех признаках. Второе и третье южнославянские влияния стали фактом реакции, попытки остановить процесс, коль скоро он был обнаружен. Сами по себе подобные влияния — факт чисто внешний. В действительности тут было совпадение сразу нескольких условий преобразования, отразившихся на «культурном» языке, возникавшем на субстрате языка культа. Во-первых, социально-политические условия: последовательно создаются Московское государство в конце XIV в. и Русское государство в XVII в.; оказывается необходимым осмыслить происходящие процессы в стабилизирующих формах общего литературного языка. Во-вторых, общекультурные условия: необходима поддержка культовыми и культурными движениями всего славянства, способными доказать законность и закономерность данного выбора литературных форм. В-третьих, собственно языковое условие: на каждом этапе развития под давлением развивающегося русского языка постоянно образуются все новые структуры и формы, обслуживающие одну и ту же грамматическую или семантическую категорию, — множество форм для выражения одной идеи, которая и начинает восприниматься как единящий все эти формы семантический инвариант. Между тем понятно, что с точки зрения каждого данного синхронного среза (как мы его воспринимаем в своих исследованиях сегодня), да еще в условиях средневековой устойчивой традиции, каждый архаизм типологически обязательно воспринимался как стилистически высокий, а вульгаризм нетрадиционного типа — как стилистически низкий. Это верно и для современного нам языка, в котором каждая новая форма или непривычное значение слова воспринимаются как употребленные в пониженном стиле речи. Так постепенно видоизменялась структура языка, обогащаясь вариантами стиля, еще не собранного в типичных своих проявлениях в самостоятельные функциональные стили языка. Одновременно с тем происходило усложнение социальной базы книжной культуры, которая к концу XVII в. стала охватывать уже все три уровня социальных отношений: сакральный, профанный, профессиональный — последний, естественно, в городской среде, почему как коммуникативно особый и целостный уровень он и сложился столь поздно. Каждый из трех типов социальной коммуникации требовал своего особого типа речи, еще не существовало преимущества одного из них перед другими, поскольку общелитературная норма пока не сложилась. Роль нормы исполнял стиль в границах каждого данного, функционально ранжированного жанра. Усложнение системы дублирующими элементами достигло предела, но равноценность вариантов еще не давала предпочтения ни одному из них: неясно было, на каких принципах станет строиться новая иерархия языковых средств. Не было еще и явной синонимии, поскольку варианты по-прежнему использовались в непересекающихся коммуникативных системах. Стиль по своим признакам все еще тесно переплетался с жанром, он не мог стать источником для выработки нормативных вариантов: синтагматические связи в тексте ограничивают возможности для выбора парадигматических структур и отбора отвлеченных от своего контекста слов (словоформ). Это объясняется и традиционным представлением о роли и значении языковых форм, уровень научной рефлекции о языке был еще полностью традиционным. Отдельные факты языка в это время рассматриваются в самых разных научных руководствах: стилистика и синтаксис в Риторике, лексика в Поэтике, морфология в Грамматике, семантика в Диалектике и т. п. По мере того как предмет — речевые формулы разного стилистического достоинства — в познании сгущался в объект целостного содержания, т.е. в идею языка, возникала потребность и в научном осмыслении его многочисленных форм, все еще разбросанных по самым неожиданным руководствам, не соединенным по видам, функциям и типам[232]. Как лики и вещи на древнерусской иконе, каждое явление языка-речи живет еще как бы само по себе, в обрамлении собственной формулы, существует в своей особой перспективе движения, не завися от точки зрения наблюдателя, который тоже не вобрал еще их целиком и вместе под единой перспективой ему, языку, присущей цельности. Но направление обобщающей рефлексии, с точки зрения носителя языка и в его интересах, выбрано верно, и точка зрения на речь изменяется. Речь стала восприниматься как свое другое, как инвариантно общее — как язык, благодаря постоянному усложнению речевой структуры посредством все накапливавшихся стилистических вариантов различного происхождения. Такое осмысление речи как объективно существующей самостоятельной системы, языка, осуществлялось постепенно, но также под воздействием органически возникшей традиции. Если, например, в Грамматике Мелетия Смотрицкого (1619) варианты падежных окончаний еще не имели никаких стилистических характеристик, то у Аввакума в его многочисленных вариантах одного и того же текста, его Жития, они уже вполне рачительно распределены по собственным своим синтагмам и подвергаются исправлениям и замене в случае, если произошло их смешение[233]. В отличие от Смотрицкого и Аввакума Тредиаковский, также увязывая исторически оправданные варианты с определенными, близкими по смыслу (эйдосу) контекстами жанра-формулы, уже определенно сознает их чисто стилистическую функцию, когда позволяет себе использовать совершенно невероятные с точки зрения системы языка формы типа секущими ко́сы, высокими го́ры, горящими зве́зды — обязательно с ударением на корне, т.е. явно в противоречии с исконным ударением данных форм на флексии (коса́ми, гора́ми, звезда́ми). Синтагменная форма слова уже не соответствует его парадигменной форме, и новая квазиархаическая форма тв. падежа мн. числа косы, горы, звезды используется чисто стилистически в тексте, уже разрушившем традиционную связь с исконной синтагменной формой-формулой. В границах любого конкретного текста норма (то, что правильно) все еще оказывается привязанной к определенному стилю речи, к ее функции. Норма как особая категория оказалась теперь вовлеченной в старый синкретизм «стиль-жанр» и постепенно вытесняла из этой нерасчлененной общности жанр как явление совершенно иного плана, к языку относящегося чисто внешним образом, просто как форма его существования в тексте. С такими потерями и достижениями развитие стиля как принципа отбора наличных языковых средств подошло к началу XVIII в. Объективно (онтологически) древнерусская одномерность текста — синтагма/формула — и старорусская двумерность системы — парадигма/категория — обогатились новым представлением языка: третьим структурным измерением стилистических уровней, что и привело к углублению смысловой перспективы языка в целом. Трехмерное пространство языка освоено к моменту начала активной рефлексии над ним. Создавшаяся ситуация напрямую подводила к необходимости разработки стилистической теории. Воспользовались традиционной теорией трех стилей, уже известной по риторикам XVII в. В соответствии с античной традицией «тройных родов глаголания» в Риториках Макария (1617—1619) и Усачева (1699) средний стиль понимается как «усредненный» между высоким и низким, как способ и средство нейтрализации исходной эквиполентности (равноценности) высокого и низкого, а не как самостоятельно важный стиль того же самого языка. Так же неконструктивно воспринималась категория стиля и Феофаном Прокоповичем, для которого всякая литературно обработанная речь есть стиль и, следовательно, низкого стиля не существует в принципе. Теория на первых порах создается на основе заимствованных и переработанных идей, хотя и наполняется примерами из собственной художественной практики. Это объясняет, почему органическое развитие национальной традиции в конце концов дало совершенно новый результат, внесло небольшое искажение перспективы в естественное развитие родного языка. Необходимо напомнить о взаимодействии языковых (грамматических) и функциональных (чисто стилистических в то время) тенденций в развитии текстовых формул, из которых выявлялись элементы системы и нормы. Вполне определенно проследить чередование квазисинонимов, хотя и сохранявшихся еще в границах старой формулы текста, впервые мы можем надежно в текстах протопопа Аввакума. Особенно это заметно на взаимоотношении глагольных форм, наиболее свободных от традиционных связей в составе синтагм. Так, глаголы речи явно выстраиваются в системный ряд, попарно в соответствии с выражением категории вида:глаголати = говорити = вякати речи = сказати = молвити
Новые для этой группы глаголы распределены еще в зависимости от синтаксической позиции. В прямой речи предпочитается глагол говорити (он связан с обозначением языка как органа речи), в личных предложениях, особенно при дат. падеже адресата — сказати (т.е. в исконном своем значении ‘сообщить, раскрыть смысл’) и т.п., тогда как традиционные для высокого стиля глаголы речи/глаголати, в принципе, употребляются в любых контекстах, независимо от функции высказывания; немаркированная неопределенность их функции и стала, по-видимому, причиной их конечного устранения, они были замещены более специализированными по семантике глаголами, которые в XVII в. еще сохраняли исконное, довольно узкое значение наряду с метонимически распространившимся более широким, гиперонимическим значением ‘говорить, высказывать(ся)’ (см. в наст. сб.: «Лексическое варьирование в литературном языке XVII века»). Из подобных стилистических, грамматических и функциональных признаков словоупотребления, совмещенных пока что в пределах устойчивого мини-контекста, ясно, что по крайней мере с грамматической точки зрения в XVII в. никакие стили не выделялись в границах одного жанра. Грамматические варианты не различает еще и Ломоносов, для которого брошу / буду бросать / хочу бросить / хочу бросать существуют как бы в общем стилевом ряду как одинаково возможные формы. Затем происходило расширение синтагматических функций у среднего члена многомерной оппозиции, приведенной здесь на примере глагольного ряда «речи», причем средним по стилю и тем самым нормативным становился только тот член оппозиции, который соответствовал нейтральному по всем признакам одновременно: стилистически по форме, грамматически по глагольному виду (только говорить/сказать соотносятся друг с другом и потому осознаются уже как формы одного глагола), семантически как гипероним и т.п. Таким образом, смысл возникновения стиля как нового средства оформления текста заключается в семантическом наведении на «смысловую резкость» специально с помощью среднего члена градуальной оппозиции, тогда как крайние ее члены оказываются маркированными по расходящимся признакам: то по функции (вякати/молвити используются в различных функциях), то по стилю (как традиционные в устойчивых формулах только глаголати/речи), но остаются одинаковыми по грамматическим признакам (только с нашей — современной — точки зрения все эти глаголы попарно включаются в новую для них оппозицию по виду; некоторые из них могли оставаться двувидовыми). В процессе складывания нормы функция наличных языковых средств, накопленных системой в результате развития речевых формул, становится своего рода стилем, поскольку до тех пор стилистический вариант использовался в дополнительном распределении по различным формулам, синтагмам, конструкциям, типам высказывания, характеру адресата и пр., т.е. распределялся позиционно в речи, а не определялся системой языка. Если попарное столкновение старой и новой форм не давало ничего, кроме семантического синкретизма, организуя совместное распределение «стиль/норма», как это видно и на истории речевых формул типа стыд—срам, радость—веселье до XVIII в., то уже включение в оппозицию по крайней мере трех вариантов способствовало созданию нормы как нормативного инварианта, представлявшего собою немаркированный средний стиль; см. примеры подобного распределения у такого архаического по стилю писателя, как Тредиаковский. Открытие механизма для выявления и фиксации нормативного среднего варианта на основе трехчленного ряда форм и составляет заслугу ученых XVIII в. Вполне осознанно такой механизм представлен и в трудах Ломоносова. Принцип извлечения нормативного варианта как стилистического инварианта действует до сих пор, постоянно уточняя и обновляя нормы литературного языка. Таков вообще типологически важный принцип экспликации нормативного инварианта в действующей языковой системе. Остановимся поэтому на уяснении признаков его действия. Становление нормы всегда есть конечный результат развития системы языка, который в конце концов осознается и научной рефлексией. Норма есть познанная система. В практической деятельности при создании новых форм речи в его время сошлись обе, дотоле принципиально разграниченные в действии тенденции: а) выделение «языков», т.е. функций, согласно их стилистическому достоинству (dignitas), и б) выявление правил их совместного употребления согласно принятым образцам, т.е. традиционным мини-текстам (формулам, синтагмам), что, собственно, и являлось своего рода нормой. Мы уже определили, что в условиях внутренней замкнутости жанра средневековая литература с опорными для нее понятиями образца и достоинства не имела понятия о стиле в современном смысле слова как структурном качестве языка: стиль был функцией, и функцией стиль ограничивался. Как известно,[234] у Ломоносова понятие стиля также не во всем совпадало с современным нам пониманием стиля. Стиль он ограничивает пределами лексической системы и некоторыми бросающимися в глаза произносительными вариантами. Он ничего не говорит о грамматических или словообразовательных вариантах. Скорее всего, он просто не видит их сущностно, как воплощающих некий идеальный — категориальный — инвариант, поскольку и само слово Ломоносов понимает еще весьма синкретично, в многообразии его функций («слово есть способность говорить...»). Более того, именно в границах стилистически ограниченных текстов Ломоносов и проводит собственно лингвистическое исследование, выявляя грамматически важные варианты, еще не представленные (не осознанные) категориально, т.е. в норме, своим инвариантом. Рабочие рукописи Ломоносова, с бесконечными рядами примеров и выписок, представляют собою запись функционально оправданных речевых формул, из конкретности которых еще не выявлен специфический именно для русского языка инвариант парадигмы; ср. перечни примеров типа: подай воду — подай воды — часть, на время; дай книгу — значит вовсе, дай книги — значит на час, покажи книги — вежливо, покажи книгу — со властью и т.п. Потенциально слово раскрывается лишь в предложении, только-только выходя из связного текста; член предложения еще вполне равен части речи. Парадигма не сложилась, поскольку окончательное осознавание языка вне форм речи есть результат различения единицы языка обязательно во всех ее признаках, в том числе и стилистических. Грамматическая мысль не абстрагирована еще до такой степени, чтобы устремиться к обобщающему уровню семантики, пренебрегая случайностями речевой формы. Ученый-эмпирик идет от формы: Ломоносов категорию языка ищет за разнообразием стилей. Норма для Ломоносова — понятие художественно-стилистическое, поскольку опирается на (художественный только) текст еще в полном соответствии с традиционными установками на «образец»; его понимание нормативности исходит из стиля, потому что Ломоносов идет к норме не от парадигмы языка-системы (которая также еще не осознана), а от речевых вариантов текста-синтагмы. Ломоносов, конечно, может сказать, что стилистически разнообразны выражения «дождь идет — средняя мера», а «небо плюет — сказать непотребно», но при этом сам же требует, чтобы «метафора была не чрез меру часто, но токмо в пристойных местах, ибо излишно в речь стесненные переносные слова дают больше оной темности, нежели ясности»[235]. Во всех таких примерах образ навязан речью и представляет собою случайность лжесинонимии. Но ведь, в сущности, это и есть смешение стилей, недопустимое для жанра, все еще остающегося основной формой воплощения слова и мерилом вкуса. Одни лишь различия по жанрам остаются пока понятным для всех принципом отбора форм и слов, объективно доступной наблюдению рамкой для разграничения стилистически равноценных форм речи. Таким образом, квалификация стилистических вариантов у Ломоносова находится не на функциональной (горизонтальной), а на временно́й (вертикальной) оси функционирования форм и слов. И для него архаизм всегда остается представителем стиля высокого, а неологизм — «смиренного», тогда как средний, «мерный» стиль всегда предстает как узуальное употребление слова или формы, и именно «мерный стиль» оказывается способным включить в себя все пять типов лексики, выделенных Ломоносовым в соответствии с ее происхождением и использованием. В Риторике Усачева 1699 г. высокие слова еще не включались в высокий стиль, а у Тредиаковского через тридцать лет находим запрет на включение в средний стиль и всех низких слов. Следовательно, до Ломоносова «литературное» понималось только как книжное (письменное: litterа), а у него самого проявляется совершенно новая идея: «литературное» представлено не просто как littera, но и как литература, причем в границы литературы введены уже фактически все жанры прежней письменности и, сверх того, все устные жанры. Заметно совмещение двух, для Ломоносова не совпадающих различительных признаков: «архаическое — новое» и «церковнославянское — русское», что совместно создает четыре возможности в распределении наличных слов:
церковнославянское _ русское архаическое 1. обаваю, свене _ 2. говорити, вотще новое 3. влияти, сказати _ 4. вякати, вливати
Типы 1 и 4 одинаково запрещены как дважды маркированные стилистически (совпадают по обоим признакам различения), они не могут стать базой для образования среднего стиля, т.е. нормы. В свою очередь, и противопоставление 2:3 предстает как эквиполентное, оно характеризуется равнозначными признаками, по которым отмечается каждый из оппозитов: «архаическое, но русское» — «новое, но церковнославянское». Сомнения относительно последнего (т.е. 3-го), которые могут возникнуть, легко снимаются. Речь идет о так называемых новых церковнославянизмах. Принцип создания научной терминологии, предложенный Ломоносовым, обновлен как раз на этом типе образования новых слов по церковнославянским моделям или на их переосмыслении, ср. предложенные им термины типа плоскость, упругость, сопротивление (это новые образования) или движение, расстояние, явление (семантически переосмысленные). Если путем аналитического разложения признаков архаическое (= церковнославянское) и новое (= русское) на два образовалась система с четырьмя возможными наборами таких признаков, то теоретически предполагаемый вариант, представленный как раз типом 3, и должен быть заполнен соответствующими словами и формами. «Заполнение пустой клетки системы» представляет собою процесс нейтрализации между старой формой и новым содержанием (смыслом, значением, идеей и т.п.). Тем самым теория трех стилей не просто распределила наличный материал речевых форм по группам, но и организовала своего рода резервуар для накопления принципиально новых форм, в которых нейтрализовались семантические, стилистические и прочие крайности исходных для данной системы оппозитов. В этом и заключается основное открытие Ломоносова. Результат не замедлил сказаться на практике. Признаки прежде самостоятельных «языков», или, как мы их определили, на самом деле функций, становятся признаками «стилей» (в противопоставлении нового типа: «архаическое русское» противопоставлено «новому церковнославянскому»); другими словами, становится возможным их взаимодействие в границах общего текста и, следовательно, жанра, что снимает проблему стилистических ограничений по принципу жанра: между жанрами утрачивается противоположность функциональная, прежде препятствовавшая включению форм, понимаемых как «русские», в норму литературного языка. Эта брешь пробита окончательно. Затем на уровне отдельных слов возникает обычное разбиение внутренне замкнутой эквиполентности на незаметные градуальные переходы по стилистическим оттенкам различных по семантике слов, и такие слова, коль скоро они включены в общую систему, воспринимаются отныне уже как синонимы. Синонимы не возникают в языке, синонимы рождаются в стиле. Итак, аналитическая дробность сети языковых и внеязыковых отношений (грамматика, функция, жанр, стиль и пр.) путем последовательных снятий их через различные признаки в конце концов привела к ясному осознанию основной единицы языка — слово вне контекста, слово вне своей формулы, слово как автономная единица языка. М. В. Ломоносов произвел необходимое для его времени выделение нецерковных/неархаичных форм в границах вполне определенных речевых средств с тем, чтобы полностью устранить старые, функционально изношенные гиперонимы литературной речи и тем самым расчистить дорогу для образования новых гиперонимов, тех, в которых нуждалась новая — уже научная — мысль (прежде всего в пределах им же исповедуемых научных представлений и понятий). Возникла возможность развивать абстрагирующе-аналитический принцип мышления на совершенно новой языковой базе, в очищенной от затхлости свежей атмосфере новых стилей; именно это и ставил себе в заслугу сам Ломоносов. В отношении к возможным проявлениям образно-эмоциональных оттенков изложения (сообщения, речи и пр.) у Ломоносова при этом оказался перекрыт верх, поскольку побледнение эмоционально-экспрессивных форм выражения, устранение стилистически выразительных форм в принципе идет снизу, от ярких по выразительности низких стилей речи, вверх, к стилям торжественно-высоким, на основе переносных значений архаических слов, развивающих все более отвлеченные значения (именно архаизация формы не препятствует такому направлению семантического развития слов). Становясь стилистически высоким, слово одновременно снимает свою живую образность, становится простым знаком-символом, завершающим свое семантическое развертывание терминологически однозначным значением. Таким образом, действительная заслуга Ломоносова заключается не в создании теории трех стилей и даже не в распределении по этим стилям наличного состава лексики. Ученый и поэт в одном лице, Ломоносов осознал принцип, согласно которому происходит порождение стилистически важных средств художественной речи, и установил правила их отбора в соответствии с потребностями и вкусами своего времени. Он определил различие между церковнославянским и русским на основе описанной им системы русского языка и тем самым эксплицировал идею системности в системе трех стилей, которые до него воспринимались как независимые друг от друга. Таким образом, нормативность Ломоносов понимал, исходя из системности живого («природного»), т.е. естественного, языка, и через нормализацию стилистических вариантов он, соединяя рациональность метода и опытных данных, искал научные принципы нормы. В сущности, теория трех стилей кодифицировала (как норму) только два стиля, что в других терминах было свойственно и русскому средневековью; именно они, восходящие к двум разным сложившимся системам, были поданы как правильные, а тем самым оказались эксплицированы единицы и парадигмы двух языков — церковнославянского и русского. Оба они вполне осознанно стали различаться по составу форм и слов только в результате данной реформы стилей. Поскольку в соответствии с функцией и с жанром среднему стилю могли принадлежать все пять выделенных Ломоносовым лексических групп (кроме, может быть, самого архаичного, используемого в обветшавших жанрах литературы), то этот стиль и воспринимался как немаркированный «стилистически», тогда как высокий и низкий стили противопоставлены среднему только совместно. Такое парадоксальное распределение на уровне парадигмальных систем стало осознаваться уже только после создания Словаря церковнославянского и русского языка (1847). Что же касается описываемого времени, когда эти поиски новых форм выражения для новой же мысли еще только велись, то тогда порицали за дурной стиль и смеялись не над путаником и «стилистическим эклектиком» Сумароковым, а над архаистом Тредиаковским и над самим Ломоносовым за его пристрастие к диалектной лексике, т.е. с точки зрения той же системы новых норм за такие же архаизмы, хотя бы и русского, а не церковнославянского языка. Иллюзия архаичности создавала ситуацию непонятности. Это значит, что и разговорно-низкий, и высокий архаический варианты речи одинаково воспринимались как уклонения от вполне эксплицированной уже нормы — того среднего, стилистически немаркированного, наиболее типичным воплощением которого и стал язык произведений эклектика Сумарокова.
ИСТОРИЯ СЛОВ
ЭТИМОЛОГИЯ КАК ИСКУССТВО И КАК ФИЛОСОФИЯ*
*См. также работы автора, из которых в настоящей статье приводятся примеры: Колесов В. В. 1) Этимология как искусство и как наука // Рус. речь. 1971. №1. С. 99-107; 2) Онуча // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. V. М., 1966. С. 43-48; 3) «Растѣкашется мыслію по древу» // Вести. Ленингр. ун-та. 1971. №2, вып. 1. С. 138-139; 4) Финист ясен сокол // Рус. речь. 1979. №5. С. 67-71; 5) Ламъ // Этимологические исследования. Свердловск, 1984. С. 91-94.Известно предупреждение Б.А. Ларина против смешения этимологии и истории слов[236] — такова традиция петербургской школы, и ее историк показал[237], что с этимологических штудий самого разного достоинства она, эта школа, и начиналась в XVIII в., развивая первые научные методы (сравнительно-исторический у Востокова), создавая первые научные словари (лексикографические программы Шишкова). Когда сегодня мы присматриваемся к наивным этимологиям того времени, мы видим в них своеобразную малую форму литературы. Как и народная этимология, она интересовалась не истинным значением слова, но представлением автора этимологии о том, что есть истина. Вечер, как и ветчина, от ветшать: вечер — это ‘ветшающий, преклоняющий день’ (на самом деле только слово ветчина восходит к тому же корню, что и слово ветхий). Блоха — это пхла, потому что «скачет, пхаясь ногами», а мартышка («в старинном произношении мордашка») от морда, берег от берегу, ибо «бережет воду от разлития», тогда как слеза — капля, слезающая по щеке, и т.д. Эту цепочку можно продолжать бесконечно, примеров множество, и все они столь же далеки от исконных значений слов, этимологизуемых таким образом. А. X. Востоков не случайно современное этимологизирование назвал «философическим словопознанием» и резко выступал против «словопроизвождения, каких у нас немало выкидывала в свет самоумная неученость или всеугадывающая полуученость». И действительно, перед нами пробы художественного характера: за словом ищут прообраз его, восстанавливая смысловое родство с другими словами. Основой сравнения является форма, а это проблема искусства. Целью сравнения остается познание сущности слова, а это проблема философии. Устрожение методов исследования привело к тому, что в Петербурге возобладало семантико-историческое направление, а в Москве — формально-сравнительное, и на подобном раздвоении предмета изучения (слова) и методов стало осознаваться различие между формой и содержанием языкового знака — слова прежде всего. Языковые формы сравниваются друг с другом (этимология в старинном значении термина и есть морфо-логия), тогда как семантику (значение) слова можно выявить и проследить ее изменение только на широкой дуге исторического развития слова. Изучение истории слов и вообще составление словарей сосредоточены в Петербурге, в Москве развертываются грандиозные этимологические предприятия. Даже исторический в основе своей словарь его автор именует историко-этимологическим[238]. В известном смысле это несоединимые понятия, поскольку материал и методы исследования у этимологии и исторической лексикологии различны. И. Г. Добродомов полагает, что предмет изучения у этих наук один и тот же, поскольку обе изучают «историю слова — его возникновение, а также хронологическую эволюцию»[239]. Разграниченные чисто теоретически, эти науки в конкретном исследовании отдельных слов совмещаются. Но коль скоро мы заговорили о том, что «историческая лексикология имеет дело с реальными словами в реальных речевых произведениях-текстах», в этот перечень скоординированных научных дисциплин следовало бы добавить и историческую стилистику, которая изучает функции слова в тексте, а также объединяющую все аспекты изучения семантики слова в его развитии герменевтику. Тогда и различия выступят с большей определенностью: при общности предмета изучения (слово в его изменении) существует глубокое различие между указанными дисциплинами по объекту исследования (искомый концепт в его развитии). Важнейший компонент герменевтического исследования — текст в его целом — применительно к древним этапам развития языка составляет особую задачу. Необходима реконструкция исходного текста. Против этой идеи всегда выступает, например, Д. С. Лихачев, и по той же причине, по какой Б. А. Ларин теоретически разрывает связи между этимологией и историей слов. Реконструкцию они понимают как конструирование текста, и такая опасность в их времена существовала. Сегодня это уже не так. Успехи научной этимологии и исторической лексикологии несомненны, и чтобы постичь смысл старинных речевых формул и значений составляющих их слов, необходимо воссоздать целое — исходный текст, в максимальном приближении к оригиналу, который редко когда дошел до нас. Тонкие исследования многих поколений славистов позволили сделать это даже в отношении к текстам типа Слова о полку Игореве, ни один из списков которого не сохранился. В других случаях можно уже произвести реконструкцию старого текста, пользуясь предварительными разработками классиков русской филологии[240]. Таким образом, мы получаем три компонента предполагаемого исследования: реконструкция текста — изменение формы — и развитие значения слова, включенного в этот текст. В качестве примера рассмотрим историю слова, по видимости «непонятного» по смыслу и по форме. В Успенском сборнике XII-XIII вв. на л. 172г повествуется об усопшем, три дня не похороненном, и только «четврьтыи же днь медъ въкыдывъше въ ламъ, въложиша тело въ нь, мышляше бо въ цркви е погрети». В другом случае говорится о Лазаре, воскресшем, несмотря на «смрадъ телесе: гряди вънъ, оживи и дшю възьми, и ходя из лама излези» (л. 231г). Поиски в этимологических словарях ничего не дадут. Здесь находим либо соответствия с греч. λάρναξ ‘ящик; гроб; ковчег’, либо сопоставления с диалектными словами типа лам ‘хворост’, ‘дыра, яма, расщелина’ или (новгородское) ‘пустошь’. Первый этап исследования — сравнение современных фактов — не объясняет нам значение древнего слова, поскольку сравниваются формы слов (лам от ломати). Необходимо продолжить изыскания. Анализ формы в ее исторической перспективе (акцентные соответствия производных, сопоставление различных грамматических форм по языкам дальнего родства, словообразовательные типы и т.п.) показывает, что возможны дублеты типа ламъ:ламень = рамо:рамень(е), т.е. отнесение к двум различным морфологическим типам, основам на *й и *men, и степени родства с другими словами усложняются; в частности, наше слово можно соотнести с др.-рус. олѣкъ ‘верхняя часть пчелиной борти, где начинаются соты’. Это уже не формальный, а «ноэмический» этап исследования, позволяющий восстановить исконную форму слова (*оlт с интонацией акута) и его внутреннюю форму, т.е. исходный образ корня — колода, а не просто ящик или гроб. На третьем этапе мы переходим к «эйдетическому» обоснованию вскрытого образа, идеально представляя его как ‘пустоту, которая образовалась в результате разлома деревянной субстанции и теперь заполняется чем-то (что может быть связано с медом)’. Последнее вытекает из контекстов, представленных уже историческими источниками. В обоих случаях речь идет о консервирующем средстве, сохраняющем покойного от «смрада тѣлесе». Во втором примере ламъ в значении ‘гроб’ вообще сомнителен, поскольку здесь уже употреблено столь же старое слово жюпище; следовательно, речь идет о том, чтобы покрытый во гробе встал и пошел, из лама выйдя. Одновременно указано противопоставление тела и души усопшего, соответственно смрада и лама; лам соотносится с благовонием праведной души, а не со смрадным телом. Если ламъ как имя *-й- основ соотносится с ламень, то оно обозначало предмет, тогда как ламень — Nomina agentis[241], семантически связанное с тем же предметным значением. Частичное совпадение по смыслу и по форме содействовало совпадению лексем, однако утрата слова могла быть связана и с исчезновением реалии. Итак, из четырех этапов описания первый относится к этимологии, четвертый — к истории слов, а второй и третий совмещают в себе оба аспекта осмысления этимона в его историческом изменении. Каждый раз, приступая к следующему этапу изучения слова, мы совершаем очередную редукцию, устраняя тот или иной момент в истории слова, но на следующем этапе на новых основаниях возвращаемся к опущенному. Самое первое впечатление — о связи с современными формами типа лам или эквивалентными значениями типа ‘гроб; ящик’ — оказывается ошибочным, его необходимо проверить и проверить неоднократно. Другое загадочное слово древнерусских текстов — волмина — даже по форме близко к указанному ламъ. Здесь анализ начинается сразу со второго этапа, поскольку сначала оказывается необходимым найти исходную форму слова. Сопоставлениятипа волм = ин(а) = сосн-ин(а) и волм-яг = сосн-яг приводят к выделению корня волм-, а известные фонетические соответствия позволяют реконструировать варианты произношения в виде *vŭlт- и *jĭlm, в результате чего становятся возможными сопоставления с другими языками, ср. лат. ulmus ‘вяз’ и нем. средневековое слово іlте. На третьем этапе мы восстанавливаем «идею» слова, которая в столь широком плане пересекается, возможно, со словами типа ул-ей или ул-ица. Завершают описание сопоставления с употреблением слов в древнерусских текстах, которые (в том числе и летописи) описывают в близких контекстах соснь и улъм (вар. по спискам: улъм, улом), сосну и ильм и т.д. Некоторые из этих слов могут быть поздними заимствованиями из германских языков, но слово волмина безусловно старинное славянское, оно испытало все необходимые изменения формы — с тем, чтобы сохранить свою внутреннюю форму, т.е. исходный образ корня. Конечно, наличный материал может быть настолько полным, что целый этап исследования можно опустить. Так, в истории слова онуча нельзя восстанавливать этимоны *on-u-t-ia или *o-n-u-t- іа, поскольку это противоречит смыслу слова: онучи о-круч-ивали, а не о-девали и не на-девали. Онуча — это «о-крут-а» вокруг ноги, следовательно, логично связать это слово с корнем нута/нуда в севернорусской его форме: нута — ‘вереница, цепь; навёртка’, т.е. *о- nut-ia. При анализе этого слова мы ограничиваемся вторым и третьим этапами реконструкции слова, поскольку сравнения согласно первому в этимологических словарях ошибочны, а материала для четвертого мало. Материалы по памятникам письменности имеются в случае, досадившем не одному поколению филологов. Речь идет о выражении растекашется мыслію по древу в Слове о полку Игореве, где написание мыслію читали «в псковском произношении» как мышью вместо «испорченного» мысію. Прекрасный поэтический образ, вписывавшийся в развернутое сравнение с серым волком и шизым орлом. Исторические памятники — рукописи северного происхождения — действительно дают написания типа мысью на месте мыслью (Софийск. собр. 1464, л. 125 об), но не наоборот (и правилами исторической фонетики легко объяснить, почему не дают написаний обратных), и это всегда именно значение ‘mens/mentis’. Образ «рассыпается», потому что на самом деле автор Слова понимает свою аллегорию глубже, чем современные литературоведы[242]. А синкретизм символа не поддается однозначному толкованию через понятие. Переходя к обобщению приведенных примеров, детально рассмотренных в другом месте, заметим нечто общее, характерное для всех иллюстраций. Последовательность предъявления содержательных форм слова не совпадает от случая к случаю. Внутренняя форма — всегда образ, но древние тексты неявно демонстрируют и символическое значение слова (ламъ, мысль, ясный сокол в формуле Финист ясен сокол). Выявляя исходный образ как этимон слова, мы ошибочно пытаемся определить его, т.е. представить понятием. Этапы описываемой процедуры по мере выявления содержательных форм также соотносятся с различными аспектами изучения слова: образ — с этимологией, понятие — с исторической лексикологией, символ — с философией (в широком смысле). В соответствии с нашим представлением о содержательных формах слова определим научный статус этимологии[243]. Этимология по своему объекту в принципе не может быть «наукой» в строгом понимании этого термина. Она не имеет дела с понятием как содержательной формой слова — конечным пределом всякого научного знания. Этимология и не стремится к этому, в ее уравнениях слишком много неизвестных, чтобы она могла по- ять (схватить) в конечном определении это эфемерное понятие, существенно важное для нас в наших изысканиях, для нашей рациональной культуры, но безразличной для той культуры, которой этимон служил, в рамках которой создавался. Понятие существует в точке настоящего, и тем самым оно — внеисторично. Понятие нельзя восстановить, поскольку исчезают многие добавочные условия и признаки, по которым «понимали» образ или символ в то или иное время. Но этимология — очень важное искусство, она позволяет эксплицировать концепт в образе, с известным приближением показывает явленность концепта в доступной нашему сознанию форме. Наоборот, историческая стилистика изучает последовательность создания (образ-ования) и разрушения (вос-создания) символов, так или иначе восходящих к исходному этимону. Историческая лексикология изучает семантическое развитие словесного знака от образа до символа, с точным описанием последовательных «снятий» понятийных (идентифицирующих) значений слова по мере семантического преобразования слова в контексте данной культуры и на материале образцовых для нее текстов. Посредством символа возвращаясь в концепт, этимология снова вступает в свои права, но уже не как искусство интерпретации, а как философское осмысление пройденного словом пути.
Postscriptum. Долгое время В. М. Мокиенко дружески внушал мне, печатно и устно, что шуточное мое толкование выражения сказка про белого бычка[244] не имеет научной ценности, носит случайный характер и является чересчур субъективным[245]. Трудно возразить против субъективности — все этимологии в той или иной мере субъективны, в противном случае у нас был бы всего один этимологический словарь. Что же касается научной ценности, то ни одно толкование самого В. М. Мокиенко или любого другого специалиста по фразеологии ее не имеет, и тут следует согласиться с классиками: научным считается аналитически понятийное определение, выражающее закономерную сущность явления, а не набор типологически сходных выражений, формально сгруппированных с целью извлечь из них исходные синкретичные образы («образы русской речи...»). Случайный характер — да, потому что сказано к месту и только о белом бычке, а не в типологической перспективе сопоставлений с черным быком у кашубов или с белой курочкой у латышей, как предлагает мне сделать мой оппонент. У каждого народа свои герои, и каждый рассказывает о своем. Но напомню мое толкование спорного русского выражения. Я говорил, что в некоторых случаях слова, составляющие образное суждение, настолько разошлись в своем лексическом и грамматическом значении, что исконный смысл целого выражения совершенно утратился. Когда мы слышим такое выражение, нам приходится вкладывать в него знакомые значения слова, т.е. «досочинять» его смысл. Иначе не поймешь, о чем речь, а если и поймешь, то — неверно. Затем я провел маленькое исследование в полном соответствии с теми принципами, которые описаны выше. Неявным образом произведена реконструкция этимона каждого слова отдельно. В кратком изложении эти этапы таковы. 1. Сравнение с другими словами и формами позволило ответить на вопрос, почему в нашем выражении использованы именно эти, а не какие-то другие слова. Сказка, а не излюбленное в Древней Руси слово, а позже глагол или в XVIII в. — речь (речение); про, а не о — до начала XIX в. значения этих предлогов не смешивали (вульгарное сказать про него вместо о нем — вообще достижение нашего времени); белый, а не светлый, пегий или как-то иначе (в названиях животных по масти не использовали слова белый — лишь символически это цветообозначение употреблялось в противопоставлениях к черному и красному: день — ночь — солнце); бычок, а не более любимые персонажи русских сказок, которым скорее пристал белый окрас, чем этому странному альбиносу — белому бычку. Специально о слове сказка известно, что в прошлом оно обозначало отчет, сжатый результат, некое резюме какого-то дела, открытия или исследования. Современное значение слово получило поздно, уже в XIX в., весь его смысл — в корне; это уменьшительное от съ-каз-ъ — имени отглагольного происхождения, оно входит в цепочку однозначных с легким смысловым поворотом форм, обозначенным сменой префиксов: съ-каз-ать — значит со-общ-ить, т.е. сделать доступно общим; это не вымысел вовсе, как полагает Мокиенко, а некий сокровенный смысл, таящийся за перебором форм: у-каз-ать и тем по-каз-ать, чтобы до-каз-ать и тем самым на-каз-ать, т.е. предостеречь молодость от заблуждений юности (речь-то — о байке, а баять и значит — расколдовывать в слове). 2. Ноэмически — представлением — мы восстанавливаем форму нужных нам слов, и прежде всего корень в слове бычок. Это очень богатый по значениям корень, который восходит к глагольным чередованиям звукоподражательного характера *bykati, *bukati, *bokati и др. в значении ‘реветь, кричать’. Разные ступени чередования гласных в корне обусловили целое гнездо различных образований, так что исходный признак «пугающего крика, устрашающего рева» разошелся по многим производным, в числе которых и ночные крики выпи, и надоедное жужжание овода, и рев нехолощенного быка, и даже начальственный окрик ответственного руководителя (новгородское бука ‘начальник’). В дальнем прошлом речь шла не о конкретном существе, но о существе дела — о густом низком звуке, непрерывном и угрожающем. Бык и бука.[246] 3. Эйдетически — идеей — мы можем теперь охватить целое, по-своему понять смысл всего выражения. Это не что иное, как «мычание о бучании», или, говоря серьезно, сказ о сказе. Таков оксюморон на почве плеоназма, т.е. риторический оксюморон — гипербола на иронической основе. 4. Исторически мы можем сопоставлять различные контексты, извлеченные из средневековых памятников письменности. Но здесь возникает множество загадок, особенно связанных с букой. В историческом словаре мы найдем неясное упоминание о буке, который надувается, с тем чтобы лопнуть от натуги; тут находим также просто слово «букъ=бука ‘шум, tumultus, sonitus?’ — ср. бучати ‘мычать’ (огнь бучитъ, песъ воетъ)[247]. По происхождению своему наш бычок может оказаться вовсе не бычком, а каким-то иным мифологическим существом. Поскольку оно невидимо (бесцветно-белое) и только слышимо, оно и гудит над нами, вокруг нас и в нас самих, постоянно напоминая о бесконечном повторении одного и того же с самого начала, о неустанном возвращении все к тому же. Что лежит в истоке этого присловья? Некий миф, впоследствии сжатый до фразы, или же фраза, способная расширяться до мифа (= сказки)? Вопрос очень сложный. Фразеологизм есть сжатая формула текста — таково историческое происхождение идиом. Но присловье, в принципе, могло отчуждаться от формул какого-то ритуала. Ясно, что из всех слов нашего выражения ни одно не сохранило своего значения, а некоторые из них впоследствии были даже заменены, чтобы «понятнее» стал сам смысл высказывания. Как будто понятием можно понять символ. Как бы то ни было, но все изменения привели к преобразованию смысла целого выражения. Сегодня каждый по-своему его понимает, т.е. ухватывает в мысли. Но предположительно исходный его смысл — ‘растолковать (нечто) незримому собеседнику’, что, конечно, исключительно трудно сделать, если уж и с реальным-то не сговоришься! Возникают также проблемы, связанные с древними представлениями о тотеме, о жертвенном животном, о синкретизме исконного символа, уже забытого. А на этом пути мы, действительно, можем и впасть в фантазии, поскольку входим в зону действий и представлений других наук. Пусть они нас и рассудят. А эти заметки имели очень скромную цель — показать (растолковать незримому собеседнику), что все великие идеи любой философии укоренены в смысловых глубинах национального слова и представляют собою интерпретацию его тайн. Во всяком случае, современные философы честно в том признаются. Следовательно, философия — наука не больше, чем этимология. И это не так уж плохо: искусство объемней и глубже постигает жизнь.
О РУСИЗМАХ В СОСТАВЕ ДРЕВНЕРУССКИХ ТЕКСТОВ
1. Предварительные замечания
Особое внимание к слову при изучении истории языка понятно. Именно на слове и в слове сходились самые различные признаки системы и единицы языка. Для средневекового автора слово как переменная единица текстовой формулы и составляло реальность языка, тогда как звук, морфема, синтагма, фраза и прочее находились еще вне светлого поля сознания, не воспринимались в тексте. Если мы хотим изучать древнерусский язык не с помощью составленных современными исследователями схем типологического характера, подверстывая под них все реальные изменения, а исходя из системных отношений, присущих самому древнерусскому языку, нам придется опираться на слово как на основную единицу языка. Трудами многих ученых[248] выделено большое число слов, употребленных только в источниках древнерусского происхождения, которые по традиции называются русизмами — лексическими и семантическими. Уже в языке домонгольской Руси они принадлежали только восточным славянам. Строго говоря, понятие «русизм» весьма относительно, поскольку возможно двоякое осмысление функциональных и системных отношений древнерусского языка: с точки зрения современного языка обсуждаемые в данной статье слова являются русизмами, но с точки зрения их происхождения к числу таковых могли бы быть отнесены и многие другие слова: и общеславянские, которые впоследствии исчезли у западных и южных славян, и новые (переносные) значения общеславянских слов, оставшихся неизвестными другим славянским говорам (хотя переносное значение слова вполне может определяться только дошедшим до нас контекстом, а на самом деле оно окказионально, семантически потенциально или является гапаксом, встречается один раз). Это могли быть и слова с различием лишь в звучании, и такие различия возникали уже за пределами данного периода времени (это прежде всего относится к полногласным/неполногласным формам); и общеславянские по происхождению, но различающиеся словообразовательными элементами лексемы; и слова, заимствованные в данном регионе распространения общеславянского языка; и книжные заимствования, которые оказались употребительными именно в данной славянской среде; и общеславянские диалектизмы, в число которых обычно входили слова в узком бытовом значении (кажущийся русизм); и общеславянские лексемы, определенно не являвшиеся словами общеславянского происхождения (такие довольно часто указываются в этимологических словарях славянских языков). Учитывая все это, следует определить, что мы называем русизмом. В первом приближении условимся признавать за русизмы слова или некоторые их значения, отмеченные только в древнерусских оригинальных или переводных текстах. Это формальное ограничение является исходной базой последующих сопоставлений, в результате которых будет уточнено понятие русизма и определен круг известных нам древнерусских лексических и семантических русизмов. Здесь учитываются лишь те лексемы, которые были указаны хотя бы одним исследователем. И помимо таких русизмов существуют русизмы, не описанные даже на основе известных «Материалов» И. И. Срезневского или некоторых древнерусских текстов, или русизмы, отраженные в более позднее время, начиная с памятников XIV в., хотя и употребляемые только в границах восточнославянских говоров; ср. бросати ‘кинуть, бросить’ вместо общеслав. ‘тереть, касаться’; брага как заимствование из тюрк., веденица ‘законная жена’ и др. (Филин 1981:195); объективно это такие же древние русизмы, но только не попавшие по разным причинам в древнерусский текст. Здесь не обсуждаются и русизмы, выделяющиеся только формально (колодязь, городня, хоромы, полова, солома и др.). Укажем еще одно ограничение в описании материала. Было бы полезно представить все описываемые русизмы в их контекстах, которые чаще всего и отражают восточнославянское значение того или иного слова. Так, типично древнерусскими признаются выражения типа: въсѣсти на конь (Девг.) (при обычном для церковно- слав. всѣде на осля и пр.); въ тъ чинъ ‘в то время’ (ПВЛ, 1091 г.; Амарт.; Феод. Студ.); не дай Богъ (Юрод.) (вместо кальки с греч. в значении ‘не дал бы Бог’); думу думати (Сл. ОПИ и др.) (при обычном переводе с греч. разумѣти думу — Пч.); дѣлити на полы (Соломон); играти свадьбу (как в летописях, 1238 г., так и в переводах — Девг., Соломон); спять яко клубъ трепещюще (от холода) (Панд.) (именно сравнительный оборот типа аки в клубъ); святыя книгы вм. Писание (Никол. Мирлик.); косити сѣно (Соломон); ловы дѣяти ‘охотиться’ (ПВЛ, 975 г.; Девг.); на скупь ‘на соединение’ (ПВЛ, 946 г.); в натычь ‘в некую цель’ (Пч.); научитися грамотѣ (вм. книгам) (Индикопл.); царь перея славу ихъ (ПВЛ; Моисей); пота утирати как калька с греч. (Алекс.; ПВЛ, 1019 г.); прѣсный медъ (Акир) (в значении ‘свежий’); пустити кровь (Соломон); рябина ночь, сам третей и прочие выражения, в которых самъ выступает в значении ‘один(окий)’; урядити имѣния (Пч.; летописи) и т.д. Некоторые слова проявляют особенности значения именно и только в подобных специальных формулах, как, например, слово вѣсть, или каша, или квасъ: вѣсть слати (Девг.), кашу учини (Новг. лет., 1239 г.), горе квасъ гонящимъ (Панд.) (речь идет о кислом напитке, переводится греч. слово σίκερα). Подобный перечень слов и выражений, определенных исследователями в разное время как русизмы, необходим (хотя бы как справочный материал), это избавляет от подробных комментариев и разъяснений. Вся совокупность собранных по древнерусским текстам фактов, таким образом, распределяется по нескольким большим группам лексики, которые мы и рассмотрим.
2. Лексические русизмы — общеславянские по происхождению слова (встречаются во многих славянских языках)
Братаничь ‘сын брата’, бродити ‘переходить вброд’, бучити ‘печь, палить’, быль ‘вельможа’, вабити ‘привлекать, приглашать’, варъ ‘жар, зной’, воевода, возгри ‘сопли’, веверица ‘белка’, вече, гълъка ‘шум’, грохатати ‘хохотать’, гусли, дыня, дятьлъ, желудъкъ (с таким суффиксом слово встречается и в западнославянских языках), животъ ‘жизнь’, загадка, заутрокъ (и заутрокати) иноходь, кашель, клей, кликъ (и кликнути), кожюхъ, копытьца ‘род чулок (или обуви)’, корыто, кочанъ, кудрявый, кузньцъ, кутъ ‘угол (внутрь вогнутый)’, кыдати, лѣвица, милый, муха, неводъ, недѣля ‘седмица’, ораница (и орамица) ‘пашня’, острога ‘шпора’, перина, плугъ (и плугарь), пожаръ, покоръ (и покорение) ‘повиновение, подчинение’, полъсемы, полувътораи др. ‘пополам’, полѣно, пълсть (и пълстянъ) ‘войлок’, послухъ ‘свидетель’, прискочити ‘прибежать’, простъ ‘открыт’, пряженъ (жарен в масле), рота ‘клятва’, ротити(ся), руда (златая), рукавъ, рѣшето (и рѣшетьный), сабля, сватъ (и свататися ‘сговариваться’), свита ‘одежда’, своякъ, съпрѣтися ‘заспорить’, топор(ище), трѣска (или троска) ‘кол; щепка’, тынъ, уй ‘дядя по матери’, умникъ ‘умный человек’, хоботъ (в различных значениях), хоругъ (и хоружьникъ ‘знаменосец’), храбр(ость), цята ‘монета (обол)’, чаша, чемерь, чрѣда ‘стадо’, щеня — всего 72 слова, из них 10 заимствованных еще в праславянском языке (типа быль, сабля, топоръ, тынъ); многие не сохранились в современных русских говорах. По-видимому, отнесение их к числу русизмов основано на редкости употребления (и только в древнерусских источниках), а также на конкретности значения этих слов. К этому можно добавить еще 28 слов, которые лишь по своей форме могут считаться русизмами, тогда как по происхождению они несомненно являются праславянскими: блинъ вместо млинъ, болозѣ и болого ‘хорошо’, волога ‘жир’, ворожа (и ворожити), воропъ ‘натискъ, налет’ (наворопъ, наврапъ), колоколъ, корочюнъ ‘зимний солнцеворот’, оборона ‘осторожность’, огородьникъ, оже ‘что’, оли ‘вплоть до’, паволока, перегини ‘труднодоступное место’, перегъбъ ‘избоченившись’, перескокъ ‘перебежчик (предатель)’, перечесъ ‘чесотка’, плючъ, плюча ‘легкое’, поромъ, пороча ‘праща’ (ср. и порочникъ), посторонь ‘рядом, возле’, росполонь ‘разграбление’, селезень, стеречи, тяжа (тяжба), утрьнии ‘внутренний’, шершень, а также видокъ (не видьць) и конюхъ с таким именно суффиксом. И эта группа слов не вполне сохранилась в современном русском языке, несмотря на очевидно «русскую» фонетическую их форму; все это слова конкретного значения, обычные в бытовой сфере, преимущественно имена.
3. Лексические русизмы, соотносимые с южнославянскими памятниками
Ближика ‘родственник’ (Договор Олега, 911 г.), болѣзнь, боляринъ или бояринъ, брадъвь (в Панд., заимств. из древнегерм., в других переводах сѣчиво); врачь (ПВЛ, 1056 г.), вълѣсти и излѣсти вместо вънити, изити, ср. улѣзу ‘приду’ (Юрод.), вълхвъ ‘волшебник, колдун’ от влъснути, вячьший, вяще; гворъ (гъворъ) ‘пузырь; шишка’ (в переводах: Пч.; Амарт.), гребьць ‘лодочник’ (ПВЛ, 912 г., 1152 г.), гобино ‘изобилие’ из готского gabein ‘богатство’, гудьць ‘музыкант’ (Пч.); добытъкъ ‘имущество’ (соотносится семантически со значением ‘скот’; слово может быть общеславянским), дьячьць ‘чтец’, дьякъ ‘слуга’; жизнь (в значении ‘имущество’ только в некоторых древнерусских текстах); забрало ‘стена укрепления’ (Пч.), но отвлеченно-переносное значение ‘защита, опора’ лишь в церковнославянских памятниках (ср. забороло в некоторых собственно русских текстах, в том числе и летописных), зобница ‘мера сыпучих тел’ (но общеславянское значение ‘мешок, корзина’); испьрва (в других переводах искони — обычно в кирилло-мефодиевских), истръшити ‘израсходовать, истратить’ (очень часто встречается в переводах: Панд.; Феод. Студ. и пр.); каженикъ ‘скопец’ восточноболгарского происхождения, кормильць ‘воспитатель’, коровай ‘обрядовый пирог’, коснѣти ‘медлить’, костеръ ‘куча дров’, котора или котера ‘спор, ссора’ (явное заимствование: ср. др.-в.-нем. hadara ‘лоскут’ → ‘раздор’), также раскоторание (Пч.; Флав.; Индикопл. и др.) (замечено давно, что в тексте Сл. ОПИ первоначально употребленный там русизм котора средневековый переписчик либо заменил на слово крамола, либо, не поняв, соотнес его с местоимением которыя, что показывает раннее устранение этого русизма из книжной речи); мытьникъ (из герм., встречается уже в Правде Русской); наговорити ‘наклеветать’, недугъ, опи(и)ца, опыни, опичьскы ‘обезьяна’ (ср. др.-в.-нем. affo ‘обезьяна’); пастухъ в конкретном значении профессии явный русизм (ср. болгаризм пастырь), письмя в др.-рус. ‘картина’, ‘изображение’ (Новг. лет., 1260 г. и др., в старослав. и восточноболг. ‘буква’), ср. восточноболг. письмена при обычном для старослав. кънигы; подражати (и производные; ср. подъразити ‘подтолкнуть’ у Иг. Дан.) ‘следовать, подражать’ (ПВЛ, 955 г. и др.), поносъ ‘поношение, оскорбление’ (Ипат., 1187 г., и многие переводные тексты, исконное значение слова ‘движение’), поплошитися, пополошитися (Новг. лет., 1138 г.) ‘встревожиться’ (часто в переводах), порозъ ‘баран’, прибытъкъ, прослыти/прослути ‘прославиться’, пустити ‘послать’ (переносное значение ‘бросить, отпускать’ является уже чисто русским; ср. Новг. лет., 1210 г.; Дан. Заточн. и др.), пучина ‘бездонное море’ (в южнослав. просто ‘море’); рѣнь ‘отмель, песок’ (ПВЛ, 988 г.); стьркъ ‘белый журавль’ (из германского, в славянских языках слово обозначает лебедя или аиста), сорочька, столъ ‘престол’ (форма престолъ встречается уже в восточноболгарском по происхождению тексте 969 г. — см. ПВЛ, но это — не русизм), калька с греч. съвѣсть, заимствование из булгарского сынъ ‘башня’, а также грецизм теремъ (с переносом значения ‘дворец’ → ‘купол’; ср. ПВЛ, 945 г.; Ипат., 1115 г., и др.); тръскотъ (и троскотныи) с различием в значениях: ю.-слав. ‘трава’, др.-рус. ‘лес, дерево’; трупъ с переносным значением ‘пень, гнилое’ ‘мертвое (тело)’, ср. ПВЛ, 977 г.; тъкъмо; удоробь ‘вид посуды’, удѣвание, удѣнье; укъня ‘мера вместимости’; хлябь ‘бездна’, (по)хупатися ‘хватать(ся)’ (в южнославянских языках ‘стукнуть’, ‘кричать’ и другие значения слова); заимствование из готск. hansa ‘толпа’ слово хуса ‘набег’ (Амарт.), также хусити ‘грабить’ и хусарь ‘пират’ (Иг. Дан.), хусовати ‘разбойничать’ во многих переводах, ср. также др.-пол. chąsa ‘грабеж’; чесновитъкъ ‘чеснок’ — общеславянское слово, но не в такой форме; чинити ‘исполнить приказание’, позже — ‘починить’ как древнерусское значение слова при южнославянском ‘делать, совершать’; заимствование из др.-в.-нем. sida ‘шелк’ — шида ‘шелк’ (Инди- копл.); яр(уга) ‘овраг’, по-видимому, также заимствование из тюркских языков.
4. Лексические русизмы, соотносимые со словами западнославянских языков
Баня и производные (баньное, баньскъ, баньникъ и пр.) ‘источник (теплый)’, бессерменьский ‘магометанский’ (и многие производные: бесурменинъ, басурман и пр.); близокъ ‘родственник’, близочьство ‘родство’, блицы ‘грибы’, бохмитъ от имени собственного Махметъ, брехати ‘ругать, бранить’, бръня ‘панцирь’ и производные типа брънитьць, бръньнъ; ср. бронистый (овес) ‘колосистый’ в современных русских говорах; брюхо ‘живот’, также брюхатый, брюхачь (1018 г.); вазнь ‘счастье, удача’ (вазнивъ, вазньство и пр.) — этимологические связи с васнь ‘раздор’ неясны, но и это последнее слово известно только в восточных и западных славянских языках (старо- слав. васнь, скорее всего, другого происхождения; ср. Супр. ‘вероятно, может быть’), в древнерусском наложилось на вазь ‘влечение, страсть’ или связано с веду (показания разных этимологических словарей различаются); валъ ‘волна’ (Индикопл.), вариво, вдодъ ‘удод’ (Физиол.), велет(ень) или волот ‘великан’ (но и в южнославянских переводах влатъ), велми и производные с этим корнем (велегласный, велехвала, вельдушь и пр.) считается западно- и восточнославянским словом; выклонитися ‘высунуться’, выступити — в западнославянском уже в переносном значении ‘отклоняться (отходить от воли)’, выя как моравизм при восточноболг. шия, в древнерусском второе встречается чаще; вѣно ‘плата за невесту’, вѣхъть ‘тряпка, клок сена’ (ПВЛ, 1071 г.); гораздъ ‘искусный’ (Ипат., 1137 г.), в древнечешском и польском то же значение — заимствовано из герм. (‘речистый’, т.е. ‘умный’ — вообще ‘способный’), готовизна ‘запасы’ (Ипат., 1146 г.), из готского слова со значением ‘действовать’, гробъ ‘надгробный памятник’ в соответствии с лат. монумент (ПВЛ, 945 г.) только у восточных и западных славян, у остальных славян в исконном значении ‘яма → могила’; гумьньце ‘тонзура’ (Ипат., 1148 г.); доброписьць ‘каллиграф’ как богемизм в древнейших переводах, доместикъ ‘старший на клиросе’ (1136 г.) из лат. domesticus ‘домашний’, (у)досити ‘найти, встретить’ (ср. рус. диал. досеяться ‘случиться’), древле ‘некогда’ как моравизм по сравнению с восточноболг. прѣжде (пьрвѣе), в древнерусском преобладает именно древле, историками и этимологами связываемое с западнославянскими языками; дружити ‘быть дружкой’ (Амарт.), дрьколи как моравизм при восточноболг. жръди, дьртица ‘дранка’ (984 г.), дѣдъ ‘праотец’, но только восточные и западные славяне употребляют в значении ‘предки’; жаворонъкъ; жид(овин)ъ, жидовьскъ как моравизм при восточноболг. еврѣи (1175 г.), ср. лат. judaeus; завор(а) ‘засов’ во многих переводах (Амарт.; Малала; Панд.), встречается также и в Супр. (восточноболг. памятник XI в.); законъ ‘завет, соглашение’, в таком значении и в западнославянских памятниках, но также и Супр., хотя в южнославянских — ‘обычай, закон’, заповѣдь, заступъ ‘(воинский) отряд’ (ПВЛ, 1097 г.; многие переводы); в других славянских языках ‘заступник, защитник’; зозуля, ср. зегзица ‘кукушка’; земьць ‘крестьянин’ (ср. и туземьць в XI в.); зубръ; зьркало (не зрьцало); изволити ‘выбрать, предпочесть’ (ПВЛ, 955 г., и многие другие источники), в южнославянских памятниках — ‘пожелать’; изрядити ‘предпринять (поход), распорядиться’ (ПВЛ, 947 г.) (все славянские языки имеют значение ‘расположить по порядку, устроить’), также и слово нарядити во многих значениях: ‘распорядиться’ (ПВЛ, 1054 г.), ‘устроить, привести в порядок’ (Панд. и пр.); искони во всех значениях признается моравизмом (при восточноболг. испьрва); испоротъкъ ‘недоносок, выпороток’ (ср. Амарт. ‘выкидыш’), истина ‘капитал’ (исконное значение ‘правда’); капуста (у западных славян из латинского); квѣлити ‘сердить, доводить до слез’, ср. и цвѣлити, цвилити ‘плакать’, в переносном значении ‘рыдать, причитать’ употребляется только в древнерусских и западнославянских источниках (при исконном значении ‘стегать, хлестать’, ‘обижаться, мучиться’; в русских говорах сохраняются оба значения слова); кисть перен. как ‘горсть’; клюдити ‘говорить’ (Алекс.), но и ‘убеждать’ (там же), однако переносное значение ‘бранить, ворчать’ употребляется лишь в русском и западнославянском (ср. гот. hlutis ‘чистый, прозрачный’ с клюдь ‘порядок, приличие, красота’); кметъ ‘удалец, витязь’ (только древнерусские памятники), но в том же значении знают слово и западнославянские источники; в других славянских языках слово имеет значение ‘старейшина, староста’ (заимствовано из греч. или лат. comitis ‘спутник’); кокотъ ‘петух’; комоница ‘(породистая) кобылица’ (ПВЛ, 969 г.), и в западнославянском, и в украинском одинаково архаичное слово, русизмом считают многие, как слово комонь (Феод. Студ.); коробъ ‘ящик; ларь’ (Новг. лет., 1155 г.) или ‘хлебная мера’ (там же, 1228 г.), во всех значениях только в западных и восточных славянских языках (ср. др.-в.-нем. korb ‘корзина’); кра ‘льдина’ (Ипат., 1135 г.); ср. в Амарт. в значении ‘отрезок, кусок’; крамола как литературное церковнославянское слово из др.- в.-нем. karmala ‘мятеж’, в этом значении признается моравизмом; крамольникъ того же происхождения; (съ)кърчитися в перен. значении ‘съежиться’, восходящем к основному значению ‘очистить, раскорчевать’ (Юрод.; Никол. Мирлик); лавица ‘лавка’ в очень многих источниках, в том числе и переводных, в значении ‘место (заседаний, торговли и пр.)’, в севернорусских с XV в.; ладити (гусли) ‘настраивать’ (Пч.; чешские примеры); ладенъ ‘равен’ (Юрод.; Индикопл.; в древнечешском в значении ‘согласен’), ср. ладьно ‘ровно’ (Флав.); лазьня ‘баня’; лальное (блюдо ‘рубиновое’ из тюрк.); лапь ‘еще, более; больше не’ (Флав.; Есфирь), также оригинальные древнерусские памятники (Иг. Дан.), с некоторым отличием в значении в чешск. lap ‘тотчас’, ‘быстро’ (также в польских говорах); лось (1106 г.); лохань, лоханя очень часто, также в чешском и польском заимствование из греч. λακάνη ‘миска, таз’; луда ‘род (верхней) одежды, плащ’ (ПВЛ, 1024, 1074 гг.), ср. др.-сканд. lodi ‘плащ, грубая ткань’; лупити ‘грабить’ (Новг. лет., 1204 г.; Ипат., 1146 г.) при исконном значении слова в чешском и польском (‘шелушить, очищать’); ср. в Пч. в значении ‘сдернуть (ризу)’; лутовянъ ‘лыковый’, как русизм в Дан. Заточи., но лут ‘лыко’ лишь в западнославянских языках; льгота ‘облегчение (освобождение от подати)’ (ПВЛ, 1093 г.), лишь в западнославянском — в архаических текстах (прочие значения слова могут быть общеславянскими); людинъ ‘простолюдин («деревенщина»)’ (Правда Русская), также в западнославянских, в старославянском ‘мирянин’, в южнославянских языках сохраняет значение ‘(крепкий) человек’; лютъ ‘беда’ рассматривается как богемизм, поскольку и встречается в древних западнославянских текстах и переводах, возможны и оттенки значения (как ‘бедствие’ в Амарт. — переносное значение от греч. χειμών ‘стужа’), в последовательном развитии семантики слова наиболее древнее значение отмечается в южнославянских языках (‘твердость, крепость; стужа’), затем в древнерусском и западнославянских (‘свирепость, злость’, понимаемые как ‘беда, зло’); ср. современные русские и украинские диалекты: и ‘жестокий мороз, стужа’ и ‘беда’, самое отвлеченное значение слова отмечается в старославянском (‘зло, вред’), ср. также улютати; малъжена ‘супружеская пара’ (1136 г., многие переводы Древней Руси) (предполагается заимствование через польский, отчасти и калькирование др.-в.-нем. слова); маменъ ‘ленив, вялый’ (Феод. Студ.), ср. рус. мямля с западнослав. mamlas ‘олух, болван’; мастеръ ‘ремесленник; сведущий человек’ (ПВЛ, 968 г.), исконное значение этого заимствования из латинского ‘магистр (ордена)’, ‘глава, начальник’ (см. Смоленск. гр. 1229 г.); могутный ‘могучий, сильный’ (впоследствии много производных, но западно- и восточнославянские связи отрицают наличие переносного значения (как в старославянском) ‘вельможа, господин’, мотыка (это слово может быть и общеславянским), мукарь ‘мучитель, тиран’ (Амарт.), мълва в семантическом развитии от старославянского ‘шум, смятение’ (из ‘бормотание’, сохранилось это значение в южнославянских языках), но значение речи (говор людей) лишь в западно- и восточнославянских языках; мълвити ‘порицать, бранить’ (Амарт.; Пч.) как переносное значение от древнерусского ‘поговорить (с кем-либо)’; ср. также и приставочные, каждое из которых сохраняет одно из переносных (новых) значений глагольного корня: намлъвити ‘оклеветать’ (Амарт.), умолвити ‘бунтовать’ (там же), съмълвитися ‘сговариваться’ (там же), ‘говорить согласно’ (Малала; Пск. судн. гр.), но все такие значения связывают с западнославянскими языками; нагло ‘внезапно, неожиданно’ (переносное значение ‘бесстыдно’ известно с XVI в.), из общеславянского значения ‘быстро’; налогъ ‘утеснение, тяжкое состояние’ (Ипат., 1146 г.) при западнославянском ‘тяжесть, напор, натиск’; налазити, налѣзти ‘найти’, ‘встретить на пути’ (ПВЛ, 964 г.), часто в переводных текстах (Индикопл., Юрод.) из общеславянского ‘пойти’ (ср. также в значении ‘добыть’ Новг. лет., 854 г.), параллели только в западнославянских источниках; напрасно ‘внезапно, неожиданно’ как связанное со значениями этого общеславянского слова в западнославянских языках; нарѣкание ‘упрек, жалоба’ (Есфирь) как семантический русизм при общеславянском значении ‘наименование, наказ’; нарекати и нарицати ‘именовать’ как моравизм при восточноболг. прозъвати; наузъ ‘узелок, амулет’ (во многих переводных текстах), сохранилось лишь в русских и польских говорах, в древнерусском много производных; сюда же приуз(а) ‘магический узел’ (Амарт.) при старославянском значении ‘связь, союз’; небог(а) ‘убогий, бедный’ (Новг. лет., 1230 г.), восточнославянское соотносится только с польским; неприязнь ‘дьявол, враг’ как моравизм в древнерусском, в котором много своих производных, — может быть, калька с готского, которая попала и в первый перевод Евангелия (позднее заменилось словом лукавъ), нестудие ‘наглость’ (Амарт.) при древнечешском эквиваленте; нѣмьцъ (ПВЛ, 987 г.), ср. в Пч., где barbaros переводится и словом «вражий», и общеславянское значение ‘чужестранец’ еще только в западнославянских языках сужается до значения ‘германец’; образьникъ ‘историк’ (Амарт.) — только восточнославянские говоры и чешский язык; обѣдъ ‘литургия’ (Феод. Студ.; Панд.) при общеславянском значении ‘общий стол’ (в древнерусском основное значение ‘главная дневная еда’, в отличие от завтрака и ужина); огнищанинъ ‘старший дружинник’ от общеслав. огнище (Правда Русская; Новг. лет., 1166 г.), ср. древнечешск. ohniscenin ‘свободный человек’; окаянъ с переносом значения ‘жалкий, несчастный’ → ‘грешный, низкий’ (ср.: Святополк Окаянный: ПВЛ, 1015 г.) связывается только с древнечешским; окъньце в древнерусском и древнечешском, в южнославянском с таким значением слова нет; окорокы пресѣкая ‘выдергивать ноги’ (Амарт.) как моравизм отмечают все исследователи; омракъ ‘тьма, туча’ (Юрод.; в русских текстах 1336 г.), ср. омрачны, также рус. обморок; омрачати(ся), омрачити в переносных значениях как ‘испугать, встревожить’ (Амарт.), ‘отяготить’ (Нестор — по Усп. сб.; Сказ. о Бор. и Гл.), ‘опечалиться’ (Новг. лет.); омрачный ‘темный, мрачный’ (Лавр. лет., 1206 г.) и примрачный (Амарт.; перен. ‘греховный’) соотносится с западнославянским; опона и запона ‘полотно, покрывало’ (ПВЛ, 980, 986 гг.; Ипат., 1149 г.) при восточноболг. завѣса, первоначально заимствование катапетазма (в церковнославянском запона ‘препятствие’), опона ‘шип’, ср. еще попона ‘завеса’ (Индикопл.); орь ‘жеребец’ (Амарт.; Акир и др.), только в русских диалектах, польском и чешском языках признается моравизмом; осада (ПВЛ, 946 г.; Амарт.); отрокъ ‘работник, слуга’, ‘младший дружинник’ (ПВЛ, 945 г.; также Правда Русская) во многих переводах, те же значения и в западнославянских при общеславянском ‘подросток, ребенок’; охвота ‘радость’ (и охвотьнъ ‘радостен’ — в Есфирь, тут еще уохвотитися), то же в западнославянских (со значением ‘желание, стремление’ слово известно с XVI в.); оходъ ‘задний проход’ (ПВЛ, 986 г.; Амарт. и др.) — моравизм в отличие от восточноболгарского проходъ; пазъ ‘дощатая стена’ как заимствование из др.-в.-нем. fah ‘ограда, стена’ известно еще западнославянским языкам и словенскому; паробъкъ ‘раб, молодой слуга; парень’ (ПВЛ, 1175 г.) кроме украинского известно и в западнославянских языках; пастырь как моравизм при восточноболг. пастухъ (из лат. pastorem); пасынъкъ (Новг. лет.) — кроме русского известно древнечешскому и польскому; пирогъ ‘пшеничный хлеб’ (Устав Студ.) также в западнославянском; пирянинъ ‘участник пира, сотрапезник’ (Пч.) также в западнославянском; пискати ‘играть (пищать) на свирели’ как производное от ‘свистеть, визжать’ было только древнерусским; пискупъ ‘епископ’ как моравизм; плътъ ‘паром, плавучий помост’ (Флав.) при общеславянском ‘ограда, забор’ только в восточнославянском и западнославянском (и слово плотникъ — Новг. лет., Флав.); повозникъ ‘возница’ (ПВЛ), ‘погонщик’ (Юрод.), повозьный ‘глашатай, полицейский’ (Амарт.) определенный моравизм и русизм; поганый ‘язычник’ из лат. paganus в древнерусский попало из западнославянских; подъпѣга ‘разведенная’ сопоставляется только со старочешским и старопольским; покладъ ‘завещание’; попещися ‘позаботиться’ связано с западнославянским; порода — западнославянская параллель к южнославянскому рай (из греч. παράδεισος); потручати(ся) ‘ударять’ сопоставляется с польским; прабошьни ‘босоножки’ (ПВЛ, 1074 г.) — параллели в западнославянских источниках; правый ‘десный’ (в старославянском ‘прямой; правильный’) — с западнославянским; прѣложити ‘перевести (книги)’ как моравизм при восточноболг. протлъковати и др.-рус. прекладати, прѣвести; пригасити — перен. ‘иссякать, устранять’ (Амарт.) как моравизм в древнерусском (общеславянское значение слова ‘гасить, тушить’); приладитися ‘приравняться’ (Индикопл.) сопоставляют с польским; примостъ ‘помост, лестница’ (Амарт.; летописи) — параллели только в чешском; пристроити ‘устроить, украсить’ и другие значения только в русском языке, но также ‘снарядить войско’ (Флав.; Амарт.; ПВЛ), что находит соответствия только в польском; пристроя ‘снаряжение; приготовление’ (Амарт.; Панд.; ПВЛ, 1089 г.) при чеш. pristroj ‘прибор’; просьба ‘прошение’ (при общеславянском значении ‘мольба’), ср. Есфирь и примеры из западнославянских памятников; прясло ‘звено изгороди’ (Феод. Студ.), в этом значении лишь древнерусское и западнославянское; старославянское имеет значение ‘ссора’ с перен. ‘судебная тяжба’, в таком значении обычно в древнерусских памятниках, переписанных с западнославянских переводов, в древнерусских — глоссы (ср. в Пч., л. 294: «тяжу имам, рцы прю»); птаха (Физиол.) — русизмом признавал А. И. Соболевский (1980: 143), но это, скорее, моравизм, поскольку для древнерусских источников характерен вариант пътъка; пуща ‘бор, глухой лес’; пѣстунъ (Есфирь) ‘воспитатель’, кроме западнославянского также словен. pestun; пѣствовати ‘наказывать, поучать’ (Есфирь) связано с западнославянским; пятно ‘клеймо (знак)’ (Девг.) — также; разноличь(ный) ‘пестрый, красочный, расписной’ (ПВЛ, 969 г.; Индикопл.; Флав.; Есфирь; Панд.; Пч. и др.), русизмом признают все исследователи, касавшиеся этого слова; разрядити ‘распределить’ как семантический русизм (Амарт.; Ипат., 1253), тогда как в западнославянском общее для славян исходное значение ‘разбавить, развести’; рамяно ‘сильно, весьма’ (Амарт.; Флав.; ПВЛ, 1091 г.), также ‘скоро, быстро, стремительно’ (Амарт.), связано только с западнославянскими источниками; розквелити (и росквелити) ‘опечалить, огорчить’ как переносное значение от ‘затронуть, коснуться’ (ср. и польск.); рачити ‘любить, заботиться’ (от исходного значения ‘хотеть; изготовлять’ как особенность моравских ранних переводов (ср. еще рачение); ролье ‘пашня’ (ПВЛ, 1103 г.; Пч.); рюм(а) ‘падучая (эпилепсия)’ (Амарт.), в западнославянских источниках из греч. ρευμα ‘напор’, ‘извержение’; рощение ‘роща, лес’ (ПВЛ, 969 г.), предполагают связь с западнославянскими; (въ)рютити(ся) ‘ввергать в пучину (моря)’ (Амарт.); серенъ ‘наст’ (Ипат., 1185, 1250 гг.) и в западнославянских (в значении ‘изморозь’); ситие ‘камышь, тростник’ (Амарт.) — моравизм, ср. и ситникъ ‘корзина (из тростника)’, что иногда признают русизмом в переводах апокрифических книг, хотя этимологи склонны считать два последних слова общеславянскими (впрочем, примеры приводят только из древнепольского; см.: Фасмер, т. 3, с. 620); скрипание ‘скрип’ (Ипат., 1240 г.; Амарт.), ср. скрипати (Юрод.) и в древнечешском языке; смага ‘тоска, горе’ (перен. от ‘огонь, ожог, зной’ — не тольков древнерусском, но в том же значении и в западнославянских); съчънути(ся) ‘опомниться’ (Ипат., 1144 г.), в западнославянских языках ‘очутиться’; староста ‘начальник’ (Юрод.; Есфирь), в этом же значении и в западнославянских языках; сочити ‘искать’, также насочити ‘найти’, осочити ‘найти’ (во многих древнерусских переводах), все славянские языки знают это слово, но специфическим оно было в древнерусском и старопольском (в том числе и по обилию производных, ср. в Флав.: сочьба ‘донос’, сочити ‘доносить’, расочьникъ ‘лазутчик’, расочьство ‘подслушивание’ и пр.); спудъ ‘сосуд’, ‘хлебная мера’ (Панд. и др.); струмень ‘струя’, ‘поток’ также связано лишь с западнославянским; стръи ‘дядя (по отцу)’ (Есфирь) во всех славянских языках и в различной форме, но близкие к древнерусской — в польском; сума (Устав Студ.) из др.-в.-нем. soum ‘вьюк’ через польское посредство; сустуга ‘(металлическая) застежка’ (ПВЛ, 946 г.) в формах въстуга, устуга считают моравизмом, с чем не все ученые согласны; събожие ‘зерно, хлеб’ с переносом значения в ‘достаток, имущество’ в западных и восточных славянских языках; съступъ ‘схватка’ (Ипат., 1111 г.; Амарт.), ср. чешск. sestup ‘спуск’; съступитися (ПВЛ; Амарт.) в значении ‘сойтись для боя’ известно и чешскому; сѣни как ‘помещение (передняя, зал)’ не только в древнерусском (Амарт.), но и в западнославянских языках; тоземьцъ ‘туземец’ (Ипат., 1259 г.) и многие переводы, может быть, и в значении ‘иноземец’ (ср. Иг. Дан.); трьпястъкъ ‘обезьяна’ (из значения ‘карлик’, известного западнославянским источникам) — в очень многих переводах; уборъкъ ‘мера пшена’ (Правда Русская) и в западнославянских, может быть, из др.-в.-нем. *ambar-; узгъ ‘кипяток’ (Панд.; в другом переводе текста описательно тепла вода), слово известно всем славянским языкам, но в таком значении только в западнославянском; уломъкъ ‘обломок’ (Амарт.) — в таком значении — богемизм при восточноболг. укрухъ (эквивалент в тех же текстах); улютати ‘горевать’ (Амарт.; встречается у КТур.), перен. от улютити(ся) (Феод. Студ.) ‘разгневаться; повредить’ признается моравизмом; урокъ ‘порция’ (Правда Русская, Устав Студ.) и западнославянское значение же ‘уговор, условие’ может быть и общеславянским; устравиться) ‘выздороветь, поправиться’ (Пч.; Флав.; Панд.; Феод. Студ.) явно западнославянского происхождения; охабити(ся) ‘ослабеть’ как перен. от ‘портить’ (ср. похабство), моравизм в переводах (Амарт.; Феод. Студ. и др.); хапати ‘обхватить, обнять’ (ПВЛ, 986 г.), перен. от ‘хватать, кусать’ — переносное значение еще только западнославянское, признается семантическим моравизмом; хворати ‘болеть’ как параллель к западнославянскому; хвостъ (ПВЛ, 988 г.; многие переводы) из исходного значения ‘бахрома’ во всех западнославянских языках, в других источниках как вариант опашь, ошабъ ‘хвост’ и пр. (широко распространены и производные: звѣзда хвостатая — Индикопл. и другие древнерусские переводы); холопъ ‘раб, слуга’ в форме хлапъ чаще (ПВЛ, 969 г.), признается моравизмом при наличии русской полногласной формы (напр., в Амарт., холопичищъ — Флав. и др.); шатьръ как возможное общеславянское заимствование из персидского (Фасмер, т. 4, с. 413), но в древнерусском связано с текстами западнославянского происхождения; щепъка (Флав.), щеплъка, ср. щепы (1237 г.) и в западнославянском (в южнославянском трѣска и пр.); ядры, ядро ‘скоро’ — моравизм при русском скоро (Панд. и др.); язва ‘рана’ как переносное значение в древнерусском и западнославянском из исходного ‘пещера, дыра’. В этой группе из 183 слов 99 не сохранились в современном русском литературном языке, а из остальных многие изменили свое значение. Из тех слов, которые по традиции признавали за русизмы, явно различаются три группы лексики: известные только восточнославянским языкам или их диалектам исконно славянские слова в исходном для них значении (п. 5), или заимствованные в восточнославянской области (п.6), а также те русизмы, которые уже в древнерусский период изменили свое значение (п. 7), — семантические русизмы.
5. Исконные славянские слова, сохранившиеся только в восточнославянских языках
Ать ‘пусть’ (Есфирь); балагур(ити), бьбрянъ ‘шелковый’ (Акир.; Флав.), блядня ‘распутство’ (Дан. Заточн.), больница (при монастыре) (Устав Влад.; Панд.), бредникъ ‘бредень’ (Уст. гр. Смол.), бѣлка; ѳереская ‘пронзительно крича’ (Панд.; но все славянские языки дают вереск ‘крик, вопль’; ср. Фасмер, т. 1, с. 296-297); вилять ‘вильнуть’, вира ‘плата за убийство’ (ПВЛ, 1096 г.), висѣлица, в народно-разговорном варианте висѣлина в летописи 1211 г. (см. Сл. ХІ-XVII вв., 2, 189); вотола ‘грубая ткань; одежда из нее’ и многие производные (ПВЛ, 1071 г.; Печ. Патерик), вощага ‘плеть’ (Амарт.); възводье ‘против течения’ (Новг. лет., 1176 г.), върекатися ‘обещать, обязать(ся)’ (Правда Русская; Ипат., 1150 г.), ср. диал. рус. зарекаться; въскрутитися ‘свивать(ся), одеться’ (Новг. лет., 1137 г.), также крутити ‘(c)наряжаться’, въстраплятися ‘обличать’ (Панд.), въсхытити ‘похитить, пограбить’ (Амарт.; Девг.), вьшанинъ ‘деревенский житель’ от вьсь ‘село’ (Флав.; Алекс.), вълмина ‘ивняк’ (грамота 1192 г.), вълягомо(и) ‘поздно вечером’ (когда ложатся спать); ср. Ипат., 1146, 1152 гг.; вымчати ‘выбросить, унести’ (ПВЛ, 986 г.), вынити ‘выйти’, ‘высунуться’ (Амарт.; Есфирь; Флав.; Пч.), выньзити ‘вынуть из ножен’ (Правда Русская; ПВЛ, 995, 1015 гг.; Амарт.); выручити ‘освободить из беды’, ‘выкупить’ (Ипат., 1154 г.); выступити ‘выйти’ (ПВЛ, 992 г.) → ‘переступить, нарушить’; вѣдуния, вѣдунъ (Амарт.) ‘знахарь, колдун’ (летопись 1227 г.); вязебникъ ‘окутанный (укрытый)’ (Феод. Студ.), вязебное ‘пошлина на арест’ (Правда Русская ‘повязали’); гребля, гробля ‘ров, вал, плотина’ (ПВЛ, 977 г.; Новг. лет., 1158 г.), груздь ‘сорт гриба’, груница ‘грунь, рысь’; ср. грунью ‘бег рысью’ (Влад. Мономах; Юрод.), на грунахъ ‘на рысях’ (ПВЛ, 1177 г.), гълькъ ‘глечник’ (Панд.; Юрод.), гършькъ ‘горшочек’, уменьшит. от горнец (Юрод. и др.); деревня (ПВЛ, 1096 г.), дерязивъ ‘вздорный, дерзкий’ (о рабе) (Панд.), позже возникла форма деряживый; дерюга ‘грубый холст’ (Дан. Заточн.), дешевъ (Новг. лет., 1331 г.; Панд.); дивья ‘хорошо’ (Дан. Заточн.; Юрод.); дъмати ‘дуть (о ветре)’ (Флав.; Физиол.); доспѣти ‘сделать’ (Ипат., 1175 г.; Панд.), перен. от основного значения ‘дойти, достичь’; доспѣхъ ‘вооружение’ (Устав Студ., в оригинальных древнерусских источниках позже); думница, ср. въ думници глаголати (Пч.) — соответствует греческому выражению со значением ‘ораторствовать в совете’; думьца ‘советник’ (Дан. Заточн.; Пч.; Флав. — в последнем также съдумникъ для того же греч. σύμβουλος — точная калька); дьнешьнии ‘внутренний’ (Флав.; Есфирь) и ‘сегодняшний’ (Есфирь), тогда как значение ‘современный’ отмечается в памятниках начиная с XVI в.; дѣтиньць ‘кремль’ (Флав.; Есфирь и др.), в других славянских языках иные значения слова; ерш ‘зазубренный гвоздь’, но примеры только с XV в.; жадати ‘жаждать, желать’ (также жадание и другие производные); жаль ‘гроб’ (ср. также жальникъ ‘могильный холм’ в Стоглаве 1551 г.); желаньникъ ‘любимец, друг’ (Панд.; в другом переводе этого текста — любленикъ), желя ‘печаль, скорбь’ (Есфирь), жля (Сл. ОПИ), жидовитися ‘обращаться в иудейство’ (Есфирь), жирява ‘существование (на земле)’ (Юрод.), жюковина ‘перстень с камнями’ (Амарт., Девг. и др.); заганивати ‘осуждать, бранить’ (Пск. лет., 1503 г.); задьница ‘наследство’ (Правда Русская; Устав Влад.; Ипат., 1146 г.; Юрод.), зажитье ‘пожитки’ (Ипат., 1159 г.; Новг. лет., 1216 г.); закупъ ‘наемник’ (Правда Русская), запросъ ‘что просят’ (в Новг. лет., 1335 г., значение ‘особая подать’), заразити ‘поразить, убить’ (в летописи 1275 г.: Сл. ХІ-ХVІІ вв., 5, 285), зватай ‘слуга, посыльный’ (Пч.; летопись 1269 г.), зеремя, зеремено ‘место обитания бобров’, примеры с 1437 г., но наличие слова во всех восточнославянских языках указывает на его древность; знатьба ‘(при)знак, след’ (Новг. лет., 1143 г.), зобь ‘(сыпучий) корм’ (Феод. Студ.); исадъ ‘пристань, рыболовные угодья’ (Ипат., 1182 г.), исклачивати, исклочити(ся) ‘расточить, издержать(ся)’, отсюда склока (Флав.; Пч.); капань или копань ‘канава у водоема’ (Девг.); клюшникъ (ключьникъ, ключьница) — ср. ПВЛ, 970 г. (слово только древнерусское); кнѣсъ ‘балка под крышей’ (Сл. ОПИ); кожанъ ‘нетопырь’; коромыс(ь)лъ(о) как русизм во всех этимологических словарях; кошька (при общеслав. котъка); кри, крей ‘подле, около’ (перен. от общеслав. ‘обрез’), кривозорокъ ‘кривоглаз’ (Дан. Заточн.), круживо (Ипат., 1252 г.), крупичянъ ‘мука тончайшего помола’ (КТур.; в некоторых переводах), крьнути ‘приобрести, купить’ (ПВЛ, 945 г.; Правда Русская, в Панд. в значениях ‘заплатить’ и ‘украсть’), кустъ (Сл. ОПИ); кутьникъ ‘ведающий монастырской трапезой’ (Устав Студ. и другие переводы, со многими производными от этого корня: подъкутьникъ, подъкутъ, кутьница и пр.); ладонь (Алекс.; Юрод.; Флав. при современном рус. диал. долонь, старослав. длань); лапъть(никъ) (ПВЛ, 985 г.), лептугъ ‘пурпур’ (также лептужина — Есфирь), липье ‘липняк’ (Дан. Заточн.), лише ‘только’ (от лихъ) — например, в «Житии Феодосия» Нестора — по Усп. сб.; логъ ‘ложбина’ (Новг. гр. 1146 г.), лыч(е)ница ‘лапоть’ (Дан. Заточн.), лѣпъкъ ‘мареник (ясменник)’ (ПВЛ, 1074 г.), во всех славянских языках так называется различный цветок; лѣчьць (Правда Русская; Устав Влад.; Пч.; Юрод. при моравизме балии и вост.-болг. врачь); любостпрадьна бъчела ‘трудолюбивая’ (Пч.; Феод. Студ.) — калька с греческого и книжное слово; многоимьць ‘богач’ (Девг.); мовьница ‘баня’ (ПВЛ, 945 г.) и мовьня (ПВЛ, 907, 945 гг.; Амарт.; другие переводные тексты), мовь также признается только древнерусским (Фасмер, 2, 634); моклокъ ‘мосол’ (Дан. Заточн.); молиць ‘источенная мякоть дерева’ (Новг. лет., 1128 г.); мордати, мредати ‘кривляться, гримасничать’ (ср. и помордати) (Юрод.), морда как заимствование из иранского отмечается только у восточных славян; морянинъ ‘мореплаватель’, мошьница перен. ‘кошелек’ (Юрод.), общеславянское слово с другим значением; мъвьный ‘относящийся к мытью’ (Устав Студ.), мывь, мъва ‘мытье’ (там же); мясникъ (Юрод.; в летописи отражено с XV в.); наволокъ ‘заливной луг’ (грамота 1350 г.); наимитъ ‘наемник’ (Правда Русская; Новг. лет., 1128 г.; многие переводы); наколѣнъкъ, наколѣнникъ ‘часть воинского доспеха’ (Девг.); накладъ ‘проценты с реза’ (Правда Русская); накупъ ‘подкуп’ (Амарт.), в церковнославянском въкупъ; наложьница (ПВЛ, 980 г.; переводы), наногъва ‘одежда’ (Устав Студ.), нарядити ‘расставить, разметить’ (ПВЛ, 1096 г.), ‘распорядиться’ (ПВЛ, 1097 г.), ‘снарядить’ (ПВЛ, 1151 г.), ‘послать’ (ПВЛ, 1189 г.) и т.д., множество значений у других производных от этого корня (върядити, изрядити, отрядити, сърядити, урядити), все они являются древнерусскими; насадъ ‘вид судна’ (Новг. лет., 1015 г.; Индикопл.); настъ (примеры с 1582 г.), неговорливъ ‘скромник’ (Амарт.), негодование ‘непристойность’, ‘отвращение’ (Амарт.; также Иларион); некошьное ‘преисподняя’ с переносом значения ‘черт, леший’, ср. окошьное, некощное (Новг. лет., 989 г.), совр. рус. рос-кошь; нелюбие ‘раздор, вражда’ (Новг. лет., 1270 г.); неурядивий ‘не оставивший завещания, распоряжения’ (Пч.), ср. неурядъ ‘отсутствие порядка’, ножикъ (Феод. Студ.); нѣтъ, нѣту(ть) (Правда Русская, старослав. нѣсть); (о)болонье ‘низменное поречье’ (ПВЛ, 1096 г.); обрътъ ‘узда’ (в памятниках с XIV в.); обрубъ ‘округ’ (Пск. лет., 1431 г.); огърнути ‘окружить’, ‘отвернуть’ (Ипат., 1147 г.), одвьрие ‘притолока’ (ПВЛ, 1175 г.; Амарт.), одьрьнь ‘сполна, совершенно’ (Новг. лет., 1215 г.), одиночьство ‘уединение’ (старослав. единачьство) (Влад. Мономах); ср. одиначьство ‘согласие, союз’ (Новг. лет., 1348 г.), ожиритися ‘разбогатеть’ (см. жирява), олѣкъ ‘верхняя часть борти’ (Правда Русская; старослав. отълѣкъ ‘остаток’), омутъ (в переводах апокрифов), онъсии ‘вот этот’ (отсюда онсица в Изб. 1076), ср. ПВЛ, 1076 г.; опашень ‘верхняя одежда’ (грамота 1358 г. — Сл. XI- XVII вв., вып. 13, с. 11); ср. опашь ‘хвост’; осока в древнерусских памятниках довольно поздно, отьнь вместо отьчии (Правда Русская; и дѣдьнь); падъчерица (отмечается в Ряз. Кормч. 1284 г.); перевѣтъ ‘засада; донос’ (ПВЛ, 1187 г.; Флав.); перечина ‘перекор, противоречие’ (в памятниках с 1407 г.); повѣчь (Устав Студ.), погостъ (ПВЛ, 947 г.), погребъ ‘темница’ (ПВЛ, 1076 г.), ‘кладовая’ (грамота 1136 г.); подъвоити (Устав Студ.), пожаловати ‘пожалеть’ (значение слова, свойственное церковнославянским памятникам) и ‘наградить, почтить’ (Влад. Мономах, Девг.); пожьня ‘сенокос, луг’ (грамоты 1148, 1192 гг.); покладъ ‘наследство’ (Адарьян); поклепъ ‘бездоказательное обвинение’ → ‘клевета’ (Правда Русская; КТур.; ср. поклепати — Флав.); пологый ‘покатый’ (Иг. Дан.; Лавр. лет., 1207 г.); порубъ ‘темница’ (ПВЛ, 1036 г.), поругъ ‘грубость, наглость’ (Пч.), в древнерусских текстах моравского происхождения в значении ‘оскорбление, порицание’ с переходом значения в ‘стыд, позор’ (Ипат., 1208 г.); посадникъ (ПВЛ, 977 г.; Панд.) (и производные только в древнерусском, но в польском сохраняется posadnik ‘kmit’); поскочити ‘броситься вперед’ с перен. ‘обратиться в бегство’ (ПВЛ, 968 г.; Акир), потеряти ‘погубить, разорить’ (Правда Русская), потяти ‘ударить → убить’ (Правда Русская; летописи; Флав.), ср. потятие ‘смертная казнь’; (ис)пъртити ‘потерять’ (Правда Русская; Пч.), запъртить (Грам. кн. Всевол.; Акир), пършьни ‘обувь из сыромятной кожи’ (ПВЛ, 1074 г.), пътъка ‘птица’ (Устав Влад.; Дан. Заточн.; Ипат., 1175 г.), в старославянском только пътищь, пътица; поѣздъ ‘поездка, поход’ (ПВЛ, 1169 г.; Пч.), слово ѣздъ в том же значении также признается русизмом (Фасмер, т. 2, с. 12); предрукавие (Девг.), прѣкладати (книги) ‘переводить’ (ПВЛ, 1037 г.), в старославянском это слово имеет значение ‘сравнивать, соображать’; прекрасный ‘благолепный’ (ПВЛ, 1218 г.; Девг.), в старославянском и церковнославянском значение ‘дивный, красивый’, препои ‘перепой’ → ‘пир’ (Есфирь); прибожьнъкъ ‘притвор в церкви’ (Устав Студ.; Соф.); приголубление ‘доброе отношение’ (Ипат., 1178 г.), ср. др.-рус. приголубити; приклякати ‘кланяться’, ср. приклякнутися (Есфирь); прилика ‘пример’ (ПВЛ, Введение), приполъ ‘пола одежды’ (ПВЛ, 1074 г.), приспѣти ‘случиться, наступить’ → ‘успеть, поспеть’ (ПВЛ, 1150 г.); присъпа ‘насыпной вал’ (ПВЛ, 988 г.; Амарт.; Флав.), ср. присъпъ ‘процент в зерне при займе хлебом’ (Правда Русская); пропасть ‘яма; овраг’ → ‘бездна’ (Ипат., 1096 г.; КТур.; Пч.; Юрод.); проскѣпъ ‘расщеп’ (ПВЛ, 1071 г.; Акир), ср. оскеп ‘копье’; просъкъ ‘разведчик’ (Сузд. лет., 1238 г.), просолена (рыба) ‘малосольная’ (Устав. Студ.), проторъ ‘расход’ → ‘ущерб’, ср. протори (Кн. закон); прощеникъ ‘вольноотпущенник’ (Устав Влад.; грамота 1150 г.; Флав.; Амарт.); прудяный (прудный) меч ‘тупой’ (Соломон); прѣ ‘паруса’ (Договор Олега, 911 г.; Алекс.; Флав.; Никол. Мирлик.); (по)пуснѣти ‘омрачиться’ (Ипат., 1174 г.), ср. попыснѣти ‘потемнеть’ в рукописях после XV в.; пузъ ‘мера сыпучих тел’ (грамота 1137 г.); пуще ‘хуже’ (ПВЛ, 945 г.; Амарт.; Флав. и др.); рагоза ‘вражда, распря’ (ПВЛ, 1015, 1241 гг.); ра(й)дуга также указывается как древнерусское слово (Филин 1981:280); раскѣпати ‘расщепить’ (Сл. ОПИ); река, рка вместо глаголя (Львов 1968:31); рогвица (рогъдица, рогтица) ‘палица, дубина’ (Ипат., 1136 г.; Амарт.; Девг.); рожа ‘отродье’ (рожаи ‘вид’, рожаистъ ‘красив’), рокотати ‘греметь’ (Сл. ОПИ), россочьство ‘наблюдение, разведка’ (Васил. Нов.), ср. росокъ (Алекс.) от сочити; рубежь ‘зарубка, метка’ → ‘граница’; рубль ‘кусок (металла)’ (Индикопл.), рѣзъ ‘процент’ (Правда Русская; ПВЛ, 1262 г.; Кн. закон.; Пч.; Панд.; Юрод.); рѣзана ‘мелкая монетка’ (Правда Русская; Устав Яросл.; Панд.); рюя ‘снаряжение’ (Юрод.), рядъ ‘договор’ (Правда Русская; Устав Студ.; Флав.; Панд.); рядичь (Устав Студ.), ср. рядовичь (Правда Русская); сватьба ‘соглашение’ во всех славянских языках (Фасмер, т. 3, с. 568); свадьбьный ‘брачный’ (Устав Яросл.; Пч.); сизый (Сл. ОПИ), синьць ‘эфиоп’ и синь (Панд.; Акир.; Юрод.; Флав.); скатерть (грамота 1150 г.), скуть ‘пола одежды’ (ПВЛ, 1072 г.; Иг. Дан.; Пч.; Амарт.; Юрод.); сланятися ‘ходить кругом’ (Амарт.); собака (Никон. лет., 1135 г.); сорокъ ‘число 40’ (ср.: Филин 1981:289), сочень ‘лепешка на конопляном масле’ (известно в памятниках, начиная с XV в.: Фасмер, т. 3, с. 730); (въ)сорошити(ся) ‘прекословить, горячиться’ (Панд.), ср. взъерошить ‘растрепать’ от шершавый (Фасмер, т. 3, с. 725); сълъ ‘посол’ (Договор Игоря, 945 г.; Флав.; Пч.; Алекс.); съльба ‘посольство’ (Договор Олега, 911 г.; Флав.; Пч.; Амарт.); съхранити(ся) ‘спрятать(ся)’ (Девг.), строи ‘порядок’ (Есфирь), стряпати ‘медлить’ (только восточнославянские памятники с XII в.), ср. устрянути (Индикопл.; др.-чешск. střiepně ‘забота’ (изменение значения в ‘работать, готовить’ произошло много позже)); стьбло ‘кошка’ (Юрод.); сумежие ‘граница’ (ПВЛ, 1186 г.; Девг.), ср. сумежьникъ (Амарт.); сѣножать ‘сенокос’ (грамота 1150 г.; Пч.) (в южнославянских языках и памятниках сѣносѣчь); съвясло ‘пучок’ (Панд.), съсѣритися ‘объединиться’ (Пч.); сьчь (шча, ща) ‘моча’ (Флав.; Юрод.); таль ‘заложник’ от таити (в южнослав. тальць), тировати ‘жить, пребывать’ (Новг. лет., 1194 г.), см. и жировати; търговля (Кн. закон.); тоштатина ‘бобы’ (Юрод.); трепетица от трепета ‘осина’ (Дан. Заточн.); трудоватъ ‘больной водянкой’ (Флав.); трясьца ‘лихорадка’ (Дан. Заточн.; грамота 1193 г.); тъснути(ся) ‘спешить, торопиться; стараться’ (Ипат., 1151 г.; Флав.; Юрод.; Пч.); тьрѣ (Устав Студ.); убои ‘убийство’ (Есфирь; Юрод.); удьнье ‘полдень’ (Новг. лет., 1217 г.); узорочье ‘дорогая ткань’ (ПВЛ, 907 г.; Юрод.); умътчати ‘замешкаться’ (Акир.), утъка (Правда Русская); ушь ‘дягиль’ (Новг. лет., 1128, 1230 г.); ушьвъ ‘(головное) покрывало’ (КТур.; Есфирь; Никол. Мирлик.); ушьвьць (Амарт.); хлодарь (Девг.); хомякъ (к числу русизмов относит Филин, 1981: 280-281); хорошь ‘убран, прибран’ и хорошавъ ‘величав’, хорошание ‘величание’ (Панд.), ср. хорошити ‘подправлять’ (Кн. закон.), повидимому, из хорость ‘удобство, красота’, (п)(о)хритати(ся) ‘высмеивать, насмехаться’ и производные (Лука Жид.; Феод. Студ.; Юрод.), ср. охрита ‘триумф’ и ‘позор(ище)’ (Юрод.); чьрвь ‘багряница’ (Амарт.; Есфирь); черевие (позднее — черевикъ) ‘мягкий башмак’ (ср. значение ‘кожа’ в ПВЛ, 993 г.); чересъ ‘кошелек’ (из исконного значения ‘кожаный пояс для ношения денег’) (Соломон); шебенъ (в других значениях швенъ) златомъ (Юрод.); шулята ‘яички’, шуринъ (Девг.) (с таким суффиксом только в древнерусском, см.: Фасмер, т. 4, с. 488); шьгла ‘корабельная мачта’ (Флав.); щюпати ‘прикасаться’ (Панд.); ѣздъкъ ‘объездчик’ (Соф.) (в других славянских языках иной суффикс).
6. Заимствованная лексика, встречаемая только в древнерусских источниках
Азъбукы и производные азъбуковьникъ, азъбуковьная и пр., калька с греч. αλφάβητος, в старославянском нет, в южнославянском с XIV в. как заимствование из русского; артавы ‘сосуд; хлебная мера’ (Панд.) (в болгарском переводе того же источника спудъ), ср. греч. αρτάβη; аскъ или яскъ ‘корзина’ в древнерусских памятниках с XIV в., но переводные тексты Толковой Палеи, где встречается это слово, сделаны значительно раньше; в русском и украинском сохранилось производное ящикъ, откуда заимствовано в польский, ср.: др.-сканд. askr ‘деревянный сосуд’, esku ‘корзина’; багъръ ‘шест’ (Новг. лет., 1570 г.), ср.: др.-сев. batgarr ‘шест у лодки’; берковьскъ ‘мера веса (10 пудов)’ (ПВЛ, 996 г.; Новг. гр. 1135 г.: Сл. ХІ-ХVІІ вв., вып. 1, с. 147), ср. др.-сканд. — по названию города Бьёрке (совр. рус. диал. берковец); бумага ‘хлопок’ и производные (Акир; Амарт.), списки древнерусских хождений из греч. βόμβυξ; ватага и многие производные (Ипат., 1190 г.) из тюрк.; вѣкша ‘белка’ и в переносном значении ‘деньги’ (Панд. и др.), из финских наречий (вашка ‘молодая белка’ и как денежная единица); вьрвь ‘община’ (Правда Русская, как возможное заимствование из др.- сканд. hverfi ‘деревня’ (если не от вьрвь ‘вервие’); голважня или голважа ‘мелкая мера (соли)’ (Правда Русская; Печ. Патерик), ср. ср.-в.-нем. galwei; гошити ‘устраивать, оберегать’ (укрепление) (Новг. лет., 1225 г.), ср. гот. ganasjan ‘беречь’; грамота ‘запись, документ’ (Есфирь; Кн. закон.; Пч.; Флав.); ср. греч. мн. число γράμματα, много производных (особенно в Пч.; Амарт.), известно также в значении ‘книга’; в южнославянских памятниках ХІ-ХIII вв. слово не встречается, в восточноболгарском ему соответствует слово писание, в первоначальных кирилло-мефодиевских переводах — кънигы (Львов 1968:33-34); гридити ‘служить в войске’ (Амарт.) и гридь от др.-сканд. gridhi ‘товарищ’ (ср. и gridhi ‘убежище в чьем-либо доме’) (Правда Русская; ПВЛ, 996 г., и др.) и многие производные (гридьба, гридьница и пр.); гътьскъ ‘готский’ (Феод. Студ.); евшанъ ‘полынь’ (Ипат., 1201 г.) из туркмен. jaušan; женьчугъ (Панд.; Девг.; Юрод. и др.) из тюрк. (в южнославянском языке этому слову соответствует бисьръ); извѣсть или извисть ‘известь’ из греч. άσβεστος ‘неугасимый’ (Юрод.; Акир; Соф.; Новг. лет., 1151 г.) (в других славянских языках вапно); каганъ или коганъ ‘великий князь’ (ПВЛ, 965 г.) из тюрк.; калижникъ ‘башмачник’ (Феод. Студ.; Флав.) из греч. καλιγι ‘башмак’; каликы ‘странники’ (Устав Влад.; Феод. Студ.; списки хождений с XII в., летописи) из греч. мн. числа χαλίκια (но может быть и из тюрк., см.: Фасмер, т. 2, с. 167); капь (злата и пр.) ‘весы’, ‘единица веса’ (2 тыс. талантов) (Пч.; Флав.; Есфирь; грамота 1229 г. и др.) из тюрк. (ср. греч. τάλαντος и собственно древнерусские производные типа трькапьнъ ‘весом в три капи’ — Флав.); кастеръ ‘дорогая шелковая ткань’ (Флав.; Есфирь) из греч. κάστηρ ‘бобр’; керста или корста ‘ящик’ (Алекс.; Амарт.; Флав.; Юрод.), в оригинальных древнерусских памятниках значение ‘гроб’ (ПВЛ, 1015 г.), слово служило для перевода многих греческих, из фин. kirstu ‘ящик; тюрьма’; керстица или корстица ‘ящик, коробочка’ (Флав.) (в других списках заменяется словом ковчежець, ср. для κιβότιον в переводе Васил. Нов.), позже появляется значение ‘сосуд’, а в северных памятниках с XIII в. — ‘гробница’ (Филин 1972:570); кнутъ (Дан. Заточн.; Акир) из др.-сканд. knutr; ковьръ (Никол. Мирлик.; Устав Студ.; Юрод.; ПВЛ, 977 г.) из тюрк. (в других славянских языках иное произношение, ср. чеш. koberce); коврига ‘большой печеный хлеб (квадратный по форме)’ (Сузд. лет., 1230 г.), ср. также коврижька (ПВЛ, 1074 г.), коврижьць и пр. из тюрк.; ковшь может быть от лит. kaušas ‘ковш’, но также может быть и общеславянского происхождения, в литовском и славянском этимологически связан со словом, обозначавшим череп (ср. лит. kiaušas), восточнославянизм несомненный (Филин 1981:285); къртьль ‘женская верхняя одежда на подкладке’, как и предшествующее слово, зарегистрировано в памятниках после XIV в., но встречается одинаково как в русском, так и в украинском, из др.-швед. kurtill ‘короткая одежда’; кърчьвьскъ ‘керченский’ (Феод. Студ.), ср. Керчева ‘Керчь’ (Стеф. Сурож.), из греч. κόριζος; кровать (Пч.; Сл. ОПИ; Соломон), ср.- греч. κραββατι(ον); крици ‘глыба’ («крици желѣза» в Пч.) из герм. kritze; крюкъ, может быть, в значении ‘весы’ (Грамота Ивана Калиты 1328 г., но сохранилось во всех восточнославянских языках), из др.-сканд. krokr ‘крюк’; кубара ‘судно’ (Амарт.; Флав.; Договор Игоря, 911 г.) из греч. κουμβάριον ‘галера’ (как обычно в переводах с греческого языка, это слово заменяет и ναυς, и πλοιον, и др., т.е. в древнерусском языке сразу же расширяет свое значение, передает название любого морского судна); ларь (Изб. 1076; Панд.; Пч.; Флав. и др.) из др.-швед. lárr ‘ларь’ (заменяет при переводах различные греческие слова со значением ‘ящик’); лимень ‘гавань’ (греч. λιμήν переводится и как отишие в Пч.; Флав. и др.), в Киеве слово известно с XI в.; лошадь (ПВЛ, 1103 г.) из тюрк.; лыскарь ‘кирка, заступ’ (ПВЛ, 1074 г.; Кн. закон.; Юрод.) из тюрк.; медуша ‘кладовая для меда’ (ПВЛ, 997 г.; Панд.) из сканд. miǫđhus; москолудъ ‘шутник, проказник’ (Юрод.), ср. москолудивъ (Феод. Студ.), москолудница (Васил. Нов.), москолудие и москолудити (Юрод.), ср.-греч. μασκαρούδι(ον) ‘рожа, гримаса’; мусия или мусея ‘мозаика’ (Феод. Студ.; Соф.; Печ. Патерик из греч. μουσιον); мятьль ‘свободный плащ’ (Новг. гр. 1152 г.; КТур.); ср. ср.-в.-нем. mantel из лат. mantellum, ср. мятельникъ (Правда Русская); обезьяна или обозияна в ранних памятниках, но особенно много с XV в., из тур. (персидск.) abuzine (другие названия животного см. мамона, опыня, опици); окъшьвъ ‘топор, секира’ (Флав.) с вариантами написания, из др.-сканд. aksiō (ср. и готск. aqisi ‘топор’); олядь ‘судно’ (Васил. Нов.; Амарт.) для греч. τριήρος, ср.-греч. ολιάδι(ον) ‘рыбацкий челн’, но для производных (см.: олядьнъ — Васил. Нов. и др.) греческих соответствий нет; орниць или орница ‘название (шерстяной) ткани’ (Ипат., 1115 г.), в Лавр. списке орничѣ, см. еще Устав Студ.; ср.-греч. ορνα ‘кайма’, лат. ornare ‘украшать’; отарица ‘собственность, имущество’ (Правда Русская) из тюрк. в Панд. служит для перевода греч. слова πεκούλιον; паполома ‘покрывало’ (Устав Студ.; Сл. ОПИ и др.) из ср.-греч. πάπλωμα; пардусъ ‘барс’ (ПВЛ, 964 г.; Ипат., 1147 г.; Девг. и др.) из греч. πάρδος, πάρδαλις; плита (КТур.; Пч.; Панд.) из греч. πλίνϑος (в некоторых древнерусских рукописях сохраняется написание плинтъ, в Амарт. это греческое слово переведено дъска), полата ‘дворец’ (Устав Студ.), также ‘казна’ (Есфирь), ‘сокровище’ (Флав.) из греч. πολάτιον (слово отмечено и в некоторых древнечешских памятниках: palatium); пудъ ‘мера веса’ (грамота 1136 г.; Новг. лет., 1170 г.), ‘гиря’ (грамота 1229 г.), ‘весы’ (Устав Влад.) — через древнескандинавский из лат. pondus ‘тяжесть’; пьрть ‘баня’ (Новг. лет., 1166 г.), ср. лит. pirtis ‘(парная) баня’ из финского; руга ‘дань; плата; воздаяние’ (Амарт.; Флав.; Юрод.) из греч. ρόγα ‘жалованье’; сапогъ (ПВЛ, 985 г.; Амарт.; Девг.) из прабулгарского (слово встречается и в некоторых старославянских переводах в значении ‘обувь (вообще)’; скалва ‘весы’ (‘чашка весов’) (Юрод.; грамоты) из др.-в.-нем. skala ‘чашка’; скалужъ ‘навоз, нечистоты’ (также скалушъ, скалуженъ (Юрод.) через греческий связано с лат. squalus ‘грязный’; скамья (Сузд. лет., 1230 г.) из греч. σκαμνί σκαμνιά; скѣди(я) ‘ладья’ (ПВЛ, 941 г.; Амарт.) из греч. σχεδία; соломя ‘пролив’ с XIV в. отмечается в новгородских источниках, но в XVI в. то же финское слово salmi заимствуется вторично, уже в новой форме, как Салма; сорога ‘плотва’ с XVI в. отражается в севернорусских памятниках, из фин. sarki; стягъ ‘знамя’ (Сл. ОПИ; ПВЛ, 1096 г.) из др.-сканд. stǫng ‘древко’; товаръ ‘имущество’ (Алекс.; Кн. закон.; Флав. — ‘обоз’) и многие производные (товарьникъ — Флав.), также и другие значения слова: ‘стан’ (ПВЛ, 992 г.), ‘обоз’ (ПВЛ, 1097 г.), ‘товар’ (грамота 1229 г.), ‘деньги’ (Правда Русская и пр.); тавлеи ‘шашки, шахматы’ (ср. в Пч. тавлѣи и шахы для греч. κύβοι ‘игральные кости’) — из ср.-греч. ταβλι(оѵ) ‘доска’, ср. церковнослав. тавлия ‘доска’; тавлиями играти Соболевский (1980:141) признавал русизмом; телѣга ‘повозка’ (ПВЛ, Введение; Сл. ОПИ) из многольского; ти(в)унъ ‘дворецкий’ (‘надзиратель’ и многие другие значения слова) (Правда Русская; Влад. Мономах), очень многие переводные тексты для греч. διοικηρής ‘управляющий’, οικέτις ‘ключница’ и многие другие — из др.-исланд. jónn ‘слуга’; уксусъ (грамота 1136 г.; Устав Студ.), все другие славянские языки дают оцетъ, ocet при лат. acetum ‘уксус’ — из греч. όζος; фаръ или фарижь ‘скакун’, ‘породистый конь’ (Ипат., 1150 г.; Дан. Заточн.; Девг.) — из ср.-греч. φαρι(ον) ‘арабская лошадь’, араб. faris ‘конь’; чара (надпись на чаре 1156 г.) — из тюрк.; чюмъ ‘ковш’ (Ипат., 1250 г.), ср. чюмичь (Домострой, XVI в.) — из тюрк.; шьлк(ов)ъ (Есфирь; Панд.) и производные (шелковица) — из др.-сканд. silki; ябедьникъ ‘судебное должностное лицо’ (Правда Русская; Новг. лет., 1218 г.) — др.-сканд. embaettis ‘прислужник’ (в переносном значении ‘клеветник’ в русском языке известно с XVI в.); якорь (Договор Олега, 907 г., а также русские хождения), ср.-греч. άγκυρας, швед. ankari; ярыкъ ‘панцирь’, во мн. ‘латы’ (Ипат., 1252 г.) — из тюрк.; ясьскъ ‘аланский (осетинский)’ (Флав.); ср. чагатайск. as. Таким образом, в этой группе всего 75 слов, из них 48 не сохранились в современном русском литературном языке.
7. Слова общеславянского происхождения, изменившие свое значение уже в древнерусском языке
Батя ‘старший брат’ → ‘отец’ (Ипат., 1161 г.), безвременье ‘нехорошее время’ → ‘беда, напасть’ (Устав Яросл.); безгодие ‘неблагоприятное время’ → ‘бедствие’ (Амарт.); безголовье ‘лишение головы’ → ‘несчастье’ (Ипат., 1148 г.); безмѣстье ‘недобрый час’ → ‘нелепость, беда’; бридкыи ‘острый, резкий’ → ‘мерзкий, гнусный’ (Панд.; Пч.); буи ‘высокое открытое место’ → ‘кладбище’ (Новг. лет., 989 г.); вежа ‘шатер, кибитка’ → ‘башня’ (летописи); вечеря, вечеряти ‘обед, еда’ и ‘обедать, есть’ → ‘ужин’, ‘ужинать’ (‘пировать’) (Пч.); возникъ ‘кучер’ → ‘обоз’ (Новг. лет., 1268 г.); выдати ‘передавать’ → ‘предавать’ (Правда Русская; Алекс.); вьрста ‘ряд’ → ‘возраст’ или ‘расстояние’ (в переводе Кормчей); вьршь ‘посевное зерно’ → ‘кладь хлеба’ (Новг. лет., 1127 г.); гладити ‘(за)переть’ → ‘ласкать’ (Пч.; Макар. Римс.); глумъ ‘забава, шутка’ → ‘игра, почесть’ (Флав.); гной ‘скверна, мерзость’ → ‘грязь, навоз’; говѣйно ‘воздержание, благочестие’ → ‘Великий пост’ (Новг. лет., 1290 г.; Есфирь); година ‘(удобное) время’ → ‘судьба’ (Есфирь; Панд.); гостити ‘почитать’ → ‘гостить’ (Панд.); гривна ‘мера веса’ → ‘ожерелье’ (Правда Русская; Панд.); гроза ‘страх, ужас’ → ‘гнев, строгость’ (Новг. лет., 1238 г.; Дан. Заточн.); (о)грозити(ся) ‘грозить’ → ‘пугать’ (КТур.); дикий ‘неразвитый, неприрученный’ → ‘свирепый, грубый’ (Ипат., 1146 г.; Флав.; Индикопл.); довълъ ‘достаток (чего-либо)’ (Панд.) → ‘кошель (имущество)’ (Никол. Мирлик.); дружина ‘товарищи, спутники’ → ‘княжеские воины и советники’ (иначе Фасмер, т. 1, с. 543: ‘отряд, общество’ → ‘войско вообще’; примеры — Сл. СОПИ, вып. 2, с. 51-52), первые значения встречаются и в старославянских памятниках, вторые — только в древнерусских, иногда даже в суженном значении ‘супруга, жена’ (Флав.); в поздних редакциях русской летописи слово дружина упорно заменяется словами бояре, вои, люди, слуги и пр. (Филин 1949:53); дума ‘слово-размышление’ ‘совет, воля’ (Пч.; Флав.; Девг.); думати ‘говорить’ → ‘советоваться’ (Девг.; Есфирь; Флав.; Пч.); дьрзость ‘дерзость’ → ‘смелость’ (Влад. Мономах; Девг.); дѣти, дѣжу ‘поместить, деть’ (Новг. лет., 1204 г.; Флав.) → ‘поместить, скрыть’ (ПВЛ, 971 г.) или ‘исчезнуть, потерять’ (Никон. лет., 1225 г.); дѣти ‘трогать’ (Новг. лет., 1216 г., а также старославянские памятники), при форме дѣю еще ‘делать, творить’ (Акир и др.) → ‘говорить’ (ПВЛ, 1078 г.); ель ‘хвойное (дерево)’ → ‘ель’ (в переводе Палеи); жест(о)кий ‘черствый (твердый)’ → ‘суровый, беспощадный’ (ПВЛ, 1097 г.) (намечается семантическая связь со значениями греч. слова σκληρός); завѣтъ ‘договор, заповедь’ → ‘обет, обещание’ (ср. извѣтъ ‘доказательство; предлог, причина’ → ‘наговор’ (Никон. лет., 1206 г.), ‘обман’ (Ипат., 1170 г.), позже с изменением значения ‘донос’ (XVII в.); навѣтъ ‘вызов, наущение’ → ‘козни, умысел’ (с XIII в.); обѣтъ ‘обещание’ → ‘пророчество, предсказание’ (уже в южноцерковнославянских памятниках); привѣтъ ‘обращение (намерение)’ → ‘изречение, слово’ (Индикопл.; Соф.); съвѣтъ ‘заговор (советование)’ → ‘совет, указание’ (ПВЛ, 955 г.) или ‘соглашение, уговор’ (ПВЛ, 997 г.); увѣтъ ‘утешение, наставление’ → ‘предписание’ (Амарт.); все производные с этим корнем сохраняют значение, связанное со словом говорить); заушити ‘ударить по уху’ (Усп. сб.) → ‘позорить, порочить’; змии ‘зверь’ (Флав.) → ‘змей, дракон’; знамение ‘знак, (при)мета’ → ‘владельческий знак’ (ПВЛ, 947 г.) или ‘клеймо, пятно’ (Девг.; Правда Русская); зобати ‘клевать’ → ‘есть’ (Правда Русская; Дан. Заточн.); избыти(ся) ‘остаться, изобиловать’ → ‘спастись, избавиться’ (Новг. лет., 1251 г.; Есфирь); изувѣръ ‘вероотступник’ → ‘страшный, ужасный, грозный’ (Панд.; Юрод.) (современное значение ‘изувер’ проявляется с XVIII в.); иночимъ, иноотчимъ ‘отчим’ (Правда Русская) → ‘пасынок’; ирий ‘море (теплое)’ → ‘(южные теплые) страны’ (Влад. Мономах, 1096 г.); испълчитися ‘укрепиться против’ → ‘снарядиться, изготовиться’ (ПВЛ, 1016, 1144 г.); исхитати(ся) ‘бросаться, спешить’ → ‘похищать, присваивать’ (Девг.; Сл. ОПИ); казати ‘показать, указывать’ и переносно ‘наказывать’ → ‘сказать, говорить’ (ПВЛ, 1065 г.), ‘обличать’ (ПВЛ, 1186 г.) со специализацией значений у приставочных с съ-, у-, при-, за-, вы-, и др.; карити ‘огорчать, сердить’ → ‘оплакивать, жаловаться’ (Ипат., 1262 г.); кликати ‘громко кричать, вопить’ → ‘возглашать, объявлять’ (Ипат., 1148 г.) и производные от этого глагола; кльцати ‘(сильно) бить(ся), колотить, стучать’ (например, о сердце: Юрод.; Чт. Бор. и Гл.), также ‘копать, рыть’ (в первоначальном переводе Псалтыри для греч. σκάλλειν) → ‘(усердно, деятельно) трудиться, хлопотать’ (Панд.), возможно смешение этого глагола с др.-рус. клекати (ср. клекотъ — Юрод.); в этом переводе много производных для передачи греч. αλαλαςέιν ‘испускать крик’ (ср. клекуще ‘пригибаясь, ползком’ (Флав.), т.е. ‘усердно, старательно’); клюка ‘уловка, хитрость’ → ‘ловушка, западня; колдовство’ (Юрод.; Соломон); клюкати ‘сгибать, рубить, стучать’ → ‘обманывать’ (Пч.), ср. п(е)реклюкати ‘перехитрить’ (ПВЛ, 955 г.), что в более поздних редакциях заменяется на упремудри, такое значение признается только древнерусским (ЭССЯ, вып. 10, с. 56); ср. еще клюкавъ ‘ложный, притворный’; ‘хитрый, коварный’; (у)клюнути ‘ужалить, укусить’ (ПВЛ, 912 г.) → ‘колоть, пронзить’ (Акир); кручина ‘желчь’, ‘гнев’ → ‘печаль, неприятность’ (с XIV в., может быть, сначала в переводных текстах: в Пч. ‘меланхолия’); лагодити ‘угождать, ласкать, льстить’ от лагода ‘слабость, беззаботность, наслаждение’ → ‘потворствовать, быть пристрастным’ (Алекс.; Юрод.; Панд.) ср.: ‘быть преданным’ (Влад. Мономах); лагодный ‘удобный, приятный’ (Никол. Мирлик.) → ‘соразмерный, кроткий, мягкий’ (Пч.) (‘соразмерно независимый’); лаяние ‘козни’ (Феод. Студ.) (в этом значении слово знают и южнославянские памятники) → ‘лай’ (Алекс.) → ‘ругательство, оскорбление’ (Пч.; Флав.); лаяти ‘подстерегать, сидеть в засаде’, также ‘строить козни’ (Феод. Студ.) → ‘лаять’ (Акир; Алекс.; Никол. Мирлик.) (возможно и в южнославянских памятниках) → ‘бранить, ругать’ (Пч.; Флав.; Панд.) (в этом значении слово известно и западнославянским памятникам); милостивникъ ‘покровитель, заступник’ (такое значение слова отмечено достаточно поздно, с конца XV в.) → ‘любимец, наперсник’ (Девг.); ср. милостивьць ‘благодетель’ (Амарт.; Панд.), но милостьникъ ‘любимец’ (Новг. лет., 1136 г.), оба ряда образований восходят к милостивъ ‘ласковый, милосердный’; мѣшькъ ‘шкура, снятая чулком’ (ПВЛ, 1074 г.) → ‘мешок’ (Новг. лет., 1379 г.; Никол. Мирлик.); мячь ‘мякиш’ (Ипат., 1097 г.) → ‘мяч’ (Алекс.); нетопырь ‘бабочка’ → ‘летучая мышь’ (Дан. Заточи.); новой ‘новый’ → ‘иной, другой (по сравнению с прежним)’ (Новг. лет., 1224 г. — Филин 1972:598); нуда ‘тягость’ (Девг.) → ‘чесотка, паразитические насекомые’ (последнее значение возникает довольно поздно); нудити ‘понуждать’ → ‘одолевать’ (Амарт.; Девг.); обилие ‘изобилие, избыток’ → (западнославянские языки) ‘хлеб в зерне’ (Новг. лет., 1282 г.), т.е. ‘пропитание, довольствие’ (ПВЛ, 1071 г.) → только в др.-рус. ‘хлеб на корню’ (Новг. лет., 1251 г.); обложити ‘наставить вокруг’ → ‘осадить, блокировать’ (Иларион; Амарт.) (обычно для обозначения осады использовались другие слова); обоямо ‘с обеих сторон, вокруг’ → ‘в обоих случаях (сугубо, двояко)’ (Пч.; в старославянских текстах только форма обояко); опѣшати ‘стать пешим’ (Акир) → рус. диал. ‘обезножеть’, ‘обеднеть’, ср. совр. литер. ‘стать в тупик, растеряться, смутиться’; орудие ‘инструмент, снасть, орган’ → ‘надобность’, ‘дело, занятие’ (ПВЛ, 1074 г.; Девг.; Устав Студ.) → ‘трудное дело’ в русских говорах (ср. орудовать в этом значении); острогъ ‘частокол, укрепление’ → ‘крепость (внутренняя по отношению к детинцу)’ (ПВЛ, 1186 г.; Флав.) (‘тюрьма’ в русских и белорусских говорах); отишие ‘убежище, успокоение’ → ‘гавань’ (Пч.), запись писца в Лавр. лет., 1377 г. для греч. λιμήν (то же и в Пч.); отруби ‘шелуха, кожура’ (Житие Феодос. в Усп. сб.; Пч.) → ‘только в отношении к зерну’ — русизм; ср. отрубян(ый) (Амарт.; Соломон); отъвѣчати ‘давать ответ, отчет’ (в старослав. отвѣтъ дающий — калька с греч. απολογεισϑαι → ‘дать ответ (за себя)’, ‘защищаться’ — Устав Влад.; Новг. лет., 1270 г.); охабити (охабляться) ‘оставить, покинуть’ (ПВЛ, 968 г.; Алекс.; Амарт.) ‘прекратить’ (Дан. Заточи.) → ‘остерегаться’ (Ипат., 1249 г.) → ‘пренебрегать, относиться беспечно’ (Амарт.); ср. хабити ‘портить, вредить, делать впустую’ (ЭССЯ, вып. 8, с. 8- 9); пакость ‘превратность’ → ‘злоба, вред’ (тот же перенос в старославянском и южнославянских) → ‘пагуба, порча’ (параллели могли быть и в западнославянском) (Девг.; Пч.), ср. рус. диал. ‘скверна, мерзость, дерьмо’; ср. пакостити ‘портить, позорить’ (Пч.); печаловати ‘быть опечаленным’ → ‘заботиться’, ‘иметь попечение’ (Правда Русская; грамота 1340 г.); погънати ‘погнаться’ (ПВЛ), ‘прогнать’ (Новг. лет., 1380 г.) → ‘помчаться’ (ПВЛ, 1047 г.; Девг.); погоничь ‘надсмотрщик’ → ‘погонщик’ (Толк. Никиты); погоня ‘преследование’ → ‘преследующий отряд’ (Девг.; Пск. лет.); помянути/помѣнути ‘помнить’ → ‘обратить внимание, иметь в виду’ (только древнерусское; см.: Срезневский, т. 2, с. 1159, 1175) — ‘обещать, сулить’ (Флав.); поручити(ся) ‘посвятить себя’ → ‘обещать’; послушьствовати ‘прислушиваться’ → ‘подчиняться’ (Пч.) → ‘свидетельствовать’ (Срезневский, т. 2, с. 1249); посулъ ‘обещанная плата, пошлина’ → ‘взятка’ (Алекс.; Кн. закон.) (иногда это значение считают моравизмом); потъснути(ся) ‘быть готовым’, ‘поспешить’ (Влад. Мономах; Флав.) → ‘озаботиться’ (Ипат., 1240 г.; Пч.; Феод. Студ. (см. тъснутися); правити ‘направлять’, ‘управлять’ → ‘расправляться’ (ПВЛ, 1150 г.), ‘исполнять, справлять’ (Ипат., 1288 г.), ср. правитися ‘переправляться’ (Ипат., 1150 г.); прикрутъ ‘строгий’ → ‘крутой (о береге)’ (Иг. Дан., 1108 г.); прикрьный ‘прискорбный’ → ‘крутой’ (отвесный) (Флав.) (исконное значение корня см.: ЭССЯ, вып. 13, с. 74-75); приставъ ‘препятствие’ (Ипат., 1168 г.) → ‘сторож; охрана’ (Новг. лет., 1442 г.) или ‘правитель’ (Есфирь); пълзъкый ‘скользкий’ → ‘падкий на что-либо’ (Ипат.; Пч.) (в последнем оба значения в зависимости от греческого оригинала); ср. пополъзнути ‘соскользнуть (языком)’ (Пч.); пълкъ ‘народ, толпа’ → ‘куча (полк)’ → ‘битва, бой’ (Пч.), но также и в восточноболгарском, хотя в старославянских источниках нет (иногда считается германизмом); пърты ‘кусок ткани, покрывало’ → мн. ‘платье, одежда’ (Девг.); примеры — Срезневский, т. 2, с. 1754; прутъ ‘ветвь’ → ‘жезл’ (Есфирь); пята ‘пятка’ → ‘каблук’ (Устав Студ.); размыслити ‘обдумать, передумать (возмечтать)’ как возможный паннонизм → ‘определить, решить’ как русизм (ср. еще значение ‘догадаться, подозревать’ — Амарт.); распрятати ‘раскапывать’ (Есфирь; Пч.) → ‘оправить’ (ср. Фасмер, 3, 396); рудный ‘содержащий руду’ → ‘окровавленный’ (Девг.) (слово кръвъ заменяется словом руда только у восточных славян: Фасмер, т. 3, с. 513); село ‘жилище, жилье’ (в значении ‘обитель; шатер, кибитка’ признается моравизмом) → ‘поле (земля)’ в южнославянском (это значение слова является книжным у всех славян) → ‘селение, деревня’ (ПВЛ, Введение; Договор Олега, 907 г.) и др. (такое значение встречается и у западных славян) — в данном случае возможно совмещение разных корней (см.: Фасмер, т. 3, с. 596); семья ‘образ жизни’ (Панд.) → ‘домочадцы’ → ‘семейство’ (и конкретно ‘жена’ в русских говорах); скотъ ‘скотина’ → ‘имущество’ или ‘деньги’ (Правда Русская; ПВЛ; Акир; Алекс.; Панд.), хотя источник заимствования готск. skatts означает и ‘скотина’, и ‘деньги’, только восточнославянские языки дают значение ‘деньги’, ср. также скотница ‘казнохранилище (князя)’ (ПВЛ, 998 г.); срамъ ‘оскорбление’ (Устав Яросл.; Девг.) → ‘тайный уд’ (Амарт.); стопа ‘ступня’ → ‘чарка’ (Алекс.); страда ‘страдание’ → ‘труд’ как русизм признают все исследователи в Индикопл., Панд., Пч., также в Правде Русской (ср. страдолюбьць ‘усердный, любящий труд’ — Пч.; Флав. страдание ‘земледельческий труд’ — Флав.); страдати ‘бедствовать, страдать, нуждаться’ → ‘работать, трудиться’ (Флав.) (ср. Срезневский, т. 3, с. 531-532) → ‘возделывать землю’ (Пч.); сукъно ‘ткань’ → ‘власяница’ (Есфирь; Амарт.; Юрод.); сухое (злато) ‘сухое’ → ‘чистое (цельное)’ (Девг.; Флав.) как калька с греч. ῾ολόχρυσος; съкривити ‘прегрешить, провиниться’ (Есфирь) → ‘лукавить’ (ср. съкривляти — Пч.); сырая (кожа) ‘влажная, свежая’ → ‘невыделанная’ (Индикопл.); ср. Срезневский, т. 3, с. 877; сѣно ‘трава’ → ‘сухая трава’ (Пч.; Феод. Студ.; Устав Студ.; Васил. Нов.), сѣно и выражение суха трава для передачи греч. χόρτος известно многим славянским языкам (Фасмер, т. 3, с. 601); теребити ‘истреблять’, ‘требовать’, ‘очищать’, в тех же значениях и форма трѣбити (Срезневский, т. 3, с. 1020) → ‘расчищать (путь)’ (ПВЛ, 1014 г.), ср. требляти путь (Соломон), истрѣбити ‘расчистить’ (Кн. закон.), ср. трѣба и тереба‘жертвоприношение’ (ПВЛ, 980 г.; см. о нем: Фасмер, т. 4, с. 456); тулити(ся) ‘пригибаться, прижиматься’ → ‘укрываться, сохраняться, скрываться’ (Ипат., 1255 г.; Флав.; Юрод.); уврѣдити ‘повредить’ → ‘обесчестить’ (Есфирь); удобрити(ся) ‘украсить, исправить’ → ‘угодить’ (Есфирь); удолѣти ‘получить власть’, ‘подавлять’ → ‘одолеть, победить’ (ПВЛ, 1022 г.; Есфирь); удѣлъ ‘мера’ (Амарт.) → ‘надел’ (Срезневский, т. 3, с. 1158); ужасный ‘испуганный’ (Девг.) → ‘страшный’ (Срезневский, т. 3, с. 1163); укротити ‘победить, усмирить’ (Девг.) → ‘спасти, успокоить’ (Срезневский, т. 3, с. 1189-1190); улица ‘улица’ → ‘площадь’ (Есфирь; Юрод.); улюбити ‘облюбовать, выбрать’ (Есфирь) → ‘согласиться, пожелать’ (Новг. лет., 1215 г.; грамота 1230 г.), умножитися (Речь Философа) как русизм вм. исплънитися (Львов 1968:391) в значении ‘увеличиться’ → ‘завершиться’; уранити ‘встать рано’ (Юрод.; Моисей) → ‘поспешить’ (Срезневский, т. 3, с. 1253); хитрый ‘искусный, мудрый’ → ‘лукавый, ловкий’ (Сл. СОПИ, вып. 6, с. 122); хоронити ‘сторожить, защищать’ → ‘прятать, скрывать’ (Правда Русская; Ипат., 1147 г.), ср. в Панд. (по)хоронити, похоронити ‘убрать, приготовлять’, у формы хранити такого значения нет; худой ‘плохой, дурной’ → (западнослав.) ‘тощий, простой’ (Ипат., 1187 г.; Влад. Мономах и др.); худость ‘скудость, бедность’ → ‘ничтожность’ (Девг.); цѣрь или чѣрь ‘сера’ → ‘трут’ (ПВЛ, 945 г.). Всего 12 из числа указанных слов со своими значениями не сохранились в современном русском литературном языке. Такая их устойчивость, видимо, объясняется тем, что путем изменения значений они смогли найти свое место в системе литературного языка, подкрепляя известные семантические корреляции или обогащая стилистические ресурсы развивающегося языка. Слова однозначно терминологические, как мы убедились, изменялись активнее, главным образом, путем устранения из языка. Конечно, в п. 7 не все переносные значения установлены одинаково надежно, они могут быть чисто контекстными или проявляться окказионально, однако потенциальные возможности древнерусской семантической системы они отражают достаточно четко. Любопытно, что переносные значения особенно легко возникают у глаголов — наиболее подвижной части древнерусского словаря. Направление переноса могло быть и обратным указанному здесь (не всегда убедительны рекомендации этимологических словарей, на которых мы основывались), но в данном случае и это не существенно: важно, что в древнерусском значение многих слов было совсем иным, чем их же значения в других диалектах праславянского языка. Таким образом, в целом следует признать, что исследовательская интуиция наших предшественников в изучении вопроса стояла довольно высоко: из 750 (круглым числом) лексических и семантических русизмов, в разное время ими выявленных, лишь около сотни оказываются словами общеславянского происхождения, сохраненными во всех славянских языках, около 60 соотносятся только с южнославянскими, а 200 встречаются только у западных и восточных славян. Однако около 360 слов безусловно остаются в ранге русизмов — в широком смысле слова, т.е. являются словами восточнославянского происхождения в древнерусских текстах. Мнение Ф. П. Филина о том, что 20-25% лексики праславянского языка составляли диалектизмы, не очень далеко от истины (Филин 1981: 199), а суждение О. Н. Трубачева, что восточнославянский язык дополнительно к общей всем славянам лексике имел еще 200-300 лексических диалектизмов (Трубачев 1963: 185), сегодня исправляется и самим автором: их гораздо больше. Их выявление и исследование остается важнейшей задачей исторической русистики.
8. Общая характеристика древнерусских русизмов
В столь же обобщенном числовом выражении из 750 условно выявленных русизмов одна треть встречалась только в древнерусских памятниках, одна треть употреблялась в переносных значениях, одну шестую составляли заимствования из соседних языков (прежде всего — греческого и скандинавских), примерно столько же лексем и общеславянской по происхождению лексики. В современном русском литературном языке из общего числа 750 сохранилось лишь 375 слов, т.е. половина, причем, как правило, в новом значении. Таким образом, по отношению к нашему времени продолжалось семантическое развитие этих слов. Сравнение утраченных и сохранившихся в русском языке лексем показывает, что во всех группах лексики в число архаизмов и историзмов отошли слова, утратившие выражаемую ими реалию или связанное с ними понятие. Поскольку в основном все такие слова были конкретно-однозначными по семантике, их исчезновение связано с устранением типичных формул, в составе которых такие слова употреблялись. Сохранились конкретные по значению слова, перечисленные выше в разделах: (1) дятел, желудок, корыто, муха, перина, решето, топор и др.; (2) баня, броня, брюхо, жаворонок, зубр, кисть, лось, мотыка, окорок, плот и др.; (4) белка, горшок, груздь, деревня, дерюга, куст, осока, собака и др., в том числе и заимствования: жемчуг, известь, кнут, ковер, ковш, кровать, ларь, сапог, скамья и пр. Исчезали даже лексемы с восточнославянскими формальными признаками (такими, как полногласие), если они утрачивали денотат: волога, волот, на вороп, паполома, перескок, пороча, располон, серен, соломя и пр. Наоборот, слова, общие у восточных славян с южнославянскими, сохранились только в случае, если они имели отвлеченное значение, ср. (3) болезнь, жизнь, недуг, письмена, пучина, совесть и др. Похоже, что совпадение древнерусской и западнославянской лексических систем издавна составляло некоторое единство материального фонда слов, отсюда вышел и коренной фонд русской народной речи (в русских говорах он сохраняется больше, чем в литературном языке), т.е. является органическим продолжением местной традиции западно- и восточнославянского единства, тогда как лексемы, связывающие древнерусские с южнославянской лексикой, есть результат культурной (книжной, христианской) традиции. В первом случае новые речевые формулы в древнерусский период уже не создаются, не развиваются и новые переносные значения слов, поскольку такие значения уже существуют как общая принадлежность восточных и западных славян; они вообще уходят в архаику, оставляют множество гапаксов, остаются в диалектах, неравномерно представлены в старопольском, древнечешском или древнерусском, а в литературных текстах они постепенно вытесняются многозначностью «церковнославянизма» — именно у таких слов развиваются переносные значения по линии, заданной литературными текстами (тут важны кальки и новые формулы, которые требуют самостоятельного изучения), — и за этим ощущается толчок, данный христианской культурой текста. Своим сильным напором новая традиция как бы перекрывает древнеславянскую (т.е. северославянскую) культурную традицию язычества. Таков первый вывод, следующий из рассмотрения материала, и мнение таких ученых, как Н. К. Никольский или Л. П. Якубинский, в данном случае оказывается вполне справедливым и безусловно доказанным. Многих слов нет в системе современного русского литературного языка, но материально такие слова все же существуют, они известны не только русским говорам, но и украинскому или белорусскому языкам. Исчезли, таким образом, не сами слова, изменялась система отношений, т.е. норма, в которой с течением времени по внелингвистическим причинам происходила семантическая специализация на основе усложнения слов суффиксами и префиксами, причем переносные значения чаще отмечаются у осложненных формантами новых лексем, — такова контекстная специализация, вызвавшая развитие большого числа гиперонимов. В результате можно обнаружить некоторые причины происходивших изменений лексической системы древнерусского языка: а) в соответствии с определенным системным признаком иные из общеславянских слов выбывают из системы как ненужные; б) в зависимости от происхождения слов оказывается много полученных извне — это заимствования (хотя калек в древнерусском языке нет; последние возможны лишь в литературных письменных памятниках, переводах с греческого, как факт искусственного словотворчества); в) по образованию возникает множество словообразовательных типов, причем усиливается роль приставочных, особенно распространены такие приставочные, которые соответствуют книжным суффиксальным, или такие суффиксальные образования, которые одинаково распространены как в разговорном, так и в книжном языке (-ник, -тель и пр., см.: Николаев 1987), т.е. подвижные модели стилистически нейтрального типа; г) по стилю образуется много архаизмов (представлены в виде гапаксов, окказионализмов и пр.), особенно в этом смысле заметны возможности метонимии; передача же бытовой информации требовала укоренения соответствующих слов, в противном случае оставшихся бы для нас неизвестными;[249] д) по значению выделяются слова с переносным значением, много конкретных (чувственно) значений, которые впоследствии оказались забитыми гиперонимами книжного происхождения; е) по грамматической характеристике возникали неизвестные прежде сопряжения словоформ одного слова, но входящих в различные парадигмы, например, образования на вы- вместо приставочных на из- или новые заимствования типа ларь (ср. в Изб. 1076 формы разных парадигм лари, ларевъ, ларѣ: Колесов 1985: 82); ж) по акцентным и шире — фонетическим признакам возникала субституция в заимствованиях, а это доказывает, что они проникали в древнерусский язык устным, а не книжным путем; при этом могут отражаться и новые для древнерусского языка фонемные отношения (например, мягкость при исходной полумягкости в различных формах парадигмы слова ларь, стабилизация акцентов, т.е. сокращение поля подвижности ударения в большинстве новых по происхождению и высоких по стилю слов); з) по функции — как правило, все слова сохранились в составе определенных речевых формул, которые либо остались в языке (и это сохраняло данное значение слова), либо утрачены в литературном языке. Именно такая, функциональная характеристика показывает, что мы имеем дело с особенностями одного и того же языка, причем особенности разговорной речи в новую эпоху как бы восполняли общеславянские (ставшие средствами литературного языка) лексические средства, поскольку иначе развитие языка прекратилось бы. В таком случае ясно, что «церковнославянский» есть этап развития старославянского языка на новой (местной) речевой основе. Обсудим подробнее два основных вывода из представленного анализом материала.
9. Системность и гиперонимия в литературном языке
Из материала ясно, что противопоставление конкретно-бытовой и отвлеченно-высокой лексики не является генетически обусловленным, т.е. не восходит — первая к восточнославянской, а вторая — к южнославянской лексике. Оно функционального происхождения, создается как состояние литературного языка в результате противоположности фактов в разной степени авторитетности: бытовая лексика при этом — западно-, восточнославянского происхождения (ее корень — в языческой среде более раннего, генетического родства), а отвлеченно-высокая лексика — южно-, восточнославянского происхождения (это результат христианизации, появления текстов новой культуры). Во всех случаях восточный регион славянского мира, древнерусский, представлен как носитель обоих членов оппозиции, а это значит, что в определенный момент возникла функциональная необходимость в данном противоположении. Эта необходимость определялась развитием самой системы языка, а не давлением извне. Важно еще и то, что нижний слой общеславянской по происхождению лексики, обслуживающей бытовую сторону жизни, постоянно и неизменно остается вне «литературного» канона. Иными словами, никогда не поднимается в высокие жанры литературы, поскольку соответствующие реалии этой литературе выражать не нужно, а конкретное по значению слово не является символом, не выступает в качестве собирательно-семантической синкреты. По этим двум причинам впоследствии по мере развития значений слова уже в рамках самого литературного языка на основе определенного понятия не возникает необходимости в специализации его значений, оно сохраняется как многозначное слово. Относительно реалий важно, что значения бытовых слов обычно представлены как конкретно-видовые, ни при каких условиях они не становились словами родового значения, в которых как раз и нуждается литературный язык. Ср. историю слова одежа/одежда и конкретные именования одежды и одежд, представленные в древнерусских текстах: кожухъ, копытьца, полсть, свита, паволока, паполома, луда, прабошьни, нанъгъва, опашень, узорочье, порты, сукно и пр.; то же касается еды, видов оружия, запасов, имущества, посуды, болезней, частей тела (без символических номинаций) и пр. при наличии объединяющего всех их гиперонима, который и становится словом литературного языка: одежа до XV в., одежда — после XV в., также пища, обуща, имѣние и пр. Если слово не получало семантической дифференциации или специализации при осложнении суффиксом, то независимо от диалектной зоны своего распространения, стиля (даже в самом высоком стиле), устойчивости формул, в которых оно встречалось, оно оставалось гиперонимом. Направление развития диктуется смыслом текста, в данном случае — необходимостью выявить и обозначить не многообразие и конкретность вещного мира, а сущность общей идеи, что обычно достигалось путем ближайшей этимологической связи с глагольным корнем: одежда = одеться, пища = пити, имение = имети и т.п. Не следует обманываться: именно система языка и присущих ей семантических ограничителей направляла поиски новых смысловых связей и оправдывала выбор гиперонима в каждом отдельном случае. Дальнейшее развитие семантики подобных слов в литературном языке происходило уже без накопления лексических единиц (в том числе и заимствованием, и калькированием): избираются отвлеченно-родовые по семантике слова, обычно два-три, и на их основе строится символически оправданная система, причем парные (дохристианские по происхождению) сочетания сменяются тернарными (триадами) типа кручина — недугъ — болѣзнь; животъ — житие — жизнь и т. п. (Колесов 1986). Литературность книжного языка заключается в сознательном отборе языковых единиц, необходимом для создания авторитетного (достоинство) образца (норма). Нелитературные формы осознаются только на фоне литературных (образцовых), а неспособность развивать родовое значение, т.е. подняться до уровня гиперонима, держит слово за пределами литературного языка. Точно так же невозможность выступить в качестве символа-синкреты по понятиям средневекового канона исключает слово из ряда литературных, и потому оно уже не может развивать переносные значения, даже наиболее простые — метонимические. Это ясно из определения: образное значение слова возможно лишь в художественном по структуре тексте (другое дело, что художественность в средние века понимали несколько расширительно). Активные словообразовательные процессы выходят за хронологические границы древнерусского периода. Отметим только важнейшее следствие, связанное с обсуждаемыми вопросами. Именно специализация значений исходной семантической синкреты вызывала широкое развитие словообразовательных процессов. Актуальные с XVI в. словообразовательные типы и «гнезда» развивались на основе исходной семантической доминанты, заложенной в авторитетном литературном тексте. Направление изменения тут прямо обратное тому, что наблюдалось в древнерусском языке: происходило уже не накопление гиперонимов, а семантическое дробление до этого созданных и отобранных в образцовых текстах гиперонимов — путем усложнения внутренней структуры слова. Происходило это теперь в границах одного — литературного языка. Строго говоря, с этого именно момента после XV в. язык естественный и литературные его формы окончательно расходятся на «разные языки». В древнерусский же период развития существование литературного языка постоянно подпиралось возможностью сохранять видовые по значению слова-обозначения, поскольку в языке (в целом) сохранялись еще противоположности трех групп лексики, необходимые для общения видо-родовые семантические связи. Как из противоположности трех групп лексики (восточнославянской в отношении к южнославянской и к западнославянской) возникла оппозиция «конкретное — отвлеченное», так и в этом случае родо-видовые семантические связи складывались в границах одного языка, древнерусского, причем для него характерно было своеобразное раздвоение: естественный язык — как динамическая часть системы, а литературные его формы — как авторитетный фон (норма), в отношении к которому вообще и стало возможным, и осознавалось развитие языка.
10. Пределы развития переносных значений слова
Гипероним останавливал процесс развития переносных значений данного слова, поскольку создание символа тем самым завершалось. Таким образом, последовательное обобщение семантики слова происходило уже в границах нового литературного языка, никак не связанного с его источниками в прошлом. Возникали семантические русизмы литературного языка. Необходимо, следовательно, различать не только этап калькирования в границах переводимых текстов от этапа складывания видо-родовых семантических корреляций в литературных формах древнерусского языка, но и последний процесс — от возникновения семантических русизмов. При этом метонимия выделяется как основной семантический процесс в древнерусский период (Колесов 1989); поскольку метонимический перенос является типичным именно для устной речи, он отражает связь между объективно существующими явлениями, а не между признаками номинации (как метафора), и притом осуществляется только контекстно, имеет множество типов, которые невозможно классифицировать достаточно полно. Начнем с синекдохи. Часть → целое, при этом обычно развивается отрицательная коннотация; ср. из числа указанных в общем списке примеров: бридкый ‘острый’ → ‘гнусный’, безгодие ‘плохое время’ → ‘бедствие’ и пр. Целое → часть, что свойственно прежде всего бытовой речи, в результате возникает терминологическое значение: бервь ‘настил’ → ‘плот’, вершь ‘посевное зерно’ → ‘кладь хлеба’, ель ‘хвойное дерево’ → ‘елка’ и пр. Отвлеченное значение развивает значения конкретные без побочных коннотаций, ср.: гной ‘скверна’ → ‘навоз’, гладити ‘тереть’ → ‘ласкать’, дума ‘слово-мысль’ → ‘совет’, отишие ‘успокоение’ → ‘гавань’, обилие ‘изобилие’ → ‘хлеб на корню’, кликати ‘вопить’ → ‘выкликать’ и пр. Обратное направление в развитии семантики слова, от конкретного к отвлеченному, становится активным после домонгольского периода, причем и в этом случае коннотации, скорее, отрицательные; ср.: заушити ‘ударить по уху’ → ‘позорить’, опешати ‘стать пешим’ ‘стать в тупик, смутиться’, кручина ‘желчь’ → ‘гнев’ → ‘печаль’, лаяти ‘сидеть в засаде’ → ‘лаять’ → ‘бранить’ как редкие примеры такого изменения в древнерусском языке. Обычно это происходит в формах глагола или у отглагольных имен, чем последние и отличаются от переносов типа синекдохи (там изменению подлежат, в основном, имена). Отмеченная закономерность поучительна, поскольку направление переноса от отвлеченного к конкретному обычно осуществляется в словах литературного происхождения (может быть — кальки и новообразования), попадающих в разговорную речь. Взаимное влияние литературных и разговорных форм речи происходит постоянно. Следующий тип переносов — в субъектно-объектных отношениях выражается своего рода амбивалентность смысла; ср.: страшный и ‘устрашающий’, и ‘страшащийся’, дикий и ‘неразвитый’, и ‘свирепый, грубый’, корити и ‘огорчать’, и ‘оплакивать’ (следовательно, разнонаправленность семантического движения в слове возникает на основе оценочных коннотаций). Такие отношения взаимообратимы, их не всегда можно указать векторным движением; особенно часто это имеет место у прилагательных, поскольку в узком смысле выраженный ими признак связан скорее с сигнификатом, чем с денотатом в целом; ср.: ползкий ‘скользкий’ и ‘падкий на что-либо’, сухое (злато) ‘чистое/цельное’, сырая (кожа) ‘свежая, влажная’/‘невыделанная’, худой (человек) ‘дурной, слабый’/‘простой, незнатный’ и пр. Перенос значения по функции особенно распространен; ср.: полкъ ‘куча, толпа’ → ‘бой, сражение’, прутъ ‘ветвь’ → ‘палка’, пята ‘пятка’ → ‘каблук’, порты ‘ткань’ → ‘одежда’, острогъ ‘частокол’ → ‘крепость’ и др. На многих примерах семантических русизмов видно, что семантический переход осуществляется в том случае, если слово являлось собственно древнерусским (хотя бы и общеславянского происхождения) и если в границах древнерусского языка оно существовало наряду и одновременно с соответствующим ему по значению славянизмом. В результате столкновения двух однозначных слов происходило семантическое «возмущение», приводившее к отклонениям в семантике русского слова. При этом понятийное поле имени больше закрыто для семантических сдвигов, поскольку оно всегда обозначает понятие и является символом данной культуры. Специализация значений широко развивается на глагольных основах с широким использованием приставочных глаголов без суффиксов. Поэтому, между прочим, в древнерусском языке так много образований типа завѣтъ, тогда как формы типа ходъ, ѣздъ и пр. возникают в разговорной речи, которая и поставляет средства для дальнейшей специализации в структурно подвижном элементе традиционного текста — в глаголе и отглагольных именах (см. приведенные в общем списке примеры: только 27 искомых имен использовалось в переносном значении, хотя иные из них и связаны по происхождению с глагольными основами, ср. гной; все остальные, т.е. более сотни, — это глаголы, отглагольные имена и отчасти прилагательные).
ИМЯ — ЗНАМЯ — ЗНАК
Три эти слова в последовательном историческом изменении их значений сменяют друг друга при передаче понятия «знак», отражая тем самым последовательное развитие славянской духовной культуры. Термин «знак» является ключевым в изучении познавательной способности соответствующего языкового коллектива, его творческой потенции и социальной зрелости — поэтому основные этапы развития данного понятия оказываются важными в сравнительно-историческом изучении славянских языков. Рассмотрим сравнительный материал. Имя: 1. ‘Название человека, даваемое ему обычно при рождении’, а у древних славян — при достижении определенного возраста, когда уже становятся ясными характер, склонности и социальная важность индивидуума. Это значение слова сохраняется во всех славянских языках и доказывает его древность. 2. ‘Кличка, прозвище’ — в русском, болгарском, сербском и польском; это переносное значение связано с предыдущим. 3. ‘Чья-либо известность, слава’ — также переносное значение, но уже книжного происхождения, известно в русском и западнославянских языках (польском, чешском, словацком), имеющих длительную литературную традицию. 4. ‘Склоняемое слово, которое обозначает предмет, признак, количество’ (грамматически — имя существительное), также известно все славянским языкам с длительной литературной традицией, восходящей к античной. 5. ‘Именины’ — вторичное переносное значение, встречается в некоторых диалектах болгарского, словацкого языков. 6. ‘Знаменитый человек, личность’ в сербохорватском языке также вторично и несомненно связано с общим значением 3. Таким образом, на все значения слова, кроме исходного 1, наложились более поздние значения слова знамя ‘знаменитый, знаемый, знакомый’ и т.д. Это может подтвердить углубленное изучение славянских диалектов. Например, в русских говорах именитый и знаменитый, именитый и знатный — синонимы. Исконное значение слова имя, следовательно, — ‘название (каждого отдельного лица или предмета)’. Значения 1 и 3 в долитературный период, т.е. до момента грамматического и философского осознания различий между лицом и предметом, совпадали: ‘название, наименование’. Так, в ст.-пол. іmіę говорится не только о человеке, это вообще название каждого предмета. В ст.-сл. имя — это όνομα (Slovnik, 769), хотя в некоторых древних переводах с греческого славянское имя стоит и на месте επωνυμία ‘название, прозвище; имя’, κλησις ‘наименование’, ονομασία ‘именование’, προσηγορία ‘название, прозвище’ и др. — все они в качестве исходного общего имеют значение ‘название’. В переводах Иоанна экзарха X в. имя употребляется уже только в значении ‘название’, ср.: «приемли оубо име достоино вещи» (Шестоднев, 239), ср. еще л. 68об, 70 и многие другие, где речь идет о том, что Бог «различными имены отлоучающе и назнаменующе все» явления природы — «и всѣмъ имъ имена зовущю» (л. 118 об), но «аще и не соуть естьствомъ тождества, то имены бываютъ тождества по обычаю» (л. 16) — важное указание на то, что имена даны по обычаю и относятся сразу к нескольким индивидуальным явлениям общего вида. Имя в этом представлении обозначает не индивида, а особенное, служит названием вида, является эквивалентом слова вообще, например: человек, море, конь, «аште ли нерожденааго имене пытаеши, то бытия образъ съказаюште обряштеши» (Изб. 1073, л. 26), т.е. абстрактная и сверхчувственная предметность имени не имеет. В древнерусском языке до XIV в. слово имя сохраняло основное свое значение, хотя в некоторых контекстах и находят переносное значение ‘достоинство (монаха, боярина и др.)’ или ‘слово’ (Срезневский, т. 1, с. 1097-1099). Подобные уточнения смысла излишни, потому что имя и есть в сущности ‘слово’ — такое значение сохраняется и в современных русских говорах. В картотеках Псковского областного словаря и Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей (хранятся в С.-Петербургском университете) находим следующие примеры: «— Вы знаете слово такое? — Нет, это не наши имена!» (Кондопож.); «Девочка — лет до шестнадцати, потом ей другое имя — девка» (Бежан.); обращаясь к диалектологу, производящему запись: «А где ж вы наберете тысячу именоф?» (Бежан.); «Сказано с моего имени», т.е. с моих слов (Каргопол.); «Уж сколько раз писали с моего имени-то» (Каргопол.). Ср. устойчивые сочетания отдать имя ‘оскорбить’, класть имя ‘называть’ и др. Имя — слово-название, которым определяется (ограничивается) известный вид предметов или лиц, поскольку традиционно имена и людям давались «по обычаю», в соответствии с качествами нарекаемого, важными для всего трудового коллектива. Имя собственное — явление недавнее. Этимология слова спорна. Форма *n-men может быть возведена к корню *ьm (ср. ѩти ‘взять’), и в таком случае др.-сл. имя — ‘принятый знак’; говорят также об исходности корня *ĝenǝ- ‘знать’ (своего рода параллель к более позднему znamę). О. Н. Трубачев предложил новую этимологию: «Очень четкая реконструкция для части соответствий и.-е. праформы *en-men/*n-men позволяет увидеть в ней образование от и.-е. *en ‘в, внутри’. Это проливает свет и на вторую группу соответствий, позволяя объединить их вокруг одной центральной реконструкции *(а)nō-men-, производного от и.-е. *ano ‘вверх, воз’, и *en-, и *anō — предлоги; обнаруживаемая здесь у них способность выступать в роли корней древних имен — черта, весьма вероятная теоретически и вместе с тем очень древняя, рано утраченная. Реконструируемая при этом семантика — имя как ‘возлагаемое’, resp. ‘влагаемое’ — производит впечатление значительной древности»[250]. Историка больше интересует не исходный этимон, всегда более или менее проблематичный, а семантическое движение корня в связи с развитием общей структуры языка. В нашем случае все этимологии слова оказываются достаточно интересными, поскольку идея ‘включения’, ‘знака’ и его ‘принятия’ одинаково возможна в различные периоды организации и использования слова-термина. Детальные же подробности бытования этого слова восстановить собственно лингвистическими средствами невозможно. «Наложение» имени больше соответствует реальной обстановке первобытного общества, чем его «принятие», — имя приходит к субъекту со стороны, причем со стороны, для него авторитетной. В истории слова имя показательно совпадение данных по всем славянским языкам и относительная его однозначность: все зафиксированные значения сводятся к общеславянскому одному значению. Это свидетельствует о древности семантики, о последующем сужении исходного значения и своеобразной консервации дальнейших семантических движений. Значения слова с течением времени переосмыслялись, но не развивались. Современные словари русского литературного языка указывают основное значение слова знамя ‘флаг’ и переносное ‘о мировоззрении, программе’. Ненормативные словари (например, Словарь русского языка Грота — Шахматова) фиксируют большее число значений: 1. ‘знамя войсковое’; 2. ‘хоругвь с полотенцем на молениях хлыстов’; 3. устар. ‘печать, знак, клеймо, тавро, все, что в старину служило вместо подписи’; 4. ‘условный знак на меже’; 5. ‘родимое пятно, родинка на теле’; 6. ‘в старинных церковных книгах — нотный знак’ (СРЯ, с. 2757-2759). Историческая последовательность значений указана здесь неточно, это обнаруживается в результате сравнительно-исторического изучения материала. Болг. зна́ме ‘флаг’; пол. znamię: 1. ‘знак, признак, черта’; 2. устар. ‘знамя, флаг’; 3. ботан. ‘рыльце пестика’; ср. znamię macierzyste ‘родинка’, т.е. также определенный признак. Еще в начале XIX в. znamię отмечалось с общим значением ‘знак, по которому узнают’ (Linde, VI, 1122; здесь же основное значение слова знамя как ‘пометка’ указано для русского и сербского языков); в старопольском такое значение являлось единственным: znamię ‘знак’, znamionać ‘означать, показывать, символизировать’, znamionowanie ‘смысл, значение’, но уже с XVI в. существуют znakować ‘означать, выражать’, znakować sie ‘ориентироваться, распознавать’ с корнем znak-, хотя слова znak еще нет. Как ‘знак’ слово знамен указывается также для сербохорватского и для словенского, для чешского и для словацкого, ср. ‘знак’, ‘сигнал’, ‘признак’, ‘метка’, ‘примета’, ‘клеймо’ и другие эквиваленты в словарных определениях. Таким образом, все значения русского слова знамя, зарегистрированные в конце XIX в., — проявление одного общего значения, которое оказывается и общеславянским, а именно: ‘знак (чего-то)’, узнаваемый по какому-то признаку. Сужение значения до конкретного ‘флаг’ свойственно только русскому литературному языку и проявилось недавно. Современные русские говоры указывают на сохранение старых значений слова знамя — ‘примета, родимое пятно, доказательство, свидетельство чего-либо, радуга, знак чего- либо и т.д.’ (СРНГ, 11, 307 и сл.). Особенно ясно независимость диалектной семантики от литературного языка заметна на типично диалектных формах — деминутивах, сохраненных в поэтической речи, ср. знамечко ‘метка, знак’ — «знамечко было на головушке у Добрыни»; знамьеце ‘примета; родимое пятно, родничок’ и др. (там же, 308). В древнерусском языке (Срезневский, 1, 990-991) знамя: 1. ‘какое-либо отличие’; 2. ‘отличительный знак собственности на дереве’; 3. ‘воинское знамя’ (ср. еще знаменные деньги ‘известные, положенные кому-то’), причем первое из указанных значений отмечается лишь с XIV в. В староукраинском знамя представлено только как ‘межевой знак’, ‘зарубка’, ‘след, знак’ (Словник, 405), а в старорусском слово знамя до конца XVI в. употребляется в сочетании знамя бортное ‘владельческая помета на дереве’ или ‘пошлина, сбор’ (Кочин, 129), ср. еще знамя ‘рисунок, подпись’ в языке мангазейских деловых текстов XVI в. (Мангаз., 161). Длительное сохранение исконного значения слова знамя несомненно связано с наличием его литературно-книжного варианта знамение (Срезневский, 1, 988-989), ср. старославянские тексты, в которых не отмечаются слова знамя и знакъ, а слово знамение оказывается многозначным: 1. ‘знак, знамение’ для выражения греч. σημειον, γνώρισμα, χαρακτήρ и др.; 2. ‘признак’ для signum; 3. ‘знак, знамя’ для σημειον в переводе Псалтири; фиксируется также глагольная форма знаменати ‘отмечать, обозначать’, ‘наложить печать’, ‘значить, давать понять’ (Slovnik, 679). Знамение как слово литературного языка всегда связано с обозначением определенной степени чудесного, недоступного познанию, так что И. В. Ягич в качестве основного значения слова признавал ‘чудо’ при соответствии греческому σημειον[251], что вряд ли верно в отношении исходного значения самого славянского корня. Однако одну подробность в употреблении слов знак и знамение следует указать. Она заключается в том, что уже в старославянских памятниках при отсутствии имени знамя широко употребляется знамение и глагол знаменовати. В философских текстах Х-ХІ вв. слово знамя встречается, и притом в значении ‘знак’, ср. у Иоанна экзарха: «оуховьная же ес честь знаема еже е грьчьскыи ловоса, а словѣньскыи краи оушесе, в нем же оусорези повѣшаютъ, дроугоую же честь оставихомъ, акы безнамени соущоу» (Шестоднев, 215) — «... верхнюю часть уха не отмечают названием, поскольку она не имеет никаких внешних знаков выделения». Впрочем, такое употребление слова знамя — редкость, обычно в синонимических отношениях находятся имя и слово, ибо они — «знамения веществьныхъ вещий и дѣлъ» (Шестоднев, 73 об.), вещи называют обычно именем (70). Происхождение слова знамение не выяснено, однако уже в древнейших славянских переводах оно использовалось как традиционно известное. Поэтому Ф. И. Буслаев полагал, что слова назнамение, знамение представляют собою, в числе многих других, кальку с готского (по переводу Вульфилы)[252]. В любом случае важно, что литературно-книжное знамение как слово высокого стиля всегда соотносилось с народно-разговорным знамя, хотя значения этих слов и не совпадали полностью. Мы уже выяснили, что и слово имя в древнерусском еще не сузило своего значения только до указания на лицо (не на предмет, не на признак и т.д.), т.е. оставалось еще именем, не именем собственным. Но точно так же и слово знамя использовалось еще в своем исконном значении ‘метка, пометка’ по крайней мере до последовавшего после XV в. функционального столкновения слова знамя с его литературным эквивалентом знамение ‘примета’. Момент семантического сужения этих слов под давлением системы языка мы определим позднее, после анализа дошедших до нас исторических данных. Третье слово также признается общеславянским по происхождению[253], хотя в старославянских памятниках оно не встречается; современные славянские языки представляют следующий материал. Знак: рус. 1. ‘след чего-то (пятно, рубец и т.д.’; 2. ‘доказательство, свидетельство, признак’; 3. ‘изображение эмблемы как признак принадлежности к чему-либо (то же, что и значок)’; 4. ‘движение (рукой или головой), выражающее волю или приказание’; 5. ‘сигнал’; 6. ‘изображение с условным значением’; укр. знак — книжн. ‘печать (след чего-либо)’; белор. адзнака ‘признак’ (и прыкмета ‘примета’); болг. знак ‘знак, примета’ (в том числе жест рукой и т.д.), но это слово недавнее, прежде ему соответствовало (и до сих пор сохраняется) древнее слово белег во всех значениях; сербохорв. знаки словен. znak ‘знак’, ‘признак, симптом’, ‘сигнал’, ‘(торговая) марка’; словацк. znak ‘признак, черта’, ‘знак’, ‘сигнал’, ‘признак, предвестие’, ‘знак языка’; чеш. znak ‘знак’, ‘признак’, ‘герб, эмблема’; кашуб. znăk ‘знак, примета, признак’; пол. znak ‘знак, метка, марка, отметка’, ‘обозначение’, ‘сигнал’. Распространение слова знак и его новейших значений по славянским языкам неравномерно. В чешском многие значения этого слова по-прежнему сохранились у слова znam-, тогда как znak по существу отражает конкретное значение материальной пометы на предмете, так же как и слово značka ‘пометка, отметка, значок’, ‘клеймо’. Чеш. značiti тоже связано с конкретным значением — ‘метить, обозначать’, в то время как отвлеченное значение ‘означать, обозначать’ является несомненно книжным. Полным эквивалентом слова знамя является знак также и в сербохорватском языке. В лужицких, отчасти и в польском, как можно судить по материалам Линде (Linde, VI, 1119-1120), знак — ‘что-то значит или обозначает’ (3-е значение русского слова); но даже в таком, очень узком и весьма конкретном значении слово знак в болгарском языке признается русизмом, хотя само слово зарегистрировано в сочинениях патриарха Евфимия в XIV в. (БЭС, 648), что очень важно, в частности, и для истории этого слова в русском литературном языке. Можно думать, что оно пришло на волне «второго южнославянского влияния» в XV в. как узкопрофессиональный и философский термин, которым пользовались исихасты. Непродуктивность слова знакъ в среднеболгарском языке объясняется семантической разработанностью древнего слова белег ‘знак, след, признак, отличительная черта’, ср. также сербохорв. бjелег, словен. bеlȇžka и рус. диал. белёг ‘белое пятно, беловатый рубец на теле’; в русском языке белёг встречается в поволжских говорах (СРНГ, 2, 208), что неудивительно, поскольку и само слово является древнейшим заимствованием из старобулгарского со значением ‘знак, отметка’ (БЭС, 41). Все употребления слова белег, указанные по древнерусским рукописям И. И. Срезневским, связаны с южнославянскими переводами раннего времени и соответствуют греч. σύμβολον; это, конечно, еще не ‘знак’, да и в старославянских рукописях это слово не зарегистрировано (Срезневский, 1, 220). Итак, если имя является общеславянским по происхождению и по семантике, а знамя — общеславянским по происхождению, хотя и варьирующим семантически по разным славянским языкам, то слово знак не является общеславянским по происхождению и к тому же не характеризуется семантическим расхождением в современных славянских языках, вступает в самые разные отношения с ранними лексическими воплощениями понятия ‘знак’. Уже одна его многозначность свидетельствует о позднем включении слова в литературный язык. В русском языке начала XX в. знак: 1. ‘черта, пятно, предмет и т.д., что может способствовать узнаванию чего-либо’; 2. ‘признаки, по которым можно распознать что-либо’; 3. ‘начертание, письменное обозначение звука’; 4. грам. ‘признак, отличающий одну грамматическую форму от другой’; 5. ‘условное изъявление мыслей, намерений, желаний внешними действиями’; 6. ‘денежный знак’; 7. ‘украшение, полученное в награду за заслуги’; 8. ‘предзнаменование, предвестие, признак’; 9. ‘доказательство, свидетельство’; 10. ‘один из 12 знаков зодиака’; 11. ‘в естествознании для перевода лат. signum, sema, indicium’ и т.д. (СРЯ, с. 2740- 2744). Значения слова знак, указанные в этом словаре, фактически включают в себя значения слов знамя, имя, слово. Эта словарная статья вобрала в себя все значения слова знакъ, которые когда-либо были известны в русском языке во всех сферах его бытования. Реальное значение слова в различные эпохи развития литературного языка можно выявить из сравнения нормативных словарей. Так, в конце XVIII в. слово знакъ представлено в значениях 1, 2, 8, 9, 10 (САР, 3, 616), но имеет еще и значение ‘указатель’ («здесь звездочка есть знак смысла»). Таково частное значение слова, явным образом связанное с основным, но почему-то важное именно в конце XVIII в. (так же, как для конца XIX в. оказалось важным в качестве специальных выделить значения 3, 4, 6 и особенно 11). В середине XX в. как основные значения слова знак указаны 1 и 9, затем 5, 7, последнее с уточнением: не ‘украшение, полученное в награду’, а ‘значок (как указание на принадлежность к чему-либо)’ — изменилось отношение к функциональному содержанию знака достоинства (отличия) (БАС, 4, 1274-1275). Но самое главное заключается в том, что современный словарь выделяет значения ‘сигнал’ и ‘символ’, т.е. максимально абстрагирует исходное содержание слова знак, уже не связывая его значения с определенной конкретной приметой, метой, признаком и т.д. Это знак в современном смысле слова, философский термин высокого значения. Сравнение лексикографических данных на материале русского языка показало, что последнее значение слова — достояние середины XX в., развитие понятия до XX в. не дает никаких оснований признать за словом знак современного его значения. Слово знакъ появляется в русском языке в XVIII в. В текстах XVII в. оно еще не встречается. В «Номенклаторе» Копиевского 1700 г. знамя природное соответствует нем. Anmahl. У Ф. Поликарпова в его Лексиконе 1704 г. этому немецкому слову соответствует уже знакъ природный. Однако в словарях начала XVIII в. и знамя, и знакъ, выступая в качестве синонимов, одинаково соотносятся с греч. то σημειον ‘отличие, знак, эмблема, признак, сигнал, знамя, печать’ и т.д., и так, в сущности, до конца века, ср. в первом издании САР (2, 100) указание на то, что «значекъ — малое знамя». Наоборот, значение, значити распространены в XVIII в. шире и связаны с греческим словом σημειόω (Поликарпов, 126), но сочетание значение слова появляется только в переводах конца века (также у Радищева и Карамзина), поэтому и первое издание САР (2, 100) дает толкование: «...значение — знаменование, присоединение к чему-либо, особливое понятие. Объяснять значения слов». Однако все значения слова знакъ еще привязаны к исходному значению ‘признак, примета’ — внешний признак, выражающий идею общего (дым есть знак огня, хороший знак, дурной знак и т.д.). В словарях иностранных слов, изданных на протяжении XVIII в., знак — это ‘знамя, сигнал, примета, метка’. Дальнейшая история слова есть история постепенной его терминологизации в связи с успехами науки — БАС уже не указывает, что знак — это ‘предзнаменование, предвестие’, а СРЯ, несмотря на успехи естествознания (см. значение 11), еще ничего не знает о современной теории (лингвистического) знака. Важно отметить, что в XVIII в. знакъ соотносится со словами значение, значить, постепенно развивая свою семантику приподдержке глагольных и книжных (значение) значений слова. Тем не менее еще ощущается несомненная связь нового слова знакъ со старым эквивалентом знамя. Только на протяжении XVII в., как можно судить по текстам, сформировались все те значения слова знамя, с которыми оно первоначально вошло в конкуренцию со словом знакъ. Например, в Вестях-курантах за первую половину XVII в. знамя ‘полотнище на древке’ употреблено 21 раз, знамя ‘войсковое подразделение’ — 29 раз (только в первом томе издания, во втором значение уже не регистрируется), знамя ‘примета’ использовано всего 3 раза. Историческое развитие значений слова знамя должно быть представлено прямо противоположным образом, от третьего к первому: бортное знамя, на дубу грань и знамя и т.д., в деловых документах встречается с начала XV в. (ранняя регистрация — в грамоте 1427 г.) и до конца XVII в. Нижней границей появления слова знамя в этом исходном значении (‘примета, обозначение’) следует признать самый конец XIV в. (Срезневский, 1, 990). Сказание о Мамаевом побоище, созданное в первой четверти XV в., после 1407 г., часто переписывавшееся вплоть до XIX в., имеет пять или шесть серьезно переработанных редакций. В первоначальном варианте текста княжеские знамена в соответствии с древнерусской традицией назывались стягами (хоругвями и др.)[254] Оба слова заимствованы, каждое из них обозначало конкретный вид воинского знамени. В списках и редакциях XVI в. на месте этих слов появляется церковнославянское слово знамение; списки XVII в. заменяют знамение на знамя. На разновременных списках одного текста видно изменение значения слова знамя — от третьего из указанных выше к первому (значение ‘воинское знамя’ регистрируется с 1552 г. — Срезневский, 1, 990). В другом памятнике начала XV в. — Повести о Темир Аксаке — слово знамя также не встречается. В том случае, когда нужно было употребить слово со значением ‘знак, обозначение’, автор использовал слово имя, опять-таки в соответствии с древнерусской традицией: «...яко таковою виною прозван бысть Темирь Аксак, еже толкуется желѣзный хромець, яко от вещи и дѣлъ звание приимъ, по дѣйству имя себѣ стяжа». Таким образом, мы еще дальше углубляемся хронологически в представления, эквивалентные нашему современному понятию о знаке: в ХV-ХVII вв. знаку соответствовало знамя, а до XIV в. — имя. Разумеется, все три слова — имя, знамя, знакъ — со всеми своими особыми значениями сохранились и до настоящего времени, однако история их значений показывает, что данные лексемы отражали разные стадии в развитии общего понятия «знак». Простое сравнение словарных статей, например в Толковом словаре В. И. Даля, показывает, что в этом развитии последовательность лексического воплощения была именно такой: имя — знамя — знак. При этом есть и другая возможность представить последовательность лексических переходов: всегда осознавалось различие между актуальным для данной эпохи понятием (которое выражалось именем существительным) и связанным с ним действием («речью», т.е. предикатом высказывания), что выражалось формой глагола. Мы уже обнаружили подобное расхождение, представленное в сочетаниях типа знаменати имя (в древнейших текстах) и значити знамя (в текстах XVIII в.), которые показывают, что знаменати появляется прежде, чем знамя, а значити — раньше, чем знакъ. В глагольной форме идея знака развивается всегда немного раньше, чем она окончательно оформляется в слове-понятии. Само понятие «значение» восходит к глагольной, а не к именной основе. Сравним изученные факты. В эпоху преимущественного распространения слова имя в качестве его глагольного эквивалента со значением ‘отмечать, обозначать’ употреблялось не слово именовать (которое получило уже конкретное значение присвоения имени собственного), а зна́меновати (в старославянских текстах). Таким образом, последовательность перенесения такова:именовати → имя (номинация) → знаменовати (действие) → знамя (номинация) → значити (действие) → знак (номинация)
Понятие как логическая категория, выраженная именем, развивалось на основе внутреннего изменения значений глагольной формы как отражение определенного действия, связанного (в данном случае) с познанием мира; исторически развитие мысли в суждении предшествует фиксации понятия в термине. Последовательные этапы переключения соответствующего познавательного процесса на понятие определить затруднительно. Вполне возможно, что они связаны с некоторыми грамматическими изменениями, например, с грамматикализацией глагольных приставок, как это можно наблюдать в словинцском диалекте кашубского языка, в котором zaznačic — ‘отметить’, přeznačic — уже ‘определить’, а poznačic и другие производные — ‘обозначить’. При последовательном умножении лексических средств выражения конкретных типов обозначения вполне реальными становятся возможность образования (выделения) отвлеченного от всех них значения, материализованного в слове znak ‘Zeichen’ (Lorentz), и стабилизация нового (отвлеченного) значения в беспредложном глаголе značic ‘обозначать’. В западнославянских языках подобный переходный этап прослеживается легко, ср. значения словац. menovat’, а чеш. jmenovati — и ‘именовать’, и ‘называть’, и ‘назначать’, хотя общим корнем в данных случаях выступает древнейший — имя. Некоторые следы переходного этапа отвлечения понятия можно обнаружить и в русском языке. Обозначать и означать могут совпадать в общем отвлеченном значении ‘иметь значение’, однако это значение является вторичным для них обоих, причем видовая пара первого глагола (обозначить) такого значения не развила, а у второго глагола вовсе нет видовой пары. Грамматические и семантические характеристики слов связаны обратным образом и несомненно влияли друг на друга в процессе развития новых значений слов. В русских говорах слово знак также сохраняет исконные конкретные значения корня, которые сближают его с двумя другими словами того же конкретного значения. В перечне значений слова знак, данном В. И. Далем (Даль, 1, 687), — ‘признак, примета, отличие’; ‘предзнаменование’; ‘предвестие’; ‘чувственное доказательство, свидетельство’; ‘чувственное изъявление, обнаружение чего-либо’, но также знак таможни ‘клеймо’, знак отличия ‘орден’, знак флагом ‘сигнал’, знак скорого вёдра ‘радуга’, — мы, как обычно в словарях, не найдем ни исторической, ни семантической последовательности, тем не менее все приведенные значения слова определенно конкретны и вполне материальны. В русских говорах значения этого слова также конкретны, ср.: «фольк. — ‘признак, примета’ в сочетаниях: знак-отличка, знак-примета, знаку не давать (настойчиво требовать), знаку нет (нет признаков чего- то), положить знак — отметить, показать что-либо кому-то внешними признаками», столь же конкретны и профессиональные значения, например: «очень мелкие крупинки золота, обнаруживаемые при пробной промывке (Амур., Урал.)» (СРНГ, 11, 305). Значение ‘примета’, ‘отметка’, ‘признак’, даже ‘след (чего-то)’, в том числе и след ноги, хорошо известны и современным говорам, ср. картотеки Псковского и Карельского словарей: «...на тому знаку, иде вы шли, мельница раньше стояла» (Холм., Пск.), «...как снегом оберит кругом, так им тады затишины у мене тута-ка стояли под окном, так и знаку не было» = следу не осталось (Пустош., Пск.), «...что ж жаних с невестой приехали, это уж как знак, что веньчаться поехали» (Печор., Пск.). Основное объединяющее все эти частные и конкретные значения слова значение — ‘знакомое, известное’, примеченное и отмеченное. Ср. в связи с тем и следующее высказывание: «Валькина молодая не понравилась, а я говорю: это пока, не со знаку, потом привыкнете!» = пока незнакомы (Кирил., Волог.), «...а это уж знак, что было» = память о том, что было (Медвежьегорск, КАССР). В мангазейских документах знакъ — ‘клеймо, метка’ («знак желѣзной для пятна воров ссылныхъ» — Мангаз., 161 — 1702 г.), т.е. уже инструмент, служащий для памяти, для установления отметки. Семантическому варьированию нет предела, потому что слово знак, закрепившись в русском языке наряду с более известным словом знамя, обслуживает бесконечно разнообразные конкретные явления быта, которые можно передать многозначным по существу корнем знати (общая исходная «внутренняя форма» обоих слов). Вообще, раз уж мы сосредоточились на материале одного языка — русского, следует отметить и то, что в продолжение семантических переходов значения ‘знак’ от одной лексемы к другой возникает некоторая неопределенность терминологии, становится возможным использование и других, близких по смыслу лексем, и на этой почве возникает частичная синонимия. В древнерусском языке в «момент перехода» смысла ‘знак’ от имени к знамени наряду с древнеславянским словом имя и в тех же значениях употреблялись не только знаменье, но и знатьба, а несколько позже и указъ, разумъ и др. В Повести временных лет под 947 г. говорится об Ольге, которая «устави по Мьстѣ погосты и дани, по Лузѣ оброки и дани, ловища ея суть по всей земли, знамянья, и мѣста и погосты» — знаменья здесь означает ‘знаки, отметки’, то, что с XIV в. обозначается как знамя (конечно, это значение слова знаменье является более ранним, чем значение ‘религиозное чудо’)[255]; ср., например, переводы Пчелы, в тексте которой еще и в XII—XIII вв. знаменье — ‘знак’, а не ‘предзнаменование’: «Лѣпа бо рѣчь велика знаменья доброумью являеть» = является знаком возвышенных мыслей (Пч., 152). Знатьба встречается в Новгородской I летописи под 1143 г. в значении ‘след’ («и отинудь безнатьбе занесе»), а также в Псковской летописи под 1404 г. в значении ‘признак’ (распухание железы у человека — знатьба чумы). И знаменье, и знатьба в значении ‘знак, признак (чего-то)’ хорошо сохранились в современных русских говорах, но только северных — новгородских, псковских и олонецких, и притом в конкретном значении ‘метка’ (СРНГ). Знаменье, знатьба, назнаменование (Срезневский, 2, 285-286) — все это конкретные свидетельства чего-то, что зрительно выявлено и потому стало доступным непосредственному наблюдению. Того же значения слова мѣта (в древнерусских памятниках не засвидетельствовано) и указъ; последнее весьма многозначно, как и любое слово данного ряда: ‘доказательство’, ‘пример’, ‘свидетельство’, ‘правило’ (Срезневский, 3, 1177), т.е. все то, что может быть подтверждено конкретным и зримым доказательством. В Послании Якова черноризца к князю Дмитрию Борисовичу рядом использованы слова указъ и указанье, обозначающие то, что познается, ср.: «Любяй господа преже и братью возлюби: указъ бо первому второе; И се ти будетъ указъ... (т.е. образец для сравнения) мужь бо терпеливъ по терпѣнью познаеться» (Посл. Якова, 460). Таким образом, основное внимание до самого конца XIII в. обращается именно на смысл знака, выраженного словом, который складывается из значения и назначения — эти два понятия еще не разделены в представлении средневекового человека. По этой причине довольно часто вместо имя и знаменье употребляется слово разумъ, ср. в Ипатьевской летописи под 1261 г. в рассказе о князе Василько: «Сь же великии князь Василько, акы от бога посланъ бы на помочь гражаномъ, пода имъ хитростью разум; Константинъ же, стая на заборолѣхъ города, оусмотри оумомъ разоумъ, поданы ему от Василка». Контекст двузначен: разумъ в данном случае соответствует греческому слову ῾ο σκοπός ‘наблюдатель, разведчик’, ‘цель’, которое русский эквивалент отчасти и передает (Срезневский, 3, 55). В связи со сказанным важно мнение С. Матхаузеровой, указавшей, что уже Константин-Кирилл различал слова разумъ и глаголъ, т.е. соответственно ‘значение’ и ‘слово’[256]. Ср. в Повести временных лет под 998 г.: «Послѣте ны учителя, иже ны могуть сказати книжная словеса и разумъ ихъ», где разумъ, конечно, — это ‘смысл’, а не ‘значение’. По средневековым представлениям знак — это совокупность значений не только одного слова (что само по себе немало, когда речь заходит о конкретной многозначности слова), но и всех семантически близких (перечисленных выше) слов, и эти значения на основе парадигматических отношений как бы «вкладываются» друг в друга по принципу матрешки; каждое из них раскрывается лишь в определенном контексте и только в четко осознаваемой системе своих собственных отношений и связей, например, только в пределах известного жанра или в ограниченном типе высказываний. В этом- то и заключаются сегодня трудности в понимании и истолковании средневекового источника. Материалы какого бы славянского языка мы ни взяли с той же целью, всегда нам будет препятствовать в процессе сравнения многозначность отдельного слова и составляющая систему иерархическая последовательность парадигматических отношений между «однозначными» словами. Иначе говоря, мы не осознаем весь глубинный смысл слова знакъ, если одновременно не рассмотрим значения слов имя, знамя, разумъ, указъ, глаголъ, слово и др. То же относится и к обозначению словесного знака, т.е. к глаголу. Глаголъ в приведенных текстах не противопоставлен разуму, поскольку в тех же контекстах (например, в сочинениях Иоанна экзарха) глагол соотносится не с разумом — а с гласом (гласы нагы); следовательно, в полном соответствии со средневековым пониманием знака (например, у блаж. Августина) мы можем говорить о том, что глагол есть совмещение гласа и разума, а при таком толковании разум есть ‘означаемое’ — категория более широкая, чем ‘значение’. Это, скорее, содержание (смысл), в котором сплетены и обозначающее, и сама реалия. Нерасчлененность понятия связана с многозначностью слов, его передающих; термин как таковой еще только формируется в семантико-понятийных действиях соответствующих эпох. Синкретизм значений, характерный почти для каждого слова, особенно имеющего отвлеченные значения, ограничивал возможности вербального мышления, однако вместе с тем этот синкретизм способствовал развитию специфически средневековых форм познания — посредством слова и художественного символа. Знак для средневекового человека — всегда символ, т.е. сокращенное изображение какого-то (например, ритуального) действия или предмета, и поэтому он еще не знак в современном смысле слова, а всего лишь знаменье или знамя. Поэтическое отношение к объекту познания, образно-чувственные представления о смысле и содержании явлений еще как бы отстраняют сознание человека от точности и строгости логического понятия. Итак, перенесение конкретного значения ‘мета’, ‘признак’ со слова имя на слово знамя сопровождалось некоторым отвлечением понятия ‘признак’ от конкретности данного знака, особым вниманием к семантической стороне дела — к значению, к разуму слова. Всегда это было связано не с простым именованием, т.е. случайным обозначением по любому признаку, а с необходимостью знать смысл такого именования, раскрыть свойства предмета. В продолжение перехода от слова знамя к слову знакъ лексические варианты возникали, по-видимому, в таком же множестве, как и в момент перехода от слова имя к слову знамя, и часто оказывались случайными заменителями тех слов, которые становились опорной частью формирующегося понятия. Сама логика развития понятия, в конечном счете, препятствовала уклонениям в сторону, так что окказионализмы среднерусского языка остались в стороне и не сохранились. Теперь можно указать на различие в содержании рассмотренных здесь трех слов, на то, как они понимались в средние века и каким образом передавали один другому общее для них всех значение ‘знак’. В ряду имя—знамя—знак определенным образом связаны два первых (общностью древней основы, т.е. формально) и два последних (общностью корня, т.е. семантически). С течением времени основное внимание переносится с формы термина на его семантику: рождается новое понятие, которое требует адекватного выражения лексическими средствами. Теперь важно обозначить не отношение знака к знанию (что в каждом конкретном тексте передается некорневыми морфемами) и даже не содержание слова (потому что содержание стало признаком понятия, а не выражающего его слова), а узколексическое значение слова. В этимологическом смысле изменение содержания понятия при замене слов имя— знамя—знак можно понять как последовательную смену мыслительных действий, связанных с процессом познания: судя по внутренней форме всех этих слов, объект соответственно представал сначала как ‘схваченное (сознанием)’, затем как ‘познаваемое’ и, наконец, как ‘известное’. Эти ступени развития термина соотносятся с известными этапами познания: ощущение—представление— понятие. Поскольку термин знамя был связан с этапом представления как основной формы познания и соответствовал средневековой религиозной идеологии с ее символическими мировоззрением и литературой, возникло множество видовых терминов-слов, обслуживавших различные (частные) сферы творческой человеческой деятельности, таких как образъ, видъ, ликъ, идея и т.д.; многие из них заимствованы или калькированы с греческого (более развитая средневековая культура, византийская, была проводником и новых форм познания, и новых обозначений). Такова причина, затрудняющая изучение терминологических значений наших слов на основе «обычной» лексики или явления. В отличие от этого знамя есть чистый образ, связанный с определенным кругом представлений, которые нацелены на характеристику путем обозначения функций, но уже не качеств как «меток» вещи или явления. Что же касается знака, то он существует «сам по себе», не как эквивалент вещи- явления (подобно имени) и не как образ его (подобно знамени), но обязательно в системе отношений к эквивалентным единицам одной и той же структуры. В семантическом отношении это значит, что имя = знак имеет содержание, знамя = знак имеет смысл, а знак = знак характеризуется значением. В последовательном устремлении от конкретности вещи-явления к абстрактному понятию происходит и все большее отвлечение от частностей временных качеств, и усиление системности знаков как самостоятельной ценности мира познания. Имен могло быть много, в том числе и у одной вещи или у одного и того же лица, что позволяло в разные моменты бытия именовать частное, ускользающее, неуловимое качество как характеристику явления. В отличие от этого знамя уже не индивидуально, оно отражает какие-то коллективные, в известной мере отвлеченные, признаки и служит знаком собственности. Знамя могло быть и индивидуальным, и родовым, соединяя в себе признаки случайные и устойчивые. Знак всегда индивидуален и единичен. Имя — это и есть вещь, «имя — есть покоящийся мир» (К. Аксаков); наоборот, знамя дается, его знают, с его помощью узнают; знак также знают, но он — данное, его не узнают, с его помощью познают. В этих оттенках — важное отличие понимания «теории знака» в разные периоды развития духовной культуры. Происходит не только постепенное, если можно так выразиться, «усушение» знака, но и его освобождение от воли и чувств отдельного человека. Теперь знают уже не в смысле ‘ведают сокровенное’, а узнают как хорошо знакомое. Внутренняя зависимость представления (как сказал бы А. А. Потебня) знамени и знака от действия знати подсказывает, что и перенос терминологических значений со слова знамя на слово знак связан с изменениями значения таких слов, как вѣдати, сказати и др., что завершается в русском языке к концу XVII в. На всех этапах замена лексемы для выражения лингвистического знака может быть представлена как рывок развития мысли, потому что развитие языка как направленное развертывание первоначально заданных смыслов служит для последовательного развития мышления — смены одного момента другим, может быть и противоположным по смыслу, с уничтожением предыдущего момента мысли в точке доминантного, устойчивого, уже познанного качества или функции. Без изменения слова и без последовательных замен лексемами, лишь отчасти совпадающими по исходному значению, не могли бы фиксироваться сдвиги в понятии. На примере славянских языков можно видеть, что диалектический скачок познания оформлялся не прерыванием традиции, а последовательным и постоянным перенесением внимания с одной стороны понятия на другую. Понятие как идея не заменяется, а оттачивается с помощью тех лексических средств, которые к данному времени уже готовы в системе самого языка.
ЧЕСТЬ, СЛАВА, ХВАЛА В ДРЕВНЕРУССКИХ ТЕКСТАХ КИЕВСКОЙ ПОРЫ*
* Статья написана в соавторстве с Н. В. Кара. Имена существительные честь, слава, хвала, которые выражали высшую оценку деятельности или являлись атрибутами высшей власти и силы, близки по значению. В старых исследованиях (И. В. Ягич, И. Е. Евсеев и др.) отмечена вариантность двух последних слов как переводящих одно и то же греческое, хотя в отношении к греческим оригиналам все они чаще всего отражают различные эквиваленты: чьсть — η τιμή, слава — η δόξα, хвала — о αινος. Слово чьсть в древнейших переводах не варьирует с двумя другими словами. По наблюдениям Ю.М. Лотмана, который ссылается на других исследователей, в древнерусских источниках эпохи Киевской Руси слава и чьсть различаются сразу по многим семантическим признакам: нематериальное или материальное выражение высшей оценки (при этом слава выше чести), небесное или земное ее выражение (маркирована слава), вечность или временность проявления (только слава вечна, честь же преходяща). Перед нами типичная эквиполентная оппозиция с равнозначностью обоих оппозитов, поскольку каждый из них маркирован собственным признаком выделения, имеющим некий смысловой синкретизм: «материальное», «земное», «вре́менное»/«духовное», «небесное», «вечное». В доказательство, подтверждающее материальность воплощения чести, Ю.М. Лотман приводит то соображение, что «в русских источниках... честь всегда дают, берут, воздают, оказывают. Этот микроконтекст никогда не применяется к славе. Честь неизменно связывается с актом обмена, требующим материального знака»[257]. Но таково же значение и греческого эквивалента чести — η τιμή, так что наложение культурных коннотаций, по-видимому, не отразило никакого смещения в значении именно данного слова. Более того, углубляясь в изучение древнерусских текстов, мы обнаруживаем множество способов избежать смешения «двух типов чести» — чести и благочестия. Обычно происходит расширение контекста путем добавления уточняющего слова: мужь чьстьнъ и праведенъ (Фл.), мужъ свѣтелъ честенъ (Никол. Мирлик.), а у Феодосия Печерского в его поучениях для обозначения благочестия находим выражения типа свято и чьстьно, чистая и чьстьная и святая вѣра правоверная. В отрицательном смысле чьсть никогда не воспринимается как материальный эквивалент славы. Уже в древнейших переводах греч. η ατιμία, сначала переведенное как досаждение (материальная чьсть как часть добычи не могла обозначаться отвлеченным представлением бесчестья), заменяется в последующих переводах на нечьсть (весьма конкретная по смыслу калька с греческого) и только много позже — на нечьстье и бештестье[258]. Колебания в употреблении двух последних слов характерны и для древнерусских источников, которые в конце концов нормировали русское слово бесчестье с XIII в. (встречается у Серапиона Владимирского, также выходца из Печерского монастыря). Однако в древнерусских текстах мы не находим отрицательных форм к словам хвала и слава. В качестве «честнааго» могут осознаваться: святые Борис и Глеб, а также все то, что является их воплощением или их частью (тело, нозѣ, лице, глава, мощи, кровь и т.п.), честными назывались церковные праздники, икона, образ, крест, венец, святой пояс, а также монастырь, огонь, сонм святых. Честными могли быть мужь, старець, папа, священник. Никакие другие лица и явления этим определением не сопровождались, и ясно, что здесь мы имеем дело с новым, церковным, книжным значением слова. Само определение чьстьныи создано в границах литературно-книжного языка и первоначально обслуживало нужды определенного жанра. Чьстьное есть материальное воплощение святости, достоинство известного положения, состояния — отсюда, возможно, и возникло раздвоение глагольной основы на чьстити и чьтити; первая продолжает выражение материальной «части» (ср. совр. диал. честить ‘ругать’), вторая же соотносится с новыми значениями слова чьсть, нечьстье, бесчьстье, чьстьный и тем самым по основному значению сближается с именами слава и хвала. Приходится иметь в виду неизбежный переход в частеречные знаменатели тех новых значений, которые возникали в исторический период, в данном случае чьсть → чьстьный → чьстити/чьтити. Прилагательное хвальный в древнерусских текстах неизвестно, а в редких примерах из древнеславянских переводов (их приводят исторические словари) оно означало ‘достойный восхваления’. То же относится и к прилагательному славьный — оно слишком многозначно, им переводят самые разные греческие слова, поэтому весьма затруднительно и это образование признать порождением устной (народной) речи; в древнерусских текстах оно также неизвестно, и только с XIII в. в переводах Пчелы, Истории иудейской войны Иосифа Флавия, в поздних русских житиях появляются сочетания типа славный градъ Ростовъ, славное чудо, славная церковь, также в сочетании со словами храм, житие, мужество. Это то, о чем говорят, что может быть восславлено, показано как бы со стороны, извне, что не является достоинством самой святости. Начинают употребляться слова, указывающие на новое понятие о воинской славе: в Житии Александра Невского и его самого именуют храбра и славна, и земля его славна и велика. Обнаруживается близость славы к хвале (это нечто изрекаемое о ком-то или о чем- то) в их совместном противопоставлении к чести, которая по характерным своим признакам (чьстьный) внутренне принадлежит самому субъекту славы или восхваления. «В церковных текстах, — продолжает Лотман, — там, где персонажу, например божеству или святому, автор приписывает всю полноту возможных достоинств и ценности, „слава“ и „честь“ употребляются как нерасторжимые элементы формулы. Именно в этих текстах начинает стираться дружинная их специфика. А с распространением церковной идеологии сочетание начинает восприниматься как тавтологическое»[259]. Утверждение важное, но не полное. В народной литературе, отражающей формулы дружинной среды, также известно выражение честь и слава. Оно встречается уже в Повести о разорении Рязани Батыем (по списку XVI в.). Эта формула выражает указание на субъекта переживания (честь) с последующим уточнением объективного отношения к нему со стороны (его оценка — слава). По такому субъект-объектному типу строились многие парные определители в средневековой народной литературе (горе — беда, стыд — срам и т.д.). В древнерусских текстах, начиная со Слова о полку Игореве, подобная парность представлена широко и именно в данной последовательности компонентов: честь и слава, честный и славный, чьтити и славити; ср. многочисленные примеры в Печерском патерике, у Кирилла Туровского и Серапиона Владимирского, в текстах, посвященных Борису и Глебу. Здесь же выразим наше отношение к полемике относительно сочетания честь-слава. Дружинная формула честь-слава как знак выражения вассальных отношений есть частный случай того слитного представления о субъекте-объекте, которое только что описано. В доказательство того, что честь — видоизмененное представление о «части» (добычи или шире — участи, доли) и потому относится к младшему члену иерархии, а слава — столь же отвлеченное представление о «слове», восхваляющем добычливого предводителя дружины после удачного похода, можно было бы привести и множество других древнерусских текстов, в добавление к тем, какие привел Ю. М. Лотман[260]. Сомнения А. А. Зимина основаны на субъективных посылках, поскольку его задача заключалась в доказательстве позднего происхождения главного источника — Слова о полку Игореве. Прямолинейные его заключения не аргументированы лингвистически: наличие того или иного слова в тексте для него уже есть доказательство, а значения этих слов определяются приблизительно, в свою очередь исходя из контекста. Самую важную особенность древнерусского текста, распространение смысла исходного слова путем добавляющего уточнения, Зимин воспринимает как доказательство своей мысли о ложности «дружинной модели» честь — слава: если, например, в переводе «Истории» Иосифа Флавия говорится о чьсти и многоимании, дарах и чести и т.д., следовательно, честь никак не связана с частью добычи или полона. В действительности же множественность подобных уточняющих распространителей как раз и доказывает, что в представлении церковного книжника XII-XIII вв. дружинная «честь» уже отличалась от «чести» «новых людей», и это необходимо было показать в комментирующем термин слове. Много таких уточнений найдем именно в Ипатьевской летописи: «и подаваючи ему честь велику и дары многи» (1195 г.), «нынѣ возмемъ честь свою» (1195 г.) и т.п. В русской редакции перевода Александрии воины возражают против того, что «хотящю ми оставити васъ безъ славы и безъ чести» (71). Даже в более поздних княжеских житиях находим вполне определенную градацию отношений. В Житии Александра Невского хвалу подают Богу, «песнь и славу поюще государю» (л. 6), но сами воины возвращаются «со многимъ полономъ и съ великою честью» (л. 9). Хотя сам Ю.М. Лотман считает нашу формулу поздним отражением рыцарских представлений феодального периода (на самом деле это древнеславянская формула времен распадения родового быта), наличие исходной модели мы признаем доказанным. В нашу задачу входит рассмотрение вопроса о том, каким образом происходило разрушение семантической слитности древней формулы. Удобнее всего это проследить на однородных текстах (не придется делать поправки на характер жанра или тип текста). Поучения Феодосия Печерского и другие тексты, связанные с литературной деятельностью в Печерском монастыре (вторая половина XI в.), будут здесь весьма показательны. Они предшествуют всем текстам, изученным Ю.М. Лотманом. Слава. В Поучениях Феодосия много устойчивых сочетаний, характерных для древнеславянских книжных текстов. «Взирающе на началника вѣрѣ и съвръшителя Исуса, Емуже слава, чьсть и дръжава» (Феодосий, 181.8). Эта триада не авторская, поскольку в той же последовательности она встречается во многих переводах восточноболгарского происхождения. В отличие от дружинной бинарной, это тернарная христианская формула, в которой перечень достоинств начинает слава, а завершает власть. Слава в текстах Феодосия может быть небесной и земной, что выражается через ее отнесенность к Богу или к человеку: «о Христѣ Исусѣ... емуже слава» (173.26); праведный человек может удостоиться небесной славы: «приимъ славу бесконечьную, чьсти неизреченныя сподобимся» (177.53). Характерно, что «божественной славе» соответствует и не выраженная материально честь — она также представлена как «слово», хотя и неизрекаемое. И в данном случае выше в иерархии то, что не ограничено пределом и не обозначено словом. Слава земная, человеческая несет в себе элемент отрицательной оценки, поскольку такая слава противопоставлена славе небесной: вхождение в иерархию (семантическую корреляцию) приводит к раздвоению смысла слова. В древнерусских переводах может появиться и уточнение («ради славы человеческыя» — Васил. Нов., 441), причем такая слава ассоциируется с гордостью или чрезмерным самомнением (в афоризмах Пчелы или в текстах Златоструя). Уже Климент Смолятич в середине XII в. осуждает мирскую, человеческую славу: «славы иже и сласти не токмо мирьстии желають» (Клим., 123); «не вѣмь, откуду славити ми ся, не бо ми... мощно много пути имѣти до церкви» (104); «но чюдо речеши мнѣ: “славишься)” — да скажю ти сущих славы хотящих» (104) — т.е. «ты мне говоришь, что я славы ищу, так я тебе укажу таких, кто действительно ее желает». После XIII в. слава — прослутье, стяжание[261] — простая известность или плохая слава. Таким образом, сама по себе слава может стать первым шагом к бесславью, и этот смысл слова уже присутствует в некоторых текстах Феодосия: «да яко же суть сами врѣменнии, тако и слава их съ животом скончеваеться» (177.51); «да егда они за тщую славу и изгыбающую не помнятъ» (177.48). Выражение престолъ славы может быть сопоставлено с аналогичным по смыслу алтарь славы, ср.: «брате, и от руки Христовы и от престола славы его приемлеши сию службу» (188.25) — с переводом, сделанным сотрудниками Феодосия и в то же время: «Николѣ Духъ святый явися въ снѣ, ведя ему сѣсти на престолѣ, кажа ему олтарь славы» (Никол. Мирлик., 67). Обратим внимание на выражения типа въздадите славу (169.51), приимемъ славу (177.53) и др., которые характерны для многих текстов Киево-Печерской школы и которые несколько снижают категоричность утверждения Лотмана о невозможности подобных сочетаний в древнерусских текстах. Да, их нет в оригинальных русских текстах дружинного типа, но в церковно-книжных жанрах они возможны: славу, как и честь, можно воздавать, принимать, получать и т.д. Вероятно, это связано с неразделимостью высоты, значимости чести и славы специально в отношении к Богу. Здесь иерархичность отношений стирается через уравнивание в ряду, подобном сочетаниям типа слава, чьсть и дръжава (о такой возможности Лотман говорит), а потому и развивается сочетаемость данных слов; одновременно стирается и признак материального воплощения в понятии о чести. Итак, разрушение исходной дуальности в старом сочетании и чьсть и слава идет по линии стилистической (в высоком стиле становится употребительным так же, как и в нейтральном), контекстной (расширяется лексически путем присоединения уточняющих высказывание слов) и семантической (первоначально, может быть, проявлялось на аффективном уровне как противопоставление славы небесной — хвала — славе земной — хула). В связи с этим интересно отметить встречающееся в одном из Слов Иоанна экзарха и в Житии Николая Мирликийского значение слова слава, связанное с выражением понятия света, воспринимаемого зрительно, а не звучащего слова: слава «сияет», и при особой удаче «узриши славу Божию своима очима» (Никол. Мирлик., 47). В церковных текстах такое преобразование семантики слова, усиление его отвлеченности, становится обычным. На языческую дружинную формулу чьсть и слава накладывались представления другой культуры, значениями переводимых греческих слов расширяя семантику и цельной формулы, и каждого его компонента. В данном случае совмещение слухозрительных впечатлений отражает более архаическое восприятие «славы», а все архаически-традиционное воспринималось как высокое, торжественное, сакральное. Образ, который вырастает из данного расширения семантической емкости славянских слов, есть образ словесный. Ясно, что давление контекста, связанного с процессом включения представлений новой культуры в традиционные формулы устной речи, приводило к семантическому преобразованию и в значениях другого слова — чьсть. Честь в поучениях Феодосия употребляется в отношении к Богу только однажды, в устойчивой формуле славословия (см. 181.8); остальные употребления этого слова относятся к церкви или к человеку. По отношению к человеку честь, как и слава, амбивалентна, она может быть земной и небесной (177.53). Подобно тому как слава на этом уровне словесной культуры уже дается и принимается, так и честь (но обратным образом) изрекается, а не дается. Изменение семантических границ славы вызвало соответствующее преобразование и у чьсти: повышение этического ранга чести определяется расширением представления о славе с его раздвоением. Однако понятие о чести еще не утрачивает своей материальной определенности, она исходит от человека или дается ему: «и повелено ны ест другому толикы чьсти даяти смирения ради» (178.54). Материальная определенность чести нейтрализуется в сочетаниях с определением; как правило, это честь, оказываемая свыше, например: божественный страхъ и чьсть, духовьну нося чьсть (обычные выражения). Включение в норму-образец оппозиции честь—бесчестье позволяло расширять рамки высказывания, придавать ему переносный, художественно оправданный смысл. Если слава может быть доброй и худой, и в этом проявляется ее оценочная характеристика, то чести противоположны нечестье (α-σέβεια в переводе Пчелы) или бещестье (δυσφημία в переводе Кормчей), причем в древнерусских текстах нечестивый становится характеристикой религиозной, а бесчестный — нравственной (оба слова широко употребляются в традиции Киево-Печерской школы), но для древнерусского сознания оба определения, по-видимому, одинаково оставались чуждыми; полученные из другой культуры, они долго воспринимались как книжные кальки, потому что в само́м составе слов не присутствовало «внутренней формы» осуждения или поощрения. Простая, идеологически не заряженная отрицательность не свойственна русскому языку в столь важных словах. Поэтому уже в XIII в. возникают чисто русские эквиваленты с эксплицированной семантикой оценки: злочестивым именуется Батый и всякий иной супостат (совмещение религиозного и нравственного), а благочестивым — противопоставленный ему положительный герой. Национальная форма, которой пользовалось все русское средневековье, была найдена на основе отталкивания от отвлеченностей греческих отрицательных характеристик. Как показывают многие примеры, в древнерусских текстах церковно-книжного характера слово чьсть всегда использовалось в сопровождении других (слава, дьржава, свѣтъ и т.д.): чьстьное и чистое, честенъ и славенъ, честный и святый, честный и преподобный, честенъ и дивенъ, свѣтелъ и честенъ в Печерском патерике, в житиях и т.п. Уточняющие новое значение слова чьсть контексты конкретизируют «положительно-отвлеченное» представление об у-части и на долгое время становятся стилистическим средством возвышения смысла слова до уровня сакрального, а не являются всего лишь результатом уже завершенных семантических изменений. Самое важное в литературе «новых людей» и в складывающемся литературном стиле состоит в том, что слова честь и слава одинаково утратили свойственную им прежде противоположность эквиполентного типа. И честь, и слава могут в книжных текстах выступать и с положительными, и с отрицательными коннотациями, поскольку определяются градуальным рядом взаимных отношений, каждый раз конкретно ориентированных на известное лицо или явление — вплоть до самого высокого и максимально отвлеченного в иерархии средневековой культуры — до Бога. Лотман и Зимин не правы в том смысле, что за средневековую иерархию они принимали типологически и исторически более древний уровень общественных отношений, а именно, бинарность языческого мировосприятия. Средневековая культура иерархически градуальна, ее оппозиции представляют ряд степеней, и в ее границах возникает возможность отлить национальные формы для выражения новых отношений и признаков. Если слава в оценочном аспекте нисходит от Бога к человеку, то честь в ее развитии, напротив, как бы возводится от низшей, человеческой степени оценки до оценки высшей, божественной, от Бога исходящей, — славы. Исходная эквиполентность равноценности разорвана возможностью «растянуть» семантику обоих компонентов формулы и выстроить бесконечный градуальный ряд, в котором маркирована слава — со стороны Бога, и одновременно маркированной остается честь — со стороны земного его образа и подобия. Важны не степени, а направления движения: сверху вниз Преображение в образ, а снизу вверх — Понимание в понятии (для церковного писателя «сходим важнее, чем нисходим», как говорил Нил Сорский в конце XV в.). Семантическое обогащение слов происходит в пределах формулы, но под давлением системы их противоречие снимается в тексте. Хвала. Это имя употребляется в поучениях Феодосия только по отношению к Богу, а памятники той же школы подтверждают, что исключения невозможны. Как только (в переводах Пчелы) это слово относится к человеку, оно тут же утрачивает свой сакральный смысл, и хвала получает негативную коннотацию. Глагольная форма с самого начала употребляется именно в негативном значении, например, во всех вариантах текстов Даниила Заточника хвалитися всегда ‘хвастаться, похваляться’, а славити — ‘восхвалять, прославлять’. Древнерусский язык нашел еще одно грамматическое средство для передачи оценочных характеристик слова: частица -ся фиксирует направленность оценки, маркирует отрицательный член оппозиции. Здесь мы снова сталкиваемся все с тем же средством ограничения лексической семантики: она регламентируется грамматически. У Феодосия (175.38; 175.7; 176.22; 178.42; 179.22) и у авторов и переводчиков его школы хвалу воздают, дают, приносят, что, как и в случае со славой, указывает на некоторое побледнение признака «материальное—нематериальное» в оценочных значениях слова хвала. Представление о хвале соотносится с произносимым словом, с песней, с молитвой, вербально выраженной благодарностью или благоволением; слово проявляется в звуковом выражении оценочного отношения к лицу или факту. Как можно понять из многочисленных контекстов, хвала — начало и начальное выражение славы, исходный момент восхваления: възвестихъ хвалы, услышите гласъ хвалы, пойте хвалу имени Его, дадите славу хвалѣ Его и т.п. Хвала в этом смысле может выступать и синонимом молитвы, а в большинстве служебных текстов, например в служебных минеях, эти слова, в сущности, эквивалентны, ср. и в Изборнике 1076 г.: «молитвы въсылаи къ Богу... и вечернюю и заутрьную хвалу» (л. 112об). Есть и другое отличие хвалы от славы. Слава небесная может исходить от Бога к человеку, но сам человек этой славы не просит, не имеет возможности получить иначе как через даяние; это награда за праведную жизнь, а не милость. Человек сам заслуживает свою славу, не только земную, но и небесную — в этом заключается основной семантический заряд слова. Напротив, хвалу человек может и испрашивать у того, чьим мнением он дорожит, причем просить об этом он может и при жизни. Если слава — награда, то хвала — милость, также исходящая от высшего к низшему в иерархии отношений. В подобном значении слово хвала употребляется часто, ср. в Изборнике 1076 г.: «Нъ тъкмо отъ бога хвалы и милости просити» (л. 107об). Таким образом, употребление существительного хвала у Феодосия является предельно традиционным. Это выражается и в отнесенности хвалы к Богу, и в возможности сочетания с глаголами типа въздати (въздати хвалу по типу въздати чьсть и славу), все три слова, несмотря на исходное семантическое между ними различие, предельно сближены в ритуально важных текстах, а тем самым становятся мерой прочности семантического содержания самих слов — поскольку «затвердели» в художественной форме эталонных формульных выражений. Все они передают уже отвлеченное понятие, высшую оценку действия, качества или лица. Однако в древнерусских текстах ХІ-ХІІ вв. слово хвала может остаточно и сохранять прежние значения, и варьировать в отношении к объекту высказывания по своим новым значениям. Так, в отношении к Богу хвала — это то, что порождает славу, выражает ее, ее материализует в направлении к чести. Словесное выражение славы приравнивается к молитве, изофункционально ей как звучащее слово. По отношению же к человеку хвала, исходящая от Бога, не восходит на уровень внеземной, небесный, она действует на земле, это не награда, а кратковременная милость; такая милость не даруется, о ней просят. Иерархический ранг хвалы ниже ранга славы. Но хвала может исходить и от человека, может быть направлена на человека — в таком случае уже и по определению хвала характеризуется отрицательно, такой хвалы следует избегать. Оценочные характеристики определяются церковно-книжной градуальностью вновь сложившихся отношений, а вовсе не семантикой своих слов. Наоборот, семантика изменяется под давлением системы идеологически важных оппозиций. Идеология движет развитие смыслов, а не внутренние потребности системы языка. В этом-то и заключается основной смысл литературного языка, как его понимали в эпоху Феодосия: это язык, призванный нормировать стихийно возникающие отношения языковой семантики, уложить слова народного языка (речи) в прокрустово ложе внелингвистических оппозиций, подчинить им язык. Однако известных успехов подобная процедура могла достичь только при условии некоторого соответствия реальным языковым изменениям (на грамматический уровень разговорного языка первая литературная школа не покушалась, поэтому в грамматических вариациях и происходили, и отражались в дошедших до нас текстах основные лексические изменения древнерусского литературного языка). Первое, что неожиданно проявляется в результате столкновения семантики слова слава со значениями слов хвала и честь в общем для них градуальном ряду, было раскалывание книжного ряда на две симметричные пары формул: честь и слава (сохранение старых отношений) и честь и хвала; последняя формула со временем стала собственно русским эквивалентом языческой формулы честь и слава, сохранившейся в высоком книжном стиле. Исследователи языка русского фольклора отмечают это сочетание как лексическую цельность (ср. общность ударения и правила синтаксической сочетаемости в былинных выражениях типа честь-хвала молодецкая)[262]. Литературные тексты породили такое новообразование, но семантическим субстратом его было народное представление о двоичности всякого знака (а это знак достоинства), тогда как реальной основой состоявшегося изменения было семантическое развитие самих слов. Введение нового слова в традиционное сочетание связано с изменившимися представлениями о характере действия. Честь и слава, честь и хвала различаются своим отношением к степени действия. Слава длительна, хвала кратковременна — в последнем случае внимание останавливается лишь на начале действия, а выражение предстает своего рода эквивалентом инхоативному глаголу, столь важному в народно-поэтических текстах. Со временем изменится и векторное направление в проявлении действия (это не отражается еще в древнерусских текстах): хвала только от человека к Богу, но никогда в обратном направлении. Градуальная оппозиция требует вектора, поскольку она не имеет маркированности только одного из крайних оппозитов. Но тем самым развивается вторичная форма похвала, выражающая противоположное векторное усилие. В старославянских памятниках хвала и похвала еще полные синонимы, потому что ощущается их одинаковое происхождение (отглагольные образования), но уже в древнерусском языке включением слова хвала в градуальный ряд оценочных слов оно оказалось изолированным от своего словообразовательного гнезда. Слава и хвала сближаются общностью отвлеченного значения, тогда как слово честь на протяжении всего древнерусского периода и как раз в устойчивых сочетаниях еще только отрабатывало переносные значения столь же отвлеченного характера. Выработка таких значений, как «культура нацеленной метафоры», как раз и составляет бессмертную заслугу деятелей первой литературно-художественной школы, связанной в Древней Руси с именем Феодосия[263]. Слава и хвала в общем противопоставлении к слову честь отличаются также своей близостью к глагольным основам. Возможны одномерные сочетания типа славу славити, хвалу хвалити, тогда как слово честь входило в сочетание с различными глаголами (читати, съчитати, чьтити, чьстити). Честь и по происхождению — имя, входившее в четко разработанный круг лексики (чьсть, чясть, у-чясть, позже съ-часть-е и др.), тогда как хвала и слава — отвлеченности, «снятые» с глагольных основ методом редупликации (славу славити, хвалу хвалити — как прекрасно это описал А. А. Потебня во многих работах). Все это несомненно накладывало на эти слова печать некоторой зависимости от глагольной основы в отношении выражения действия, и притом маркированного определенным направлением такого действия (сверху вниз или снизу вверх). Различались же эти слова отношением к способу действия, и сопоставление именных форм с глагольными основами указывает на это различие[264]. С одной стороны, восславити, прославити, с другой же — похвалити, восхвалять, т.е. всегда в положительном смысле (захвалить появляется уже на исходе средних веков). Долго сохранявшиеся словопроизводные связи имен с глагольными основами определили границы варьирования имен и предопределяли выбор «направления» действия. Наконец, что также важно, рефлексия в отношении проявлений «славы» привела к раздвоению смысла — хорошая слава и дурная слава как структуры аналитические по составу требовали замены словом, однозначным в передаче положительной коннотации. Честь и слава сменилось сочетанием честь и хвала, потому что дурная слава — не хвала, а хула. Хвала и хула — разошедшиеся не только по форме, но и семантически вариации прежде общего корня. Еще и в поэтическом рефрене Слова о полку Игореве генетическая и смысловая связь двух этих слов осознается весьма четко: снесеся хула на хвалу. Итак, подводя итог, мы можем вполне определенно сказать, что в первоначально эквиполентной оппозиции «честь» — «слава» уже в древнерусский период на основе столкновения двух культурных традиций со сходными в общем остатками старых противопоставлений, но уже осложненных (с греческой стороны) символикой христианской дуальности, наметились и расширение оппозиции до градуального ряда (не закрытого для последующих лексических и семантических наполнений — и в этом заключается функция градуальности), и определенная устремленность к маркированности исходного члена ряда — слова честь. В жестких границах семиотических по своему характеру отношений и происходили все изменения в значениях рассмотренных здесь слов. Стилистические их преобразования и функциональное варьирование также определялись четкой схемой идеологического характера. Все ключевые слова древнерусского книжного лексикона подвергались изменениям в рамках подобных общекультурных отношений, и только благодаря этому обстоятельству оказалось практически возможным постепенное проникновение в язык тех значений греческих слов, которые их славянским эквивалентам прежде не были известны. Перед нами возникает в своей ясности принцип построения нормы литературного языка на основе порождения литературных текстов, принцип, опирающийся на разрушение языческих семиотических (дуальных) моделей и построение новых, отражающих христианское миросозерцание в его нравственном воплощении; в конце концов, это процесс, направленный на переработку объема и содержания тех понятий, которые по традиции создавали содержательную решетку славянского слова, его «смысл». Этому процессу способствовал и характер древнеславянского слова, которое не имело «значений» в современном смысле (синкретизм значений древнего слова известен). Разумеется, речь не идет об однозначных и определенных терминах бытового и прикладного характера, однако именно терминологическая лексика и не испытала подобных изменений в своих значениях. На многих ключевых словах литературного языка мы видим, что до Феодосия и его соратников этого принципа не знали. Иларион, например, строит свой текст совершенно иначе, традиционно и однозначно. Перед ним не стояла задача создания литературного языка, способного трансплантировать культурные ценности христианского мира на представления языческих славян в их вербальном воплощении. Перед Феодосием такая задача уже стояла. Его собственные поучения построены не как витийственные громы, а как беседа с мало искушенным в писании «милым» и «другом». Соответственно этому он изменяет язык поучения, который становится понятен всем окружающим[265], и тогда становится ясно, что одного упрощения языка недостаточно: необходимо таким образом перестроить текст, чтобы стали понятными его идеи.ИСТИННАЯ ПРАВДА
В данном случае я разумею правду в ее философском смысле.Юрий Бондарев
Говоря о средневековой культуре в Европе, историки выделяют категорию «истина» как основную для того времени. Бог как высшая сущность и истина становился философски осознанным символом и «Божьей правды», так что верному христианину не оставалось ничего иного, как служить уже познанной и заранее известной истине[266]. Слово как посредник между землей и небесами воплощало в себе тот самый смысл, который содержал в себе информацию о сути и сущности бытия. Включая в рассуждение понятие «правда», можно добавить, что в средние века правду следовало постичь, тогда как истина считалась известной. «Что есть истина?» — вопрошал Пилат, и Христос ответил — Фоме: «Я есмь путь, и истина, и жизнь». Такое указание невозможно было оставить без внимания, отсюда неукоснительное следование свойственным Новому завету понятиям об истине. Рационально-однозначное обращение к одной только истине при изучении западноевропейской культуры понятно. Европейские языки не отличают правды от истины, ср. англ. Truth, нем. Wahrheit, исп. verdad, итал. verita, франц, verite и пр. В романских языках слова, обозначавшие эти понятия, восходят к латинскому слову ѵеritas, имеющему несколько значений: 1) ‘правда, истина’, 2) ‘действительность’, 3) ‘правдивость, искренность’, 4) ‘правила, норма’. В греческих текстах Библии этим значениям (кроме последнего) в точности соответствовало слово αλήθεια, которое славяне и перевели словом истина. Согласно Новому завету ложь противопоставлена не правде, а истине: Дух есть Истина, слово (Логос) содержит в себе истину и совпадает с любовью или благодатью; истина делает свободным, за истиной ходят, истина в самом человеке; наконец, Церковь — столп истины. Слово правда, также известное древним славянским переводам, соответствовало другому греческому — δικαιοσύνη ‘справедливость, законность, праведность’ (а также ‘правосудие, судопроизводство’ или даже ‘благодеяние’). Последнее из значений известно только тексту Нового завета, поэтому именно его славянский эквивалент и использовал древний переводчик для обозначения Божьей благодати: правда всегда Божья, она сродни благодати и святости. Она выше истины. Сказанное как будто входит в противоречие с исконным смыслом славянского слова правьда, обозначавшего чисто судебное разбирательство, ср. узаконения, известные как Правда Русская. Чтобы понять сущность возникшего противоречия, сделаем небольшое отступление и разберем значения древнеславянских слов истина и правда. Видно, как рождается само представление об «истине», отталкиваясь от смысла образцовых текстов, в том числе переводных, прежде всего Библии. Происходит последовательный отбор признаков, релевантных для понятия «истина» и на фоне представлений о «правде», более знакомых, по-видимому, недавним язычникам славянам. Исходный корень -ист- при латинском iste ‘тот же (самый)’ выдает местоименное свое происхождение — это указание на «суть» в ее чистом и полном виде, без всякого отношения к бытийности; этимологи отрицают связь с глаголом es ‘быть’, так что ссылки современного поэта на мнение Хайдеггера, якобы утверждавшего подобную связь, есть личное впечатление самого поэта[267]. Зато связь с хеттскими, кельтскими древнейшими словами, обозначавшими соответственно «душу» или «яйцо» (как и «почки» у древних славян) указывает на мистическую отдаленность смысла, связанного с обозначением наиважнейшей части (мирового тела?), способной порождать новое. В древнерусских источниках новое по грамматической форме слово исто обозначало неразменный капитал — «рост». Древнейшие славянские формы прилагательных дробят исто по признакам: истый — настоящий, истовый — точный (совершенный), истинный — достоверный. Истый существует сам по себе, являя собственную свою сущность, истовый принадлежит миру действительности, истинное же проявляется в сознании, оно вторично. Впоследствии два последних определения разошлись в оценке описываемого: истовый — с осудительной, истинный — с положительной оценкой. Таким же определением было и само древнерусское слово истинна, которое сегодня воспринимается (и передается) как имя существительное истина. В самом общем виде это ‘действительность’, данная как ‘законность’ или как ‘справедливость’. Истина одна и едина — на это указывает и суффикс единичности -ин(а). Наоборот, правьда собирательна, и суффикс -ьд(а) выражает этот смысл соборности правды, которая — у каждого своя. Исконное значение корня тут ‘прямой, ровный’, т.е. ‘(по сути) правильный’. В отличие от предыдущего этот корень развивал не имена прилагательные, необходимые для определения признаков, а имена существительные, выражавшие оттенки правыни, правости, правоты, правьды и т.п. Лишь последнее из них соответствовало уже греческому слову со значением ‘истина, правда’ в юридическом смысле, и таковым оставалось единственное его значение. Соотношение выражений суд Божий и правда Божья отражало известный параллелизм в понимании справедливости христианско-церковной и феодально-светской. От корня -ист- могли образовываться и глаголы (истиньствовати), а непосредственно от корня -прав- — нет. В отличие от «истины» «правда» изначально дана в целостном виде, для уточнений высказывания о ней не нужны накапливающиеся со временем признаки и вызывающие эти признаки действия. Понятийный ряд «правд» усложняется только за счет сложных или суффиксальных имен, таких как правоверье, праводеянье, правомерье, православие, православье, правосутье и т.п. «Истина» последовательно уводит мысль в интеллектуальную, объективно существующую или умопостигаемую, требующую разумных обоснований или доказательств сферу. Понятие о «правде» связано с действиями души и духа, отражает не логику мысли, а Логос Духа. Правда божественна, идеальна, истина же всегда земная, всегда при тебе — это земное воплощение правды, «капитал», с каким начинают всякое дело. Правда — воплощение благодати. Истины в суде не искали, за ней не ходили в далекие края, во имя истины не погибали — все это совершали только во имя Правды. Истина противопоставлена лжи и обману, правда же — кривде. «Неистины» быть не может, поскольку истина всегда объяснима, — «неправда» встречается, но только как извращение «правды». Истина пребывает в известном пространстве, правда — во времени, это мечта, идеал — бытие, а не быт. Насколько можно судить по диалектным, этнографическим и историко-культурным материалам, подобное представление о «правде» и «истине» присуще восточным славянам до сих пор. Оно отражает сложившееся в глубокой древности противопоставление правды — истине. Краткие комментарии показывают, что раздвоение «правды» на правду и истину определялось исторически, установкой на новую культуру, и основано оно на исходном различении δικαιοσύνη и άλήϑεια в авторитетных для этой культуры текстах. Синкретическая неопределенность славянского корня -прав- в процессе семантической специализации словообразовательных единиц разрушалась, развивались самые разные оттенки смысла в результате выявленных сознанием несоединимых признаков различения, уже пропущенных через соответствующие имена существительные: правый от право, правильный от правило, праведный от правда и т.п.[268] Исследователь, специально изучавший историю наших слов, показывает, что древнерусская полярность понятия «Wahrheit» как «действительность» — истина и как «справедливость» — правда в результате постоянного взаимодействия терминов в специфической социальной среде постепенно сменялась взаимопересекающимися значениями, причем все время осознавалась тенденция к семантическому расширению слова правда. Но что безусловно объединяло оба слова в их понятийном значении — это то, что оба они отражали жизненно важные ценности духовного характера, с реальностью связанные лишь опосредованно. Различие между истиной и правдой оставалось различием между умственной и душевной сферами жизни, истина, соответствуя действительности, всегда перекрывалась правдой как нормой: правда этична, истина сущностна[269]. Уже с XIII в. известны примеры сочетания обоих терминов, о добром князе сказано, что «правда и истина с ним ходяста» (1237). С точки зрения нашего сознания трудно определить смысл подобного удвоения близкозначных слов, что встречалось довольно часто. При отсутствии слов, выражающих родовые понятия, такое удвоение служило для создания слов общего значения — гиперонимов — по отношению к составляющим их гипонимам. Удвоение выражало единство противоположностей в слиянности их ипостасей. Например, личное переживание, передаваемое значениями слов стыд, радость, горе и т.п., и соответствующее им коллективное состояние, выражаемое соответственно словами срам, веселье, беда, составляли обороты типа стыд и срам, радость и веселье, горе не беда и т.п. Включением в подобную корреляцию обозначений нового понятия правда-истина могли передавать соотнесенную в сознании связь личной правды с объективно данной истиной. Тем не менее представление о правде и истине оставалось внутренне противоречивым как раз в отношении к правде, которая оказывалась в перекрестье самых разных значений, и возвышенных, и вполне мирских, земных. Можно предполагать, что наложение славянского представления о «правде» на христианские — об «истине» долгое время приспосабливалось к славянскому менталитету, никогда не достигая завершенности в понимании диалектически развиваемых идеальных отношений. Этот процесс познания совершается и в наши дни. В середине XVI в., толкуя устаревшую средневековую символику, Стоглав указывал, что священники носят стихарь и фелонь, поскольку «стихарь есть правда, а фелонь истина, и прииде правда с небес и облечеся в истину», при этом правда — слово Божие, а истина — плоть, в которую оно облеклось на земле[270]. Таким образом, первоначальное представление об истине как сути явлений претерпевает некоторые изменения. Известно, что в западноевропейских языках в случае надобности особо выделить представление об истине пользуются словами, обозначавшими именно «суть», существенность (чего-либо). В русском понимании противопоставленность «сути» выражающей ее «форме» дана и аналитически, посредством самостоятельных терминов. Например, Божий судъ — это все-таки Правда, которая только в судебном разбирательстве может принять форму «истины». Перевернутость отношений между правдой и истиной сравнима с присущим нам материалистическим пониманием подобной связи и вполне нам понятна, но средневековое сознание по-прежнему больше доверяет духовной силе правды, хотя бы и личной (в отношении к Богу), чем «объективно представленной истине». Первые исследователи древнерусской ментальности глубоко поняли смысл обсуждаемых понятий и скрытых за ними категорий — через словесное их выражение. Ф. И. Буслаев говорил, что «истина от истый — тот же самый, это научное понятие, а правда — нравственное, и все праведное есть истинно»[271]. Он отмечал неразрывность представлений о правде и истине, причем справедливость всегда связана с правдой, а не с истиной. Так уже четко разграничивались две «правды» — не только истина, но еще и справедливость. В те же годы В. И. Даль дает развернутое определение, включая в него и культурологические признаки: «Истина — противоположность лжи; всё, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть (все что есть, то истина; не одно ль и то же есть и естина, истина?); ныне слову этому отвечает и правда, хотя вернее будет понимать под словом правда: правдивость, справедливость, правосудие, правоту. Истина от земли, достояние разума человека, а правда с небес, дар благостыни. Истина относится к уму и разуму, а добро или благо к любви, правде и воле. Встарь истина означала также наличность, наличные деньги, ныне истинник м. капитал», а «Правда — истина на деле, истина во образе, во благе; правосудие, справедливость»[272]. Точность восприятия исконного смысла терминов в этом словаре поразительная, не ошибается Даль и здесь, давая, как мы видели, много материала для современных «этимологов» — от Мартынова до Успенского. Но именно в этом пункте и начинается расхождение между западниками и славянофилами в истолковании данных терминов. Западники сугубое внимание уделили интеллектуальному, славянофилы — нравственному аспекту двуединой формулы правда- истина. Для славянофила в истине нет существенного, «ибо прекрасное, так же, как истинное, когда не опирается на существенное, улетучивается в отвлеченность»[273]. Для западника, наоборот, «существенность», т.е. суть, и представляет собою материальную сторону бытия: «Истина есть узнанная сущность» для Герцена[274]. Все ясно Киреевскому, ведь он не исходит из умозрительных типологических схем «положительной науки», а доверяет смыслу природного (русского в данном случае) слова: «Мир свободной воли имеет свою правду вечной нравственности», потому что правда связана со справедливостью, а истина — нет[275]. Ущербность истины в отношении к правде и в ее, истины, относительности. Абсолютная правда, хотя бы как идеал, устремленный в будущее (как всякий идеал, пришедший из прошлого в качестве идеи), всегда существует, в то время как «нет истины абсолютной (при идее бесконечного развития), т.е., проще говоря... нет истины. Нет, стало быть, и красоты безусловной, и добра безусловного»[276]. Для Чаадаева, напротив, «все сделала идея истины... человек стал во всяком положении жаждать истины и быть способным к ее познаванию»[277]. Подчеркивая относительность истины («ни одна истина никогда не схватывается сразу со всех сторон»), ее диалектическую связь с ложью, которая тоже «есть только известный способ нашего личного отношения к предмету», К. Д. Кавелин уже не противопоставляет столь резко истину правде: «В числе этических идеалов на первом плане стоит стремление прежде всего к истине, правде и душевной красоте. В объективном смысле истина, правда и красота являются как результат стремления, как известное сочетание явлений и данных»[278]. П. Л. Лавров объединяет полезное, истинное и справедливое в качестве трех ипостасей правды, чаще говоря об «истине и справедливости», чем о правде как таковой (род, а не вид). В средние века «под истиною подразумевали мистические положения, недоступные пониманию и требовавшие лишь тупого повторения»[279], тогда как, по его мнению, наука-знание есть первая область «нравственного мира», осуществляемая в социальной деятельности. «Следовательно, цели прогресса представляются в формулах истины и справедливости как удовлетворяющие научной и нравственной потребности развития»[280]. Общая ориентация на ratio «истины» делает избыточным понятие «правды», его вполне заменяет в глазах Лаврова «голая справедливость». Параллелизм «правды» и «истины» в восприятии русских мыслителей отчетливо проявляется и в толковании категории «благо», основные компоненты которой и суть — красота, истина и польза[281]. Рассудочность философствования в таком духе приводит к полной элиминации категории «правда» и к полному забвению категории «благодать»[282]. О последней вспоминают лишь философы, связанные с воззрениями славянофилов. Этой проблеме уделяет внимание В. С. Соловьев. Идея, восходящая к Илариону (XI в.), формулируется по-новому: Благодать — это иное именование (самоназвание) нравственности; она противопоставлена Закону, который формален, является чисто внешним выражением личного интереса, т.е. одной лишь «пользы». Благодать же содержательна, имеет внутренний характер и бескорыстна, переходит в Любовь. Закон связан с количественными, Благодать — с качественными преобразованиями. Таким образом, за перечисленными Соловьевым признаками Благодати скрывается та самая «правда», которая не может быть формальной правдой по определению (поскольку в таком случае она опять-таки становится «отвлеченным понятием», которых справедливо опасаются все славянофилы)[283]. Именно Соловьев окончательно разрывает средостение, соединяя «истину» и «правду» (а не заменяет их определения другими терминами), и связывает «истину» с интеллектуальной, а «правду» с этической стороной человеческой деятельности; при этом «истина» для него есть всеобщий закон, содержащий известный смысл; она не может быть отвлеченной, ее открывают в процессе исследования как проявление «теоретического вопроса о содержании», тогда как «практическая истина, остающаяся только в теории, есть непоследовательность»[284]. Диалектику взаимодействия правды и истины Соловьев представляет следующим образом: русский народ «хочет правды, т.е. согласия между действительною жизнью и тою истиной, в которую он верит (в истину верят). — В. К.). Истина, в которую верит русский народ, хранится в православной церкви... Народ наш не хочет одной отвлеченной истины, которая держится в памяти, хранится в предании, — он хочет истины, которая действует в жизни и этим действием себя оправдывает, становится правдою»: тот, кто хочет охранить истину, — хоронит ее, поскольку истина, в отличие от правды, не дана в целостном виде и только развивается в правду.[285] «Сущая истина» — божественного происхождения, она безусловна, независима и довлеет себе и как полнота Блага не допускает зависти, в ней нет границ, она постигается не умом, а духом, что возможно лишь личной причастностью истине — такова эта «правда Божия, которая одна есть истинная». Таково представление об Истине, которая «есть сама в себе вечно, безгранично и совершенно, ничьим частным достоянием, принадлежностью или преимуществом она быть не может», ибо Бог есть внутренняя истина, в то время как Правда, противополагаясь греху, представляет собою человеческое совершенство в уподоблении божественной благодати. Подобное понимание Правды сужает ее границы, опять-таки сводя к концепту «справедливость». В целом Соловьев отходит от старорусских представлений о правде-истине. «Божья правда» у него оборачивается «Божьей истиной», возможно, потому, что ratio истины и для этого философа важнее Логоса правды. Психологически точно различие между правдой и истиной ощущали писатели. «В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический», — говорил Достоевский; людям «русского корня нужна правда, одна правда без условной лжи»[286]. По мнению Льва Толстого, истина — всего лишь отношение выражения к обозначаемому им предмету: «Ложь есть только несоответственность отношений в смысле истины; абсолютной же правды нет»[287]. Нет смысла умножать примеры из русских классиков, поскольку точных философских или лингвистических определений мы у них не найдем. Предпочтение правды истине мы находим у более поздних авторов, уже выходящих на рубеж XX в. Для В. В. Розанова истина — это «мелькание», тогда как правда — это «добро и дело»[288]. Для его последователя Михаила Пришвина правда есть «общая совесть людей», «истинная правда не лежит, а летит», да «если бы не было правды на свете, то как бы понять жизнь русского человека?». Пришвин ничего не говорит об истине, для него она не существует, тогда как «правда приближается к человеку в чувстве силы и является в момент решения бороться: бороться за правду, стоять за правду. Не всякая сила стоит за правду, но всегда правда о себе докладывает силой»[289]. Таким образом, если на исходе XIX в., подводя итоги рассуждениям о правде-истине, народник Н. К. Михайловский говорил о правде-истине и правде-справедливости как о двух ипостасях Правды[290] (не истины!), в начале нашего века подобное расхождение кажется уже неосновательным, поскольку философствующий разум, опираясь на факты действительности, за «истиной» событий не видит никакой «правды». Обращение к одной какой-то стороне правды-истины постоянно определялось историческими событиями, на фоне которых выявлялись все новые признаки то «правды», то «истины». Синтез художественных (образных) и философских (понятийных) представлений о правде-истине дал Н. А. Бердяев, афоризмы которого можно было бы принять за окончательный результат исследования этой проблемы[291]. По мнению Бердяева, основанному исключительно на его интуитивном восприятии русского слова, «пафос истины и правды ведет человека к конфликту с обществом», независимо даже от установки на ту или иную ипостась «сущего». Но при этом если «истина лежит по ту сторону оптимизма и пессимизма», то «вопрос о правде и лжи есть основной моральный вопрос». Интеллектуальный характер «истины» этот автор подчеркивает неоднократно («наука ищет истины, и в ней отражается Логос»), замечая, что истина всегда дробна, не все в состоянии объяснить, что она не связана с идеей справедливости, поскольку вообще «христианство явило не идею справедливости, а идею правды». «Умственное развитие есть приближение к истине, нравственное к добру, эстетическое к красоте»; истина и относительна, и не может быть объективной, вообще «истина есть торжество Духа. Целостная истина есть Бог». Истина как Бог и истина со строчной буквы — это противоположности целостного единства и множественного мира сего. Используя присущие языку формы числа, философ разграничивает Истину и истины (истину и «истины»), тем самым повторяя уже произведенное раздвоение концепта «правда» — на правду-истину и правду-справедливость. Но если то исходило из естественной для русского языка специализации значений словесного корня -прав- (по признакам «правильный» и «праведный»), то в отношении такой же операции с концептом «истина» совершается явное насилие — в угоду логическим схемам концептуального характера (см. сноску 17). Истина едина, так полагал некогда и сам Бердяев, говоривший в 1901 г., что, в отличие от правды, истина логически обязательна для всех и потому не всегда может быть полезной; теперь же истиной признается не просто смысл или отношение к референту, и не только Логос, но и «торжество Духа», т.е. Бог. Место правды-истины и правды-справедливости занимают Истина и истины, умопостигаемые как воплощение божественных потенций преобразованного Логоса. А что же правда? «Правда не на стороне метафизики понятий, не на стороне онтологии, имеющей дело с бытием, правда на стороне духовного познания, имеющего дело с конкретной духовной жизнью и выражающего себя символами, а не понятиями», и к тому же «существует Сущая Правда, она не исходит на мир и на всё, что в мире, но она должна открываться и вочеловечиваться». Так возникает новое представление о «цельной системе правды», которая лежит совсем не там, где, в частности, искал ее Михайловский. «Он прежде всего неправильно противополагает правду- истину правде-справедливости, называя одну из них объективной, а другую субъективной. Правда всегда объективна, субъективно лишь то сознание людей, которое составляет различную ступень приближения к вечной правде». Правда все-таки вечна. Последующие экспликации славянских терминов ничего нового не добавляли. Концептуальное поле нового времени сложилось. Например, для С. Н. Булгакова «та двуединая правда, о которой так задушевно говорит г. Михайловский, есть ли, вместе с тем, и правда-мощь, все побеждающая и превозмогающая? Есть ли Добро, есть ли Правда? Другими словами, это значит: есть ли Бог?»[292] Попытки свести все рассуждения к абстракции-символу Бог отчасти спасают доведенную до чрезмерной тонкости интерпретацию исходного термина: ведь Булгаков по существу продолжает, доводя до логического конца, славянофильскую идею небесной «Высшей Правды», которая «истинствует» в земных обличиях[293]. Но еще А. С. Хомяков полагал, что «истина и сила одно и то же... Истина и одна истина есть сила»[294]; в ответ народники (в лице Ткачева, Шелгунова и др.) полагали, что истинна только справедливость «в сфере практических отношений людей»[295]. Понятно, отчего возникло подобное толкование истины: «Крестьяне, однако, думают, что кроме силы есть на земле еще и правда, и вот эту-то правду они упорно и отыскивают»[296], — «истинная правда» существует лишь в настоящем, и «предыдущего у нее нет». Эти слова Шелгунова возвращают нас к практической деятельности социалиста, который занимается расшифровкой народного термина «правда», а не интеллигентски-запутанной христианской проблематикой «истины»; именно первое необходимо русскому крестьянину, поскольку «в правде его искренность, в правде его нравственность, в правде его объективность. И опять — что же такое правда?» Сколько бы лет ни прошло с момента окончательного синтеза двух культур, народной и христианской, постоянное возвращение к идее «правды», которая противопоставлена рассудочной «истине», отражает интересы («пользу») сиюминутной борьбы противоположных взглядов. Характерно это крестьянское равнодушие к «истине», ее преходящий смысл не привлекает, хотя прагматическая полезность «правды» признается, и непреходящий интерес к ней сохраняется. Такая правда и есть истина. «В строе жизни, повинующейся законам природы, — говорит Глеб Успенский, — несомненна и особенно пленительна та правда (не справедливость), которою освещена в ней самая ничтожнейшая жизненная подробность... Лжи в смысле выдумки, хитрости, здесь нет — не перехитришь ни земли, ни ветра, ни солнца, ни дождя, — а стало быть, нет ее и во всем жизненном обиходе. В этом отсутствии лжи, проникающей собою все, даже, по-видимому, жестокие явления народной жизни, и есть то наше русское счастье и есть основание той веры в себя, о которой говорил Герцен»[297]. Кстати сказать, в содержательном этом высказывании, которое привязывает понятие о правде к условиям хозяйственной жизни русского крестьянина — основного носителя «русской правды» в противоположность заемной «истине», — как бы вскользь брошены слова, каждое из которых заслуживает внимательного истолкования (например, вера понимается как верность). Человеку нужна не столько истина, сколько убеждение в ее истинности, т.е. причастности правде, потому что сознание русского крестьянина в его деле действительно окрашено нравственно, тогда как «истина — принадлежность идеального мира, а не материального»[298]. Современные нам попытки эксплицировать ведущие признаки категорий «правда» и «истина» страдают предвзятостью и односторонностью. Они политически или идеологически заострены, искривляют мыслительное пространство русской ментальности, говорить о них бесполезно, ибо они не обогащают сознания философски. Исключением является толкование В. Кожинова: в своих рассуждениях он отталкивается от глубоких мыслей Михаила Пришвина и, следовательно, через него связан с русской традицией философствования — философствования исходя из глубинного смысла ключевого слова национальной культуры[299]. Обширные материалы Дитриха Кеглера по восприятию наших концептов в ХІХ-ХХ вв. полностью совпадают с результатами рефлексии русских философов того же времени и накладываются на историческую цепочку семантических переходов в словах истина и правда. Совершенно справедливо семантическую емкость слова истина Кеглер представил в виде треугольника с движением смысла сверху («абсолютная истина») вниз, а семантический спектр слова правда он показал через круг с размытыми по краям семантическими переходами от объективной к субъективной ипостаси «истины». Истина предстает как истекающая из концепта, концептуально ориентированная форма правды-истины, тогда как правда дана как постоянное и незавершаемое движение смыслов, гибко отражающих каждое дуновение времени. Это энергия кругового вращения: из истины исходят в мышлении, вокруг правды вращается мир. Правда включает в себя истину, но только там, где она не противоречит правде, и единство объективной и субъективной «истины» в слове правда широким веером рассеивается бесконечными оттенками смысла при каждом новом использовании слова правда[300]. Правда растет за счет истины. Краткие извлечения из различных источников, приведенные здесь, показывают (хотя бы отчасти) логику развития ключевых слов русской культуры. Философская рефлексия также постоянно переносит внимание со стороны «истины» на сторону «правды» и наоборот, и предпочтение одного из концептов другому всегда определяется социально-нравственными установками и задачами, которые общественное развитие ставит перед философом. Подавление интеллектуального нравственным, истины правдою, или наоборот, на каждом повороте истории позволяет выделять все новые грани категорий «истина» и «правда». Уточняющий смысл каждого из этих слов — переход правда-истина → правда-справедливость → правда-сила → правда-мощь → правда-камень (последнее — у Пришвина) в их последовательности при отсутствии параллельной этому специализации признаков у категории «истина» раскрывает содержательные концепты этических представлений о «правде» как основной категории славянской народной этики. Не в том ли и состоит труд философа: в народном символе узреть сущность происходящих событий и экспликацией актуальных его признаков передать другим свое понимание сущности этих явлений? «Вначале было Слово» — оно и остается исходным элементом мысли, слово-Логос с неизведанными его глубинами, которые раскрываются через суждение-предложение, но не создаются им. Вся философия вокруг слова — всего лишь парафразы в череде столкновений слов и семантических их сближений. Как заметил тот же Михаил Пришвин, «правды надо держаться — истину надо искать».
Postscriptum. Сказанное здесь о сборниках «Логический анализ языка» сегодня можно дополнить. Вышел специальный том «Истина и истинность в культуре и языке» (М., 1995). Из того, что говорилось на эту тему в предварительных публикациях, здесь многое уточняется; особенно интересны статьи Н. Д. Арутюновой в этом сборнике («Истина и этика», с. 7-23) и в швейцарском издании[301]. Включение в исследование этического компонента «истины» здесь все же по-прежнему сводит правду к истине, да и сама правда рассматривается под углом зрения иудейско-эллинских представлений Библии, относительно текстов которой уже замечено[302], что славянское представление о правде как Божьем суде и потому, в конечном счете, как о Судьбе в конце концов заместило библейские представления об истине как высшей правде («Я есмь истина...»). Нравственное чувство славян противилось меркантильному восприятию правды-истины как «капитала», даже данного в виде Благодати. Замалчивание рассуждений и фактов П. А. Флоренского по этой теме также весьма знаменательно. Цитаты из зарубежных источников непроясняют смысла именно русских концептов (всюду заметна тенденция говорить об «общечеловеческом» — типологическом — концептуальном поле), а утверждения вроде того, что «семантическая поляризация и в паре правда-истина, и особенно в паре добро-благо... — достижение в основном последних полутора веков» (с. 34), или что правда всего лишь степень «не-лжи» (с. 24), что “la verite-pravda partielle cesse d’ȇtre la verite” (p. 19), или что только в суждении мы можем раскрыть сущностный смысл концепта (и не только в отношении к нашей теме), попросту ошибочны применительно к русской ментальности. Материалы, все увеличивающиеся количественно, дают основания для многих раздумий на эту тему, и притом методологически важных раздумий. В частности, «правда жизни» у русских писателей, о которой много говорится, — это ведь правда по-русски понятой «реальности», а не заимствованный натуралистический концептуализм, согласно которому слово равно вещи, а правит всем — концепт. Правит всем все-таки правда.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ВЕЩЬ
Тако же и князь не самъ впадаетъ въ вещь, но думци вводятъ.Даниил Заточник
Таково единственное, пожалуй, употребление слова вещь в оригинальном светском памятнике домонгольской Руси. Б. А. Ларин дважды высказывался об этом контексте. Он говорил, что «хорошо знакомое слово вещь в “Молении” [Даниила Заточника, конец XII в.] употреблено в значении ‘несчастье, бедствие’... слово вещь с таким значением... ясно указывает на связь с чисто книжной традицией»[303]. Иначе: «Смысл этой фразы раскрывается при сопоставлении с такими: “...въ Пьсковѣ миряне судятъ поповъ и казнятъ ихъ въ церковьныхъ вещехъ” (Грамота митр. Киприана 1395 г.)... Значение слова вещь в нашем контексте редкое, необычное: ‘проступок, грех, преступное дело’; следовательно, впадать в вещь — формула, синонимичная совершатъ грех, преступление, но, в отличие от последней, идиоматичная»[304]. Словом, грех да беда на кого не живут, а в данном случае так и получается: либо греховный поступок, либо несчастье. Рассматривая этимологию слова, Ларин заметил, что «лексема вещь в древнерусском языке гораздо более абстрактна, чем в современном: древнейшее значение — ‘слово’, более новое — ‘предмет’»; он справедливо добавил, что слово не привлекало к себе внимания исследователей, и с ним необходимо согласиться, что — напрасно[305]. Оно исключительно важно для осознания древнерусской ментальности и культуры[306]. В русский язык слово вещь проникает как факт литературного языка, через переводные памятники письменности. Уже его форма на это указывает. *Vekt- в русском произношении дало бы форму *вечь, однако мы имеем только вещь (ср. нощь при русском ночь). И северные, и южные древнерусские рукописи одинаково (несмотря на разную фонетику говоров) смешивают буквы е и ѣ в написании этого (но только этого) корня. Общее значение слова на русской почве сразу же получило свою интерпретацию, отличную от значений слова в церковнославянском (мы увидим это на сравнении двух переводов Пандект Никона Черногорца: в древнерусской и болгарской версиях слово различается по смыслу). В переводных повествовательных текстах слово вещь последовательно заменено словом дѣло в значении ‘событие’, ср. Физиолог, Сказание об Индейском царстве, Девгениево деяние, XII снов Шахаиши, Повесть об Акире и многие другие. Основная масса текстов, в которых употреблено слово вещь, связана с книжной деятельностью монахов Киево-Печерского монастыря начиная с середины XI в.; в самом Киево-Печерском патерике 23 раза употреблено это слово в значении ‘непреднамеренное событие, которое требует истолкования’, ‘земное дело, исполняемое по обязательству’. Значение слова вещь как ‘предмет, являющийся изделием человека’ вообще является поздно, не ранее XIV в. По многим исследованиям и источникам можно проследить, как переводили древние книжники некоторые из расхожих греческих слов: ῾ύλη в первоначальных переводах — громада, затем, в Симеоновскую эпоху (X в.) — вещь; φύσις сначала естьство, затем все чаще — вещь, причем в русских списках на месте этого слова (естьство) обычно стоит существо; по-видимому это связано с тем, что в древнерусском естьство значило не ‘суть’, а ‘свойство’ этой сути, признак (как можно судить на основании некоторых контекстов, например, в древнерусском переводе Пчелы, XIII в.). Στοιχέιον ‘стихия’ сначала поняли как съставъ, затем вполне определенно как вещь, и эта замена произошла в ту же Симеоновскую эпоху развития славянской книжности, ср. совершенно «свежую» глоссу «нъ възираяи на вся стухия рекъше на вещи» (Ио., 393). Πράγμα дает и вещь, и дѣяние, но в русских списках с XI в. на соответствующих местах находим неопределенное ничтоже или многозначное дѣло.[307] В переводах юридических текстов πράγμα всегда вещь — десятки раз в Кормчей, в Законе судном людем, Книгах законных и др., причем многозначность греческого слова переходит и на славянское вещь — это и ‘дело, действие’, и ‘занятие’, ‘предмет, вещь’, и ‘дело, вопрос’, и ‘обстоятельство’, и ‘существо, лицо, личность’, но также и ‘хлопоты, неприятности’, еще и ‘могущество, сила’, также ‘государственная власть’, да вдобавок и ‘интриги, коварство’. Наоборот, ῾ύλη в Кормчей несколько раз переведено словом вещьство и только однажды как вещь (175), что доказывает связь нового образования вещьство от вещь по модели естьство и сущьство; слово вещь по-прежнему сохраняло исходный семантический синкретизм, но развитие новых словообразовательных типов постепенно вычленяло отдельные значения корня; это уже собственно славянский способ раскрытия и конкретизация синкретичного слова. Другие греческие (и латинские) слова, эквивалентом которых стало славянское слово вещь, встречаются по источникам реже. В переводе Хроники Георгия Амартола вещь заменяет греч. γένος ‘род, семейство, класс’ в классификационных исчислениях, ῾υπόϑεσις ‘основа, тема’, но также и ‘начинание, предприятие’, πραγματέια ‘дело, занятие’, ‘область, раздел’, ‘учение (о чем-то)’, ‘литературный труд’, ‘судебный процесс’ и т.д. Именно восточноболгарский язык эпохи царя Симеона оказал особое влияние на развитие древнекиевской литературной нормы со второй половины XI в., поэтому слово вещь как эквивалентное почти всем отмеченным здесь словам греческих текстов находим, например, в сочинениях образцового писателя Иоанна экзарха Болгарского; ср. Изборник 1073 г., переписанный с восточноболгарского оригинала, с тем же распространением слова вещь как единственной замены греч. ῾ύλη, πράγμα, φύσις, στοίχέια. Это чрезвычайно важная особенность переводческой техники именно данной школы; ее заимствовали и древнерусские переводчики: отвлеченные понятия, в греческом языке выраженные самыми разными словами, у славян постепенно как бы собирались в семантическом фокусе одного-единственного слова, образуя его функциональный синкретизм и вместе с тем отрывая от конкретности первоначального (буквального) перевода, «вынимая» его из контекста и образуя термин философского содержания. Отвлеченность и собирательность представляют разные стороны одного и того же явления и соответствующим образом интерпретируются в средневековой культуре. Однако тем самым для всякого непосвященного текст оказывался маловразумительным и требовал истолкования. Одновременно слова конкретного значения либо переводились точно по смыслу, либо передавались множеством славянских слов — каждый раз исходя из конкретности данного контекста; в том же Изборнике 1073 г. греч. οικος в разных местах переведено как полаты, домъ, храмъ, храмина и др. В оригинальных древнерусских текстах слово вещь не встречается, только книжники Киево-Печерского монастыря заимствовали его и стали культивировать в своих текстах. Вещи нужно разуметь, видеть, возвещать, творить, исповедать, держать — всегда проявлять их сущность в действии и раскрывать их суть. Такова характерная для средневековья позиция в отношении к символике отвлеченного понятия: одно раскрывается через другое, но все смыслы одновременно сокрыты в общем корне. Только текст изъясняет их. С самого начала, отлившись в законченный термин, слово входило в высокий стиль специальной литературы и было не столько объектом филологической работы, сколько опорным идеологическим термином[308]. В. Н. Топоров назвал мифопоэтической триадой связку мысль—слово—дело, причем последнее «кодируется корнем от Verb subst., напр., в прусском astin ‘вещь’, ‘дело’, ‘действие’». В языческой древности оно было связано с обрядом, «относящимся к “положительному кругу”, с др.-инд. su-asti (svasti — ‘благое состояние’, ‘благополучие’, ‘здоровье’, ‘счастье’, ‘благословение’, букв. благое/хорошее бытие), словом, с исключительной сакральной и символической функцией»[309]. Сам В. Н. Топоров сопоставляет этот корень с русским диалектным есть ‘богатство, имущество, достаток’ и его производными: есте́вный ‘справедливый’, естино, еслеть ‘сила’, еслина и т.п., хотя во многих подобных образованиях можно видеть результат фонетического чередования исто́—есто́, возникшее на основе постоянно безударного первого слога; это уменьшает надежность сопоставлений с русским материалом. Зато связь прусского и особенно санскритского слов с древнеславянским (и особенно по семантике символа) вещь вполне вероятна, причем вещь оказывается, скорее, последним членом семантической триады, в значении которого сохраняется и идея о значении двух предыдущих компонентов ритуального «круга». В древнерусских переводах XII — начала XIII в. слово вещь для греч. πράγμα встречается уже обычно, ср. в Пчеле: «Да не устрашатъ вы рѣчи, да не опечалуютъ вы вещи» (225), «многомолъвление многопадение имать, молчанью же тверда вещь» (310; в греч. τό δέ σιγάν ασφαλές ‘надежно молчанье’ — эквивалента славянскому слову вещь вообще нет); «едино лѣто четыре измѣны имѣеть, и едина черта временная многы вещи измѣняетъ» (174), т.е. и дело, и мысли, и поступки (ср. еще 23, 25, 125, 176, 224, 303 и др.). Все это — в неопределенном значении, хотя преобладает смысл ‘поступок’, а не ‘деяние’. Переводя афоризм Горгия о «красоте» полиса, человека, души, тела и т.д., древнерусский книжник для πράγματι δέ αρετή избирает сочетание «а вещи — добродѣяние» (289), тем самым подчеркивая, что не всякая [вещь] есть деяние, тем более — доброе деяние. Даниил Заточник в своих афоризмах зависит от Пчелы и в своей версии дает уже сочетание «впадати в вещь», подчеркивая всю отрицательную оценку поступка, а не деяния: «Не огнь творит разжение желѣзу, но подымание мѣшное; тако князь не самъ впадаеть въ вещь, но думцы вводят», — он говорит уже о «бытейских вещех»[310]. В современном нам сознании прагматизм неизбежно связывается с «вещизмом» — поскольку такой именно смысл получало новое книжное слово специально в древнерусском литературном языке. Отвлеченная по смыслу синкрета получала отрицательные коннотации, и тем самым в границах самих книжных текстов слово незаметно переосмыслялось. В других древнерусских переводах семантическое преобразование слова выражено уже яснее. В Сказании о святой Софии Царьградской слово вещь обозначает уже либо конкретный предмет («и ты многы вещи створи» — 18, также 21, 24), но вместе с тем и ‘материал’ (например, для постройки храма, ср. 1, 2, 3), иногда понимается неопределенно собирательно: «совокупи бо всяку вещь земную от злата же и сребра» (19 — опять-таки в смысле «материала»), а иногда и вполне отвлеченно — как внешность или видимость данного сооружения («овогда же сребренѣ или камену или пакы ины образы по различью вещий» — 20), внешний контур, а не суть предмета. Такие значения содержались в семантической синкрете [вещь], поскольку материальная видимость конкретного предмета и составляла отличие «вещи» от живой «твари», а также от «речи», «мысли», «слова» и т.д. Характерно лишь то, что у восточных славян слово постепенно вычленяет значения внешнего и «сделанного» (не созданного!) и притом не вдохновляемого речью-мыслью, не облагороженного высшей мудростью. Высокое ритуальное слово понижалось в ранге, причем семантически даже раньше, чем стилистически, потому что в бытовой речи оно не известно до XIX в. Последовательное сужение смысла слова вещь происходит на фоне все новых сближений с другими греческими словами; собственно, они-то и являются тем семантическим фоном, на котором и проявляется этот процесс развития семантики славянского слова вещь. В переводе Книг законных XII в. слово вещь часто передает греч. κατηγορία, т.е. конкретно ‘обвинение’ (не в философском смысле «категории»), ср.: «или (раб) порочный вещь възводить на имѣеющаго его» (67), «и аще такова вещь [т.е. обвинение в прелюбодеянии] истинно обличится» (80), «послушествовати о вещи» (88) и др. Обвинение возводится речью, но одновременно это и юридическое действие, внешнее по отношению к самому поступку. Это слиянность слова, поступка и речи как внешнего проявления дела все еще сохраняется в понятии о «вещи», но каждое из значений в случае надобности (например, в столь важной ситуации, как перевод греческого текста) может выявиться и будет понятно. Во всех случаях порицание «вещи» несомненно. Прежнее представление о ритуальности «вещи» разрушено, рассыпается и функциональная целостность синкреты. Происходит — разными путями — ее семантическое расслоение, и на первое время конкретно «этот» смысл слова оказывается связанным с данным контекстом; частное значение, исторженное из общего смысла, формируется в формуле книжного текста. Чтобы не дробить изложение многими и разнообразными примерами, иллюстрирующими этот процесс, воспользуемся только одним, но весьма влиятельным для древнерусских книжников и достаточно большим по объему, переводом Пандект Никона Черногорца, XII в. Вдобавок, этот перевод впоследствии был переработан в Болгарии, так что мы можем сравнивать сразу две системы передачи греческих слов и понятий на славянский книжный язык: древнерусскую и среднеболгарскую. В переводе вещь — что бы это ни было: дело, действие или нрав — никогда не деяние и не поведение; поэтому и вещи в своих признаках обычно предстают как плотяные, тленные, земные, мирские, житейские, внешние, мимотекущие, греховные, погибающие, гнилые и мертвые, временные, а не вечные. Все это — реальные определения текста к слову вещь. Вещи мятут (смущают) душу своим откровенным практицизмом, не связанным с душевным к ним расположением; с вещами имеют дело дьявол, бесы, разбойники, корчемники, лихоимцы (ростовщики), торговцы и прочие «недобродеющие». Следовательно, «вещь» — порождение темное и подозрительное, это — грех. Каким бы образом ни представала «вещь», в виде ли купли-продажи, имения, серебряных сосудов, бесчиния, козни или изветов, — эти вещи настолько конкретны, предметны, низменны, что в сфере высокого слога требуют истолкования, осмысления и, быть может, оправдания: «начах казати им вещи» — поскольку вещь сама по себе не знак, не символ чего- то возвышенного и духовного, а низменная материя, не имеющая «смысла нареченнаго», в ней «не обрящеши радости»: «Молю, отче, изъясни вещь сию, да исполнюся радости отиду» (Панд., 300). Вещь всегда случайна и не связана с сутью дела, а потому и «само естество вещи толико» (206) — естество, а не существо, форма или вид, а не содержание, не смысл, который требуется еще раскрыть. Все это выявляется из многочисленных контекстов Пандект. Тут же находим и уточнения о понятии «вещи» как таковой. Довольно часто говорится «о словеси или о вещи» (ср. 210 об.), причем в болгарской редакции в таких случаях стоит одно слово вещь, которое по старинке соединяет в себе общий смысл ‘слово и дело’, ср. еще: «ни рѣчением не сотвори, нъ вѣщьми кыми» (268), поскольку «вещь» — «недовѣдома, худа» и т.д. Не только «слово» исходит из «вещи» и эксплицируется в самостоятельном именовании: то же происходит и с «делом»: «нъ стяжи свободу въ дѣлѣ своемь доже и до худы вещи» (262), а болгарская редакция все еще строго различает «вещь = вещь» и «вещь = дело», иногда показывая и явным образом, что древнерусская вещь — это и есть дело в смысле «прагмы» (ср. соответственно листы рукописей: 220 об. = 72 об., 227 об. = 82 об., 220 об. = 73, 247 = 106 об., 250 = 110 об., 262 = 125, 296 = 168, 295 об. = 167, также 162 = 20 об., 303 = 180 и др.). Кроме того, вещь является естеством, а не существом, всего лишь видимостью реального мира, образом его, и следовательно, вещь также образ, на что древнерусский перевод неоднократно указывает (в болгарской редакции на этих местах последовательно употребляется слово образъ, ср.: «нъ симъ же токмо, нъ и иною вещью тоще створи закона ибо сию приемлеть вещь» (239 = 97: образомь... образъ). Сама возможность выделить в сознании компоненты исходной синкреты [вещь]: с одной стороны, слово, с другой — дело — предполагает законченность и осознанность аналитического действия мысли, так что в древнерусских книжных текстах XII-XIII вв. разложение прежней синкреты на «слово—дело—вещь» можно признать уже законченным, хотя это было бы не совсем точным утверждением. По многим текстам (в сжатом виде они даны в исторических словарях) вполне надежно можно говорить только о том, что в древнерусском литературном обиходе вещь либо ‘дело’, либо ‘событие’, но всегда связанное еще со словом, с речью, с информацией- сообщением. Значение ‘материальная ценность, имущество, товар’ или ‘предмет’, ‘произведение’ до XV в. неизвестны, их не было в древнерусском языке. Даже традиционная политическая формула «слово и дѣло государевы» представляла собой дальнейшее аналитическое разложение прежнего высокого (пришедшего из книжной речи) слова вещь, не включая в себя никакого представления о предмете. Особенность слова вещь как русского слова заключалась в том, что из назидательной литературы Измарагдов и Златых чепей русские вынесли нравственное осуждение вещи — не дела, а поступка, не деяния, а греха. Только после того, как этот аспект исходной синкреты через образцовые тексты был освоен и выявлен не только семантически, но и идеологически, в культуре, стало возможным и дальнейшее «разложение» семантики по существу бездонного по смыслу слова вещь. ‘Предмет поучения или беседы’ смог, например, стать просто ‘предметом’, т.е. вещью. Понижение семантики слова и его стилистического ранга шло параллельно и окончательно закрепилось как норма в XVI в. Слово стало «русским». Окутанное дымкой давнего христианского осуждения, оно никогда не получило никаких положительных коннотаций. Случилось так потому, что семантические преобразования слова происходили в системе самого русского языка, в его литературной форме и притом в обстоятельствах социальной и культурной жизни, значительно отличающейся от таковых же у других славян. Судить об этом можно и по оригинальным русским текстам, которые, правда, употребляют наше слово довольно поздно. В Словаре русского языка ХІ-XVII вв. слово вещь разработано, исходя из представлений современного читателя, ориентировано на последовательность значений современного словаря — начиная со значения ‘предмет, явление окружающей действительности’. Значение ‘предмет’ надежно фиксируется только с XVI в., причем некоторые цитаты, приведенные здесь, сомнительны, ср. из Успенского сборника XII-XIII вв.: «[Мария] не дасть помысла своего въ печали земльныихъ вещий, нъ тъкмо въ любовь Божию». Здесь земьнии вещи толкуются как ‘понятия, представления’, т.е. значение одного слова определяется по смыслу всего атрибутивного сочетания. Столь же дробными и во многом субъективными являются значения ‘случай’, ‘событие’, ‘несчастье’, ‘грех’, ‘вымысел’, ‘клевета’ и др. Перед нами, конечно, перевод соответствующего текста на современный язык в соответствии с нашими представлениями о том, что именно должно быть в соответствующем древнерусском контексте (синкретичность значений древнерусского слова не удовлетворяет современного лексикографа). На самом же деле речь идет здесь о неблаговидном, нехорошем поступке или деле (точнее это значение определено в Словаре Моления Даниила Заточника (с. 32-33): вещь — ‘занятие, дело, образ жизни’, хотя и применительно только к приведенному тут контексту). Значение ‘предмет (тема, вопрос) обсуждения’ показано на переводных и притом очень ранних контекстах, которые, разумеется, не отражают древнерусского значения или общего смысла этого слова. С конца XV в. (1480 г.) известно уже конкретное значение ‘имущество, товар’, т.е. «вещи» появляются и в русских текстах, ‘козни, интриги’ (1499 г.), с XVI в. — ‘известие, новости’ и т.д. Эти значения образовались уже в русской письменности и представляют собою дальнейшее развитие книжного слова, связанного и с общим смыслом того, что знают или говорят, что делают. ‘Дело, деяние, поступок’ в связи с выражением его в слове остается все-таки единственным и основным значением нашей лексемы в древнерусском языке, и надежные примеры указывают на это уже с XII в. (не с XVII в., как показано в Словаре русского языка ХІ-XVII вв.). Летописное сообщение о «вещах земских» или «вещах церковных» подтверждает, что речь идет о делах мирских или церковных, а свободное употребление слова в форме мн. числа (вещи), конкретизируя семантику слова грамматическим исчислением, представляет уже значение ‘имущество, пожитки’[311]. В украинских и белорусских источниках это слово неизвестно до XVI в.; лишь у Ф. Скорины появляется «вещ — рэч или істота»[312]. На то, что значение ‘предмет, вещь’ для нашего слова вторично, указывают и производные: вещелюбивый, вещелюбье, вещественный отмечается по русским источникам с XVII в. (с XVIII в. слова типа вещица и т. п.). Такое значение слова — крайний предел выделения отдельных сем из исходного собирательно-синкретического слова и вместе с тем логическое завершение длительного процесса русификации заимствованного книжного слова. Последовательное понижение в стилистическом ранге сопровождало развитие оценочных значений слова (неодобрительно о деле как проступке), а столь же постепенное вхождение слова в систему самого русского языка приводило к столкновению с семантикой старых слов, дифференцированно и однозначно выражавших одно из значений синкреты. В результате книжное слово вещь последовательно (но каждый раз только на одну сему) утрачивало одно из значений: ‘дело’ — поскольку было слово дѣло, ‘слово’ — поскольку было слово рѣчь, и т.д., т.е. эксплицировались те значения синкреты, которые в данном наборе оказывались избыточными. В значении слова вещь сохранилось в остатке только указание на результат «речи-дела»: опредмеченная вещь — родовое именование для всего предметного (вещного) мира, доступного исчислению. Следовательно, и в народной речи, проникая туда, вещь всегда оставалась словом отвлеченного значения, и возникала задача конкретизировать его значения в определенных сочетаниях слов. В этом смысле семантическое развитие слова вещь в истории русского языка и последовательность такого развития в современных русских говорах совпадают типологически, и историю можно описать типологически на записях из народных говоров (известны с 1820 г.[313]). Обращает на себя внимание глубинное соответствие между парами дѣло—вещь и вещь—рѣчь. Первое проявляется в постоянном соотношении между дело и вещь в неопределенных по смыслу высказываниях типа «вишь ты, какое дело» — «значит, такая вещь», иногда (на протяжении ХVІІ-ХVІІІ вв.) сюда же входит и столь же неопределенное по смыслу слово мѣсто («ты, это место, как знаешь», например, у Аввакума). Дело, вещь, место — самые общие слова почти междометного значения, а в подобном их употреблении как бы всплывает и исходный их семантический синкретизм, в том числе и у слова вещь. Однако ни русские тексты начиная с XVII в., ни русские говоры, которые воспринимают слово примерно в то же время, прямых соответствий значениям слова дѣло в слове вещь уже не имеют; семантическое развитие слова вещь завершилось в национальном русском языке. Напротив, вещь и речь отчасти связаны еще друг с другом и некоторое время определяют взаимное развитие значений. Таким образом, заимствованное слово, став фактом литературного языка, немедленно ограничило сферу своего употребления, вместе с тем оставаясь внутренне многозначным. Общее значение ‘навязанное высшею силой действие, земное в отличие от небесного и греховного, как все земное’ связано безусловно с церковным мировоззрением. Однако общая система слов русского языка препятствовала безграничному распространению многозначного слова вещь. Уже из церковных текстов ясно, что вещь — дело человека, в отличие от твари — божьего дела. Дѣло в древнерусском языке — реальная работа, не связанная со словесным или умственным вмешательством (например, обработка земли — дѣло). Книжник типа Даниила Заточника совершенно правильно употребляет слово вещь, которое и из самого контекста определяется как ‘греховное действие, обязанное внушению со стороны враждебной силы’. В известном смысле это — философский термин, обозначающий враждебный чувственный мир, сотканный из событий и существ, которые можно покорить словом и делом, воплощая их в вещи. Это и вина, и дѣло, и естество — и причина, и свершение, и результат. Динамизм мышления древнего русича проникал и в это первоначально церковное понятие: его интересует не результат, а процесс. Теперь мы можем объяснить себе некоторую неуверенность Б. А. Ларина в истолковании слова вещь. «Многозначность» слова заключается в неопределенной синкретичности смысла. Редкие контексты, которые можно извлечь из обширных переводных текстов, в целом не дают представления о действительном смысле идеологически важного термина культуры. Необходимо взглянуть на этот термин с точки зрения целостной системы, как она сложилась к концу XIV в. и представлена в славянском переводе Ареопагитик с толкованиями Максима Исповедника[314]. Общий принцип символизирующего мышления в границах этой семиотической модели позволяет понять прагматику и синтактику многих ключевых концептов, в том числе и интересующего нас концепта «вещь». Например, слова грѣхъ, вина, вещь по древнерусским контекстам иногда взаимозаменимы и тем самым кажутся как бы синонимами. На самом же деле они образуют своего рода иерархию сущностей в выражении общей модели «зло»; зло не противоположно благу, ибо благо противопоставлено только самому себе, и зло — всего лишь видимая и исчезающая часть блага («оскудение благаго есть зло»). Уже в постановлениях Владимирского собора 1274 г. соотношение всех трех понимается двояко: грех проявляется в вещи и тем вызывает вину (нисхождение концептов) или, онтологически, наоборот, вина вовлекает в вещь и тем порождает грех (восхождение концептов). Включение «вещи» в новый ряд соответствий изменяет внутренний смысл обозначающего ее слова. Совмещение трех «близкозначных слов» помогает произвести углубление в признаки и проявления зла, причем происходит это по типу «матрешки», путем вхождения одного в другое на правах репрезентативной части целого (метонимически) и одновременно как воплощение нового качества. С одной стороны, грех, вина и вещь одно и то же, таковыми они предстают со стороны зла; с другой же, со стороны блага, по интенсивности и степеням проявления они суть различные экспликации родово общего, но фиксируют функционально разное. Таковы в отношении к субъекту три измерения зла, которые лишь совместно отражают цельность и целостность концепта, прежде обозначавшегося единственным словом вещь. Перераспределение исходных значений всех трех слов происходило в связи с образованием новой идеологической модели, которая и перекрыла исходное распределение сем и слов, существовавшее до конца XIV в. Но именно законченность, завершенность этой модели и позволяет усмотреть сущность древнерусского концепта [вещь], переданного посредством искусно созданного слова вещь. Увидеть смысл концепта можно только задним числом, когда становится ясной законченность завершенных системой семантических изменений. Принимая все это во внимание, можно поставить вопрос и о содержательном смысле термина вещь в средневековой культуре, уже с узкопознавательной точки зрения. Вещь включает в себя представления о предмете, слове и идее одновременно, т.е. весь аналитически представляемый ныне семиотический треугольник дает в нерасчлененно целостном виде как точку, из которой одновременно исходят все грани такого идеального треугольника. Установка на философию Аристотеля, пропущенную через комментарии отцов церкви (например, в трудах Иоанна экзарха), и есть точка зрения со стороны вещи, вмещающей в себя все факты и события мира.
БѢЛЫЙ
Об истории слова белый в русском языке писали много[315], однако разнообразие древнерусских текстов и семантика самого слова настолько сложны, что оказываются возможными новые подходы к теме. Интересны уже самые общие наблюдения. Если соотнесение слов свѣтлый—тъмьный дает основание предполагать и «морально-оценочное» значение этой лексической пары, и общее значение цвета[316], то почти полное отсутствие в древних текстах противопоставления слов бѣлый—чьрный оказывается весьма выразительным доказательством первоначально не цветового значения слова бѣлый, во всяком случае неактуальности такого значения в древнерусской системе. Большинство контекстов, особенно связанных со сравнением качества или типа, дают общее значение ‘чистый, неокрашенный, светлый’, хотя характер сравнения и указывает на белизну как основную характеристику этой чистоты: бѣлъ какъ снѣгъ — Влад. Мономах, л. 79 (в цитате), Макар. Рим. (о волосах и ветре), Андр. (о полотне), Дан. пророк (об одежде), Васил. Нов. (о персти в значении ‘земной прах, пыль’, молнии, лице, облаке, ангелах), бѣлъ яко свѣтъ — Васил. Нов. (завеса, голубь, руки и ноги ангелов); бѣлъ акы сыръ (т.е. творог) — Ант. (триандофилов цвет на челе); бѣлъ яко млеко — Макар. Рим. (источник водный), Васил. Нов. (ноги), Иппол. (зубы), бѣлъ яко руно — Васил. Нов. (лицо) и др., что в греческих оригиналах соответствует слову λευκός с его значениями: 1) ‘светлый, яркий, сияющий’, 2) ‘светлый, прозрачный’, 3) ‘ясный, чистый’ и только после этого 4) ‘белый, седой’. Поэтому-то в древнерусских текстах обычны сочетания слов типа бѣлы власы (Макар. Рим.), бѣлы ризы (Кир.; Васил. Нов.; Андр.; Алекс. и др.), бѣла влъна (Устав Студ.), бѣло лице (Васил. Нов.), бѣло облако (Васил. Нов.) или гора, мрамор, камень (Флав.; Иг. Дан.), бѣла кость (Соломон), Китоврасъ же вдаетъ стекло бѣлое (Соломон, с. 256), и этот пример удостоверяет это, останавливая внимание на прозрачности, бесцветности стекла. Распространенная характеристика человеческого лица бѣлъ и лѣпъ (ср. русский Пролог 1432 г., НРБ. F. п. 1.48. л. 174 об.) по существу тавтологична, потому что оба прилагательных характеризуют красоту, а не цвет лица. Ф. И. Буслаев исконным значением слова бѣлъ считал именно значение ‘прекрасный, светлый’: «Ограничение... слова названием известного цвета есть позднейшее»[317] (на то же указывают и этимологические связи корня с другими индоевропейскими языками в их архаическом состоянии). В художественном тексте большого объема, там, где автор или переводчик имел возможность варьировать разные средства выражения одного и того же понятия (или качества), употребление слова бѣлъ оказывается очень выразительным; это видно на примере Жития Василия Нового в древнерусском переводе XI или XII в. Прежде всего бѣлъ имеет значение ‘светлый, светящийся’. Свечение белого сопровождается блеском: «и на нихъ чистота и свѣтлость велиа зѣло, и росу бѣло блистание каплющю сладко» (Васил. Нов., 521). Ср. редкий случай сопряжения слов черный—белый: «не чернъ, но бѣлъ, яко снѣгъ и свѣтяся яко молния» (511) (еще одна цитата также находится в переводном тексте Шестоднева (X в.) и касается характеристики души; а именно, не известно, она «бѣла ли есть, чрьна ли» — 93). В Вас. также: «и лица ихъ седмицею очищена в бѣлости бѣлою молниею крѣпко освѣщаеми» (524). Значение ‘светлый с наблеском’ по отношению к молнии употреблено здесь очень последовательно потому, что речь все время идет о «небесной» молнии в чертогах Бога: «земная», обыкновенная молния в темных тучах описывается в древнерусских текстах с определением синяя; см. известное место в Слове о полку Игореве: «чръныя тучя съ моря идутъ... а въ нихъ трепещуть синии млънии». Перед нами обычное для древнерусских памятников раздвоение понятия и качества с точки зрения христианской символики, небесное—земное последовательно разграничивается и в плане выражения. Однако само по себе сопоставление слов бѣлъ и синь весьма знаменательно, поскольку тем общим семантическим ядром, которое объединяет значения данных слов, является понятие ‘сияние, отблеск’. Эта сема сопровождает употребление слова бѣлъ во всех приведенных выше примерах. Оно широко распространено и в старославянских текстах, ср. в Беседах: «и въ мълния лици и въ обычаи бѣлости являеться» (in candore, т.е. ‘с ослепительной белизной, с блеском’). Пересечение значений слов бѣлъ и блѣскъ отражается и в древнерусских текстах, в частности при правке; ср. у Кирилла Туровского при цитировании евангельского текста: «и явистася имъ два анг(е)ла в бѣлахъ ризахъ» (КТур., 13), хотя в древнеславянском переводе (по Остромирову ев. 1056 г.) в этом месте употреблено другое слово: «въ ризахъ бльщящахъся»; у того же Кирилла находим соотнесение слова бѣлъ со свѣтъ: «солнце свѣтомъ и теплотою служить, и луна съ звѣздами нощь обѣляеть» (КТур., 39) (в древнеболгарском переводе Шестоднева: освѣщаеть). В древнейших переводах встречаем и значение ‘прозрачный до исчезновения’, по существу, ‘невидимый’, например, в переводе апокрифического Никодимова евангелия (по списку ГПБ. Соф., 1264 г., 265): «(писанье) и абье преображена бысте, и зѣло бѣла, и не бысте видима потомъ» — «и тотчас видоизменились, (стали) очень белыми (прозрачными), и не стали видны затем». Любопытно, что эти старые значения слова сохраняются в самых древних текстах, обычно переведенных (здесь необходимо было передавать различие между цветовыми и нецветовыми значениями слов) и притом художественных: эти последние широко используют многозначность слов и как бы «освежают» основное лексическое значение слова необходимым по ходу изложения контекстом. В том-то и заключается трудность исследования, что мы не можем вполне определенно говорить о том, что в XII в. значение ‘белый’ уже (еще) характерно для русского языка, — нужно уточнить, какого именно языка, в каких контекстах и в какой функции. Приходится принимать во внимание и своеобразный семантический синкретизм обсуждаемых слов: в отношении к нашему времени мы ведь можем приписать встреченному в тексте XII в. слову любое значение, которое, как нам известно, являлось основным его значением в течение последней тысячи лет хотя бы в один какой-то период или в одной сфере письменного языка. Описывая слезы богородицы, застывшие на мраморной доске, Антоний-новгородец сравнивает их с прозрачным блеском воска: «и суть бѣлы видѣниемъ, аки капля вощаныя» (Ант., 24-25); здесь возможны значения ‘белый’, ‘светлый’, ‘прозрачный’ — и первое из них менее всего вероятно, потому что сравнение с реалией сразу же снимает представление о белизне. Здесь можно предполагать и самое широкое значение, также соотносимое с этим словом, — ‘чистый’, вполне применимое в данном случае и в данном контексте в общем ряду с другими словами того же типа (чьстьна, чиста, непорочьна и др.). Таким образом, в предельно отвлеченном или, напротив, в самом конкретном по содержанию тексте слово бѣлый, как бы преломляя свое основное значение, поднимается до наиболее широкого обобщения — ‘чистый—светлый’. Для иллюстрации «предельно отвлеченного» смысла годятся многочисленные цитаты из древних хождений, описывающих стены и столпы священных для христианина храмов: они в буквальном смысле белые, ибо сделаны из известняка или мрамора, но в соответствии с описанием они еще и светлые = нарядные, а если исходить из сокровенного смысла описания святых мест, они также и чистые = честные, иначе путешественник не стал бы так настойчиво из строки в строку повторять, что стены, столпы, башни — белые, белые, белые... Чистота белого в противопоставлении к грязному или нечистому особенно четко проявляется в сопоставлениях, выраженных глагольными формами: «и лица ихъ седмицею очищена в бѣлости» (Васил. Нов., 524); в некоторых переводах поучений Златоуста греч. λευκαίνω воспроизводится как омыю, а в ряде списков этот глагол заменяется на оубѣлю (Зл., 172в), белое сравнивается с чистым золотом, т.е., если воспользоваться известными сопоставлениями Ф. И. Буслаева, речь идет о прозрачном (светлом) блеске[318]. В большинстве текстов, на основании которых приходится судить о семантике древнего слова, бѣлый противопоставлен не черному, а червленому; это противопоставление того же рода, что и оппозиция света цвету, поскольку в древней поэтической (и языковой?) системе реальным воплощением цвета был именно и только красный цвет любого тона. Только ‘красный’ — безусловно известный древнему книжнику и тщательно разработанный им лексически и семантически собственно «цвет». Поэтому только в сопоставлениях червленого и белого мы можем определенно видеть упоминания ‘белого цвета’, ср. в переводах: «а третии велми боле собою от всякого чвѣта червлена и бѣла» (Андр., 160); «облачаше же ся долѣ, тако покланяемъ бывая, въ образъ кажника, в ризоу бѣлу не тканну очерьвлену» (Соф., 6), т.е. ‘покрашенную в красный цвет’, «и земля, 2 лицѣ имущи, червлена и бѣла» (Макар. Рим., 63), т.е. опять-таки покрашенная и — чистая, не крашеная; в более позднем переводе Лопаточника при гадании на овечьей лопатке рекомендуется смотреть, «яко волоконца дваги, и сверху и долоу, бѣлы и чермное... » (Лопат., 29) — все то же противопоставление чистой поверхности и окрашенной чем-то. Вот почему и в данном случае осторожнее было бы говорить не о цвете, а о противопоставлении чисто прозрачного — цвету. Так, в переводе Хроники Малалы (вып. IV, 14) — «(Тезей) приведе быкъ бѣлъ, положи требу Посидону» — снова все та же трудность определения значения: бык действительно мог быть белым, но ясно, что, готовя к жертве, его сделали чистым, а сама ситуация (жертва богу) требует употребления слова со значением ‘светлый’. Распространенные в древнерусских текстах сочетания типа: «одежа от бѣлыя влъны, ангелы и благие мужи въ бѣлахъ ризахъ, бѣлый облакъ», также «класъ бѣлый» зрелой пшеницы в Изборнике 1073 г. (на месте греч. λευκοφόρος) и др. — имеют, по-видимому, не только значение цвета, но даже, скорее, — света (‘светлый’). Все подобные сочетания, иногда в тех же самых текстах, встречаются и со словом свѣтлый, ср.: «въ свѣтлу одежу одѣянъ (Соф., 11), свѣтлое облако» (Васил. Нов., 523) и др., ср. «бѣлое облако» (Васил. Нов., 514). Во многих памятниках, вообще не отражающих цветовых обозначений, возникает на символическом уровне своеобразное дублирование старого противопоставления свѣта-свѣтлого — тьмѣ- тьмьному, и осуществляется это дублирование лексемами бѣлъ— чьрнъ, ср. в Киево-Печерском патерике (конец XII — начало XIII в.) противопоставление сочетаний голубъ бѣлъ (Печ. Патерик, 173) — воронъ чернъ (187-188). Наложение и частичное совмещение оппозитов светлый—темный и белый—черный осуществляется в художественный текстах и в конце концов приводит к известному теперь соотнесению белый—черный; в прежней системе, во всяком случае в системе древнерусского языка, белый не соотносился с черным — он вступал в корреляцию с синим (по наличию блеска) или с красным (по отсутствию цвета). Оппозиция к черный выбила слово белый из старого ряда и дала начало целой серии семантических сдвигов, относящихся уж к истории этого слова в новое время; после XIV в. семантические изменения этих двух слов следует рассматривать одновременно и совместно. Вопрос требует самостоятельных изысканий, теперь же отметим одну характерную деталь, опять- таки связанную с художественной речью. Во всех списках Сказания о Мамаевом побоище, составленном между 1407 и 1431 гг., в списках XVI и XVII вв. червонные (чьрмьные ‘красные’) знамена Дмитрия Донского трижды называются черными, хотя в некоторых списках и может сохраняться исходное слово текста: чьрмьные (по-видимому, писалось с выносным м в некоторых полууставных списках). Эта замена красного черным после XV в. весьма характерна. Во-первых, здесь возможна чисто графическая ошибка, но она не закрепилась бы без других причин хотя бы потому, что княжеские знамена всегда были красными. Во-вторых, здесь возможно переосмысление архаической лексемы, уходившей из активного употребления: чьрмьный — это темный багровый тон красного, со временем чьрмьный стал соотноситься с черным и заменил его в текстах старого сложения. Поскольку черными знамена Дмитрия названы не только в годину беды, но и в победный час, никакого символического смысла слова черный в данном случае видеть нельзя. Наконец, третье касается наших рассуждений: мы имеем дело с моментом в развитии значения слова, когда лексемы со значением ‘черный’ и ‘красный’ пересекались друг с другом на основе общности противопоставления белому и светлому: черный теперь эквивалент красного как цвет окрашенный. Достаточно взглянуть на цитаты к словам чьрмьный и чьрный в «Материалах» И. И. Срезневского (т. 3, 1559-1563), чтобы увидеть, как на протяжении XII-ХІV вв. первоначально в переводных текстах, а затем и в художественных текстах оригинальногосложения осуществляется сближение указанных лексем. В Ефремовской кормчей по списку XII в., но переведенной значительно раньше (повидимому, еще Мефодием или его учениками), говорится: «от вълъшьства чьрный образъ и въ чьрвленый прѣлагая» — черный противопоставлен червленому; в текстах Слова о полку Игореве черная земля противопоставлена белым костям и красной крови, черные тучи — синим молниям и т.д. Даниил Заточник в начале XIII в. говорит: «Кому Бѣло озеро, а мнѣ чернѣе смолы» — и чернота смолы расшифровывает основное значение прилагательного: темный без отражения и отблеска, т.е. не синий; темный не окрашенный, т.е. не красный. Возвращаясь теперь к предмету наших заметок, отметим еще одну подробность. Бѣлый — самая распространенная, но не единственная лексема со значением «бесцветного цвета». Некоторые слова такого рода вообще, по-видимому, были связаны возможностью своего употребления с отдельными сочетаниями, являясь своего рода цветовой характеристикой какого-то определенного (и только этого) существа или предмета. Орь бронь в русских списках 1-й редакции Слова о XII снах Шахаиши обозначает ‘конь бел’, и это совпадает с историческими материалами (Срезневский, т. 1, 180): броный только по отношению к масти коня; ‘белый’ как обобщенное обозначение светлой масти в противопоставлении к темной, ср. др.-чеш. brony в противоположность вороному. В древнерусском переводе XI в. Жития Андрея Юродивого бронь конь наречеся соответствует греч. λευκός ‘белый’. Однако реальный цвет конской масти бронь варьировал от белосерого через серый к (бледно-)буланому, обозначая, скорее, желтоватый тон, что и соответствует этимологически близкому древнеиндийскому bradhna- ‘желтый, желтоватый’. Бронь в значении ‘белый’ — это, безусловно, обобщенный вариант значения ‘светлый’ в его противопоставлении ‘темному’, когда конкретное проявление цвета не было уже существенным. В сербской редакции Слова о XII снах Шахаиши указанное место искажено, и вместо орь бронь мы имеем орла черна[319]: орь ‘конь’ понято как искаженное орелъ, но самое главное то, что белый (светлый) сочли необходимым заменить на черный (темный). Последнее нарушает символическое изображение этой птицы (ср. сокол ясный, т.е. ‘светлый’, и т.д.) и не вытекает из контекста; очевидно, следует предполагать состоявшееся к тому времени переосмысление всякого небелого как цветного, а наиболее контрастным цветным в данном случае является, конечно, черное. Оттенки белого передавались также лексемами сребрьнъ, млечьнъ, сѣдъ применительно к известным предметам. Если борода и волосы обычно сѣды, то лицо — обязательно блѣдо. В переводе апокрифа почти рядом говорится: «а лунѣ от запада блѣдымъ лицемъ сняти» — и тут же «потѣмнѣ луна и не сияеть свѣтъ ея» (Варф., 22); «бледость» соотнесена со светом в их общем противопоставлении ко тьме, и бледное, и светлое способны сияти. В другом случае описывается встреча с эфиопами — синими, по некоторым определениям, т.е. ‘темными с наблеском’ по фактуре кожи: «начата ефиопи плескати, а бѣлоризьци поблѣдѣша» (Андр., 161). Как и в случае с луною, которая, согласно некоторым контекстам, также может быть синею, в данном случае интересна передача состояния белоризцев при столкновении с синими эфиопами: они не побелели, а побледнели, т.е. побелели с каким-то дополнительным характером проявления «бледности» (покрылись испариной? покрылись по́том?). В текстах проложных житий довольно много мест, когда мученики испытывали «бледость», ср. наудачу несколько примеров: «егда блѣдость на лици узриться; егда то онъ, блѣдѣя, трепеща, умирая, глаголаше»; «нача трястися, блѣдѣти, потѣти съ великомь въпльмь» (Беседы, 214 об., 95 об., 54 об.). Бледность помертвевшего лица не совсем то же, что белое лицо; кроме того, оно покрыто потом, слезами, словом, имеет все признаки «отблеска», это не чисто белое, а приближающееся к белому. Такова причина, почему соответствующая лексема сохранилась в языке. Многие другие в том же роде утрачены. Например, в переводе Книги Есфирь использовано слово утрина: «выниде въ свитѣ царстѣи и въ черви, и въ оутринѣ» (Есфирь, VIII, 15) — «в красных и белых одеждах», — причем второе слово буквально значит ‘полотняные’ одежды, из греч. άτριον ‘ткань’; слово утрина регистрируется лишь в словарях церковнославянского языка. Многие слова с общим значением ‘белый’ до нас попросту не дошли или сохранились в остатках случайно; ср. указываемое Ягичем в качестве варианта к бѣлъ слово срѣнъ — для передачи греч. λευκός[320]. Сопоставляя такие слова частного значения и многие описательные способы обозначения «белого» (ср. «цвѣта класьнааго» — Усп. сб., 331) с употреблением в древних текстах самого слова бѣлый, мы легко определим принципиальное отличие последней лексемы от древних способов обозначения белого. Бѣлый может относиться к любому предмету данного качества, эта лексема не связана уже позиционно с определенными словами, а через них с реальными предметами или явлениями. Унификация данной лексемы отражает процесс обобщения понятия «белый» и вместе с тем — изменение содержания в своей семантике. Исходное значение ‘блестящий, сверкающий’, т.е., по существу, ‘бесцветный, прозрачный’, легко развивает значение ‘светлый’, первоначально, по-видимому, под давлением коррелирующих лексем (например и прежде всего — свѣтmлъ). Древнейшие тексты отражают уже такой семантический сдвиг и на парадигматическом уровне, хотя, конечно же, определенные контексты могут сохранять и исконное значение слова. Свое значение в этом процессе имела своеобразная дуалистичность древнеславянской литературы с ее символическими противопоставлениями небесного земному; в таких условиях складывалось изоморфное противопоставление высокого по функции содержания свѣтьлъ—тьмьнъ низкому или нейтральному бѣлъ—чьрнъ. Цветовое значение слово бѣлый получило относительно поздно, не ранее XIII в. Выше показаны условия этого выделения новой семантической доминанты: противопоставление красному во всех его лексических вариантах (следовательно, приобретение «цветового» значения) в связи с формированием «парадигмы цветообозначения», которой в древнерусском языке еще не было. На предыдущих этапах семантическая доминанта нашего слова обнаруживается в противопоставлениях сначала понятию «синий», а затем и «черный». После всего выявилось и значение ‘чистый’ — уже в противопоставлениях белого грязному. Как и во всех случаях семантического развития, морально-оценочные характеристики переносных значений слова возникают довольно поздно, позже всех прочих значений, и всегда связаны с христианской нравственной культурой. Некоторые косвенные данные, в подробное рассмотрение которых здесь неуместно входить, показывают, что выделение в качестве самостоятельного значения ‘чистый’ происходило не ранее XV в. Например, наложение традиционных поэтических формул белый свет и чисто поле друг на друга происходит не ранее XVI в. (в общем значении ‘неизвестный, открытый мир’); сочетания слова бѣлый с определенным значением ‘чистый’ также встречаются не ранее XVI в. (бѣлое желѣзо, бѣлая земля). Таким образом, реальность семантического движения слова в истории русского языка может быть обоснована четким противопоставлением другим семантическим единицам (синий, черный, красный), правилами сочетаемости слов в определенных художественных и переводных контекстах (что делает литературный текст важнейшим источником исторической лексикологии), постепенным вычленением самостоятельных лексем для передачи тех значений, которые на предшествующем этапе развертывания семантической доминанты были основными (одно за другим создаются образования бльстящий и прозрачьный, затем свѣтьлый, и позже всех — чистый в данном значении). Основным содержанием процесса является последовательное накопление лексемой семантических потенций: чем динамичнее она в семантических преобразованиях системы, чем богаче ее современное содержание, тем шире возможности сочетаемости, тем больше отдельных значений (с переходом в многозначность) она теперь имеет. Отличие современной системы от древнерусской еще и в том, что иерархия значений в этом насыщенном семами слове существенно изменилась; так, по мнению Р. В. Алимпиевой, семантическая структура слова белый в современном литературном языке может быть представлена в следующем соотношении сем: ‘белый’ → ‘чистый’ → ‘светлый’[321]; историческая последовательность развития другая: ‘сверкающий’ → ‘светлый’ → ‘белый’ → ‘чистый’.ДѢЛЯ—РАДИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
Синтаксические изменения предлога дѣля хорошо изучены[322]. В данной статье речь идет о семантических преобразованиях послелогов дѣля и ради, сопровождавших их грамматический переход в предлоги, их стилистическую дифференциацию в текстах разного жанра и происхождения, их функциональную неравноценность в древнерусском языке. Исследование ведется на материале древнерусских текстов ХІ-ХІV вв. (некоторые из них сохранились в списках более позднего времени). Относительно интересующих нас слов эти тексты расписаны полностью, что позволяет использовать некоторые стилистические критерии и прибегнуть к стилистическим сопоставлениям, не перегружая статью иллюстрациями. Уже простое сопоставление количественного употребления дѣля—ради оказывается знаменательным (см. таблицу). Почти равномерно эти послелоги использованы в мораво-паннонском переводе Номоканона и в южнославянском переводе Хроники Ио. Малалы. В древнерусских переводах ради преобладает независимо от места перевода: Книги законные переведены в Киеве, «История» И. Флавия — в Галицкой Руси, Сказание об Индейском царстве и XII снов Шахаиши — в Ростово-Суздальской Руси. Ради предпочитают также авторы и редакторы Повести временных лет (основные ее тексты созданы на протяжении XI в.), а также в более позднее время вплоть до 1400 г. (до этого времени произведены статистические подсчеты) летописцы ростово-суздальской ориентации, ср. летописи Переяславскую, Суздальскую, Московскую и др. Повесть временных лет выделяется абсолютной редкостью послелога дѣля, который во всех случаях своего употребления не имеет к тому же ни причинного, ни целевого значения (использован в значении ‘за’) и всегда связан либо с описанием новгородских событий, либо с новгородской версией общерусских событий, ср.: «(устави) варягомъ дань даяти от Новагорода гривенъ ·г· на лѣт мира дѣля» (882 г., 8б); «Ци аще оударить мечемъ или копиемъ... да того дѣля грѣха заплатить сребра литръ ·е·» (945 г., 13б); «(Владимиръ) вдасть же за вѣно грекомъ Корсунь опять црцѣ дѣля, а самъ приде Киеву» (988 г., 40б) — во всех случаях в значении ‘за’. Ради в Повести временных лет всегда употребляется в причинном значении, обычно в текстах церковного характера, в том числе и переводных (отрывки из Палеи, Хроник Мефодия Патарского, также цельные тексты: Испытание вер и др.). В собственно летописных текстах особенно употребительно сочетание сего ради, того ради, чего ради, что ради (33 случая из 56 употреблений ради), т.е. в значении союза, а не послелога (‘почему’, ‘поэтому’, ‘потому’).Употребительность дѣля—ради в некоторых древнерусских текстах Памятник: дѣля = ради Номоканон Ио. Схоластика: 5 = 4 Хроника Ио. Малалы: 20 = 19 Московский летописный свод: 33 = 64 Летопись Авраамки: 1 = 5 Новг. I лет. (Синодальный сп.): 9 = 4 Суздальская летопись: 12 = 35 Ипатьевская летопись: 61 = 22 Правда Русская: 2 = − Поучение Владимира Мономаха: 5 = 1 Повесть временных лет: 3 = 56 Книги законные: 2 = 6 Сказание об Индейском царстве: 3 = 7 XII снов Шахаиши: − = 5 Мудрость Менандра: 1 = 2 «История Иудейской войны» И. Флавия (подсчет по нескольким главам): 10 = 39 Итого: 167 = 269
В ростово-суздальской традиции книжные ради—дѣля еще сосуществуют с народно-разговорными предлогами, представляя иногда буквальные синонимы типа «хрстного ради цѣлования» (Сузд. лет., 100) — «по хрстному цѣлованию» (Сузд. лет., 100); «грѣхъ ради нашихъ» (Сузд. лет., 133, 139) — «за грѣхи наша» (Радз., 238) и т.д. Вместе с тем в Суздальской летописи встречаем уже одно нарушение в употреблении послелогов ради—дѣля: в сочетании имени существительного с прилагательным послелоги могут входить внутрь сочетания, и это изменение синтаксической позиции, как правило, нарушает исконно семантические связи. Почти всегда подобные тексты можно перевести и с целевым предлогом, ср. все примеры такого рода в Сузд. лет.: «но мы здѣ вписахомъ о них памяти ради рускых князей» (229б — Повесть о битве на Калке, 1223 г.); «в инымъ же княземъ бгъ повелѣ жити члвколюбиемъ своимъ в рускои землѣ христианскаго ради языка» (244б — о Батыеве погроме, 1238 г.); «Ярославъ сжалистаси брата дѣля своего Володимера и ркоста все дружинѣ» (241 — Нашествие Батыя на Рязань, 1237 г.); «се же сказахомъ вѣрныхъ дѣля людей да не блазнятся о праздницѣхъ бжьихъ» (118 — 1164 г.) — ср. с последним традиционное употребление послелога, в котором сохраняется причинное (не целевое) значение: «повелѣ всадити ихъ в порубъ людии дѣля, абы утишился мятежъ» (1306 — 1177 г.). Все приведенные контексты безусловно синкретичны по своей семантике, по-видимому, причина и цель еще не осознаются как самостоятельные связи, хотя ощущается необходимость в их разграничении, делаются синтаксические попытки такое разграничение провести. Теми же особенностями характеризуется и Моск. свод. С одной стороны, здесь широко представлены собственно русские предложные конструкции, эквивалентные причинным послелогам ради, дѣля, ср. для выражения одной и той же связи: «се же все бысть за грѣхы наши» (113), «гнѣвом же божиимъ за умножение грѣховъ нашихъ» (138), «по грѣхомъ нашимъ подведоша Литва» (180), «бѣсте бо отягчали от многаго грѣха» (213б) и обычные книжные конструкции с послелогом ради. С другой стороны, факт синтаксического варьирования заставляет предполагать и целевое значение некоторых конструкций, но только для сочетания с ради и дѣля: «отъя от него волость сына дѣля своего» (117б), «а самъ иде въ Овручеи орудии своих дѣля» (119). Любопытно, что дѣля в возможном целевом значении (1164, 1196 г.) фиксируется раньше, чем ради (1223, 1238 г.). Видимо, это связано с большей книжностью послелога ради, с большей устойчивостью сочетаний с ради. В Ипатьевской летописи дублирование послелогов русскими предлогами также возможно, ср.: «оумираемъ за русскую землю» (172б, также 112б), «но роускыя дѣля земля и христьянъ дѣля» (133б, также 133б, 138б и др.). Аналогичное дублирование послелогов русскими предлогами возможно и при передаче целевых отношений: «то по Всеволожи животѣ помогу ти про Киевъ» (117) — «а Дв҃дъ ѣха въ Галичь къ Ярославу помочи дѣля» (207, также 148б). Собственно, это еще не чисто целевое значение, значения причины и даже условия входят в данное синкретичное по характеру сочетание в качестве составных компонентов его значения. Ради в Ипатьевской летописи употребляется неравномерно: начиная около 1172 г. и далее, с 1191 г. особенно часто, с явным предпочтением послелогу дѣля, который до этого, напротив, выступал почти без конкуренции с ради. По-видимому, произошла замена летописца. Ради и здесь варьируется с русскими предлогами, ср.: грѣхъ ради нашихъ (194б, 226, 231б, 253, 267б, 296б) — за грѣхы наша (231б; это сочетание с дѣля не встречается); ради в целевом значении не встречается, обычное его значение — причины (= ‘из-за’), которое всегда сочетается с каким-нибудь качеством (передаваемым именем существительным): тѣсноты ради (116б), игоуменьства же ради (220), добраго ради оуряжения (244), боязни ради (245), невѣры ради (245б), борзости ради (250) и т.д., несколько раз того ради ‘поэтому’. Того дѣля также встречается в тексте этого летописца, причем ради и дѣля могут входить как бы в дополнительное распределение по функции, ср.: «имения ради ложь, того бо дѣля жадаше быти оу Изяслава» (254; = ‘из-за... поэтому’). Ни разу не употреблены: ни мораво-паннонское чьсо дѣля (ради), ни южнославянское чьто дѣля (ради) — только восточнославянское сочетание почто, ср.: «нынѣ же почто смоущаетеся, изидете противу имъ» (261б, под 1235 г.). Все употребления дѣля, в отличие от ради, связаны сочетанием с именами одушевленными (или используемыми в значении одушевленных: роускыя дѣля земля ихр҃стьянъ дѣля) или с личными местоимениями (васъ дѣля, тебе дѣля), иногда сочетанием имени с притяжательным местоимением (своихъ дѣля орудеи). Распределение дѣля—ради, таким образом, в Ипат. летописи отличается от аналогичного распределения в Моск. своде и Сузд. летописи. Этимологически, в исходном значении дѣля обычно обозначал производителя (или адресата) действия, ради — средства и образа действия. Это первоначальное расхождение объясняет, почему не всякая интерпозиция дѣля переводит его в план целевого обозначения, ср.: «с ними ѣди своѥѩ дѣлѩ обиды (148б), «васъ дѣля и ваших дѣля обидъ» (135) и т.д. — всегда со значением причины (= ‘за’). Ради в этом смысле вообще не типично. Перераспределение между ради и дѣля в Ипат. летописи связано с категорией одушевленности—неодушевленности, а только сочетание с одушевленным именем впоследствии развивает (что и осознается нами в древнерусском тексте) целевое значение. Общим с Моск. сводом и Сузд. летописью у Ипат. летописи является только то, что дѣля раньше и шире, чем ради, развивает целевые значения на общем фоне прежних — аблативных и причинных — отношений. Для I Новгородской летописи ради вообще не характерно. Те четыре употребления ради, которые там встретились, заимствованы из Повести временных лет (Святополка выведе злобы его ради — 25б) или из Повести о нашествии Батыя (грѣхъ ради нашихъ — 120б, 125, 126). Даже в этом последнем узкоцерковном значении летописец при описании новгородских событий предпочитает древнерусские сочетания за грѣхы наша (145), по нашимъ дѣломъ злымъ (154) и т.д. или более приемлемое для него грѣхъ дѣля нашихъ (109б, 157б). Впрочем, и в этом значении дѣля встречается в заимствованиях из других летописных сводов (Повесть о битве на Калке под 1223 г., 97, 97б), обычно при описании действий архиепископа или другого церковного чина (25, 155 и др.). Таким образом, I Новгородская летопись отражает самый ранний тип древнерусского распределения предлогов и послелогов с общим для них значением причины: безразличное чередование за, на, по наряду с возможным дѣля, хотя этот послелог и встречается обычно в церковно-книжных контекстах; отсутствие послелога ради и всяких следов целевого значения для всех указанных служебных слов. I Новгородская летопись фиксирует ту же систему, которую отражают наиболее древние тексты русского происхождения. В Правде Русской ради не встречается, дѣля дважды использовано в причинном значении: «то зане къ нимъ прикладываеть, того же дѣля имъ помогати головникоу» (616)[323], «или къ соудиямъ бѣжитъ обиды дѣля своего гс҃на» (620б), ср. более обычное за обиду (618 и др.), за соромъ (624б и др.). В Поучении Владимира Мономаха единичное гс҃а ради (79) явно книжного происхождения, обычно он пишет: б҃а дѣля (78а, 79). Впрочем, и все остальные случаи использования послелога дѣля связаны у него с церковно-книжным контекстом, ср.: «хсяныхъ людии дѣля» (78а), «гсь... та оугодья створилъ еси члвка дѣля грѣшнаго» (79б), «не крове дѣля пролития помазанникъ бжии» (83б). Таким образом, на летописных (и деловых) текстах можно видеть: 1) широкое сосуществование основных для древнерусского языка предложно-падежных конструкций с про, по, на, за наряду с литературно-книжными дѣля, ради; 2) разную степень проникновения ради, дѣля в летописный текст (особенно устойчива против них I Новгородская летопись, наименее устойчива — более поздняя — северо-восточная Суздальская летопись); 3) разное направление в дифференциации освоенных дублетов дѣля—ради в северновосточных (ростово-суздальских) и в южнорусских (киевских и галицких) книжных текстах. Эти наблюдения можно проверить на текстах другого жанра, как оригинальных, так и переводных. В древнерусских проповеднических текстах распределение наших послелогов также весьма выразительно. У Феодосия Печерского в высоком стиле преимущественно ради (Х҃а ради и т.д.), в соединении с нейтральными словами — колебания («погоубляеть годины лѣности ради ихъ», но: «лѣности дѣля нашея»). Общее значение большинства сочетаний — значение источника действия (= ‘об’, ‘из-за’), только в сочетании с местоимением можно предполагать причинное значение дѣля, ср.: чего дѣля падохъ? вся створи насъ дѣля и т. д. Новая традиция проповеднического жанра начинается почти одновременно с Феодосием, уже с Илариона: в Слове о законе и благодати использовано только ради, в других поучениях ХІ-ХІІ вв. также только ради — вплоть до Климента Смолятича. При этом соотношение двух значений — источника действий и причины действия — в этих текстах все еще связано контекстуально, определяется характером сочетания, хотя первое (значение источника действия), как самое раннее, исходное, преобладает. Некоторые контексты многозначны, могут заключать в себе и целевое значение, ср. у Климента Смолятича: его же ради пишеши (103) — ‘из-за него? для него?’ Но чем раньше создан текст и чем демократичнее среда, в которой произносилась проповедь (в этом отношении особенно выделяются новгородские источники), тем шире употребление дѣля по сравнению с ради, иногда только дѣля при отсутствии ради: у Луки Жидяты, у Кирика в его «Вопрошании» и т.д. В проповедях XII в., даже в самых демократических по адресату, используется преимущественно ради, в XIII в. возможно безразличное смешение обоих послелогов буквально рядом, в одном сочетании — указание на образовавшуюся в языке дублетность послелогов; ср. у Серапиона Владимирского: «кгда кая на насъ казнь от б҃а придет, то болѣ прогнѣваем, извѣты кладут: того ради ведро, сего дѣля дождь, того дѣля жито не родиться» (с. 14; во всех случаях в значении ‘поэтому’); у Кирилла: «не божия дѣля закона, нъ своего ради прибытка или оугодия нѣкоего дѣля» (92) — такое же стремление употребить различные дублеты в целях избежать монотонного повторения одного и того же слова в художественной по заданности речи. В жанре хождений та же ориентация на ради. Уже игумен Даниил предпочитает сочетания с ради, но, передавая свою собственную прямую речь, сразу же «оговаривается» в пользу более привычного ему сочетания с дѣля: «но азъ оу вѣдахъ... и идохъ ко князю тому... и рекохъ: “И азъ быхъ хотѣлъ поити съ тобою... да быхъ походилъ святаа та мѣста вся... да бога дѣля поими мя, княже”» (92-93). Позже, в 1200 г., Антоний в своем Хождении повторяет тот же принцип передачи послелогов: при обычном ради однажды встречаем соединение старого дѣля и нового для (второе может быть глоссой в позднем списке): «вышедъ вонъ, возмутъ у патриарха благословение службы дѣля для литургии» (17-18; в протографе могло быть: службы дѣля). В переводных древнерусских текстах ради безусловно преобладает, особенно если это переводы уже XII или XIII в. В таких церковных текстах, как Книга Есфирь, Житие и чудеса Николая Мирликийского, во многих апокрифах предположительно русского перевода (Откровение Авраама), преимущественно в таких обширных текстах, как Жития Стефана Сурожского и Василия Нового (в последнем тексте с вариантами по спискам ради—дѣля с явным предпочтением первого), — во всех них послелог ради употреблен, как правило, после местоимения или одушевленного имени существительного в род. падеже (типы сего ради, его ради и Бога ради). Весьма редко встречаются конструкции с интерпозицией служебного слова: «тебе ради и по тебе отлученыхъ ради людей» (Авр., 48), «хоудости моея ради и тупости ради умныа» (Никол., 89). В таком изменении конструкций кроются изменения качественного характера. В прежних конструкциях (сего ради) семантическое содержание послелога синкретично и соотносится с конструкциями типа от сего, за се. Подобное соотношение может быть передано буквально в одном тексте, ср. в переводе апокрифа Хождение Богородицы по мукам: «(язычники) мракомъ злыимъ одьржими соуть, того ради сде (в аду) тако мучаться» (23) — ниже: «да за то сде мучаться» (24) — здесь неясно взаимоотношение причинного значения и значения источника действия, они поданы синкретично. В распространенных конструкциях (тупости ради умныа и т.д.) синкретичность значения столь же ясна, но там ощущается соотношение между причинным и целевым значением, никаких остатков исходного аблативного отношения там уже нет. В светских переводных текстах Древней Руси целевое значение послелогов вообще проблематично, они совмещают в себе первоначальные аблативно-причинные значения; при этом дѣля и ради варьируются в широких пределах и, по-видимому, функционально не различаются, представляя собою дублеты. Явно ощущается зависимость от греческого оригинала, который конструирует логические связи в древнерусском переводе. Так, в Пчеле значение причины преобладает, создается впечатление окончательной кристаллизации семантического отношения причинности, однако это всегда связано с наличием в греч. διά; дублетность средств (для передачи διά используется равномерно и ради, и дѣля) указывает на зависимость от оригинала, а не на самостоятельное (системное) вычленение одного из послелогов в причинном значении. Ср.: «Тако и дроуга запрещенья дѣля не гноушаися но приязньства ради люби» (67) — διά ... διά; «яко же и пчелы не жала дѣля ненавидиши, но плода ради любиши» (67) — διά ... διά. Греч. ῾ένεκα больше связано с целевым значением, и древнерусский переводчик в таком случае предпочитает дѣля, ср.: «Стяжанье достоино есть приобрести дроугъ дѣля, неже дроугы стяжанья дѣля» (65) — ῾ένεκα — и использование дѣля в летописях. Можно различить расхождение между списками разного времени, показывающее постепенную смену дѣля на ради в традиционных по составу и содержанию текстах. Используем для примера Киево-Печерский патерик, подвергавшийся редактированию. В Касьяновской редакции середины XV в. этот текст дает в основном ради (в постпозиции), тогда как более ранняя Арсеньевская редакция в этих же случаях довольно последовательно предпочитает дѣля (24 разночтения такого рода между двумя редакциями, трижды в Арсеньевской редакции дѣля вообще опущено, но оно подтверждается некоторыми списками этой редакции). Вообще много данных за то, что для ранних древнерусских вариантов даже переводных церковнославянских текстов более характерно дѣля, чем ради. Дѣля — глосса вместо ради в русских списках Книги Моисея, при возможном колебании ради—дѣля для передачи греч. ῾ένεκεν русские списки предпочитают второе[324]; δι αυτου в Мстиславовом, Остромировом евангелиях и в других русских списках первоначального перевода передается как его ради, а в Галицком евангелии 1144 г. (новая редакция) — сего дѣля. В русских редакциях и списках перевода Апостола то же предпочтение дѣля перед ради, можно обнаружить большое количество замен ради на дѣля в древнерусских списках[325]. Чтобы прояснить причину указанных расхождений, следует определить те предпосылки в развитии церковнославянского языка, которые могли оказать свое воздействие на выбор того или иного послелога в древнерусском литературном языке. По-видимому, Симеоновская версия старославянского языка предпочитала послелог дѣля [326] — это источник высокой авторитетности данной формы в древнерусских текстах. Сравнивая переводы одного и того же текста, сделанные в Моравии Мефодием и затем переведенные в Восточной Болгарии, легко видеть, что в первом случае используется послелог ради, во втором — дѣля. Иоанн экзарх в своих сочинениях одинаково свободно использует оба послелога и добавляет к ним еще цѣща. Из старославянских рукописей дѣля встречается как раз в тех, происхождение которых по разным основаниям связывается с Болгарией, — Саввина книга, Супрасльская рукопись и др.[327] Переводы мораво-паннонской редакции также не чуждаются послелога дѣля, употребляя его наравне с ради и даже чаще последнего: в Законе судном людем семь раз дѣля, один раз ради (страха б҃иѩ ради), и одновременно с тем обычные древние сочетания с предлогами в том же значении — «иже за етеры вражды ли грабление дѣля» (37), что показывает близость за и дѣля (как и в древнерусских источниках). Впрочем, в старославянских текстах смешение за—ради представлено широко, причем ранние русские списки в таких случаях предпочитают именно ради как более выразительное сочетание книжного типа, ср.: «не могуште приступити къ немоу за народъ» (διά τόν όχλον — Мк. II. 4) в Зографском и в Мариинском евангелиях = народамъ в Ассеманиевом и в Саввиной книге = народа ради в Остромировом евангелии; «за страхъ июдеискъ» (διά τον φόρον — Ио. XIX. 39) в Зографском, Мариинском, Ассеманиевом = «страха ради июдейска» в Остромировом[328]. Устранение конструкций с за привело к контаминациям с книжным ради: «се же сътвори за ведомыя ради» (῾υπέρ των απαρομένων αυτού) в Супрасльской рукописи (аналогичные примеры типа за молвы ради и в других старославянских источниках)[329]. Такими же контаминациями народно-разговорной и книжной конструкции являются сочетания за + род. пад. (за страха июдеиска в Супрасльской рукописи — вместо старых за страхъ ~ страха ради)[330]. Другая форма послелога — дѣльма — из старославянских памятников встречается только в Супрасльской рукописи (чаще всего), иногда в других списках, предположительно болгарского происхождения[331]. Впоследствии она сохраняется в болгарских, но исчезает в восточнославянских источниках. Полная дублетность дѣля и дѣльма не способствовала распространению второй из них у восточных славян. Все приведенные сопоставления показывают, что для первоначального кирилло-мефодиевского перевода характерно употребление послелога ради, затем, на равных с ним правах, в мораво-паннонской и Симеоновской редакциях старославянского языка включается вариант дѣля (дѣльма); хотя в это время еще возможны пересечения с предложными конструкциями (за и др.), однако они все больше воспринимаются как разговорные и постепенно устраняются из книжного языка. Таким образом, независимо от того, какие формы из числа указанных были представлены в древнерусском языке, в книжном церковнославянском языке восточных славян дѣля и ради определенно обязаны влиянию инославянской книжной традиции. Вопрос заключается только в том, ориентировались ли, и в какой степени, на первоначальный перевод богослужебных книг с характерным для него предпочтением ради или в качестве образца воспринимали четью, толковую, каноническую литературу с возможным колебанием между ради—дѣля, но все- таки с устремлением в сторону дѣля. Так в ХІ-ХІІ вв. на восточнославянской территории сошлись две одинаково авторитетные традиции, разделенные жанром литературы, и в церковном обиходе, в речи церковных и книжных людей победила первая, с обобщением ради. Материал показывает, что на разных уровнях направление влияния было различным: в конфессиональной литературе — ради, в летописно-хроникальной — расхождения в зависимости от местной литературной школы, в деловой и разговорной — дѣля. В целом для Руси различие между ради и дѣля было различием стилистическим — оба послелога одинаково противопоставлялись разговорным предложным конструкциям с тем же значением. Летописно-хроникальный стиль и в данном отношении играет роль «среднего стиля», промежуточного между двумя типами древнерусского литературного языка. В заключение вернемся к вопросу, затронутому выше. Часто мы не можем однозначно решить, с каким именно значением связано то или иное употребление предлога или послелога. Все зависит от степени устойчивости того или иного сочетании, с которым по традиции связывается, например, аблативное или причинное значение послелога. В таком случае за каждым изменением характера сочетания — синтаксическим или лексическим — следует видеть (= можно видеть) и изменение в значении служебного слова, хотя чаще всего трудно сказать определенно, что чему предшествует, семантическое изменение послелога, грамматическое изменение послелога в предлог или изменение синтаксических связей в сочетании с этим служебным словом. Традиционное сочетание всегда устойчиво связано с исходным (аблативным или причинным в ряде случаев) значением. Изменение конструкции, а первоначально даже и формы зависимого слова — указание на состоявшееся изменение семантики. Чесо ради и чьто ради в Истории Иудейской войны одинаково имеют значение причины — но в первом случае только причины (потому что сочетание целиком заимствовано из другой книжной традиции)[332], а во втором также и целевое (чьто ради ты делаешь то-то и то-то: ‘почему’ и ‘ради чего’). Первоначально причина и цель — синкретичны; в логической иерархии связей цель — всего лишь конечная причина, она и вычленяется из причинной связи и передается первоначально сходными с причиной средствами. Впоследствии осознается и разница между причиной и целью: первая в прошлом, вторая — в будущем. Раздвоение причины привело и к рассечению данных отношений на два типа связей, и нам довольно легко определить время такого раздвоения. Оно не могло возникнуть раньше осуществления двух важных грамматических преобразований: становления категории будущего времени и развития категории одушевленности. Первое важно было для осознания разницы между прошлым и будущим, второе ограничивало сферу целевых отношений одушевленными именами. Следовательно, категория цели нашла свое грамматическое выражение только в рамках отдельных славянских языков и не восходит к праславянскому периоду. Материал, приведенный выше, показывает, что следует различать становление категории цели в народно-разговорном и в литературно-книжном языке. При этом мы имеем возможность проследить процесс развития целевых отношений только в книжных текстах. Этот процесс оказывается весьма противоречивым, в отдельных литературных школах складываются свои собственные средства его осуществления, однако целевые отношения прослеживаются по крайней мере с конца XII в. — первоначально на более привычном для восточных славян послелоге дѣля. В этом можно усматривать попытку перенести на книжный уровень уже сложившееся в народно-разговорном языке противопоставление причинного дѣля и целевого про (или какого-нибудь другого предлога из числа тех, которые здесь не рассматриваются). Новые типы связей не развиваются в самом литературном языке как в наиболее отработанном, устойчивом, традиционном типе языка; под влиянием народно-разговорного языка они только субституируют уже «открытые» связи иными по отношению к народно-разговорному языку средствами, но в связи с существующей традицией. Следовало использовать наличные лексические единицы, и потому текстуально различие между причинным и целевым отношением реализуется в препозиции или в постпозиции служебного слова: того дѣля обозначает причину в прошлом (т.е. причину), дѣля того обозначает причину в будущем (т.е. цель). Расхождения между разными школами, жанрами, стилями в осуществлении данной тенденции — это вопрос стилистический, а не семантический. Изучить же действительное развитие целевых отношений в разговорном языке восточных славян на рассмотренном материале не представляется возможным. Употребление в древнерусском синкретических по своему значению конструкций с предлогами въ, за, на, о, по, подъ, про и др.[333] показывает сложность и длительность, внутреннюю противоречивость процесса вычленения целевого значения из причинного, а причинного — из объектного. Однако материал показывает, что к концу XII в. предлог про в обозначении целевых отношений окончательно вытеснил все остальные предлоги, которые оставались в употреблении как возможные его варианты (преимущественно на севере). Стабилизация семантического значения и устойчивость синтаксических конструкций целевого типа с про является косвенным подтверждением того, что, действительно, процесс семантического развития целевых конструкций завершился к этому времени.
ПРАВЫЙ — ЛЕВЫЙ
Кирилло-мефодиевские переводы знают только дѣсный—шоуии, моравская редакция, от которой зависели древнейшие русские литературные тексты, сохраняет это положение. Впервые лѣвый заменяет слово шоуии в восточноболгарской редакции старославянского языка (нач. X в.), и впоследствии эта эквиполентная связь становится также восточнославянской и западнославянской[334]. Исходное семантическое различие между лѣв- — шоуи- не совсем ясно, но оно существовало. Сопоставление с индоевропейскими языками показывает, что пара дѣсн- — шоуи- обозначала направление (‘правый’—‘левый’), а прав- — лѣв- — характер движения (‘прямой’ — ‘изогнутый, кривой’)[335]. Многочисленные значения этих слов, выявленные И. И. Срезневским на основе древнерусских текстов, фактически сводятся к указанным двум[336], хотя в этих текстах можно уже обнаружить некоторые отличия от южнославянских источников. В работах, касающихся нашей темы[337], хорошо показано взаимоотношение основ прав- — лѣв- — дѣсн- — шоуи- в лексическом и стилистическом плане. Выясняется, что прав- в значении ‘dexter’ русскими памятниками фиксируется довольно рано, а лѣв- вм. шоуи довольно широко распространено. Использование пар прав- — лѣв- и дѣсн- — шоуи- диктовалось жанровыми и стилистическими условиями, и только первая пара признается собственно русской, народно-разговорной. Приступая к семантическому анализу данной лексики, сделаем несколько поправок, которые позволят представить исходную (древнерусскую) систему противопоставлений. Следует согласиться с А. С. Львовым, что в древнерусском языке противопоставление ‘правый’—‘левый’ связано с парой дѣсн- — лѣв-.[338] Это подтверждается многочисленными текстами, приведенными И. И. Срезневским, Н. Г. Михайловской и И. Ф. Мазанько. Шоуи- стилистически ограничено и выступает в редких сочетаниях устойчивого характера. В большинстве оригинальных древнерусских памятников данная лексика не представлена, текст этого не требует. В многочисленных житийных текстах, в Киево-Печерском патерике, в Слове о полку Игореве и др. находим только слова правый и лѣвый с отстраненным друг от друга их значением: станетъ одѣсную (Печ. Патерик), на дѣсной стране (Житие Ольги), за руку дѣсную (Чт. Бор. и Гл.) — правую вѣру (Житие Владимира), неправый судъ (Устав Влад.), правити слѣдъ (Сл. ОПИ), ни права ни крива не убивайте (Влад. Мономах) и т.д. В Хождении игумена Даниила (1106 г.) на дѣсно — на шуе сопровождается противопоставлением на дѣсней руце — на лѣвеи руцѣ, и только однажды в это четкое распределение вторгается сочетание со словом правый: «Яко войдуче въ градъ, путь есть сквозѣ градъ святаа святыхъ на правую руку, а на лѣвую къ святому Воскресению...», ср.: «И влезучи есть во врата градка того, на деснеи руце есть пещера»[339], что точнее соответствует представленной в памятнике системе. Принимая во внимание подобные противоречивые тексты, представленные в поздних списках, следует уточнить вывод о стилистической функции слов с корнями дѣсн-, прав-. Если бы в начале XII в. было действительное изменение дѣсн- → прав, мы ожидали бы по крайней мере стилистического варьирования, а не случайной дублетности в позднем списке. Через сто лет, когда создается Хождение Добрыни Ядрейковича, в аналогичной ситуации используются только сочетания на правой стороне — на лѣвой стороне (3 раза), также рука Иоана Крестителя правая, и у правыя руки и др.[340] В картотеке Древнерусского словаря (ДРС) собрано 545 примеров, относящихся к употреблению слова правый, и только 17 раз это слово употреблено в значении ‘находящийся справа’[341]; все эти исключения приведены в статьях Н. Г. Михайловской и И. Ф. Мазанько. Впрочем, количество примеров может увеличиться, если принять во внимание древнерусские тексты (оригинальные и переводные), сохранившиеся в списках после XV в., например хождения. Самым ранним примером нового значения у слова правый является текст из Повести временных лет, под 1036 г.: «постави варягы посреде, а на правеи стороне кыяне, а на лѣвемъ крилѣ новгородьци»; второй по древности пример датируется 1096 г.: «и вдавъ ему пѣшьце и постави и на правемь крилѣ» (оба примера из Лавр. лет., л. 85б и 86б). Соответствующих текстов нет в Новгородской I летописи, следовательно, они не входили в древнейший состав летописи[342]. Кроме того, А. А. Шахматов доказал, что по крайней мере до 1073 г. не велось погодных записей и, значит, приведенный текст 1036 г. не может восходить к тому же времени[343]. Действительно, все ранние контексты Повести оперируют сочетаниями дѣсн- — шоуи- или дѣсн- — лѣв-, только в начале XII в. мы получаем аналогии употребления слова, свойственного Даниилу, а в середине XII в. — Кирику («...и сердце и едину руку правую»[344]). Все прочие примеры,указанные картотекой ДРС и находящиеся в нашем распоряжении, относятся к концу XII и к XIII в. (в Сузд. летописи по Лаврентьевскому сп. 1377 г. и в Ипат. летописи начала XV в.). Первоначально употребление слова правый в новом значении строго ограничено: в сочетании со словами сторона, крыло, рука и всегда в противопоставлении к лѣвый. Такое контекстуальное ограничение заставляет предполагать синкретическое значение ‘правильный, истинный — правый’, которое каждый раз конкретизируется самим контекстом: «ни права ни крива не убивайте» (Влад. Мономах), но — «Игоревъ полкъ середе, а по праву брата его» (Ипат.). Фактически мы не можем говорить ни о дублетности, ни об эквивалентности, ни, тем более, о стилистической дифференциации слов правый и дѣсный. Новое значение слова правый является еще окказиональным, хотя оно и возможно только в текстах, отражающих разговорную русскую речь. Можно предполагать грамматические основания этого. Лѣвый — прилагательное, в словообразовательном отношении изолированное от прочих частей речи, тогда как дѣсн- и шоуи- имеют производные с обобщенным значением, дублирующим значение производящего, ср. дѣсница— шоуйца и одѣсноую—ошоую. Прав- включается в широкий ряд производных (правда, правило, право, правити, правый и др.), из которых выпадает краткое прилагательное правъ после образования имени существительного право и полного прилагательного правый. Значение ‘истинный, справедливый’ закрепилось за производными, тогда как многозначность прилагательного контекстуально могла повернуться неожиданно новыми семантическими гранями. Этому способствовало то обстоятельство, что лѣв-, первоначально противопоставленное к прав- значением ‘кривой—прямой’, стало уже основным обозначением для ‘находящегося слева’. Наряду с тем лѣв- сохраняет еще и исконное значение ‘неправый, кривой, злой’, проявляющееся в некоторых переводных текстах древнерусской поры. Ср.: «въпроси съвести могоуща жити десныхъ ради... врагоу лѣвая оустрояющоу» (Панд., сл. 67), «по Гофонилѣ ж бысть соудья Аводъ лѣвый лѣт. п.» (Амарт., 113, 17). Наоборот, слово дѣсн- может выступать в противоположном значении ‘истинный, праведный’, ср.: «ту (икону) дьрьжа и самъ будеши дѣсная творя въ всемъ» (Феод. Студ., 140), «како веселяться како блгословятся добрых свѣтъ дѣснаго их свѣта» (там же, 149об.), «си ревность не о бозѣ но от лукавого бывать ревность си, и дѣсною лестью приходящии... творящимъ пагубу» (Отв. Иоанна), «въ дѣсныя бо вы вл҃дка приять, дѣсный глас къ вамъ изг҃ла, тихама очима на вы възьре... и рѣхомъ правьдьные соудии...» (Усп. сб., 278а), «Кормилици обоучають дѣти дѣсницею приимати пищю, аще простроуть лѣвицю, то запрещають имъ, а мы въскоую не промыслимъ дѣснаго закона б҃жия възискати и оугодити емоу добрыми дѣлы» (Пч., 165, 25), что в Отв. Иоанна соответствует греч. λόγων επιδέξιων, а в Пчеле — τη δεξια. В тех же древнерусских переводных текстах характер направления передается противопоставлением дѣсн- — лѣв- (ср.: Устав Студ., Алекс., Флав. и др.). Особняком стоят переводы Жития Василия Нового, Хроники Георгия Амартола, Пандект Никона Черногорца, в которых наряду с дѣсн- — лѣв- широко представлены также дѣсн- — шоуи-, что доказывает достаточную древность этих переводов, признаваемых древнерусскими. В Житии Василия Нового встречаются контекстуальные преломления в значении указанных слов, ср.: «и на дѣсный поуть чистѣ повелением господнимъ възвратившемъся» (Васил. Нов., 434, 10 — ‘истинный, праведный’), и «се дроугое соньмище пришедше правыми ногами ко го́у» (521, 20) — сочетание, которое в ед. числе (праву ногу) неизбежно осознавалось бы как ‘находящийся справа’. Таким образом, дѣсн- — лѣв- в такой же степени могут иметь значения ‘ложный’—‘истинный’, как и прав- — крив-. Разница та, что в первой паре эти значения вторичны, являются производными и могут проявляться в переводных текстах с середины XI до середины XII в. Слово дѣсный получает значение ‘истинный’, поскольку оно противопоставлено к лѣвый. Слово шоуии не включается в это противопоставление, поскольку является второстепенным, устаревающим вариантом слова лѣвый. Теперь правый, изолируясь грамматически, всеми своими значениями пересекается с дѣсный и контекстуально может вступить с ним в вариантные отношения. Важно, что само противопоставление обусловливает не однозначное отношение ‘находящийся слева — находящийся справа’, но все производные и даже символические значения, связанные с исходным распределением ‘прямой—кривой’. Слово правый в древнерусском языке — это ‘прямой’, а не ‘правый’, ср.: «и не уклонися ни на дѣсно ни на шюе, нъ яко же стрела права летящи, тако же и ты иди силою Бжиею» (Усп. сб., 3г), «обрете бъчьвь тоу правѣ положеноу и полъноу соущю медоу» (Усп. сб., 54а). Период между концом XII и XIV в. — это время постепенного вытеснения слова дѣсный словом правый и все большего связывания слова шуии с узким контекстом (уже в Усп. сб. ХII-ХIII вв. оно обычно употребляется только в сочетании дѣсный и шоуии). Ограничение дѣсный приводит к устранению слова шоуии. Даже переводные произведения указывают на этот процесс: в Девгениевом деянии и в Сказании об Индейском царстве находим только в правой руке — на левой руке; по правую руку, а по левую руку и т.д. Аналогичные примеры из летописных текстов также относятся к тому же времени. Дело осложняется тем, что многие тексты представлены в поздних списках, и мы не можем проследить движения интересующих нас значений в промежутке между XII и XIV вв. Переходя к материалам ХV-ХVІ вв., обнаруживаем следующую картину. Псковские источники не дают употребления слова правый в значении ‘находящийся справа’. В новгородских это значение достоверно проявляется в Договорной грамоте 27.11.1448 г. («А земли и воды рубежь... стерженемъ Норове реке прямо в Солоное море... не вступатися въ княжю местереву половину, в лѣвую сторону Норовѣ рѣке, такоже князю местерю ни его людемъ чересъ рубежъ, чересъ стержень Норовѣ рѣке, не вступатися въ новгорочкую половину, въ правую сторону Норовѣ рѣке» — 118). Появление правой стороны привело к замене право на прямо. Все остальные примеры новгородского происхождения относятся к более поздним спискам грамот. Иначе в северо-восточных источниках. Около тысячи грамот большого объема (АСЭИ, т. II и III), написанных в ХV-ХVІ вв., представляют следующую картину. Самый ранний пример употребления правый в значении ‘находящийся справа’ — в грамоте 1404 (АСЭИ, III, №53а — из Звенигор. у.): «до реки Москвы, а по другую сторону по правую по Олександрово село...» (в списке начала XVI в.). Вполне вероятно, что выделенное слово могло быть уточнением переписчика XVI в. Достоверные примеры такого словоупотребления относятся к середине XV в. и всегда связаны с точным указанием границ: правый — по отношению к течению реки (грамоты 1470-1486, 1492, 1485-1490 гг.), по отношению к меже — границе (1472, 1478-1479, 1492-1503 гг.), по отношению к дороге (1483, 1498 гг. и др.). Более ранние тексты грамот либо называют конкретные приметы местности, либо конкретизируют указанием полуденная сторона — зимняя сторона (ок. 1455 г.), на монастырскую сторону, на Ондрееву сторону (1440-1460 гг.) и т.д. С 70-х годов XV в. обычны определения типа: «ино правая сторона рекы Бонемы моя земля Иванова, а лѣвая сторона речки манастырская Кирилловская (друг другу) ни на лѣвую, ни на правую сторону речки Бонемы не лести, ни вступатися» (1470-1486 гг., II, 189). Происходит уточнение границ применительно к данной территории и вместе с тем абстрагирование от конкретного рельефа местности. Вместо та сторона — эта сторона появляется обобщенное противопоставление правая—левая по отношению к какой-то условной границе — сторона. В Московском летописном своде до конца XV в. также обычно противопоставление правая—левая сторона, ср. записи под 1398, 1406, 1431, 1456, 1472 гг. и др. Первое употребление нового слова зарегистрировано под 1473 г.: «входя в сѣверные двери церковные на правой стороне...» (ср. еще записи под 1476, 1478 гг.). Сочетание полк правой руки в противопоставлении полку левой руки становится обычным в ХV-ХVII вв. и широко представлено в тексте IV Новгородской и Никоновской летописей[345]. Ф. П. Сороколетов связывает их появление с военными реформами Ивана III[346]. По-видимому, и примеры в новгородских летописях этого времени связаны с влиянием московской терминологии. Впоследствии это сочетание варьирует лексически, сохраняя, однако, одно и то же значение: правая рука — правый полк — правое крыло (см. Вести-Куранты, 1600- 1639), но все более лишаясь конкретного указания на правую сторону по отношению к военачальнику. Тем не менее от XVI- XVII вв. дошли только контексты, связанные со взаимным противопоставлением правого левому применительно к стороне или руке, см. статейные списки русских послов того времени, Повесть о Сухане, сочинения Котошихина, Пересветова, Аввакума и др. Еще у Афанасия Никитина (1466-1472 гг.) правая рука — лѣвая рука употреблены параллельно с сочетаниями типа одна сторона — другая сторона, и вместе с тем представлено традиционное сочетание правая вѣра. Через сто лет после Никитина в том же жанре хождений наблюдается принципиально иное распределение слов. Смоленский купец Василий Позняков (1558—1561)[347] различает по одну страну — по другую страну (26-27), если стороны рассматриваются совместно. Если же в тексте представлена относительная независимость сторон, всегда указывается на левую или правую сторону: «а в церкви на лѣвой стороне» (15), «а сѣдь у царских дверей по правую страну» (17), «стоить в церкви на правой руке» (32). Вместе с тем сохраняется и слово дѣсный, которое еще понятно и выступает в качестве эквивалента слову правый: «а на дѣсной стране исходя из церкви» (44). Аналогичное смешение лексем находим в Хождении Трифона Коробейникова 1593 г. Это уже типичные произведения XVI в. с их смешением русских и нерусских лексем для передачи одной и той же русской семантической модели. По-видимому, и в XVI в. общее значение левого как отрицательного члена противопоставления ощущалось еще вполне, ср. следующее толкование левого, связанного с севером, с теневой стороной, представленное в переводе Назирателя: «лучши есть сицевую выбирати ниву, которая есть на запад солнца или к полунощи, сииречь на лѣвемъ, положиста я ради убережения суть с(о)лн(е)чнаго вжения» (165б)[348]. Таковы поправки к тем обширным материалам, которые опубликованы и потому позволяют избежать чрезмерного количества примеров. Рассматривая общую линию изменения этой группы лексики, легко обнаружить несколько взаимосвязанных аспектов. С содержательной стороны: абстрактное противопоставление ‘правый’—‘левый’, соотносимое с любой противоположностью предмета относительно центра, осознается и оформляется постепенно. Летопись и грамоты, отражающие разговорную речь, определеннее всего показывают, что первоначальное линейно выраженное противопоставление связано с реальным пространственным значением: вверх — вниз и — прямо, левый и правый относительно известного направления, например, относительно человеческого тела или течения реки. Только в таких конкретных контекстах и осознается значение ‘левый’—‘правый’, в остальных случаях возможны и другие значения тех же самых слов. Семантическое распространение данного противопоставления на все возможные ситуации, в том числе и на безотносительные, не связанные друг с другом вообще правое и вообще левое, привело также к полной смене лексем, выражающих данное противопоставление: дѣсн- — шуи- (эквиполентная оппозиция по ряду признаков) дало прав- — лѣв- (привативная оппозиция по единственному семантическому, но зато универсальному для всех контекстов признаку). Содержательная сторона изменения показывает постепенное абстрагирование мысли, потребовавшей четкого и однозначного противопоставления для передачи одной-единственной связи реального мира: ‘находящийся слева’ — ‘находящийся справа’. С грамматической стороны эта пара выражает общее, весьма характерное для древнего мышления значение двойственности, точнее, парности. Следовательно, в самом широком плане перед нами — одно из лексических проявлений свободного двойственного числа у имени, поскольку одна сторона без другой не мыслится и в речи не употребляется. Все изменения этой пары так или иначе связаны с грамматическими изменениями русского языка. Прежде всего, разрушение двойственного числа (отражается с XII в.) хронологически связано с активным включением в традиционную лексическую пару дѣсн- — лѣв- лексемы прав-. Выше показаны грамматические основания возникшего в результате этого совмещения прав- = дѣсн-. Разрушение грамматической двойственности (категории дв. числа) и определенности (в противопоставлении полного прилагательного краткому) привело к колебанию этих же признаков и на лексическом уровне; одна сторона постепенно освобождается от непременной зависимости от другой стороны. Часть может осознаваться как нечто самостоятельное и получает в речи свое воплощение как целое. С семантической точки зрения выявляется антонимическая пара, которая входит в соответствующую антонимическую корреляцию: дѣсн- — шуи-: низ- — верх-: прям- — лѣв-: ровн- — крут- и т.д. В семантическом анализе важно определить маркированный член противопоставления, однако применительно к эквиполентной (равнозначной в отношении к обоим членам противопоставления) оппозиции дѣсн- — шоуи- это непросто сделать. Если ограничиться только одним значением этой семантической оппозиции, тем, которое нас сейчас и интересует (‘находящийся справа’ — ‘находящийся слева’), маркированной следует признать правую сторону, выраженную лексемой дѣсн-. Это действующая, направляющая, справедливая сторона у язычников[349], это освященная сторона у христиан, что лексикографически выражено, например, В. И. Далем: «лѣвый = шуии, противоположный правому, с не крещенной руки» (II, 277) — определение, указывающее на маркировку правый = дѣсный. Это обстоятельство обусловило широкое лексическое и семантическое варьирование немаркированного члена противопоставления (шуи- и лѣв-), тогда как дѣсн- длительное время сохранялось в противопоставлении к прав- по другим признакам. Позднее устанавливается новое отношение: равноправие левого и правого по отношению к центру, которым применительно к человеческому телу становится «середина», т.е. сердце. Уже в середине XII в. у Кирика: «...и сердце, и едину руку правую» (по отношению к сердцу). В современной лексикографической практике именно это отношение и принято в качестве ведущего. Левый — ‘расположенный в той стороне тела, где сердце’, правый — ‘противоположный левому’. Осознание центра противопоставления привело к смене маркировки и, следовательно, допустило лексические и семантические колебания в немаркированном члене противопоставления, которым теперь стал десн-. Семантические этапы последовательно уточняющегося противопоставления легко уясняются из контекстов, их можно представить следующим образом. 1. В противопоставлении дѣсн- — шуи- присутствуют все три, первоначально им свойственные семы: а) ‘правый’—‘левый’, б) ‘прямой’—‘кривой’, в) ‘справедливый’—‘несправедливый, ложный’. 2. В противопоставлении дѣсн- — лѣв- присутствуют только две семы — а и в. Сам факт совмещения лѣв- и шуи- привел к совпадению сем а и б в синкретическое значение ‘правый, прямой’ — ‘левый, кривой’. Древнерусские переводные тексты ХІ-ХІІ вв. отражают именно этот этап семантического развития. В этих памятниках дѣсн- — это ‘правый’ и ‘правильный (справедливый)’, лѣв- — это ‘левый’ и ‘неправедный (ложный)’. 3. В противопоставлении прав- — лѣв- всего одна сема, центральная для данной оппозиции — ‘правый’—‘левый’. Сема в ушла в другие оппозиции, хотя контекстуально она и сохраняется еще в слове правый вплоть до XVIII в. Таким образом, семантически каждая новая конкретизация в значении связана с нейтрализацией одной семы, а затем и с устранением выражающей ее лексемы. Сначала уходит шуи-, затем дѣсн-, т. е. каждый раз, как это и обычно при любой нейтрализации, уходит из системы не только дифференциальный признак, но и воплощающая его форма. Аналогию находим в фонологических преобразованиях системы. Устранение признака ринезма (носовости) в системе русского вокализма X в. привело к устранению носовых гласных — реально воплощавших собою этот признак. Каждый раз колебаниям и впоследствии разрушениям подлежит тот член оппозиции, который не является маркированным; поэтому в нашем случае сначала происходит совмещение шуи- с лѣв-, а по завершении этого процесса колебания начинаются между дѣсн- — прав-. Выбор нового эквивалента определяется причинами, теперь недостаточно ясными. Мы ограничились разбором одной семантической оппозиции, тогда как детальный анализ потребовал бы внимательного изучения всей корреляции. Почему шуи- вытесняется лексемой лѣв-, а не крив- или зол-? Можно только предполагать, что лексема лѣв- содержала в себе сему, связанную с различением направления, а два остальных слова — нет. Почему несколько позже дѣсн- вытесняется лексемой прав-, а не прям- или добр-? Причина, очевидно, та же. Прям- имеет значение, связанное с направлением, и приведенные выше факты указывают на семантическое смешение прав- — прям- в XIII в. (т.е. как раз тогда, когда происходит «внедрение» лексемы прав- в данную семантическую оппозицию, можно предполагать даже их длительную конкуренцию). Однако прям- не содержит значения ‘истинный’, которое необходимо было для совершения новой семантической нейтрализации, и система предпочла вариант с прав-. Каждый этап семантического развития можно иллюстрировать большим числом примеров. Сомнения, может быть, вызывает толкование первой оппозиции (дѣсн- — шуи-) как «вместилища» всех трех значений. Однако значения ‘кривой’ и ‘ложный’ вытекают из многих текстов и прежде всего из церковнославянских. В переводе Жития Василия Нового, например, синкретизм значений слова шуии представлен чрезвычайно ярко. Такой контекст, как известное евангельское одесную и ошуюю, в разных местах перевода допускает троичное толкование: ‘справа и слева’ (чересчур конкретно), ‘прямо, рядом — в отдалении’ (очень конкретно), ‘истинно и по справедливости — неправедно’ (что больше всего соответствует евангельским исходным понятиям). Со стилистической точки зрения вопрос решить труднее всего. Сложное пересечение жанровых и стилистических сфер речи, отраженное в текстах, препятствует однозначному решению применительно к конкретному синхронному срезу. Именно в текстах, отражающих живую речь, семантическое развитие оппозиции прослеживается всего четче. Эклектичные в стилистическом отношении жанры и эпохи (ср. Хождения Афанасия Никитина и Василия Познякова) пытаются совместить разные лексические формы для передачи одной и той же семантической модели. В результате происходит нежелательное для исследователя замутнение исторической перспективы и перебивы в отражении неуклонного процесса семантической конденсации.ЛЮБЫ И ЛЮБОВЬ
Как и во многих других случаях, древнейшая летопись выражает две разные точки зрения и на любовь. В Повести временных лет приведены тексты договоров языческих русских князей с греками от 912, 945, 971 гг., и во всех этих текстах 17 раз говорится о «мире твердом и любви свершенной», т.е. заключенной. Постоянно подчеркивается, что любовь такая «строится», «творится», «имеется», «пребывает» «межю собою». Впоследствии Повесть поминает «миръ межю ими и любы» (Лавр. лет., 43б — под 996 г.) только в самые тревожные моменты древнерусской истории, когда необходимым становилось подчеркнуть внешнее согласие между правителями или их землями: 1054 г. — смерть Ярослава, 1068 г. — замятня в Киеве и т.д. Под 1015 г. — годом смерти Владимира — в рассказе о Глебе впервые возникает на листах летописи неведомое прежде значение слова, и сразу же изменяется сочетание: не мир и любовь, а вѣрою и любовью (Лавр. лет., 47). «Новые люди» — христиане использовали и новое значение слова. Новый текст потребовал новых клише, чтобы словесный ряд уже в характере сочетаний выражал и новые мысли об отношениях между людьми. Впоследствии новое значение слова вплетается в летописный текст параллельно с древнерусским, нигде не пересекаясь, всегда в тематически ограниченных пределах рассказа о подвижнике, о церковных делах, о Боге. В рассказе о Феодосии Печерском эта любовь — такое же отношение к другому, но уже не взаимное («межю ими»), а однонаправленное, но и амбивалентное. С одной стороны, любовь к Господу, с другой — как отражение этой высокой любви — «любовь к меньшим, к старѣишим покорение» (Лавр. лет., 62 bis, 63 об. и др.). Это уже не мир и согласие равных, а избранное предпочтение по добровольному желанию, сердечная личная склонность, стремление к объекту своего влечения. Так языческое «согласие» и христианская «привязанность» сошлись впервые на узком пространстве древнего славянского слова. Если корень люб- сравнить со словами родственных языков и определить этимологический его образ, сохраненный веками в значениях слов, окажется, что это — ‘страстное желание’, ‘жажда, окрыленная надеждой’. Однако в истории слов и понятий мало собственного значения слова. Вступая в связи с другими словами, выражающими представления о мире и человеке, значения слов изменялись или исчезали, потому что оказывались лишними. Но были ключевые слова-понятия, которые, постоянно изменяя свой смысл, оставались всегда как знак традиции. К их числу относится и слово любовь. В средние века любовь понимали иначе, чем теперь. Любы творити (самое первое употребление слова в Повести временных лет) — перевод греч. πορνεύειν ‘вести развратную жизнь’; это ‘блуд’, ‘ложная любовь’. Прѣлюбы — ‘сверх-любовь’, недопустимая крайность и, в конечном счете, вовсе не любовь. В этом отношении славянская традиция долго сопротивлялась влиянию южной цивилизации. В русских говорах множество слов, сохранивших исходное значение корня. Тут любовь и ‘охота’, и ‘желание’, даже ‘аппетит’; любить — действовать горячо, порывом, самозабвенно. Столетиями создавались слова с обозначением предмета привязанности. В Словаре русских народных говоров[350] собраны многие производные, не попавшие в литературный язык, — в них-то как раз и сохраняется чисто народное представление о любви: любёхонько — приятно, приветливо, согласно, со взаимным пониманием, т.е. полюбовно; любость — дружеские отношения; любота — чувство удовлетворения, а любо — просто охота к чему-то. Многие растения именуются тем же корнем, травы привораживающие, привязывающие, располагающие: любжа, люби́м, любка, любчик, любовь-трава. Эта любовь отличается и от жалости (ближе всего стоит к современному представлению о любви мужчины и женщины), и от ласки, и от многих других проявлений человеческой приязни к другому как самая заветная сторона «приятности», т.е. приемлемости. Даже в песнях говорят о «совести-любови», а не о любви-страсти. Речь идет о душевном влечении человека к миру и согласию. Когда-то, видимо, любовь в значении ‘мир’ близка была к дружбе, хотя, в отличие от дружбы (по отношению к товарищу, к другому представителю своего коллектива), любовь была обращена на лицо другого племени и другой крови. В значении ‘расположение, благоприятные отношения дружбы’ слово любовь встречается с древнейших текстов восточных славян — миръ и любовь; только в грамотах с середины XV в. это выражение сменилось новым: любовь и дружба. Таким образом, сменилось и отношение к понятию любви: вместо народного миръ стоит уже славянизм дружба. Когда стало изменяться, расплываясь в текстах, исходно синкретичное значение слова любовь, потребовался как бы его «перевод», уточняющий для современников точный смысл старинного слова, и уже с середины XV в. возникают одно за другим попарные сочетания типа любовь и братство, дружба и братство, любовь и приязнь, дружба и приязнь, богатство и приязнь, которые указывают на близость значений слов братство, любовь и дружба. Такие обороты полностью равнозначны народным сочетаниям типа стыд и срам, любовь да ласка — личное переживание человека как бы дополняется мнением со стороны другого человека, становится внешней характеристикой того же действия, состояния, отношения. В XV в. эти логически точные сочетания слов, пояснявших смысл друг друга, были «взорваны» изнутри потребностью все новых уточнений, и в Повести об Ионе, епископе новгородском мы видим типичный пример такого разложения прежде четких бинарных определений путем распространения их новыми словами: «тверду любовь... миръ великъ ... глубоку тишину... тихость и миръ и любы», «благодать... и радость и веселие». Слово миръ многозначно, потребовались уточнения того, что «мир» здесь — ‘спокойствие’. Теперь тверд не мир, как в Повести временных лет, тверда любовь, а синонимы употребляются с другими определениями. В разговорной же речи старое значение слова сохраняется дольше. В 1607 г. Тённи Фенни записывает в Пскове: «Смѣть ли мнѣ своего товару смотреть на свою любовь?» (at my leisure, т.е. когда мне удобно, как переводят теперь на основании его толкований). Или: «Я товаръ продам по своей любви» (at my preference, т.е. как мне захочется). Он записывает и пословицу: «Коли человѣка любовь давать — ино еще сумѣть взять!»[351] Совсем иначе в книжной культуре средневековья. Любовь вообще не упоминается в числе самостоятельных сюжетов повествования в переводах ХII-ХIII вв. — ни в Пчеле, ни в Лествице. Но в текстах Измарагда, составленных в XIV в., уже встречаются попарные сочетания, хотя и в странных комбинациях, скорее в противоположениях: «о любви и о зависти», «о рассмотрении и любви». В соответствии с христианскими понятиями, «пребывают три сия, все связующие и содержащие: вѣра, надежда и любы, болѣе же всѣх любы», «зане любовь не вмѣняет злаго» (Лествица), но связана с надеждой и верой. Эти христианские понятия о любви оказали большое влияние на древнерусские представления о человеческих отношениях. Поучения и наставления «мирской чади» бесконечно множат рассуждения о том, что Отец небесный возлюбил детей своих, и тот, кто любит его самого «и любве его привязашася» (Печ. Патерик, 133), достоин славы. Любовь — чувство симпатии, духовного родства, исключающее гнев и зло, оттого любовь и выше всех добродетелей, что повязывает «всю злобу дьявлю». Это «радость сердца» (Иг. Дан.), «веселье духа» (Ипат., 232). Согласно Печерскому патерику, эта любовь тихая, сердечная, в которой отношение к другому всегда сопровождается «любовию и слезами», с признательностью и безответно, любовь — это не страсть, т.е. не страдание, а кротость и тщание (т.е. старательность), милость, какая сродни вере и часто ее замещает. С точки зрения церкви любовь бесплотна и однонаправленна — к Богу, а через него и на других, на людей. В Патерике и в Ипатьевской летописи неоднократно говорится, что подобную любовь имеют, но любви и лишают, в ней пребывают или входят в нее, ее стяжают, ее хранят и по ней живут. Это некая духовная цепь, которою через Бога повязаны все «верные». Не сразу началось совмещение неопределенных смыслов слова любовь в общее его значение в литературном языке. Различные литературные школы по-разному выражают эту столь отвлеченную «любовь». В древнерусских переводах Пчелы и в Пандектах Никона Черногорца (XII в.) греч. φιλία и производные от него передаются словами любовь, любити, любимый, а болгарские редакции тех же текстов, приближая их к пониманию своих читателей, заменяют эти слова на дружьба, дружьство, желати. Один и тот же греческий глагол τημελεις в древнерусских переводах дается как любити, в болгарских — прилежати (заботиться, ухаживать), а в мораво-паннонских — миловати. Такое расхождение кажется знаменательным, потому что внутренней формой корня, его образом фиксируется внимание на различных свойствах объекта привязанности, избираемых для именования у западных, южных и восточных славян. Все три слова одинаково означают ‘желать’, однако древнерусскому книжнику было недостаточно таких понятий, как ‘слишком откровенно желать’ или просто ‘симпатизировать’ (миловати), он предпочитает говорить о любви как о более близком отношении к объекту своего влечения, но без оттенка «желания». Не активная позиция действующего человека, а просто отношение к кому-то. Приводя цитату из Псалтыри, Кирилл Туровский не тверд в словах «уязвена семь суть любовью твоею, женише небесный!» (по некоторым спискам — добротою); в свое время И. В. Ягич заметил, что и в древнеславянском переводе Псалтыри слово любъве древнерусский редактор заменил на размышление (Симоновская псалтырь 1270 г.). Судя по текстам древней летописи, любят — думу (со своими мужа́ми), священное место, правду и истину, веру и честь, благо и славу, смирение и нищету, свободу и «правый рядъ», церковный устав и мнихов, а также жену и детей, близких своих, представляемых в столь же отвлеченном от конкретных лиц виде. После XIII в. пределы такой любви достигают бескрайних границ и уже не вмещают прежде узкие сферы личного отношения человека к другим и к другому. Да и греческое слово φιλία, которое приходилось переводить на славянский язык, слишком многозначно, чтобы новые, переносные значения слова любовь не появились и в русских переводах. Вообще почти все греческие слова, которые переводились славянским любовь, многозначны, но в качестве основных содержали значения ‘благосклонность’, ‘привязанность’, ‘влечение’, ‘расположение’, т.е. личное отношение к другому человеку, именно отношение, а не желание, не размышление, не милость (доброта). Слово родового в этом ряду понятия αγάπη вообще являлось основным христианским термином, означая кроме прочего братскую трапезу у христиан. Через переводы и началось изменение в содержании понятия о любви. В славянских языках глагол многозначнее имени, поскольку может образовывать ряды слов с приставками. Этим свойством глагола умело воспользовались древнерусские книжники, чтобы смягчить значение слова, оторвать его от обозначения самой высокой привязанности. Только один глагол — улюбѣти — обозначает состояние, которое можно перевести как ‘понравиться’. Вот несколько примеров из Ипатьевской летописи за 1188-1195 гг.: «Занѣ гдѣ улюбивъ жену или чью дочерь, поимашеть насильемь...» (230), «Рюрикъ же сего не улюбишеть лишитися отчины своея» (231), «...половци же улюбивше думу его» (232), «Ростиславъ Рюриковичь улюбивъ совѣтъ ихъ и послушавъ ихъ» (237). Во всех случаях говорится об одном: что-то (кто-то) понравилось — либо чья-то жена, либо совет, либо речь; что-то «нашло» на человека извне, со стороны и привлекло внимание, показалось красивым, умным или полезным. Значение приставки у- уже как бы скрывает, что любовь — вожделение и личное переживание, ведь эта морфема издавна значит ‘от’, ‘долой’ или ‘прочь’; не сам человек любит, он просто откликается на чужое отношение к нему, на давление извне, на чужой порыв, чему соответствует народное представление о любви как взаимном отношении лиц. Отсюда и постоянное указание в текстах Ипатьевской летописи: «хотя имѣти с нима любовь» (265б), «и не бы любови межи има» (265б), «и со Давыдомъ введи мя в любовь» (239), «и в любви с нами быти» (240) и др. Глаголы типа улюбѣти, дробя представление о такой взаимности, привносят в русский текст уже значение, свойственное переводной письменности. Личное чувство способно стать началом такой взаимности, оно порождает любовь. Возникает множество оборотов: имѣти любовь, хотѣти любовь, придти в любовь, чинити в любви, взяти любовь, учинити, держати или сложити любовь, съитися в любовь, съвести в любовь, даже съмолвити в любовь — ‘помириться’, ‘уговорить’, ‘согласиться’; рѣчь по любви ‘мирные переговоры’, быть без любви ‘жить без согласия’ и т.д. Любовь постепенно становится глубоким чувством, чувством к близкому человеку, к родине, к привлекательным сторонам жизни. Из слова, выражающего связь-отношение, оно превращается в слово морального смысла, наполняясь все новым и новым, социально важным содержанием. Как отклик этого процесса в текстах с XVI в. встречаем все новые сочетания с определением, с помощью которого стремились уточнить ускользающий со временем исконный или новый смысл слова любовь: вечная любовь, прочная любовь, недвигомая любовь, крепкая любовь, неразорванная любовь — совершенно иные определения, чем в древнерусской литературе, где, как в Печерском патерике, сердечная любовь, безмѣрная любовь, нелицемѣрная любовь — личная, но воспламененная высоким чувством к Богу любовь. Взаимное проникновение смыслов церковнославянского и древнерусского слов — по форме одного и того же слова — в контексте культуры и новых общественных отношений мало-помалу слило их в общем значении. «Любовь-отношение» как личное чувство и «любовь-согласие» как социальный долг в современном литературном языке стали общим значением одного литературного слова любовь. Но на протяжении всего средневековья противоположность мирского и христианского восприятий любви настойчиво сохранялась и в семантике производных слов (любо́й и лю́бый, любимый и любезный — в противоположности друг другу), и в форме слов (архаические любы, любве сохранялись в «книжном» значении слова, новые любовь, любви приняли на себя значения русского слова), и в отношении к грамматической парадигме, и даже в ударении (исконная подвижность ударения любы́, лю́бве и новое наконечное ударение любо́вь, любви́, даже любо́ви в просторечии) и т.д. История ключевого для идеологии слова есть разрушение его исходной цельности, последовательное совмещение понятий двух культур в одном материальном знаке — слове, которое поначалу привязано было к известному тексту, к характерному сочетанию, к переходящему от текста к тексту клише, но затем собралось во всех своих формах, во всех значениях и предстало в законченном виде уже у писателей нового времени. Язык последовательно и неотвратимо вырабатывал новое понятие о любви доступными ему средствами. Не только грамматическая парадигма, не только ударение или новые производные, которые множили мысль и о формах любви, и о субъектно-объектных в любви отношениях; сначала в глаголах, потом в устойчивых сочетаниях слов, в формулах, еще позже в определениях, уточнявших значение слова, постоянно формировался новый смысл нового русского слова любовь. Не только по форме, но и по значению также любы стала любовью.ДУША И ЛИЧНОСТЬ
Самобытный тип русской души уже выработан и навеки утвержден.Николай Бердяев
Каждый понимает по-своему, что такое личность. Для одного это просто особь в ряду других: стоит наособицу, существует сама по себе — о-соба, точная калька с латинского per se, известная и в таком варианте: персона. Для другого это индивидуум с присущим только ему набором характерных индивидуальных черт — тоже от латинского слова, но уже не переведенного, а просто заимствованного целиком: individuum ‘неделимый’. Один, таким образом, как главный признак выделяет самостоятельность, другой — цельность существования «личности». И только для третьего, способного вступить в спор, это действительно личность в полном смысле этого русского слова. Чтобы глубже понять смысл понятия- слова родного языка, необходимо отвлечься от всяких заимствований. Мысль рождается только в собственном слове. У каждого народа представление о личности, как и всякое ключевое для культуры понятие, укоренено в сознании от рождения, представая словесно-образно. Проверим эту мысль на знакомых примерах. Слово родина по корню связано с родом, отечество — с отчеством, государство по смыслу корня — с государской, т.е. с господской, властью. На первый взгляд, ничего общего. Но на самом деле по своему происхождению все три приведенных слова значат, собственно, одно и то же, обозначая политически властную организацию общества на разных этапах его развития. Смена слов-терминов отражает исторически изменявшееся представление народа о государственном единстве и государственной власти. При родовом строе это была родина, в средние века, при господстве патриархальной власти, — отечество, а после XVI в., уже в связи с развитием зрелых феодальных отношений господства и подчинения, — государство. Суть остается все той же, общий смысл термина не изменяется: во всех случаях речь идет о «царстве», о «господстве», об «империи», хотя как раз эти-то (чужие!) словечки в подсознании русского человека никогда и не существовали, не накладывали своих смысловых оттенков на его представление о государстве. Понятие об империи, о царстве-государстве нам навязано путем различных заимствований, в попытках наложить на привычные для русского человека общественные отношения чуждые понятия и образы. Мы же — и во многом благодаря старинным словам! — по-прежнему в отечестве видим родину. От этих представлений кругами расходятся родственные коренным словам смыслы. Уловить их помогает словообразование или простое изменение формы, например по ударению. Скажем, в разных местах России сохранились различные произношения: роди́ны, родина́, ро́дина, так что в вариантах ударения, если все формы эти сложить в естественный ряд их изменений, мы получим развитие их смысла. Человек проходит роди́ны — рождается, входит в семью и род — это его ро́дина, становясь членом общества, т.е. своей родины́. Родина — общественная среда, в которой живет на-род. Государство складывается позднее, чем возникает общество. Но и в его обозначениях струились потоки изменяющихся смыслов, в конце концов закрепляясь за каким-то одним словом. Слово господин обозначает одного-единственного господа, суффикс единичности -ин(а) на это указывает (ср.: солома — соломина, горох — горошина и т.п., да и само числительное один). А вот государь от старинного слова господа́рь — древнее славянское слово с тем же значением, что и госпо́дь, госпо́да, но только в отношении к мирскому субъекту. Госпо́дь — это синкретично-собирательное обозначение Бога; госпо́да — собирательное обозначение множества властных лиц (в частности, в средневековом Новгороде), а господи́н — мирское воплощение власти в единственном лице. Государь стоит во главе государства, поначалу просто как хозяин, владелец своих имений; все ему подвластные свободные члены общества тоже государи, но уже по отношению к более низким степеням социальных отношений — ведь это эпоха расцвета феодальной иерархии, которая существенно отличалась от современных социальных связей. Подобный ряд слов связан с представлением о жизни. Биологическая форма существования, физическая возможность жить обозначается самым древним из этого ряда словом живот («не пощадим живота своего!» — старинный клич боевых дружин). Социальная форма житья-бытья называется иначе — житие; духовно-общественная, самая высокая по наполнению, предстающая как идеал земного существования — жизнь («вечная жизнь»). Все эти формы личного и общественного существования человека развивались постепенно, и обозначающие их слова смыслом своим накладывались друг на друга, раздвигая смысловые возможности древнего глагольного корня жи-ти. Обогатив понятие о различных уровнях человеческой жизни и сменяя друг друга, они не отменяли предыдущих этапов осмысления жизни, все эти слова экономно собрались в общий семантический ряд. Человеческая культура не отменяет прошлого, на прошедшем крепятся идеи и понятия будущего. Старое представление о государстве по-прежнему остается в сердце как символ, единящий нас с предками: родина — земля твоих предков, отечество — земля отцов — и никогда не государство-господство, не «империя» или как там еще ее назовут. Чем древнее корень, тем устойчивее заключенное в нем народное представление о коренном и жизненно важном. Вот именно в таком ряду и стоит понятие о личности. Усложнение представлений о человеке в развивающейся общественной среде вызывало все новые формы слов, образованные от старинного корня -лик-. Лик понимается как идеальный прообраз. Реальный облик его — это уже не лик, а лицо («важное лицо», «знакомое лицо»), но если вдруг по какой-то причине примет лицо несвойственное ему обличие, тогда возникает уже личина, т.е. «фальшивый образ лица» и искаженный лик, разрушающий внешнее обличие и внутренний облик — кого?.. конечно же, личности. Так туго скручены в общий клубок значений все смыслы когда-то единого корня -лик-. Как строго системно они соотносятся друг с другом, как точно выражают сущность всякого человека, у которого есть и лицо, и маска-личина, и идеальный лик, почти незаметный за суетой жизни! Понятие о личности сгущалось из множества конкретных представлений и образов: лика, лица, личины, облика и обличия, а сверх того, и из связанных с ними впрямую образа, прообраза, даже образины (тоже своего рода личина — индивидуальная маска, пугающая своей уродливостью, скрывающая истинность лица и красоту лика). Со временем, накапливаясь, все такие частные обозначения, с различных сторон представляющие человека в его деяниях и качествах, собрались как бы в общий семантический фокус, породив присущий им всем общий признак ‘личный’, — так возникло в XVIII в. слово личность. Личность — это и особность особы, и выразительность личины (маски), и внутренняя сила таланта или дара — лика. Личность как собственный образ человека выражает единство духовно главного в нем (т.е. неизменность личного) и физически внешнего, меняющего свои оттенки и краски (обозначалосьтем же словом, но с другим ударением: лично́й), в облике воплощая идеальность лика и реальность лица, иногда — в целях защиты от посторонних — прикрытых маской личины (современные психологи понимают личину как ролевые функции человека в деятельности и в коммуникации, т.е. способ его поведения в обществе). Личность — не биологический и не психологический, а духовно-этический идеал свободного человека. Заметим: не вольного в личных своих поступках, но свободного в допустимых правилах общества; личность должна быть прилична. Понятие о личности есть достижение нашего времени. Это своего рода плод длительной эволюции нравственных устремлений человечества в его поисках идеала. Следовательно, в своей идеальной сущности личность сродни жизни. Не животу и житью, а именно жизни — духовной жизни, творческой жизни. «Единство личности, — сказано русским философом, — созидается духом», и это верно. Духовное напряжение личности и созидает на каждом новом витке развития новую форму существования — жизнь. Дух, как и душа, — древние славянские слова. Они произошли от одного корня, но слово ж. рода душа обозначало внутреннюю, в человеке живущую суть душевности, а слово м. рода — знак высшей благодати духовного бытия— Дух. Язычник в свое время все живое сосчитывал «по головам», с принятием христианства стали считать «по душам». Ясно, почему счет, дело, вообще-то, механически внешнее, ведется «по душам», а не «по духам». Душ ведь много: сколько людей, столько же душ. Это те самые персоны сами по себе, особи, индивиды; дух же — один, и как таковой он обязательно — Дух. Имя собственное употребляется всегда в форме ед. числа, не то что какие-нибудь неопределенные массы — ду́хи или даже духи́. Издавна в представлениях славян душевная сила человека и творческая энергия духа различаются даже словом. Одно из слов — душа — отражает душевное переживание (факт психологический), другое — дух — творческий подъем (предмет этики). Однако самое главное заключается в том символическом соотношении между душой и духом, которое и создает не просто значение каждого отдельного слова, но и глубинную сущность их смыслов, идеологически важную их значимость. Так, единственность мужской ипостаси («Дух святый») и множественность женской (в виде «нежных душ») воплощают в языковых формах присущее славянскому сознанию представление о единстве материального и идеального, которые в реальности слиты, друг без друга не существуют, однако в мысли словно раздвоены: существуют в единстве, но понимаются врозь. Диалектика мысли как будто вступает в противоречие с «укорененностью» понятия в слове. Но так только кажется. На самом деле слово неуклонно следует за мыслью, пропитывая собою все оттенки свойственной русскому национальному сознанию идеи, и тем самым выставляет на божий свет все богатства мысли, освоенные сознанием. Нам только кажется, будто слово живет в нас, повторяя мельчайшие движения нашей души. Нет, это мы живем в слове, сохраняющем дух нации и присущие ей традиции. Слово выделяется не одним своим значением, лексическим и грамматическим (например, в различении Духа и душ), его полный смысл, проявляемый в тексте, зависит от окружающих слов и момента речи. Христианская традиция обогатила издавна присущее славянам противопоставление души и духа, создав, между прочим, определения: душевный и духовный. Эти слова-понятия отличаются друг от друга, и каждый из нас это чувствует. А уж образованные от них термины душевность и духовность стали символами философского содержания, но тоже понятны всякому, кто знаком со значением русского словесного корня -дух-. Душевность — это общая, всем нам присущая родовая мысль, связанная со стихиями и с землей, т.е. с родиной, восходящая к силам души, а не духа. Таково чувство всеобщей связи с «душой народа», чувство, не покидающее нас ни при каких печалях (о «русской душе» говорят многие, не всегда понимая смысл этих слов). Духовность же — творческое проявление высшего Духа в душе отдельного человека, которое формирует цельность личности в единстве чувства, ума и воли. Дух — это жизнь и лик, тогда как душа всего лишь житье лица. Дух ни в коей мере не есть «русская душа», это как бы общая идея, которая станет со временем идеалом. «Русский дух» и является в виде той «русской идеи», о которой спорят теперь не только поэты и философы. «Русский дух был окутан плотным покровом национальной материи, — говорил Н. Бердяев, которому русский характер представлялся чисто женским. — Он тонул в теплой и влажной плоти. Русская душевность, столь хорошо всем известная, связана с этой теплотой и влажностью; в ней много еще плоти и недостаточно духа. ... Русский народ, быть может, самый духовный народ в мире. Но духовность его плавает в какой-то стихийной душевности. ... А это и значит, что дух не овладел душевным»[352]. Так представлял себе соотношение между душой и духом русский философ, обычно исходивший в своих философских определениях из значения русского слова. В данном случае слов дух и душа. Спорят философы и о самой личности. Вл. Соловьев полагал, что идея личности была совершенно чуждой византийскому миросозерцанию и принесена к нам с Запада; наоборот, Н. Бердяев связывал мужское начало духа с плодотворным влиянием восточного христианства на славянские представления о душе. Сколько голов — столько и толкований, но верно, что в вопросе о личности и о ее становлении нужно исходить из того, что «личность есть неизменное в изменениях... есть качественное достижение», что «личность человеческая более таинственна, чем мир» (Н. Бердяев). Каждому времени было свойственно свое представление о человеке- личности, но рождалось и укреплялось такое представление исподволь в слове. Вот насколько тонко сплетены в единую ткань сло́ва-корня все в нашей речи возможные понятия о человеке. Одно прорастает из другого, давая начало третьему. Одно понимается только в другом и непонятно без третьего. Отраженным светом мерцает каждое слово, получая тем самым наряду с исконным своим значением символически ценный смысл. В сущности, в подобных движениях словесного смысла и состоит то, что ныне мы называем культурой. Исчезнет бережно хранимый поколениями словесный корень — и нет того, что наросло на нем за многие века развития пытливой народной мысли, вернее думы, поскольку индивидуальная личная мысль, предстающая как народная, — это и есть дума. Единство слово-образов и словесных корней создает сегодня столь важную для творческого общения людей возможность взаимопонимания и всеучастия в общем деле. Мало только понимать, т.е., по исконному смыслу слова понятие, всего лишь схватывать значения слов; нужно еще осознать глубинные смыслы таких корней. Можно, разумеется, слово лицо заменить для каких-то случайных целей английским словом имидж, а понятие о личине — производным от английского же слова фэйс (лицо) — фэйсизм, даже личность, упрощая столь сложный смысл понятия и значения слова, свести к совершенно плоскому и однозначному индивидуум, но сто́ит только дойти в подобном упрощении мысли до самого корня, до ядрышка, в сердце хранимого, до слово-корня лик — и всё! Тут уж нет, коренное слово насилию противится, не поддается заменам на импортные ярлыки-словечки, своего рода «лейблы» нашего времени. Оно и понятно: свернуло в себе все исходные смыслы общего корня и все значения столь удачно развернувшихся в истории производных слов: лицо, личина, личность... Убрать вслед за ними еще и корень -лик- — значит вконец уничтожить тот самый корень, который может дать еще новые побеги и словам, и движению мысли. Искоренить такие слова — все равно что стереть с ленты уникальную, не восстановимую никакими средствами запись. Одно утешает: невозможно прервать движение народной думы, прекратить течение национальной речемысли, остановить развитие тех коренных смыслов слова, которыми крепят к жизни и творчество, и сознание народа. Конечно, с одним условием: пока народ этот жив и действует.
ДРЕВНЕРУССКИЙ СВЯТОЙ
Обосновывая свою тему в книге «Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII-XVII вв.», Лев Александрович Дмитриев заметил, что в его книге «часто употребляются такие слова, как „святой”, „подвижник”, „мученик”, „чудотворец”, „чудо”, „мощи”, „видение” и т.п. Если в наше время помимо чисто терминологического значения все эти слова приобрели оценочный оттенок, то в древнерусской письменности они являлись прежде всего этикетными определениями, носящими терминологический характер»[353]. Проблема этикетности термина действительно важна, поскольку под одним и тем же словом в разное время могли понимать различную сумму признаков. На первый взгляд трудно составить себе образ святости в том виде, как воспринимали ее в Древней Руси. Мало и притом избирательно случайных текстов дошло до нас от той поры. Но так лишь кажется. Не следует забывать об этикетности слов-терминов и о формульности всех вообще выражений, дошедших до нас в старых текстах. Дело не в прямом описании, не в характеристиках святого, которыми столь дорожит эмпирик. Можно попытаться проникнуть в представления средневекового человека, используя присущие ему речевые формулы, которые как раз и являются эквивалентом современным нам, аналитически представленным в терминах определениям. Сохраненные устной речью формулы типа стыд и срам или правда-истина являются подобными определениями- терминами, сжато формулирующими представление о неизбежной соотнесенности личного переживания (стыд) или внутренней сути (правда) с общественным осуждением (срам, сором) или объективной сущностью (истина) бытия. Расшифровка подобных сочетаний для характеристики древнерусской ментальности может дать больше, чем иное развернутое описание. Важно только, чтобы материал рассматривался массово и в непременной увязке с особенностями средневековых речевых формул. Возьмем для начала тексты, достоверно принадлежащие Кириллу Туровскому, писателю второй половины XII в.[354] Слово святой употреблено в этих текстах 181 раз (если пренебречь неясными колебаниями по спискам святынѣ/святыи и пр.). Интересно распределение прилагательного по тем именам, которые они характеризуют. Источник святости, преисполненный святости, всесовершенство — Бог, Святый Дух, Троица — 80 раз, а связанные с воплощением божества в символических формах (святое лице Его, святая кровь Его, святое тѣло, имя святое Твое, о сѣмени святаго и пр.) — еще 10 раз; проводник святости, непорочно чистые по определению субъекты поклонения: Богородица, ангелы, апостолы, предтечи, пророки и «всех святых чинове» — 16 раз; воплощение святости, предметы и ритуалы (т.е. не святые, а — освященные) — церковь, жертвенник, трапеза, праздник и пр. — 22 раза; свидетельства святости (т.е., строго говоря, не святые, а священные) — молитва, Евангелие, книги и пр. — 11 раз; ведущий к святости путь (строго говоря — освящающий) всегда уточняется отношением к воплощению или свидетельству святости, т.е. опять-таки является косвенным, а не прямым указанием на личную святость. Это подчеркивается и употреблением прилагательного в форме мн. числа: святыя мужи (или люди), епископи, лици или отьци (например, святого Никейского собора и т. п.) — 25 раз. Подобные формулы представляют собою кальку с греческих сочетаний (это видно и из сравнений, например, с текстами из Кормчей), поскольку в независимом положении субстантивированное прилагательное святой также используется лишь в форме мн. числа и притом встречается только в тексте «молитв», приписываемых Кириллу: «Бог о святых своих», «паче всех святых твоихъ», «души бо святыхъ», «со святыми» и пр. — 12 раз. Что имеется в виду именно движение к святости как к идеалу, показывают почти все контексты, ср. «и вы ревнуйте святых отець подвигу» (12, 354), также «святыя же пророкы и преподобныя праведникы» (15, 341) — только подобные святым, и пр. Там, где употребление термина хотя бы отчасти можно предполагать в современном значении (святой, подвижник), все они оказываются сомнительными с точки зрения их древности. Поздний заголовок, вписанный киноварью не во всех списках текста («святаго Кюрила», «Св. мироносиця»), случайная вставка «святый Григорий Чюдотворец» (15, 343) или известное место «а блудницѣ святы нарицая», смысл которого заведомо исключает представление о «святости» как идеале. В дублирующих формулах у Кирилла интересно распределение прилагательных-эпитетов: «свое честьное тѣло и святую кръвь тѣм прѣдъложи» (15, 344); «силою честнаго креста и стаго въскрѣсения» (Молитвы, 161 об.); «пречистыя Богородица и святыхъ небесьных силъ» (Молитвы, 169); «с пресвятым благим животворящим духом» (15, 348, вариант). В подобных сопоставлениях земные ипостаси «святости» определяются как честные, чистые и т.п., т.е. все же противопоставленные небесным — святым. «Чистые», т.е. по определению слова — прозрачные, сверкающие, ясные, открытые, беспримесные и т.п., никак не могут соревноваться с испускающим свет, «животворящим» и живительным духом святости, ср.: «свѣтить бо ся Олеон, яко солнце, святых чины съ Христьмь на собѣ имѣя» (15, 342); «яко нѣсть свята паче тебе, Господи» (Канон Ольге, 89, 21); «паче же святых озари крещениемъ» (Канон, 91, 29) и пр. В Каноне Ольге сама Ольга именуется богомудрой, богоразумной, блаженной, преславной, но святой — никогда; странно в службе, посвященной святой княгине. Дело, видимо, в функциональной иерархии приближения к святости; тут же, в Каноне Ольге, ее внук Владимир — «имже просветися русская земля», а сама Ольга «киоть тя позлащенъ Духомъ» (Канон Ольге, 92). Соотношение таково же, как и в текстах, посвященных Борису и Глебу, которые именуются «златозарными», но не «светоносными». Признаком высшей святости, приближающей к Богу, является «светоносность», а не вторичное по существу «отсвечивание» от сверхприродного Света. Глоссы и самопереводы Кирилла показывают направление мысли: «по сиклу святому, сирѣчь по вѣсу правды Божия» (12, 358) — высшая мера веса — серебра. Итак, все данные показывают, что Кирилл понимает святость как источник животворной светлой (духовной) силы. Никакой связи с праведниками, достигшими «святости» посредством личного подвига, еще нет в этих обозначениях, если остаться на почве формул достоверно XII в. Во всех случаях важен подлинный источник духовной силы (=света), а также материализованные посредники между источником и «миром» — божественный, а не священный. Довольно рано сделаны были попытки дифференцировать значения, которые мы условно обозначили как: 1) источник, 2) проводник, 3) воплощение, 4) свидетельство (святости) и 5) собственно «святой». Представление о святом в современном смысле еще только возникает после XII в., семантически сгущаясь из неопределенной (собирательной) множественности как очень редкое для древнерусского языка субстантивированное имя прилагательное. Категориальный смысл подобной субстанции с созданием термина заключался в том, что обозначение давалось по единственному признаку, заложенному в корне свят, в результате чего содержание понятия, им выражаемого, оказывалось очень бедным, во всяком случае — синкретически связанным с традиционными для этого слова co-значениями, которые постоянно возвращали мысль к исходному представлению о святом как жизненно светлом, как о свете во всех его смыслах. 1-е и 2-е значения на протяжении всего древнерусского периода передаются только словом святой, тогда как значения 3-е и 4-е связаны с отглагольными формами священный (3 и 4) или освященный (4, а также как титул), хотя внутри этих групп различий между собственно святым и священным нет, эти значения воспринимаются синкретически как обычное для древнерусских представлений соединение субъективных («святой») и объективных («священный») отношений. Семантическая дифференциация постоянно как бы отталкивает от основного значения слова все возможные (и возникающие контекстно) переносы, связанные с метонимическим перебросом смысла на обслуживающие высшую святость предметы или лица. Ключевой термин культуры — символ — не допускает многозначности. Признак, выраженный причастием, — временный признак, не фиксированный на предмете или лице, он передает отношение или связь, а не качество или свойство: «священный» или «освященный» предмет не всегда ведь «святой» предмет. Нечего и говорить, что метафорических переносов, связанных с обогащением понятия новыми признаками (содержания понятия), в древнерусских текстах нет; «святое дело» может быть только в безбожное время. Сравнение формул, использованных Кириллом, с теми, которые употребил Иларион Киевский (XI в.), показывает, что принципиальной разницы между этими авторами нет. Они оба отражают общую для них традицию, хотя Иларион еще больше от нее зависит. Например, он мало говорит о «святой Троице» (3 раза) или ее ипостасях (6 раз о Святом Духе). Христос у него всего лишь «Сынъ Божий», однако тут же «свету трисолнечного божества» Иларион противопоставляет князя, «яко гривною и утварью златою красуяся»; другими словами, речь опять-таки идет о «златозарном», а не о «святом во свете». Следует ли эту особенность выражения у Илариона связывать с возможным влиянием арианства, неясно, но и Кирилл, в Словах которого много инвектив против Ария, божественную сущность (т.е. «светоносность») Христа представляет еще намеренно резко, с постоянными подчеркиваниями и уточнениями, как бы утверждая новую ипостась Сына — Его святость. Было бы интересно проследить и на других источниках, не связано ли переосмысление святости как хранилища божественного света (вечной) жизни с изменениями в отношении к арианству, по-видимому, свойственному первоначальному христианству славян. Это могло бы свидетельствовать об обычном для представлений средневековой Руси «перетекании» божественных атрибутов на представляющих их на земле и воплощающих их заступников и посредников, в числе первых — Христа (ср. развитие семантики слов вождь, держава и пр.[355]). Исторические изменения представлений святости, перенесение этого признака с природы на человека через образ Христа, на идеальный Дух вместо материально-физического его воплощения свойственны средневековью. Можно согласиться и с тем, что представление о святости семантически мотивировано как «свет»[356]. Святая Русь — земля света. Но вряд ли уже и в древнерусский период нашей истории святость понималась как высший нравственный идеал поведения и жизненной позиции — жертвенность, «не от мира сего» и пр., как полагает В. Н. Топоров[357]. Такое представление, конечно же, дело «далёкого будущего», оно связано с духовной деятельностью подвижников типа Сергия Радонежского. Духовное развитие личности с перенесением на нее «светоносных» признаков божества предполагает как минимум развитие личности и личной святости, а в наших текстах ХІ-ХII вв. нет надежных указаний на то, что такое движение смысла святости (от Бога через Христа и земных угодников на человека) совершилось вполне. «Стать наравне с Богом» не мог человек XII в., поскольку вообще развитие духовности есть сложный процесс включения в культуру ключевых понятий «совесть», «жизнь», «правда» и пр., еще не завершивших цикл своего семантического развития. При изучении разнообразного материала, извлеченного из источников средневековой Руси, останавливает внимание широкое распространение речевых формул, связанных с обозначением именно «Духа Святаго» (у Кирилла — 61 раз), который «свят» всегда, в отличие от «Сына», характеристики которого не столь постоянны. Можно высказать предположение, что как раз такие сочетания со словом святый и создали образец словоупотребления с семантическим включением в определение святой (= Святой Дух). В процессе развития как традиционная книжная формула Святой Дух, так и семантика слова Дух одинаково стали наводящим на семантическое развитие имени святой средством расширения объема понятия. Непреклонность Духа, уверенность в силе Божьей, убежденность в жизни вечной — таково основное содержание понятия, постепенно выяснявшегося за словом святой. Многие переносные и опосредованно возникавшие значения слов свет и свят развивались постепенно из этого, символического по существу, смысла славянского слова, под напором христианской культуры изменявшего функции слова от этикетности до термина.ДРЕВНЕРУССКИЙ БОГАТЫРЬ
Богатырство выше всякого счастья, и одна уж способность к нему составляет счастье.Федор Достоевский
Игорь Яковлевич Фроянов в своих трудах по русской истории не один раз обращался к текстам былин, прежде всего — к знаменитой былине о Вольге и Микуле. За хитросплетениями слов и ритмов в ней скрываются глубины нераскрытого смысла, который трудно постичь без обращения к другим древним текстам и без филологической их интерпретации. То не мудрая дружинушка хоробрая твоя... — уже вопросы: почему два эпитета рядом, как бы отрицая друг друга? Соединимы ли мудрость и храбрость? Да, но только в отваге, но именно о ней и молчат старые наши летописи. Поэтический текст ломает логическую связь высказывания, и на понятный для нашего рассудочного мышления язык следовало бы перевести так: «Твоя храбрая дружина (вовсе) не мудра (т.е. не умна)». Но если так, то в чем заключается храбрость? В древнерусской литературе два идеальных типа, представленных как характеры символического звучания, часто не имеющие индивидуальных черт личности. Они даны как образцы поведения. Но их два, а двоица в русском сознании есть идеальность числа, гармония, лад, с которого все начинается, потому что единица (символ единства и Единого) — всего лишь сопряжение ипостасей в гармонию, а три и вовсе уже не мирское, чисто сакральное число. Древнерусская двоица — святой и богатырь, символы воплощения совести и чести, духовно-идеальное порождение души или тела как знаменитый «брак» (по выражению Н. А. Бердяева) язычески- женственного и христиански-мужественного начал в диалектически перевернутом виде: духовность святости и твердость богатырской воли, влияющие друг на друга. В триипостасности человеческого существования — физическом мире живота, социального жития и духовной жизни — русское средневековье особый смысл видит в подвиге, подвижничестве, подвигании, т.е. рвении трех идеальных типов: делу живота у воина, труду жития у мниха и пожизненной работе истого христианина — того самого Микулы Селяниновича, которым так гордится русская былина, но о котором молчит книжность.
Бодрый и буйный
У нас богатыри были только до введения христианства. После введения христианства у нас были разбойники. Иван Киреевский
В словах видного славянофила также содержится внутреннее противоречие. Само слово богатырь считают заимствованным из древнетюркских, но слово известно было многим народам, вплоть до Индии. На Руси это слово явилось в XIII в., по Ипатьевской летописи — с 1240 г. (Себѣдяи богатуръ), так что богатыри у нас завелись много позже введения христианства. Но если формула верна, не значит ли это, что в дохристианские времена, совсем напротив, были у нас одни разбойники? Рассмотрим все по порядку, перебирая слова, начиная с древних. Студент Петербургского университета Николай Чернышевский под руководством академика Измаила Ивановича Срезневского составлял словарь к Ипатьевской летописи. Впоследствии этот словарь был напечатан в Полном собрании сочинений великого демократа, а материалы к нему вошли в состав знаменитого словаря И. И. Срезневского. Молодой ученый интересовался не просто словами, а их взаимной связью. Он пытался найти то общее, что соединяет многочисленные слова этого большого текста в их взаимном отношении друг к другу, взятом вне текста. И потому полагал, что группировать слова можно по корням, независимо от их суффиксов или префиксов; но можно еще и объединять их общностью идеи, в этих корнях заключенной. Так он собрал и разбросанные по разным местам словаря слова, соединенные идеей «смелости»: что такое смелость в глазах воина и писателя ХII-ХIII вв.? Вот эти слова и те значения, которые Н. Г. Чернышевский приписывает им на основании своих текстов. Бъдрый ‘смелый, рьяный’, буесть ‘избыток сил, здоровья’, ѳазнь ‘отважность’, дръзъ ‘отважный’, дръзнути ‘отважиться’, ‘броситься на неприятеля’, крѣпость ‘мужество’ (крѣпко — мужественно сражаться), мужьство и мужьствьнно не требуют определения, также не требуют определения хоробры, храбърствуя или удалый рожеемъ, но сюда же попадает и слово сердитый: «Романъ бѣ сердитъ яко и рысь» — ‘мужествен’ (?). Сюда же вошли и слова, именующие храбрых, например, богатырь ‘начальник отряда у татар’. Проверим показания словаря. Первое слово в нем — бъдръ. В нем тот же корень, что и в лит. budrús, и с тем же значением: ‘бдительный’, потому что бъдтьти и бъдръ — также общего корня. Все греческие слова, которые в древнейших текстах переводились славянским словом бъдръ, имели значение ‘быть крепким, здоровым, бодрствовать’, а само прилагательное, как качество этого действия, передавало значение ‘усердный, готовый, порывистый’ — человек с правом свободного решения в тревожный момент, трезвый и энергичный (греч. νηψις и значит ‘трезвость’, а это слово переводилось славянским бъдрость). Современные русские говоры сохранили исконное значение слова: ‘полный сил, здоровый, крепкий, энергичный’ — а оттого и ‘красивый’, потому что деятельный человек всегда красив; переносные значения слова и развили эту оценочную характеристику, которой в Древней Руси еще не было. Вот размышление в древнерусском переводе: «Тѣмь же мнози чрѣсъ свою силу бодри являхутся» (Фл. 378) — бодрыми становятся благодаря силе, значения деятельности и красоты еще не выделены. В других славянских языках была еще и смягченная форма — бъждрь, но восточные славяне ее не знали. «Мягкая» форма особенно распространена в восточноболгарских книжных текстах, которые в XI в. наши книжники взяли за образец, и только в тех же переводах бъждрь встречается; эта форма не стала собственностью русской речи — верный знак, что бъдрый во всех его значениях идет из древних языческих времен и точно не является книжным словом. Вдобавок и решительность в христианском мировосприятии никогда не почиталась как свойство «красивое». Характерно также, в разных вариантах одного средневекового текста слово бъдрость могло чередоваться со словами усердность или трезвость (списки Пчелы и Пандект). Это также входит в характеристику бодрости; не случайно поучают князя: «Но буди и всегда бъдръ» (Посл. Якова, 189) — всегда готов к делу. Крѣпость как ‘мужество’ пришло из книжного языка, потому что этим словом стали переводить греч. ανδρείος ‘мужественный, дерзкий’. У славян крепость — слово столь же общего значения, как и бодрый; каждый мог быть крепким — т.е. ‘твердым’ в каком- то деле. В начале «Слова о полку Игореве» сказано: «Почнемъ же, братие, повѣсть сию отъ стараго Владимера до нынѣшняго Игоря, иже истягну умь крѣпостию своею и поостри сердца своего мужествомъ, напълнився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю Половѣцькую за землю Руськую». Крѣпостию переводят на современный язык «мужеством», «доблестью», что вряд ли справедливо, потому что слово доблесть сюда не подходит по смыслу (и в этом мы еще убедимся), а мужество и без того поминается рядом. Крѣпость — это та твердость, с какою требовалось в те суровые времена вести свои дела, именно ‘твердость, стойкость, духовная сила’ (Сл. СОПИ, 3, 22 и сл.), которые основаны на физической, умственной или душевной силе человека. Подобная твердость духа была свойственна и женщинам. И автор подсказывает нам: истягну — ‘испытал’, но испытал ум, тогда как мужество заостряет сердце, а ратный, воинский дух наполняет всего воина. Употреблено и слово храбрые, которое важно в этом ряду слов и тоже древнее слово, но храбрым назван не князь, храбры его полки. Князь редко называется храбрым — он может быть дерзким или крепким, но храбрым — никогда. Вот: «Зане бѣ мужь бодръ и дерзокъ и крѣпокъ на рати» (Ип. 226б, 1187 г.) выражает последовательность действий: бдительность (готовность) — решительность в приступлении к действию — твердость при исполнении начатого. Таков идеал древнерусского князя, каким видит его летописец. Только этими словами и можно было выразить смысл деятельности князя в феодальной иерархии отношений. Этот пример поучителен и тем, что он использует три из тех слов, которые Н. Г. Чернышевский упоминает как выражающие идею ‘смелости’. Оказывается, что цельной идеи ‘смелости’ в Древней Руси или нет, или она намеренно как бы «раскладывается» на составляющие ее элементы, проговаривается по частям, по основным ее свойствам. Это вполне в духе древних представлений об отвлеченном свойстве: не обозначить его отдельным словом-термином, а в образном ряду передать его признаки, которые выполняют роль видовых определений при обозначении общего родового понятия. Именно так, между прочим, поступает былина в своих описаниях. Однако становится ясным и другое: если три слова, которые мы признали словами «одного смысла», способны характеризовать одного князя, то, может быть, и все остальные слова этого ряда, каждое в отдельности, имеют какую-то свою функцию? Вполне возможно, что они характеризуют храбрость разного типа и в отношении к разным людям? Проверим это предположение на фактах из древних текстов. Древнейшее представление о храбром несомненно связано с корнем буй- ‘высокий, большой, неистовый’. Таким оно предстает во всех славянских языках, начиная с самых древних. Это и прилагательное и существительное вместе, и предмет и его качество казались одним и тем же. «Буй тур Всеволод» — и буйный тур и буйство тура. История слова весьма поучительна, поскольку проходит путь от значения ‘неистовый’ до ‘безумный’. Нам важно заметить, что в ХІ-ХІІ вв. слово буй означало еще смелого и отважного воина, затем несколько поблекло, отошло в сторону, заменяясь другими, а после XV в. с корнем окончательно связывается только последний, неодобрительный оттенок значения. Во всяком случае, бодрый и буйный — древнейшие обозначения отважного и смелого.
Доблесть и дерзость
Расчетливый великорос любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский авось. В. О. Ключевский
Однако в перечне Н. Г. Чернышевского нет слова доблесть. Правда, доблий, доблесть показаны в общем гнезде с корнем добр-, но без всякого комментария, и авторского отношения к слову мы не знаем. Добль действительно одного корня с добр, и эта связь всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в слове дебелъ ‘толстый, тучный’, как мы бы теперь сказали— ‘насыщенный, густой’. В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство мужественного человека. Поэтому и греческие слова γενναιος, ανδρειος, ικανός, γεννικός и многие другие переводятся славянским словом доблий, а все эти греческие слова и означают ‘доблестный, благородный, сильный’, ‘благородный, нравственно чистый’, ‘имеющий силы для сопротивления, способный совладать’. Доблесть — это подвиг, но подвиг преимущественно нравственный; для него также требуются сила и благородство духа, отсюда и не исчезающая в сознании связь с идеей добра — не только по общности корня, но и по смыслу слова. «Доблиими имены нечистоты низъложи» (ЕКч., 521), но доблий трудолюбив и терпелив, и эти уточнения всегда сопровождают слово доблий (ЕКч., 293, 574; Вас., 404, 407 и др.). Более того, доблий — не храбрый: «Доблий мнится быти и храборъ Александръ Макидонскый» (Ал., 5) — доблесть выше храбрости и стоит на первом месте. В средневековой литературе о подвижнике и мученике никогда не говорят, что он мужествен или храбр, но всегда он — доблестен. Андрей Боголюбский, заколотый придворными, «толикъ умникъ сы, во всихъ дѣлѣхъ добль сы» (Ип., 2036); еще раньше другой князь, Борис, убиенный родным братом, назван «воине доблий» (Сл. БГ, 170); в любом мартовском Прологе говорилось «о непобѣдных и доблих в ратех 40 мученицѣхъ, иже в Севастии убиенных», и только иногда к этому добавляли: «воини». Последнее было излишним, поскольку прославились они не как ратники, а мученичеством за веру. В Печерском патерике подвижники терпят болезни доблествене, а доблии пастыри иногда, как бы в обмолвку, именуются добрыми, потому что доброта их и была основным качеством духа: в житиях до XV в. доблесть приписывается подвижнику-мниху, тогда как воин этой способностью не наделен. Только однажды, в мае 1196 г., в день смерти буй-тура Всеволода, брата князя Игоря, вместе с ним ходившего на половцев, летописец сказал, что «Всеволод Святославич во Олговичех всихъ удалѣе рожаемъ и воспитаемъ и возрастомъ и всею добротою и мужьственою доблестью» (Ип., 2396). Характер доблести уточняется: мужественная. Это соответствие греческому слову αρετή, которое значит ‘превосходное качество, отличные свойства, мощь’ — но также и ‘благородство’, и ‘величие’. Сопряженные с мужеством и храбростью — сложный сплав достоинств, присущих истинному герою, который и обладает всеми этими качествами. В славянских переводах это греческое слово передавалось иногда как добровольство и даже благовольство — добродетель сильного, обладающего властью, но при этом благородного. Потому и Всеволод мог быть назван обладающим мужественной доблестью — терпением и выносливостью, которые, видимо, он выказал при жизни. Мужество и доблесть здесь слиты в общем определении и характеризуют отдельную (историческую) личность. Наконец, еще одно слово пересекается в своих значениях со словом доблии, хотя и очень поздно, уже после XV в.: крѣпокъ. Поздние списки Печерского патерика во фразе «6ѣ бо добль тѣлом и красенъ лицемъ» слово добль заменяют на крѣпокъ. Еще интереснее словари. В первой редакции «Толкования неудобь познаваемым речем» «доблесть — крѣпость», т.е. твердость; во второй, после XV в. — сюда добавлено и слово мужьство (Ковтун, 223, 426). Так постепенно расширялось значение слова добль: от твердости духа до физической крепости, которые требуются в страдании. Вполне возможно, что желание выделить специальное слово для обозначения мужества духа связано с обычным для средних веков стремлением противопоставить подвиг души подвигу тела: твердый духом и есть доблий, твердый телом — просто крѣпокъ. Подобной соотнесенности нет в следующем слове. Слово дерзый сохраняет и старую форму (без уменьшительного суффикса прилагательного), и всю гамму значений, полученных им в течение многих веков. У Даля дерзый — ‘смелый, весьма отважный, неустрашимый’, но также и ‘безрассудно, неуместно решительный’, а следовательно, и ‘наглый, грубый, непокорный’. Дерзость как положительное качество в представлении русских людей отмечается всеми народными говорами вплоть до недавнего времени. Дёрзкий или дерзко́й — смелый, решительный, быстрый — энергичный человек, всегда готовый к действию (СРНГ, 8, 23-24). Однако в древности и это слово имело только одно значение — ‘смелый, храбрый’; впоследствии во всех славянских языках оно изменило свое значение и стало указывать нечто порицаемое, но у различных славян разное: например, у западных славян это бесстыдный, наглый, а у русских — непочтительный и неучтивый. Все оценочные оттенки смысла вторичны и связаны с различными отношениями к самому наглецу; у русских дерзость ценилась как живость характера, как гибкость ума, как решительность силы. В самых старых славянских переводах с греческого языка словом дерзкий или дерзость, а также дерзать передавали значения, связанные с греч. ζρασύς, τολμηρός, т.е. прежде всего ‘дерзкий и наглый’. Это очень важно: порицающее значение слова пришло со стороны, оно как бы наложилось на языческое представление о дерзости как силе и мало-помалу стало осознаваться как наглость, потому что дерзкий (как, впрочем, и буйный) — жесток и зол (таково значение и греч. στυγερός). У глагола долгое время сохранялось исходное его значение, которое передается и греч. τολμάω — с одной стороны, ‘решиться, отважиться на что-то’, с другой — ‘вынести и претерпеть’. То, что именно момент начала действия, на которое нужно было кому-то решиться, и был исходным смыслом корня, показывают и русские переработки священных текстов, переведенные у южных славян. В начале XIII в. дьрзати на месте греч. τολμάω заменено на съмѣти в русской редакции Апостола; тогда же переводились Пандекты, и в их тексте глаголы дерзати и смѣти часто смешиваются. Дерзость как порыв уже не воспринималась исходной точкой нужного действия, и следовало освежить внутренний образ слова, особенно в некоторых текстах, где это казалось особенно важным. Дерзать в древности и есть полный эквивалент более позднему сметь, но дерзость вовсе не смелость. Частое в древних житиях указание учителя: «Дерзай, чадо!» — значит просто ‘решись!’; последовательное же употребление после этого слова другого глагола показывает, что вся мысль состояла в указании на исходный толчок, который необходим для начала действия: дерзай — ставити, творити, дѣяти, възратитися, подвизатися, коснутися, изнести, поставити, писати, напасть на праведного, глаголати в присутствии старшего и мн. др. — вот круг сочетаний, который показывает, что дерзнуть всего лишь начать, а на это нужно было решиться. Επιχείρησις ‘нападение, порыв, рывок’ — попытка (ЕКч., 202). Нужно различать и грамматические формы, в каких проявлялся корень. Дерзость весьма непохвальна (ее осуждает уже Иларион в середине XI в.), а вот дерзновение вполне приемлемо, это форма решимости, которой обладают и мнихи. Та же дерзость бесом будет, сказано в Печерском патерике (165), с дерзновением же можно обратиться к Богу: нужно решиться (93, 127). В древнерусском переводе Александрии варвари дерзи (69), у врагов дерзость (21), они отвечают дръзо (61), но сам Александр Македонский действует с дръзновениемъ (68, ср. еще 64, 53 и др.). Также и женщина действует не дерзко, а с дерзновением (СцС, 265), т.е. не столь стремительно и лихо, как мужчина. Это совсем иное проявление дерзости, смягченная дерзость, допустимая в обиходе, с которой приходится считаться. Иннокентий в 1477 г. очень часто набирается подобного дерзновения, чтобы решиться сказать «нечто» умирающему Пафнутию Боровскому. Дерзновение — приличествующая случаю смелость, но смелость особого рода: не дерзость наглеца, а согласованное с дерзким и дерзающим. В конце XV в. о положительных степенях дерзости уже не знают. Когда требовалось особо оттенить отрицательный смысл дерзости в тексте, стали пользоваться испытанным способом: распространяли сочетание добавочным словом. Дерзо и легко, неистовъ и дерзъ, бѣ бо дерзъ и храбръ — и последнее выражение стало обычным в древнерусских текстах (см. Фл., 270, Сказание, 233б, и др.). Дерзкий — решительный в начинании, храбрый — в деле. Все это смещение смыслов происходило в доужинной среде, именно здесь мы находим самые полные характеристики дерзости. Для дружинника и дерзость не порок. Например, в переводе дружинного эпоса — Девгениева деяния — только слова дерзость и дерзати используются переводчиком. В XIII в., когда текст переводился, дерзость уже не была тем самым началом и рвением, которое когда-то имелось в виду. Поэтому переводчик четко различает разные «степени» дерзости. Сначала это юношеская дерзость — Девгениева дерзость, Девгений покушается на Стратиговну, девицу, которую и похищает вопреки родительской воле. Затем речь идет о мужеской дерзости: «Аще имееши мужескую дерзость у себе, — говорит Девгений будущему тестю, — то отими у меня тщерь твою» (12); и далее неоднократно говорится о дерзости и храбрости Девгениевой: «о дерзость благодатная, стратига побѣди» (15). Эта дерзость — решительность, которая сопровождается необходимой храбростью и никогда не осуждается, потому что уже по своему характеру, по исходным признакам дерзость — качество мужское. В Повести временных лет глагол дерзати встречается очень редко, три-четыре раза, и притом лишь в церковных текстах; и только в самом конце, под 1102 г., летописец записал: «...вложи богъ мысль добру в русьскые князи: умыслиша дерзнути на половьце и поити в землю ихъ» (Лавр., 93) — действительное дерзновенье, на которое следовало решиться, поскольку вызвано необходимостью и нуждами Родины. Однако в этой древнейшей летописи нет еще ни дерзости, ни дерзких — они появятся позже. В Ипатьевской летописи дерзость князей специально оговаривается, когда речь идет об их заслугах в борьбе со степными кочевниками. «Переяславьцы же дерзи суще и поѣхаша напередъ» (199, 1172 г.), князь Мстислав (215) или Владимир Глебович (225б) — каждый «бяше же дерзъ и крѣпокъ к рати; мало дерзнувъ дружине и бися с ними крѣпко» (225б), т.е. сначала дерзнул вместе с дружиной, а потом твердо сражался, уже не отступая; также и Рюрик, идущий на половцев (1187 г.), «бѣ мужь бодръ и дерзокъ и крѣпокъ на рати, всегда бо тосняся на добра дѣла» (227), и даже Кондувей торочанин, помощник русичей, назван дерзким, «зане бѣ мужь дерзъ и надобенъ Руси» (231б, 1190 г.). Положение не изменилось и позже, в XIII в.; и тогда дерзость как качество воина, сражающегося с дикой степью, признавалась важным его отличием. «Василко бо бѣ возрастомъ середний, умом велик идерзостью, иже иногда многажды побѣжаше поганые» (269, 1248 г.). Таково отношение к дерзким: они сражаются с дикими и кровожадными иноземцами, с кочевниками. Это те самые былинные герои, которых впоследствии народ назовет храбрами. Таким образом, дерзость дружинников сталкивалась с осуждением со стороны книжников лишь иногда, потому что случались дела, когда только дерзость могла помочь. И понятны суждения иерархов, таких как Климент Смолятич, говоривших о «брате» своем мирском: «Дерзай — убо творя Богъ такова!» (Клим., 111), и ничего не поделаешь! Но время шло, изменялись и представления о существенных признаках храбрости. Происходило перераспределение функций между разными социальными группами, а в связи с этим возникало и недоверие к некоторым, прежде столь важным, человеческим качествам. Постепенно изменялись и нравственные критерии в характеристике человеческих типов, пришедших из родового быта, из варварства. Дикая ярость и напористая стремительность со временем стали важной приметой той дерзости, которая осуждалась; именно так и толкуют средневековые словари дерзкий и дерзость: «ярость — дерзость; всетечный (стремительный) — дерзъ» (Ковтун, 436). Эта неудержимая сила, неподвластная чувству и мысли, после XIV в. уже страшит церковного писателя, и он ее осуждает.
Храбрость и мужество
Не тот мужествен, кто лезет на опасность, не чувствуя страха, а тот, кто может подавить самый сильный страх и думать об опасности, не подчиняясь страху. К.Д. Ушинский
Старый корень -*xorb- имеет соответствия во многих языках, и значение их совпадает: ‘острый, суровый, задорный’ — или, как в латинском acer, — ‘энергичный, решительный, пылкий’. Следовательно, храбрый — тот, кто пылок и остер, а если окунуться в глубинный смысл корня, в его древность, — ‘тот, кто сечет’ (ЭССЯ, 8, 72), кто режет. В текстах эпохи Древней Руси словом храбрый могли передавать самые разные значения греческих слов. В Пчеле, например, «Се бо есть лютъ и храборъ, аще кто собѣ одолѣеть» (45) — соответствует слову со значением ‘строг и суров’, «кажеть побѣда храброго, а напасть умнаго» (178) — слово храбрый соответствует греческому ανδρείος ‘мужественный’; «храбровати в бою» — может быть и ζαρρήσαι, т.е. ‘быть смелым, уверенным в себе’ (292). В одном и том же предложении два разных греческих слова могли перевести одним и тем же словом: «Егда бо древле узрю храбра, а ныне страшива суща, то разумѣю, яко не от естьства страсти есть се, естьство бо не измѣняется пакы; егда бо узрю древле страшивыхъ вънезапу храбрьствующа, то же число дьржю» (42) — в первом случае это ‘мужественный’, во втором он превращается в дерзкого. Постепенно неопределенность значения этого слова сосредоточивалась в смысле, вполне ясном; в Повести временных лет «вои многи и храбры» появляются в 946, 964 и 986 гг., амазонки названы «храбрыми женами», про «крѣпкого исполина и человѣка храбра» говорится в цитатах из пророков, т.е. всегда это — уточнение, выраженное прилагательным; лишь раз (под 1097 г.) этот признак отливается в отвлеченность понятия: «землю нашю, иже бѣша стяжали отци ваши и дѣди ваши трудомъ великим и храбрьствомъ, побарающе по Русьскѣи земли» (Лавр., 89). Борис и Глеб — «храбрая брата прекрасная» (Сл. БГ, 172), еще и в переводах XII в. все время чувствуется явное желание соединить представление о храбрости с чем-то другим, уточняющим его: говорится, например, об умничестве и храбрстве (Фл., 196), о том, что души храбрых нарекают полубогами (Фл., 256). В переводе Александрии храбрые только мужи, воины, защитники города, а о самом вожде говорится: доблии (Ал., 5); слова храбрый, храбро, храбровать часто встречаются в переводе Девгениева деяния, т.е. все это — после XII в. Храбруют только на охоте: скачут храбро лишь на арабском скакуне (Девг., 33б). Храбрый сочетается с умным или хитрым, но противопоставлен сильному («Во всѣх храбрыхъ силенъ бысть» — Девг., 14б), но в общем храбрый с XIII в. — довольно частое слово. Любопытно, что юность — это возраст красоты и храбръства (Девг., 32б), а старику они недоступны. Храбрость всегда соединяется с дерзостью, поэтому и слово храбрость сочетается со словом дерзость: «дерзость и храбрость» (Девг., 16, 16б). Храбрость понимается как отвлеченное свойство, присущее храброму; на свойство это можно влиять, если носить камень по имени мантиш, чтобы храбрость не оскудела, «ино храбрости не пребывает в людех» (Индейск., 247, 250). То же представление о храбрости отражают и оригинальные древнерусские тексты. «Бѣ же Василко... хоробръ паче мѣры на ловехъ» (Повесть, 163) — на охоте; князь не просто «бѣ храборъ», но еще и «крѣпокъ на рати» (Ип., 124). «Подивившася князь силе его и храбрости его» (Ал. Невск., 4) — опять-таки не одной лишь храбрости, которая мало что значит без силы; и сам Александр Невский не просто храбръ, но еще и славенъ (Ал. Невск., 7). Во всех случаях подчеркивается, что храбрость — достояние мужчин: у Александра «множество храбрыхъ мужь» (Ал. Невск., 6), и храборствуют всегда именно мужи (Ип., 225, 259 и др.). Даже в исключительных случаях, когда говорится не о мужах, подчеркнуто: «жены и дѣти мужескую храбрость въсприимше» (Батый, 113), что обычно им несвойственно. Эту связь храбрости с силой и твердостью обыгрывает в своих афоризмах Даниил Заточник: «Княже мой, господине! Аще ти есмъ на рати не хоробръ, но на словехъ ти есмъ крѣпокъ!». Храбрый и твердый (крѣпокъ) — одно и то же, но храбрость нужна там, где возникает опасность для жизни. У Даниила не встречается слово дерзый или дерзкий, но о храбрых он говорит и дальше: «хоробра, княже, борзо добудеши, а умный дорогъ есть, зане умныхъ дума добра»; верно: умный совет в те времена — большая редкость, а храбрецов много. Вообще, по мнению Даниила, «уменъ мужь не вельми на рати хоробръ бываетъ, но крѣпокъ в замыслехъ! Хороброму дай чашу вина — хоробрѣе будет, а уменъ дорого есть». Святослав, идя на Царьград, якобы сказал: «Нѣсть храборства ни дум противу мнѣ», т.е. ни силы воинской, ни замыслов мудрых, которые могли бы его остановить. Если сравнить различные списки Моления Даниила, окажется, что иногда прежде стоявшее слово хоробрующих заменено на сильных: «Соломон рече: луче един мудръ десяти хоробрующих без ума» — позже вместо этого написали сильных, потому что храбрый безумный в XVI в. казался явлением странным. Прежнее противопоставление разума и осмотрительности — безумной храбрости — стало казаться не столь приличным, потому что и отношение к храбрости изменилось. Но в XII в., когда писал Даниил, и даже в XIII в., когда его текст перерабатывали другие мудрецы, выставлявшие свою смышленость как альтернативу традиционной храбрости, храбрость была просто силой, твердостью в схватке, самозабвенность, которую легко было вызвать и искусственным путем. В заключении к Молению своему Даниил собрал в кратком перечне все добродетели, которые ему хотелось видеть у князя: «Господи! Дай же князю нашему Самсонову силу, храбрость Александрову, Иосифлю крѣпость, мудрость Соломоню и кротость Давидову!» — очень поучительное пожелание, важное, в частности, и потому, что Александр Македонский, как мы уже знаем, обладал не храбростью, а дерзостью. По-видимому, подобные реминисценции и «перечни» постепенно подрывали значение храбрости как единственно важного свойства мужчины. Храбрость становилась простой лихостью, с которою соединялось и представление о разгуле. В Повести о Горе-Злочастии добрый молодец говорит: «И храбрость молодецкая от мене миновалася» (36), на что отвечает ему Горе: «А ты, удал молодец, и так живешь!» (41). В XVII в. для молодца важнее не урожденная им храбрость, а насылаемая судьбою удаль. Слово мужьство является книжным, на это указывает и его суффикс, и явная зависимость от греч. ανήρ ‘мужчина, муж, человек’, которое и переводилось на славянский язык как мужьство, а также мужь или мужьскы ‘мужественно’. Впоследствии и другие греческие слова могли быть переданы славянским мужьство, но уже в переносном смысле; так, ζράσος — ‘дерзость и наглость’ (потом и ‘храбрость’), свойственные мужу, и αριστεία — ‘доблестные подвиги’, достойные мужа. Сравнивая разные редакции одного и того же текста, мы всегда натолкнемся на разночтения; например, в русской версии Пчелы ανδρεία передано как мужьство, в болгарской уже описательно, как храбрость: «Нѣсть человеку мудрости ниже мужьства» (Пч., 40), «мужьство нѣсть польза, еще нѣсть правды» (Пч., 52), в болгарском же варианте речь идет о храбрости. В переводе Пчелы мужество вообще понималось нераздельным с соответствующей долей мудрости: на это указывают места, в которых греческий вариант либо вовсе не употреблял слова мужество, либо использовал это слово в другом смысле. «Не тщеславьемъ, ни красотою ризною, ни коньною, ни тварьми чести ищи, но мужьствомъ и мудростию» (Пч., 306) — в греческом вместо двух последних слов стоит лишь των πράξεων, т.е. ‘действием, деянием, деятельностью, дельностью’ заслужи свою славу. «Красота граду мудрость съ мужьствомъ», т.е. Κόσμος πόλει ευανδρία (Пч., 289) — государство украшают мудрость и мужество его граждан (хотя греческий текст говорит просто о собирательном множестве отважных мужей, способных принести счастье своей родине). Мужественность понимается тут как зрелость и, разумеется, зрелость ума и души, а не крепость руки и тела. Мужество — храбрость с умом, они связаны друг с другом. Княгиня Ольга в 955 г. взяла власть в свои руки вместо «сына своего (Святослава) до мужьства его и до взраста его» (Лавр., 19), ибо был он еще отроком; через триста лет в представлении о мужестве мало было одного возраста мужа: «мужества бо не дошедлъ и ни разума еще имѣя», — начинает поучать своего князя средневековый мудрец (Посл. Якова, 458, 1271 г.). И впоследствии в любом тексте и переводе с понятием мужества непременно соединяется представление о чем-то другом, что как бы наполняет содержанием простой факт мужского достоинства: «хитрость мужества его» (Фл., 191), «правда и мужество» (Фл., 184), «сила и мужество» (Фл., 363), «величие мужества» (Ал., 47), мужество, которому всегда потребное дело (Фл., 184), которое мужает и возрастает с возрастом (Ал., 17); «Смерти бо ся, дѣти, не бояти ни от рати, ни от звѣри, но мужское дѣло творити», — завещал Владимир Мономах. Даже если описываются скорбные монахи, всю ночь сидящие за скромным своим рукоделием, о них говорится, что они «мужьскы съ сномъ брань имуть» (Панд., 336) или — в болгарском переводе — «мужьственѣ съ сном борются». Тут и мудрость, и сила, и хитрость, но тоже — дело, достойное мужчин. В описании смерти князя Андрея Боголюбского мужьство поминается несколько раз — мужьство и умъ, мужьство благоумных братьев и т.д., т.е. зрелость мудрого человека, делающая его способным на подвиг (Ип., 206б, 1175 г.), потому что «сѣи же князь избранникъ божий бѣ от рожения и до свѣршения мужества» (Ип., 205, 1174 г.). В той же летописи под 1213 г. рассказывается о юном князе Данииле Галицком; «Даниилъ бо младъ бѣ» и увидел двух опытных воинов, «мужескы зряща — и приѣха к нима», а уже вместе они смогли показать врагам своим, что такое мужество; так и случилось: «Младъ сы показа мужьство свое и всю нощь бистася (они)» (Ип., 250). Еще юн — а уже мужчина! Только в подобных случаях, передавая контраст между юношеским видом и делом зрелого мужа, и пользовались словом мужьство или мужьскы, и храбрость мужества оказывалась отвагой специфической — это храбрость зрелого человека, который и «въ брани не позна ея крѣпости ради мужества възраста своего» (Сказание, 233б), т.е. сгоряча не смог уяснить значительности раны, полученной в бою, просто потому, что находился уже в зрелом возрасте и на подобные мелочи внимания не обращал. Мы уже поминали, как в годы Батыева погрома «жены и дѣти мужескую храбрость въсприяша» (Батый, 113), храбрость как одно из качеств мужчины, однако это не мужество в его законченном виде, которое ни женщинам, ни детям недоступно, ибо «мужьство же и ум — совместно живяще» (Повесть, 163). Чтобы кончить разъяснение о мужестве, вспомним пословицу, приведенную Даниилом Заточником: «Дѣвиця бо погубляеть красу свою бляднею, а мужь свое мужьство — татбою». Злостное вредительство другому в виде самого страшного порока — воровства — способно снять с человека признак мужественности. Мужество в этом представлении слишком возвышенно и чисто, и не всякая дерзость, не всякая отвага способны его освятить. Только благое дело, но обязательно дело, сопряженное с доблестью и в непременной связи с мудростью зрелого человека: мужа. В Житии Александра Невского есть известный рассказ о шести его сподвижниках, рубившихся в битве на Неве: «Явишася шесть мужей храбрыхъ и сильныхъ и мужествовавъ съ имъ крѣпко» (Ал. Невск., 4). Заметим особенность в представлении героев: это мужи, которые были и храбры, и сильны, и потому-то Александр мог с ними мужествовати, и притом твердо. Храбрые и сильные — уточнение, необходимое для того, чтобы отметить особые свойства зрелых мужей, способных на мужское дело: «мужьское дѣло творите!». Мы уже знаем о том, какие слова употребляли авторы текстов, вошедших в Ипатьевскую летопись, желая сказать о храбрости и мужестве своих современников. Сохранились и повести о «нахождении Батыеве», и повести, рассказывающие о битвах на Липице (1216 г.) и на Калке (1223 г.). Все они возникли примерно в одно время и связаны с дружинной средой; какие же слова из числа нам известных предпочитали русичи в первой половине XIII в.? Раскроем третий том Памятников литературы Древней Руси. «Да князи мудри суть и рядни и хоробри, а мужи ихъ... дерзъки суть к боеви» (120), или, напротив: «Мои люди к боеви не дерзи, тамо и разыдутся по градом» (120); в битве при Калке князя «имѣяхуть же и дружину многу и храбру», и в нужное время «тѣ бо храбрии выскочивше» (150); Александр Попович и слуга его Тороп, как и многие другие, названы храбрыми, но уже не в качестве определения (храбрии вои), а нарицательно: ‘храбрецы’. В этом бою «и Александръ Поповичъ ту убиенъ бысть съ инѣми седмьдесятию храбрыхъ» (158). Когда враги осадили Владимир, сказал воевода Петр: «Нѣсть мужества, ни думы, ни силы противу божия посѣщения» (164) — и мужество тут понимается как простая совокупность воинов, способных противостоять бесчисленному врагу; одной Божией силе с врагом не совладать. В Повести о разорении Рязани Батыем появляются новые слова: «И воеводы крѣпкыа и воинство: удалцы и резвецы резанския» (188); Евпатий Коловрат, богатырь русский, «ездя по полком татарским храбро и мужественно» (190), «и многих тут нарочитыхъ багатырей Батыевыхъ побил» (192), «Евпатей же исполнивъ силою», и видели враги «Еупатия крѣпка исполина» (192); когда же сломили рязанцев, «начата дивитися храбрости, и крѣпости, и мужеству резанскому» (192), «а таких удалцов и резвецов не видали» (192), и много говорили «об удальцах резвецах» (194), «о храбрых удальцах» (196). Такими словами именует героев современник. Позже, уже в XIV в., появился текст Повести о Меркурии Смоленском — в нем лишь безличное слово храбрый: «и обрѣте ту прехрабра коня... прехрабро скакаше по полком» (206), конь скакал и сражался, а сам Меркурий, исполняя предначертание Божье, только сидел на нем. Рассказом о храбрости коня завершается цикл сказаний об удальстве русских витязей. Заметим то новое в определениях храбрости, что появляется в сравнении со сказаниями Ипатьевской летописи: удальцы — уже вполне распространенный термин, известный всем, однако в качестве уточнения к нему используется и слово резвецы; по-видимому, это просто развитие прежнего образа, связанного с бодрым и дерзким, ‘резвый’ усиливает этот образ. Дерзкие уже не в особенной чести — дерзость оказывается мужеством подневольных; храбрость и мужественность в сознании соотносятся, но не заменяют друг друга, и храбръ теперь — нарицательное слово, а не простое определение воина; богатырь, как и прежде, — вражеский витязь, достойный того, чтобы с ним переведаться в схватке, русский богатырь — исполинъ. Удальцы-резвецы заменили дерзких и бодрых дружинников Древней Руси. Резвый — от резать, как и дерзить — дергать, рвать («коза-дереза»), да и храбрый — тот, кто сечет и режет. Образ один и тот же, но он все время обновляется, получая форму, понятную каждому времени и всякому, кто столкнется с дерзким, с храбрым, с резвым. Постоянное «освежение» внутреннего образа подтверждает продолжение древней языческой традиции в определении воинов. Но удальцы — нечто новое, приходящее на смену прежним представлением о воине: он не только сражается, «колет, рубит, режет», он испытывает судьбу, долю свою. Удалой — удачливый. Это то же представление, которое Н. Г. Чернышевский видел в слове вазнь, но уже в другом отношении: вазнь — судьба, а удалый — баловень этой судьбы, кто «всихъ удалѣее рожаемъ», как сказал еще летописец XII в. (всех удачливее по рождению), тот, кому дано нечто, иным недоступное. В Задонщине, которая выбором поэтических средств зависит от Слова о полку Игореве, но вместе с тем отражает и новые представления о войне и воине, сложившиеся к началу XV в., самые частые слова для обозначения воина — удалой, удалец, отчасти и хоробрый, храбрый (однажды и храбрость), тогда как буйный (буяни), буйство отчасти порицаются, а о мужестве говорится безразлично, как в любом традиционном книжном тексте. Удалец-молодец становится основным героем русских сказаний на протяжении XIII-XV вв. Молодец — потому что молодой, тем он и отличается от мужа с его трезвой мужественностью и мудростью. Что же касается ныне привычных для нас слов смелость или отвага — их нет до конца XV в., но особое значение они получили уже после XVI в.
Смелость и отвага
... И было достоинство, довольно редкое в русском человеке, — смелость. Смелым бог владеет, — авось! — и идет напролом! В. Вересаев
Смѣлый от съмѣти — глагола, очень распространенного в переводных светских текстах дружинного типа, например в Девгениевом деянии. Значение этого глагольного корня толкуют по-разному: то как стремительное движение (решимость) под влиянием гнева, то как бросок за добычей, которую желают настичь, то как продуманное (из-мер-енное) действие, заранее решенное (Фасмер, III, 687-688). Последнее, несмотря на сомнения этимологов, вероятнее всего, потому что не требует сложных этимологических ухищрений в толковании корня. Чтобы посметь, нужно решиться, но решиться уже после того, как семь раз отмеришь! Слово съмѣти не могло быть в чести у церковных писателей, оно и встречается преимущественно в светской литературе. Точно так же не мог уважаться и слишком смелый человек, потому что его поведение выходило за рамки дозволенных средневековым обществом действий: он решал сам, что ему делать. Слово смѣлый и не встречается до XVI в., съмѣти возможно, но в исторических словарях переводится как ‘дерзать’ и, следовательно, понимается как развитие той же идеи, какая присутствовала в глагольном корне дерзати. Некоторое время оба слова, старое и новое, встречаются в текстах рядом, как будто затем, чтобы непосредственно в тексте приучить к новому образованию. И само это новое слово по форме еще неуклюже, выглядит неким уродцем, сопровождается книжным суффиксом. «Недьрзое же и несъмѣние являти» (Уст. Л., 312-313): робость также имеет степени вплоть до полного отсутствия дерзости — так в преводах конца XI в. сметь и дерзать пытаются как бы согласоваться друг с другом, с разных сторон отмечая одно и то же: робость — отсутствие дерзости. Еще одно неожиданное образование, и тоже с книжным суффиксом, — смѣльство находим в переводе так называемой Геннадиевской библии (1499 г.), и оно понимается еще как дерзость, потому что переводит греческое слово ζράσος (Срезневский, III, 450) и значит то же, что дерзость. В Лексисе Лаврентия Зизания 1596 г. находим уже подробное объяснение смелости, всегда данное в отношении к дерзости: «смѣле — дерзновеннѣ, необинуюся»; «смелость — дерзновение, дерзость, необиновение, великодушие»; «смѣлый естемъ — смѣю дерзаю, необинуюся»; смѣлый же сам по себе, не в составе сказуемого, а как общий признак, — «дерзость, дерзкый, дерзый, дерзостенъ, продерзатель великодушный напраснивъ» (Лексис, 157). Прежде главное слово дерзкий как бы передавало новому слову свой глубинный смысл, потому что одним прямым значением слова не ограничивается содержание понятия, этим словом обозначаемое. Новое слово поясняется словами книжными, но привычными для XVI в.: необиновение — это непреклонность (сюда же и не обинуюсь — не склоняюсь), напраснивъ — внезапный, вспыльчивый, рьяный, а великодушный — восторженный, пылкий (отсюда то же значение и у слова великодушие). В целом же толкование Зизания — данное «с той стороны» прошлого, на основе древней книжной традиции, для которой исходные значения слов обинутися, напрасенъ, великодушный и др. еще яснее и понятнее, чем новое — смѣлый. Прошлое как бы передает будущему свои сложившиеся представления о характере смелости — внезапная пылкость дерзости, решимость, которая возникает как мера и степень. Важна и последовательность в появлении форм. Сначала от съмѣти возникает смѣльство или смѣлость, и только затем выделяется качество смелости, выраженное в прилагательном смелый. Направление в порождении слов прямо противоположное тем, что были у славян в древности. В эпоху язычества буй, дьрзъ и хоробръ предшествовали и именам типа буйство, дерзость или храбрость, и образованным от них глаголам. Кроме того, и имена все — книжные, на это указывают и их суффиксы, и форма корня: храбрость, а не хоробр-ота, как было бы по законам народного русского словопроизводства. Так оказывается, что в новое время признак выделяется не из имени, становясь прилагательным-именем, как раньше, а от глагола, «по действию имя себе стяжа» — как выразился летописец. Мера превратилась в свою противоположность, став беспредельной сме-лостью. Долгое время новое слово существует в книжной речи без русских суффиксов. Только уже в 1704 г. Федор Поликарпов отмечает несколько новых форм, прежде всего — смѣльчак. Новое время — и новые суффиксы: не смелец, а смельчак, ибо и отношение к нему иное, чем к удальцу, храбрецу или молодцу, да и исконное значение суффикса -ец- изменилось. Точно так же появляется в средние века и отважный — от слова от-вага. Это слово заимствовано из польского odwaga, odwaz- ny, odwazyć się и обозначает расчетливую храбрость: сначала все взвесить (отвесить), а только затем отважиться и рискнуть (считают, что это польское слово восходит к нем. wagen ‘рисковать, отваживаться’ — Фасмер, III, 169). Непосредственная связь с немецким представлением о риске сомнительна, потому что и у славян давно известен (может быть, и от немецкого, как полагает тот же Фасмер) корень ваг, вага — ‘вес, тяжесть’, отсюда ‘весы’ и даже ‘рычаг’. От слова вага образовались важный и важить — последнее значит ‘взвешивать’. Как бы то ни было, но исходное значение слова отвага понятно, образный его смысл еще не затушевался далью времен, подобно многим другим словам этого ряда. Отвага — заранее взвешенная степень риска, на какую можно пойти, приступая к делу. Это то же, что и смелость, но только в не свойственном русскому иноземном обличье: смелый решается по велению духа, отважный холодно рассчитывает свои возможности. В XVI в. Франциск Скорина в своих переводах на словенский язык использовал глагол отважити, отважитися, но в прямом их значении — ‘взвесить’: «талентъ сребра отважу до скарбу твоего» (Скарына, I, 455). В самом XVI в. Лаврентий Зизаний отмечает уже и новое значение этого глагола: «отважюся — понуждаюс, устремляюся вседушно» (Лексис, 138). Отвага как нераскрытое свойство мужества еще скрывается в темных глубинах глагола, не вышло наружу как явственное и четко осознаваемое качество. Оно и представляется еще очень экзотичным именованием, словом, которое ютится где-то на западных границах по соседству с Польшей. Даже войны начала XVII в. не особенно способствовали его известности: всем понятна была «отвага» оккупантов. В словаре Памвы Берынды (первое издание 1627 г.) не указана даже глагольная форма, от которой образовано имя. И только в петровские времена новое отношение к характеристике ‘смелости’ потребовало и новых обозначений: слово отвага появилось и породило определение отважный; с 1731 г. они известны и в русских словарях. Представление о смелом и понятие смелости в их развитии определенно отражают уровень социальной жизни общества, особенно в части военной. Сначала, в древности, славянам известно множество частных обозначений этого качества, происходящих из обыденного их языка и способных описывать не только воинские доблести: бодръ, сильнъ, крѣпъкъ, дьрзъ, буй, храбръ, вазнивъ, удалъ и т.п. — таким может быть любой член рода, но этим определением как знаком признания наделяли и своих героев, отмечая какое-то одно, особенно выразительное их качество, каждого в отдельности и всех вместе. Воином ведь и становился каждый, как только в этом ощущалась нужда. В эпоху «военного коммунизма» все подобные признаки, еще не отстоявшиеся в именном существительном, данные как имя-вещь, вполне определенно стали сгущаться в специальные именования, а различный по степени вклад того или иного члена рода, дружинника или земледельца, князя или боярина и т.д., в успех военного дела постепенно производил перераспределение оттенков в значениях слов, которые и сами по себе, собираясь вокруг общего (родового) смысла «военный подвиг», начинали как будто притираться друг к другу, как слова одной общей системы обозначений. Дерзким мог быть воин, храбрым дружинник, крепким князь и т.д., каждый раз в зависимости от индивидуальных особенностей личности, проявившей себя в деле, но всегда на общем фоне общего ратного труда. Представление о слитном единстве воинской массы, несмотря на известную дифференциацию функций отдельных ее членов, видно в том, что долгое время отсутствуют слова с обозначением индивидуальности: нет слов — ни боец, ни буец, ни дерзец, ни бодрец, ни крепец. Воинская сила представляется в той ее слитности и общей массе, как изображена она на старинных летописных миниатюрах: будто на одном коне со многими пиками поднялось от земли многоголовое воинство. Вполне определенно выделяются три хронологические группы обозначений ‘смелости’. О первой, которая связана с именованиями по признаку, случайному и всегда временному, мы уже сказали: бодръ, буй, дързъ и др. указывают на физическую, неукротимую, всегда неподвластную разуму и необузданную силу, идущую как бы изнутри. Это амбивалентная цельность личности, которая при этом никак не оценивается, потому что буйный или дерзкий может быть и плохим, и хорошим, правильным и вредным в зависимости от обстоятельств. Это время понятий, когда качество, по которому нечто именовалось, представлялось в виде вещи, предметно и зримо: имя — и есть вещь, дерзый — дерзок и сама дерзость. Никаких дополнительных слов не требуется, потому что дьрзъ — это имя, которым назвали героя, а следовательно, не только качество-определение, но и существенный признак, существительное, равнозначное самому именуемому. Еще не нужен ни дерзец, ни дерзость, ни дерзство, даже дерзити казалось бы слишком искусственным, потому что сущность дьрзого в том и состоит, чтобы дерзить и дерзать. Словообразование в этой группе слов и шло первоначально только в пределах одной и той же части речи, т.е. в образе прилагательных: буенъ, дьрзъкъ, бъдрьнъ, сильнъ, крѣпъкъ и т.д. Наконец, что тоже важно, у этих образований нет книжных параллелей, они пришли из народной жизни, из живого языка, который лепил мир представлений мазками первых впечатлений, размашисто и сочно, создавая целостную картину не термином общего значения, а десятками частных определений, «видово, а не родово», как сказал бы А. А. Потебня. Именно так и воссоздает тот мир донесенная до нас сквозь века былина. Затем мир меняется, изменилось и отношение к воину и защитнику, к тем признакам, которые легли в основу нового образа. Через посредство переводов славяне получили новые значения для старых своих слов; наложенные на славянскую культуру, заимствованные представления о храбрости мало-помалу стали внедряться в славянский быт, тем более что и внутренняя форма славянских слов не препятствовала внешнему давлению смыслов со стороны. Нагляднее всего это влияние видно на истории слов доблий и мужественный. Доблий — добрый, отсюда и некоторое изменение смысла — от доблести ратного дела к доблести духа. Мужество чуть ли не до XV в. понимается как проявление мужественности, а мужественность — это не только храбрость в бою, но и мудрость, и прежде всего — мудрость. Отсюда противоположность молодцам, которые этим последним свойством еще не обладают. Мужь и молодъ — важное противопоставление средних веков, со временем получившее и социальную окраску. Мужи — дружина старшая, еще «отцова», с которою князь думу думает, а дружина молодшая — добрые молодцы, готовые к схватке и рубке. Таким же образом представление о дерзости как о внутренней силе сменяется представлением об удаче — моральной ответственности за исполнение предназначенного судьбою и долей. Удалой и храбрый становятся основными фигурами средневековья в момент, когда особые исторические обстоятельства снова призвали на поле боя удальцов-резвецов. Буй или дьрзъ не имели степеней качества, они представали во всей цельности облика, подобно Всеволоду, буй- туру, горячему в схватках. Удаль и храбрость, в соответствии с иерархическими канонами средних веков, уже различаются степенями проявления признака: форму удалѣе в летописях мы встречаем даже раньше, чем удалець, а о том, кто кого хоробрѣе, часто спорят и герои былин. Это уже не качество, как буй или дьрзъ, а свойство героев, которое может изменяться в известных пределах, но только на известных степенях своего проявления становится явным и видимым всем. Изменяется и словообразовательная модель, создающая новые формы; теперь не прилагательные, а существительные образуют ряды именований: удальць, рѣзвьць, храбрьцъ. Смелый и отважный появляются уже в новое время, как бы окончательно отходя от представлений о дерзком. Прагматическая решимость лица под давлением внешних обстоятельств становится смыслом нового именования. Отвага — простой расчет, но и на это нужно решиться. Возникает новое отношение и к отрицательным свойствам, о которых в древности, по-видимому, и не помышляли. Ведь расчет, произведенный таким образом, может дать и отрицательный результат. У буявого или дерзого в определении их качеств не было никаких негативных характеристик, никаких без или не, у смелого и отважного они появились: это несмелый, неотважный, а кстати, и книжное не храброго десятка. В средние века «отрицательность» отношения представлена как будто в формах типа без- боязнь, бесстрашие; на самом же деле и это положительная степень отваги, которая только определяется иначе, отрицанием ненужных эмоций (боязнь, страх и т.п.). Отрицательные свойства понимались как положительные качества, поэтому и бесстрашный — такой же храбрец и удалец. Само положение воина исключало всякую возможность возникновения отрицательных определений; было бы просто смешно буявому противопоставить небуявого или безбуявого! Противоположность же смелого несмелому — вполне возможная вещь. И наконец, если прежде явление или лицо определялись по качеству (буйство или буявъ по буй), теперь, наоборот, свойство как бы вытягивается из явления или даже действия: съмтьти — съмѣние — смѣльство — смѣлость — смелый — несмелый. Таков герой нового времени. И отношение к нему соответственное: это не удалец, а — смельчак. Отважный же настолько новое слово, что еще не образовало суффиксального имени для обозначения человека. За всеми изменениями смысла слов скрывается важная особенность славянского мышления. Защитник-воин всегда именуется по признаку, выделяющему его из числа других, по признаку характера, который лицо возвышает в личность. Еще в XVI в. «воевода наро́чит, полководец изящен и удал зело» выделяется именно своей особостью, потому что изящный по смыслу значит — «изъятый» из массы, избранный из ряда себе подобных. Отборный, особый, особенный. Говоря о трех состояниях человека как отражении трех структур сознания (что естественно в трехмерном пространстве существования), Н. А. Бердяев возражал против знаменитой оппозиции Гегеля «господин: раб». Нельзя перейти от рабства к господству, ибо «страшнее всего раб, ставший господином». «Человек должен стать не господином, а свободным» — потому что «свободные берут на себя ответственность». Дать ответ на вызовы времени, супротивника и врага — это и есть деяние богатыря. Мечта о свободном воплотилась в храбром воине, который свободен силою, и в доблестном воине Христове — свободном духом своим.
СЛОВА ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ
1. Жизнь
Словарь русских народных говоров выразительно показывает лексическое, словообразовательное, семантическое распределение слов с общим значением ‘vita’ в говорах русского языка. Географические границы каждого из них прослеживаются весьма четко. Например, для слова жило выявляется двузначность: ‘житье, жизнь’ — в южнорусских, ‘постройка, этаж, жилец’ — в севернорусских говорах (СРНГ). Такое расхождение безусловно вторично и объясняется общей системой значений, ставшей характерной отдельно для южных и северных говоров. Поэтому, например, для внутренней реконструкции общерусской системы эта лексема не годится. Следует использовать только те материалы словаря, которые могут восходить к общерусскому периоду, прежде всего слова живот, житье, жизнь. Большое значение в такой реконструкции получают данные картотек полных диалектных словарей, с которых мы и начнем изложение материала[358]. Как можно проследить по материалам Архангельского областного словаря, архаический слой говора в противопоставлении слов житье—живот сохраняет общее значение ‘формы (жизни)’ и ‘средства (жизни)’. Житье как слово для обозначения жизненного уклада, быта, места пребывания употребляется широко, варьируя в зависимости от контекста, ср.: ‘хозяйство’: Переехали с житьем бытьем со всем (Сопош.); В одном житьи живут (употребляется очень часто); Своя комната, своим житьем живут (Дор.); также устойчивое сочетание житье смотреть (‘сваты знакомятся с хозяйством невесты’); ‘семья’: Раньше большими житьями жили (Леш.); В нашем житьи було петь девок (Конош.); ‘хорошая жизнь’: Худо всё было, а ныне-то житьё (Котл.); Ноне дожили до житья, а здоровья нет (Вель); Нонеце в деревне стало житье (Вт.); сюда же, видимо, относится и сочетание девичье житье: Не видела девьего житья (Заногр.); Это девочье житье, пока красовито (Онеж.). Отрицательная степень качества достигается обычными для говора средствами, присоединением отрицания или соответствующего прилагательного (ср. погода ‘хорошая погода’ — непогода и т.д.): Всё ей здесь не житьё, не бытье (Онеж.); У них будто житье было похуже (Нянд.); От худой жиры, от плохого житья погиб (Плес.) и т.д. А. Грандилевский устанавливал также значения ‘квартира, жилье’, ‘жительство, проживание’[359]. Все эти значения определенным образом связаны, восходят к общему для них в прошлом значению ‘материальное обеспечение жизни’, древность которого подтверждается и возможным противопоставлением типа богатое—бедное, хорошее—худое, дородное—тяжелое, ранешнее—нонешнее житье. Столь же древним в системе говора является и слово живот, значения которого А. Грандилевский передает в следующей последовательности: ‘желудок, брюхо’ — ‘именье, имущество’ — ‘жизненные силы, жизнеспособность, жизнь’[360]. Последнее значение сохраняется только в определенных сочетаниях, подтверждающих древность самого значения, например в противопоставлении жизнь—смерть: Мы родилися на смерть, а умрем на живот (Дор.); Ни смерти, ни живота нет (Вель); в наречии живота значения ‘только’, ‘быстро’, ср.: Живота воды не хватит, так и в печи вода есть (Дор.); Алика если не спустят, так живота перехвачу кого ли (ПФК); Он живота к ним сбегает (ПФК); Живота овец убью (Дор.) и др.; ср. еще устойчивое сочетание на живот робить ‘зарабатывать на жизнь’: Преже на живот робили. Другое устойчивое сочетание, очевидно, относится сюда же: в животы уйти (‘перейти на жительство в дом жены’: Ушел к женке в животы, дома много братьев, а ее из дому не отпускают, приходится идти в животы — Вель); примак здесь называется животаном, животником; естественно, это связано не с тем, что он становится частью имущества или определяется по наличию желудка; здесь, как и в любом архаическом клише, сохраняется исконное значение слова ‘жизнеспособность, жизнь’. Значение ‘имение, имущество’, видимо, является более поздним, оно возникло в результате перенесения с более древнего значения ‘(домашний) скот’ и до сих пор обычно встречается в сочетании со словом скот: Ни скота ни живота нет; Все было, и скота и живота в доме; А у меня в доме и скот, и живот, и т.д. Наоборот, слово живот в значении ‘скот’ в говоре встречается довольно редко, остаточно, как архаический вариант нового образования животна(я) или животина, животинка. Только слово животна(я) обозначает ‘домашнее животное (скот)’, два других слова служат для обозначения любого живого существа. Вторичность значения ‘имущество’ кроме редкости его, кроме вторичного отталкивания от значения ‘скот’ подтверждается также явным пересечением с одним из вторичных значений слова житье — ‘хозяйство’, ср.: В золоте да в серебре, животов воз везет (Горка) — Переехали с житьем бытьем со всем (Сопош.). Двузначность этого редкого контекста препятствует уточнению значения слова живот. Самым распространенным значением этого слова является, конечно, ‘желудок, брюхо’, а также связанное с ним значение ‘беременность’; ср.: От животов да от тяжестей (у женщины) жилья напряглись (Плес.); Осип в четвертый живот родился (Мез.); Одна родилась, другая в животе осталась (Прим.) и т.д. В отличие от этого слово жизнь не имеет в говоре конкретных значений, своей собственной семантической сферы употребления, представлено в просторечном фонетическом варианте (только жись указывает и А. Грандилевский) и, как правило, использовано лишь в тех контекстах, которые могут быть литературными по происхождению, ср. обычные и широко распространенные сочетания типа всю жись, свою жись (погубил), не в жись больше, жисть ныне хороша(я). В последнем случае противопоставление ограничено двумя возможностями: прежняя (и плохая) жизнь противопоставлена нынешней (хорошей) жизни, наблюдается, пока еще неполное, пересечение в значениях со словом житье. А. Грандилевский не случайно указывал, что значение слова жизнь в говоре сближается именно со значениями слова житье, ср. жись ‘жизнь, проживание’, ‘материальное обеспечение, пропитание’[361]. На то, что именно таким был путь вхождения слова в диалектную систему, указывают некоторые устойчивые сочетания, например жизни схватить (давать и т.д.) ‘хорошо узнать жизнь’: Там тоже есть старушка, век прожили, много жизни знают, а жизни она схватила (Онеж.); Годы дают жизни (Вин.); по жизни (быть): Нехорошо, он бедовска, она по жизни тяжела (Холм.); У нее мать была порато худа на жизни (Прим.); По жизни хорошая-то Лидия (Вель); ср. еще: Она тоже из моего дома по жизни-то (происходит из той же семьи) (Вель). Речь идет о материальной стороне жизни, и само слово жизнь осмыслено носителями говора именно как вариант слова житье. В отличие от двух других слово жизнь своими значениями не выстраивается в последовательный семантический ряд, весьма ощутима зависимость этого слова от тех конкретных контекстов, с которыми оно могло входить в говор из литературного языка. Аналогичная система представлена во всех поморских говорах и к востоку от них, не только в бассейне Пинеги, но также и по Печоре, по Мезени и т.д. Слово жизнь в картотеке Печорского областного словаря также представлено единичными примерами (жись, жисточка). Любопытно функциональное распределение слов житье, живот, жизнь. Как цельный процесс понятие ‘жизнь’ связывается со словом живот, ср. сочетания весь живот (Редки годы хороший улов бывает, на весь-то живот не напашешь — Тельвиска), живот и смерть (Смерть ли живот, как будет мне известно — Гарево) и т.д. Слово жизнь, входя в систему говора, контекстуально сближается со словом житие, следовательно, и сама ‘жизнь’ воспринимается как дискретная характеристика жизненного процесса, способного проявляться «полосами», отсюда и сочетания типа всякая жизнь: Ну всяко же жись тоже переходила (Трусово); Жись кака ле всяка была, часто голода были (Филипповская). По существу, в говоре нет разграничения между лексемами житье и жизнь, поэтому некоторые контексты со словом житье могут восприниматься как соответствующие литературному жизнь, ср.: Перед нынешним-то худо житье мы жили, надо было горбом своим робить (Боровское); Беспуто житье жили (Скитская); Житье добро было (Замежное). Из примеров видно, что житье значит уже не только ‘хорошая жизнь’, но вообще ‘жизнь’, ср. обязательное уточнение качества в сочетаниях худо житье — житье добро. Связано ли это расширение значения с вхождением в диалектную систему новой лексемы (жизнь), неясно; необходимо уточнить сделанное наблюдение, используя материал других говоров. Из материалов, представленных в картотеке Словаря русских говоров Карелии, выявляется аналогичная система соответствий, хотя некоторые значения слов житье и живот представлены здесь шире, чем в архангельских говорах. Приведем совпадающие данные об отклонении от рассмотреннойсистемы. Житье: 1) ‘хозяйство’: Мы росли не в богатом таком житьи, когда что придется, то и оденешь (Онеж.); В других житьях может и есть что, а у меня нет (Медвеж.); ср. сочетание жить житьем для обозначения самостоятельного хозяйства: Жила житьем там, а теперь приехала (Прионеж.); Житьем старуха жила, вот они и решили ее обокрасть (Кемь); 2) ‘семья’: Девка была с богатого житья, а попала в бедну семью (Пудож., также Вытегор. и др.) — на этом примере видна связь понятий ‘хозяйство’ и ‘семья’, а также явное противопоставление слов житье и живот в некоторых их значениях: житие ‘хозяйство’ (т.е. форма жизненного уклада) — живот ‘имущество’ (т.е. средства к жизни, может быть, и личное имущество); 3) ‘хорошая жизнь’: Теперешнее житье так надо век жить (Лодейнопол.); Лучше девочьего житья не найдешь (Прионеж.); отрицательная степень качества также образуется аналитически. Картотека Словаря русских говоров Карелии содержит цитаты, подтверждающие два других значения слова житье: 4) ‘жительство, проживание’: Все дети в рост пошли, все в городе живут, зовут на житье, да в деревне мне лучше (Кирилл.); 5) ‘квартира, жилье’: Жира это житье, двуэтажный дом раньше двужирные назывались дома (Каргоп.); У них внизу дома житья нет (заколочено, никто не живет) (Онеж.). Только однажды зарегистрировано употребление слова в значении, близком к литературному ‘жизнь’: Да не к житью-то, все это не к житью (а к смерти — примета) (Пудож.). Обычно в таком значении выступает другое слово — живот 1. Живот: 1) ‘жизнь’: Веснуха, так это болесь, гнетет и гнетет, ни живота ни смерти (Медвеж.); Смерти нет, да и живот худой (Арх.); 2) ‘именье, имущество’: Смерть животы окажет, животы это имущество (Беломор.); С Венькой жить так живота не нажить, все раздавается (Варзуг.); Замуж выходит девка, животы сбирает да к мужу перебирается (Медвеж.); (у меня) в животах нет (т.е. никогда не было) (Пудож.). В том же значении употребляется и слово животишко: Потом лесом шли, все животишко ростеряно, я чашку ложку привезла только (Медвеж.). Как известно, в былинных текстах, записанных в Заонежье, слово живот используется только в значении ‘именье, имущество’; 3) ‘скот; животное’: Животов я не могу содержать, уж старая, огород только (Медвеж.) и т.д. Всякое живое существо, кроме человека, обозначается также словами животина, животинка, животна(я), причем последнее относится преимущественно к домашним животным (это производное ближе к основному значению слова в говоре: живот ‘(живое) имущество’). Животина, напротив, воспринимается как самостоятельное слово, которое, с одной стороны, заменяет старое живот в значении ‘скот’ (поскольку живот теперь — не только ‘движимое имущество’), но, с другой стороны, шире его по семантике; 4) ‘желудок, брюхо’: Офицеры все с брюшьями, а у тебя нет живота (Пудож.); Это грудина, это живот, а ниже брюхо (Веретье); Болел у него животик (Пудож.); Ён животину-то отрастил (Подпорожье); У нее рахит, бронхит, животище тако как у лягухи (Онеж.); отсюда развивается значение ‘беременность’, ср.: А одна в первый живот родила двойчат, а потом с третьим животом померла (Лодейнопол.); Живот принесла в девушках (Медвеж.) и т.д. Все употребления слова жизнь совпадают с контекстами, в которых возможно и слово житье, начиная с эквивалентного жизнь—житье ‘хорошая жизнь’, ср.: Подворило ей, ростолстела, она стала здорова от жизни. Которой не подворит, чахла така сделается (Медвеж.). Можно сопоставить некоторые типы сочетаний, чтобы убедиться в эквивалентности этих двух слов в говоре: ‘семья’: Без отца в худом-то житьи жили (Каргопол.) — Никакой жисти не будет годной семейной (Медвеж.); ‘совместная жизнь’: В житьи хороший был, не греховодный, все шуткой, все шуткой (Беломор) — У меня Петька-то для жизни хороший был (Лодейнопол.); ‘образ жизни’: А что это житье, не захочешь и жить, как ноги не пойдут (Вытегор.) — Тут всяки жизи испытаешь (Кирилл.); ‘проживание’: Вчерась тоже привезли морошки по полному коробу, а мы, как житье будет спокойно, так в понедельник пойдем (Беломор.) — Ходил к любушке, на ней потом и женился, а ей не пришло жизни, тракторист убил дак (Лодейнопол.). Замещение новым словом жизнь происходит, главным образом, в поселках городского типа, в районах, близких к большим городам. Такое замещение прослеживается также и на устойчивых сочетаниях (сроду и так ни в жись — Каргопол.), которые в некоторых случаях дают контаминацию типа я в жись сроду бы не поехала дак (Терск.). Любопытно также, что слово жизнь воспринимается носителями говора как выражение дискретности бытия, это слово может передавать значение ‘определенный отрезок времени, период времени, эпоха’, ср.: Топоры-те разные были, из жизни в жизнь переходят (Вытегор.); А нам последнюю жизнь спокойно осталось жить (Тер.). В этом можно видеть дополнительное указание на сближение значений слова жизнь со словом житье (членимость во времени и в пространстве), а не со словом живот (которое обозначает целостный процесс жизни). В отличие от печорских русские говоры Карелии не обнаруживают расширения в значении слова житье — ‘хорошая жизнь’, а не ‘жизнь’ вообще. По-видимому, архангельские и карельские говоры в этом отношении являются наиболее архаичными русскими говорами. Псковские говоры представляют исходную систему еще более разрушенной, об этом свидетельствует обширная картотека Псковского областного словаря. В архаическом пласте говора (в территориальном или возрастном отношении) сохраняются еще исконные значения слов житье и живот, что подтверждает, в частности, историческую адекватность псковских говоров севернорусской диалектной системе[362]. См. в качестве примеров житье: 1) ‘хозяйство’: (не выбрасывай), может житью и надо (Гдов.) (речь идет о разных частях ткацкого стана — могут сгодиться в хозяйстве); 2) ‘семья’ (картотекой не представлено); 3) ‘хорошая жизнь’: Вот таперь житье (Пушк.); Таперь гулянье житье (Днов.), но в целом происходит обобщение этого значения — ‘жизнь (вообще)’: Плохо было житье, много детей было (Великол.) — Ейная хорошее житье, чего не жить (Локн.); 4) ‘жительство, проживание’: Из Абросова жильцы уехавши в город на житье (Великол.); На житье мы никуда не уходили (Стругокрасн.); 5) ‘жилье’: гумно рассыпали, а в подвале сделали житье (Пск.); У нас две хаты было, так что житья-то много было (Новоржев.). Таким образом, из пяти значений наиболее активными являются два последних, третье утрачено, а два первых, по существу, уже отсутствуют в говоре. Слово живот также сохраняет только два значения: ‘животное’ и ‘желудок’ (примеры многочисленны), причем первое из них, как обычно, подкрепляется рядом словообразовательных вариантов (животина, животная). Таким образом, и в этом слове два первых значения в говоре элиминированы, лексемы житье и живот сохранили только по два очень конкретных значения. Соотношение значений у слов житье и живот в русских говорах представлено в следующей схеме:

Следует определить, не замещены ли старые значения этих лексем новым для говора словом жизнь (жись, жисть, жистя, жизня). Слово жизнь в псковских говорах, по существу, может заменять слово житье в любом значении и слово живот в двух первых значениях. Из этого следует, что совмещение с лексемой житье началось раньше (как и в остальных северных говорах), а семантическое пересечение со словом живот происходит позднее на основе эквивалентности некоторых значений, т.е. житье 1 и 2 ~ живот 2, житье 3 ~ живот 1. Однако подобного пересечения не произошло бы без вторжения в систему лексемы жизнь, которая принесла с собой самые общие значения, способные обобщить более частные значения исконных для говора слов, ср. живот ‘биологическая жизнь’ ~ житье ‘хозяйственная жизнь’ → жизнь ‘жизнь (вообще)’. Кроме того, житье как выражение коллективного обеспечения жизни (‘хозяйство семьи’, ‘семья’) ~ живот как выражение индивидуального обеспечения жизни (‘имущество’) → жизнь (без дифференциации указанных оттенков). Приведем некоторый материал из псковских говоров, чтобы показать хронологическую последовательность изменения. Лексема жизнь на месте житье 1 и 2 ~ живот 2: Помогал-то нам в жизни, и огород обсаживал (Остр.: ‘хозяйство’); Став сгорел, растеряла всю жизнь (Порх.: ‘имущество’); Была знакомая девушка, она была хорошей жизни (Гдов.: ‘семья’). Возможность подобной замены определяет семантические смещения в производных словах и устойчивых сочетаниях, ср.: Денег много, ну и уезжает на курорт жизнь ломать (Пск.: ‘проживать жизнь’ и вместе с тем конкретное значение ‘проживаться, тратиться’). Жизненный — новое для говора образование, поэтому оно многозначно и автономно по отношению к литературному значению этого слова, но весьма конкретно в своих значениях; ср., с одной стороны: В Пскове невестка, сын, жизненные люди (Печор.: ‘солидные, состоятельные, вышедшие в люди’), с другой: Какие веселенькие, какие жизненные (‘жизнерадостные’). Лексема жизнь на месте житье 3 и живот 1: Манька повидала горя, а теперь она в жизни живе (Пытал.: ‘хорошая жизнь’); Как стали ребятишки подниматься, родители и жизнь поняли (Тороп.: ‘хорошая жизнь’); Здесь три года тому назад человек застрелился на своей жизни (Днов.: ‘по личным причинам’); У горец, рыба, пользуется росой в ночи, а если обсох, нет ему жизни (Невельск.: ‘не может жить’). Следует отметить, что старые, очень частные значения слов житье, живот заменяются в этих контекстах словом жизнь, всегда выявляясь из устойчивых (для говора) сочетаний в жизни жить, жизнь понять, на своей жизни, нет ему жизни. По существу, происходит проникновение новой лексемы в древние сочетания типа в житьи жить, житье понять, на своем животе, нет ему живота. Этим завершается длительный процесс экспансии лексемы жизнь во все функциональные сферы употребления слов житье и живот. Но благодаря подобным остаткам мы и можем проследить направление изменения, пользуясь материалом современных говоров. Как и в предыдущем случае, направление изменения является односторонним (в пользу лексемы жизнь) и характерно для всех говоров Псковской области независимо от степени их архаичности. Одинакова также семантическая линия совмещения семем житье 3 и живот 1 при возможном выражении их лексемой жизнь. В тех случаях, когда жизнь употребляется на месте житье 3 и живот 1, обычно имеется в виду ‘хорошая жизнь’, т.е. принимается во внимание наиболее узкое значение из двух совмещающихся в новой лексеме. Таким образом, новая лексема на первых этапах своего вхождения в диалектную систему не просто и не механически «сплачивает» разнородные частные значения различных слов старой системы, она к тому же не навязывает диалектной системе сразу всех своих (литературных) значений, ограничиваясь теми, которые уже отработаны в системе. Живот 1 ‘биологическая жизнь’ ~ житье 3 ‘(достаточная) материальная жизнь’ вполне сопоставимы и объединяются значением ‘(хорошая) жизнь’ в лексеме жизнь. Поэтому в псковских говорах широко распространены именно такие сочетания: богатая, не худая, хорошая, белая, первая и т.д. жизнь, также противопоставление прежней (задней) и теперешней жизни как характеристика нынешней хорошей жизни. Особая близость к старому значению слова житье ощущается во временно́м аспекте значения: для носителя говора жизнь — это не ‘форма существования материи’, а, скорее, определенная длительность в различных ее проявлениях, ср.: Жизнь пряслицем, время хорошее и плохое (Бежан.), отсюда: Я всяких жизнев пережила (Невельск.); (теперь) нам белая жись (Печор.); (а в прошлом) жись серая, грамоты не учили (Палк.), и т.д. Отсюда также и сочетания типа: Ни в жись не возьмет (Новоржев.); В жисть я не думала, что дети бросят (Печор.); С жизни веку ‘испокон века’ (Великол.) — с наречным значением времени. При этом во всех контекстах и в любых заменах слово жизнь еще воспринимается как эквивалент слову житье, новая система диалекта еще не выработала четкого семантического противопоставления слов житье—жизнь, и в ряде случаев возможны замены новым словом слова житье вообще во всех значениях, даже тех, которые вполне допустимы в литературном языке (некоторый «перехлест» как следствие билингвизма носителей говора), ср.: Поехали на жизню в Сибирь, муж помер (Себеж.: ‘житье, жительство’); Тут не было жизни, начальство жило в избе (Великол. ‘жилье, возможность проживания’). Более южные русские говоры уже почти не сохраняют следов архаической системы. Обширные картотеки словарей брянских и смоленских говоров представляют обычное для литературного языка противопоставление живот ‘желудок, брюхо’ — житье ‘проживание’, ср. в брянских говорах: Ему рой (пчел) на житье, сильный рой зашел в ульё (Сев.); У коров желудок иль живот, а у людей тоже (Добр.) (животные, скот также обозначаются словами животина, животная). Представлено несколько устойчивых сочетаний с неопределенным значением слова живот, ср.: Получу скулья в живот ‘ничего не получу’; Своя корова голосит, и о лошадях живот замирает (‘жаль кого-либо’). Слово жизнь представлено лексемами жисть и жизня, которые охватывают все значения, характерные для этого слова в литературном языке. В брянских говорах такая система сложилась уже довольно давно, как можно судить по материалам старых записей[363]. Аналогичное состояние отмечается в соседних с ними смоленских говорах. Другие говоры не представлены столь полным материалом. Обычно составители словарей указывают только старые значения слова живот: ‘скот’ или ‘всякое имущество’ в ярославских говорах[364], животина ‘домашний скот’ в калининских (тверских) говорах[365], животина ‘домашнее животное’, живот (собир.) ‘имущество, пожитки, скарб’, ‘скот’ в старожильческих говорах Урала[366], здесь же житье ‘домашняя, семейная жизнь’, к житью бы ‘если бы еще пожить’. Однако все это только остатки архаической системы, наиболее полно представленной в архангельских и карельских говорах. Можно, правда, установить первоначальное несовпадение в значениях слов живот—житье и по этим остаткам, но только на фоне цельных по законченности северных систем. Материалы старых записей, собранных в картотеке СРНГ, показывают, что размывание семантических границ всех трех слов и в средневеликорусских говорах происходило не столь давно; можно подобрать иллюстрации ко всем значениям слов живот, житье, хотя бы в одном говоре заменяемых лексемой жизнь (примеры см.: СРНГ, 9, 172, 156-160, 188, 197), ср. жисть в значении ‘имущество, хозяйство’ (смол., рязан.), ‘средства к существованию’ (Владимир., калуж.), ‘место жительства’ (енисейск.)[367]. В устойчивых сочетаниях, которые еще способны сохранять некоторые значения слов архаического контекста, обнаруживается, во-первых, замена словом жизнь слова живот (а не житье), во-вторых, осознается жизнь в ее временно́м пределе, ср. до жизни (его), до жизни веку, от роду жизни как замены других, более древних сочетаний со словом живот: до живота (его), до живота веку, от роду живота и др. В то же время: кричать во всю жизнь или терять жизнь в значении ‘зря терять время’ (СРНГ, 9, 172 — из записи старожильческого говора в Новосибирской обл.). Из таких сопоставлений также выясняется, что включение слова жизнь в семантическую сферу слова житье произошло гораздо раньше, чем обозначились линии пересечения в значениях слов живот—жизнь, отсюда такая неопределенность в употреблении слова жизнь, отмеченная нами и на материале картотек. Обилие самостоятельных значений слова живот обратным образом подчеркивает почти полное устранение слова житье из оппозиции к слову жизнь, их длительное сосуществование в качестве вариантов. При этом жизнь, вбирая в себя множество частных значений, постепенно становилось полным эквивалентом слову жизнь в литературном языке, тогда как житье и особенно живот с течением времени утрачивали свои более общие значения, сохраняя только наиболее конкретные из них (не всегда совпадающие по говорам). Вторичность лексемы жизнь для русского языка подтверждается не только семантическими изменениями этого слова, которые можно проследить на сравнении диалектных систем разной степени архаичности и на историческом материале. Можно предполагать, что церковнославянский суффикс (-зн-) никогда не был принят в русские говоры в таком виде и всегда изменял свою форму: жись, жисть или жизня. Сохранялась, следовательно, грамматическая характеристика слова (ж. род), но состав фонем его изменялся в соответствии с общими фонетическими изменениями устной русской речи. Закон восходящей звучности не допускал и не допускает в конце слова произношения с «незаконченной гласностью», требует изменения либо в жис(т)ь, либо в жизня. Сохранение грамматической характеристики ж. рода важно для русского языка, в котором абстрактная лексика преимущественно маркируется ж. родом. Обобщение частных значений имен ср. (житье) и м. (живот) рода сопровождалось, разумеется, соответствующей грамматической приметой семантического класса. Можно даже предположить, что первоначальное сближение слова жизнь со словом житье обусловливалось, между прочим, тем, что слова ср. рода в древнерусском были нейтральными в категориальном смысле (варьировались с именами либо м., либо ж. рода — в зависимости от семантики последних)[368]. Таким образом, семантическая безразличность в противопоставлении вступивших в дополнительное распределение слов жизнь—житье на определенном этапе поддерживалась также отсутствием грамматического противопоставления по роду. Что же касается фонетического оформления слова, то форма жизня представлена преимущественно в южновеликорусских говорах (см. примеры в СРНГ, вып. 9), для которых вообще характерно изменение типа склонения данного рода (ср. ноча, доча вм. ночь, дочь); можно без колебаний такую форму слова признать поздней. В картотеках Псковского и Брянского областных словарей жисть обычно распространено на севере, жизня — на юге территории; произношение жизень не имеет четко очерченного ареала и, по всей видимости, является просторечным приспособлением к литературному жизнь (как рубель, литар на месте рубль, литр, по типу плесень). Для точности реконструкции важно сравнить полученные данные с материалом других восточнославянских языков, следовательно, продолжить хронологическую перспективу в глубь веков. В белорусском языке и в его говорах лексема житье обобщила все старые значения, связанные с обозначением жизненного процесса (в том числе и живот 1), жъщцё как ‘житье, жизнь’ указывается всеми источниками по всем говорам Белоруссии. Это точный эквивалент русскому литературному слову жизнь, хотя по говорам встречаются и другие слова с тем же значением (всегда несколько более конкретного значения, ср. жытка, жытло́, жывоцце как ‘проживание’, ‘жилье’ и т.д.). Слово живот, напротив, сохраняет многие свои значения, восходящие к общерусскому языку, такие, например, как ‘желудок’, ‘брюхо’, ‘пузо’, ‘пожитки’, ‘дом, скот’, ‘сила’, ‘жизнь’[369]. Хотя многие из этих значений и архаичны (см. примеры у И. И. Носовича) и встречаются только в определенных сочетаниях (например, четыре последних только в форме мн. числа), тем не менее они осознаются носителями говора как литературные. Слово жизнь неизвестно белорусскому языку, оно зарегистрировано только на границе с русскими говорами, ср. «жысць — віцебскае» (городское?)[370], жысць в песне и в устойчивом сочетании (А няхай яе з такою жысьцяю — працюй, працюй, а хлеба німа) в восточномогилевском говоре[371], жызьня в Осиповичском районе Могилевской области[372]. Составители картотеки к Словарю говоров Туровщины, записывая слово жись (жызь) в речи поселковых жителей, определенно утверждают, что «жызь — редко, возможно русизм» (картотека). Никакие другие материалы не указывают на слово жизнь как характерное для белорусских говоров. В украинских говорах положение аналогичное. Общую характеристику современным украинским говорам относительно данных слов дал А. Н. Залесский в письменном ответе на мой запрос, поэтому излагаю его заключение полностью: «Почти во всех населенных пунктах, обследованных по вопроснику ОЛА[373], понятие ‘жизнь’ выражено лексемой žyt’:a (žyt’:e, žyt’a, žyt’e, žyt’je), и лишь в части карпатских, особенно закарпатских, говоров — лексемой žyvot (соответственно часть тела, ‘живот’ в этих говорах передается лексемой čerevo). В преобладающем большинстве украинских говоров žyv’it (žyvot, žywut, žywuot и др.) имеет значение ‘часть тела, живот’, и лишь в трех селах материалы ОЛА фиксируют кроме этого значения еще другие оттенки: с. Чуйновка Ямпольского района Сумской области — ž’iwot а) ‘часть тела’, б) ‘имущество’; с. Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области — žyw’it а) ‘жизнь’, б) ‘живот, часть тела’, в) ‘имущество, имение’; с. Русь Поляна Марамурешского района žywut/žyvot (dobre zyt’a, dostatok u xat’i) (я переписал дословно из материалов). Фонетические и словообразовательные варианты лексемы життя по материалам Атласа украинского языка: жит’е — почти во всех полесских говорах, жит’je — очень редко в среднеполесских говорах, житка — в северной части среднеполесских говоров (северные районы Житомирской и Ровенской областей, а также в нескольких селах Брестской области, к югу от Пинска); спорадически фиксируется на Полесье также: жиз’н’ жиз’, жис’т’, жис’ц’, жиз’д’, жит’а — подольские, южноволынские, бойковские, закарпатские, лемковские говоры юго-западного наречия; жит’е — посанские, поднестровские, гуцульские и буковинско-покутские говоры юго-западного наречия. Причем -е в жит’е в юго-западных говорах, по мнению большинства украинских исследователей, не является непосредственным континуантом п. сл. -е (из ьje), а представляет собой результат перегласовки секундарного -а после мягких согласных в -е (и в i-). У нас (в Институте языкознания АН УССР. — В. К.) хранится также рукопись большого, четырехтомного “Словаря бойковского диалекта” М. И. Онишкевича. Там тоже живіт и жит’а употребляются лишь в значении ‘жизнь’». В результате выясняется, что украинские говоры не едины в происхождении типичного для них слова, обозначающего ‘жизнь’: в юго-западных говорах соответствующая лексема восходит к исконному отглагольному жить, не осложненному суффиксом, совпадение с житье вторично. Поскольку здесь не говорится об истории слова жить (отмечено в древнерусских списках, например в Евгениевской псалтыри XI в., и в севернорусских говорах), это замечание следует только учесть для последующих изысканий в данной области. Любопытно, что слово живот в архаичности своих проявлений соотносится с вариантом жить, а не житье (карпатские и закарпатские говоры в особенности). По существу, здесь представлено совсем иное соотношение лексем, чем в большинстве восточнославянских говоров; возможно, исторически это и стало причиной непроницаемости системы для лексемы жизнь. Слово жизнь, по единогласному свидетельству белорусских и украинских диалектологов и лексикографов, спорадически встречается только в полесских говорах на всем их протяжении. Тем самым долгие споры относительно происхождения этих говоров усложняются также и в данном отношении: тенденция развития некоторых лексических систем напоминает русскую. Либо эта тенденция была прервана в самом начале (после XVI в.), либо она развивается только в наше время. В первом случае — полесские говоры сохраняют тот этап проникновения лексемы жизнь в оригинальную систему, который можно было бы назвать этапом «литературного варваризма»; во втором случае мы свидетельствовали бы особую проницаемость именно полесской диалектной системы, не русской, не белорусской, не украинской, а вполне самостоятельной языковой системы, не имеющей литературной формы выражения. Оба решения чрезвычайно ответственны, необходимы тщательные разработки и новые материалы, чтобы прийти к определенным выводам. На современном уровне изучения вопроса более вероятным представляется второе решение. Что же касается общих выводов, их можно было бы сформулировать следующим образом. Самыми общими словами для выражения жизненного процесса, характерными для восточных славян с древнейших времен, были лексемы живот и житье (жить). В процессе длительного семантического обобщения происходило либо вытеснение одного из них (обобщение жить, житье в украинских и белорусских говорах), либо проникновение третьего слова (жизнь в русских говорах). Остальные лексемы сохранялись, получая все более частные или наиболее конкретные значения. Церковнославянизм жизнь первоначально вступал в конвергенцию с наиболее общим по значению словом диалектной системы (со словом житье), и только впоследствии, на основе общности некоторых частных значений и в определенных контекстах, происходило сближение слова жизнь со словом живот. Выше показаны конкретные условия такого изменения, которые мы можем восстановить путем последовательного сопоставления разных диалектных систем различной степени архаичности. Раньше всего процесс усвоения и обобщения слова жизнь завершился, надо полагать, в северо-восточных (московских) русских говорах, и потому впоследствии это слово стало словом литературного языка. Позже всего, буквально в наше время, этот процесс охватил поморские архангельские говоры (также говоры онежской группы), т.е. наиболее древний слой северо-западных (новгородских) говоров, не подвергавшихся основательным перемещениям с течением времени. В целом западная часть русских говоров гораздо полнее сохраняет древнерусскую систему; во всяком случае можно проследить, как бы в пунктирном исполнении, следы старой системы, постепенно смываемой экспансией литературного языка. Консервирующее воздействие со стороны украинских и белорусских говоров в данном процессе несомненно. В таблице показаны значения интересующих нас лексем в разных славянских языках и в некоторых говорах. Из таблицы выясняется, что общим направлением семантического развития во всех славянских говорах является обобщение какого-то одного слова в качестве наиболее общего для лексем данной группы; только в русском языке в этой роли выступил первоначальный варваризм. Механизм развития говоров одного языка в настоящее время таков, что ни одна система не может устраниться из общего процесса унификации, почему и происходит распространение этой лексемы во все говоры. К сожалению, отсутствие статистических данных мешает определению того, насколько активен этот процесс в группах населения разного возраста. В процессе исследования были выдвинуты некоторые критерии архаичности слова в диалекте. Перечислим их совместно. 1. Фонетический критерий заключается в том, что старое слово не имеет произносительных вариантов; наоборот, новая лексема, как и всякий варваризм вообще, варьирует в фонетическом отношении, постепенно приспособляясь к грамматической и фонематической системе говора, ср. /жыс’/, /жыс’т’/, /жызн’а/, /жыз’ен’/. 2. Только старое слово системы имеет серию семантически определенных словообразовательных единиц (живот — животная, животина, животинка и др.), тогда как новая лексема изолирована своим собственным употреблением. Лишь с течением времени происходит словообразовательное ветвление слова, и тогда оно становится элементом диалектной системы. Например, только южные псковские говоры из числа псковских дают образования типа жисточка, жистенка, жистёха, жизёнка, которые одновременно указывают на фонетическую форму исходного слова: жисть (или жизня), но не жизнь. Словообразовательный ряд строится на присущем системе, уже отработанном диалектной системой фонемном составе производящего слова. 3. Наиболее древние значения слова сохраняются в устойчивых сочетаниях, в которые новая лексема проникает позже всего; фразеологический критерий, следовательно, позволяет восстановить наиболее архаичные значения слова. 4. Семантический критерий архаичности слова обусловливается легко выводимой последовательностью значений во всех употреблениях данного слова, и притом в исторически подтверждаемой последовательности. Новое для говора слово всего лишь замещает некоторые значения исконных для диалектной системы лексем, оно является внешним по отношению к диалектной системе; филиацию его значений невозможно проследить на материале одного говора, обязательно приходится соотносить эти значения со значениями литературного языка.
Распределение основных значений, связанных с «vita», в отдельных славянских языках и говорах

 *Так же и в словацком, кроме последнего значения,которого нет (brucho).
*Так же и в словацком, кроме последнего значения,которого нет (brucho).
2. Болезнь
Слово болезнь — церковнославянского происхождения: его нет в восточнославянских говорах, а также в белорусском и украинском литературных языках; на это же указывают его словообразовательная модель[374], определенная связь с южнославянскими говорами[375], семантика слова и его история в русском языке. В настоящее время ясно, что производное от *bol’ болесть с отвлеченным значением качества-состояния ‘боль’, ‘страдание’ (в физическом смысле) являлось общеславянским, а в древнерусском языке было единственным словом, обобщенно обозначавшим болезнь (см. ниже); слово болезнь возникло довольно поздно в южнославянской (книжной?) среде и через литературно-книжный язык проникло в XI в. в русский язык. Это отглагольное образование с фактитивным значением действия стало самым обобщенным словом для выражения значения ‘болезнь, недомогание’, и именно в столкновении с ним восточнославянское слово болесть довольно рано развивало новое значение ‘болезнь’, сохранив его по говорам вплоть до XX в. Этого чисто внешнего влияния со стороны слова болѣзнь оказалось вполне достаточно, чтобы впоследствии диалектные системы активно сопротивлялись дальнейшему внедрению самого слова болезнь в диалектную речь. Обобщенную характеристику словесных средств обозначения болезней, бытовавших среди русских крестьян до революции, дал Г. Попов. Основываясь на большом диалектном и этнографическом материале, он сделал весьма содержательное обобщение такого рода: «Народной симптоматологии, в строгом смысле этого слова, не существует, так как названия болезней в большинстве случаев почти всецело исчерпывают в то же время и их симптомы. Народная симптоматология может быть рассматриваема только как совокупность тех своеобразных выражений, которыми народ определяет свои ненормальные ощущения и характеризует те или другие болезненные явления. Представляя интерес с точки зрения способности мужика анализировать свои ощущения, все эти определения отличаются большой субъективностью, объективность же их почти всегда имеет суеверный источник. Прежде всего заслуживают внимания общие определения болезненного состояния. Очень часто самое понятие болезнь выражается словом боль: женская, дурная боль; боль нашла, напала, — часто говорит народ; имея же в виду выразить ощущение боли, вместо болит он нередко говорит знудит (Тверск., Псковск. губ.). Такою же гражданственностью для выражения понятия болезни пользуется слово недуг; недужится, занедужил говорят про заболевшего, а иногда говорят затосковал (Вологодск. губ.). Говорят также, определяя одним словом и этиологию, и симптомы заболевания, — испуган, измешан, изурочили, сглазили (Вятск. губ.), а иногда вместо сглазил говорят озепил (Ярославск. губ.) или азанул (Пензенск. губ.). В глазах мужика каждое из этих выражений в состоянии представить комплекс всех симптомов известного заболевания. Надуло — выражение для обозначения всевозможных болезненных явлений, распространено почти повсюду и не среди только одного простого народа. Таким же значением, объясняющим картину болезни, пользуются выражения вступить, напасть и войти: так вот, сразу и вступило, напала хворь, вошла боль, — объясняет мужик свое заболевание. То, что таким образом вступает, может по произволу и кидаться, куда ему угодно. Боль кинулась в руки, ноги, а опух кинулся в лицо, — говорят при отеках. Так же кидается в то или другое место простуда и может уйти внутрь или выйти наружу. Простуда наружу повылезла, — говорят при хронической сыпи и язве или, с некоторым сомнением и осторожностью, ставят вопрос: не простуда ли выступает? Подобные же выражения употребляются и по отношению к другим заболеваниям... Такой же смысл, как кинуться и напасть, имеет и слово разбить. Будучи последовательным, мужик в таком же значении употребляет и слово бросить. Боль отстала, лихорадка бросила, — говорят об окончании болезни, и так же выражаются при поносе: пронесет, так отстанет. Процесс выздоровления больного иногда определяют словом подниматься, обмогаться или отдыхать, а исхудание часто обозначают словом исходить: стал исходитъ — значит, стал сильно худеть»[376]. Таким образом, внутреннее ощущение болезненности обозначается словом боль — основным синонимом болести; внешняя причина ее видится в злой силе, способной набросить эту боль или ее снять. Существует множество частных наименований болезни, очень образных, но вместе с тем и конкретно-точных, но самым общим является все-таки слово боль; боль воспринимается как объективная реальность — не только объект, но и субъект болезни. Боль находит и насылается, но конкретное заболевание имеет не только свое условие (холод, отрава, поветрие и т.д.), но и свою общую причину: сглаз, урок, прирок, сурок, притки и пр. Одно с другим связано, вот почему столь длительно сохранялись древние представления о боли, ее свойствах и причине. Эти представления еще и не давали возможности говорить обобщенно о болезни как о ‘расстройстве здоровья’, боль существует наряду со здоровьем, вместе и одновременно с ним. Лексическим изменениям должно было предшествовать преобразование на мировоззренческом уровне. Основные этапы этого нам и надлежит рассмотреть. Довольно определенно распределение лексем болесть и болѣзнь проявляется в древнерусских источниках. Сначала отметим, что почти все старославянские памятники употребляют слово болѣзнь в обоих значениях: ‘болезнь, нездоровье’ (а также ‘физическая немощь’ при греч. ασθένεια) и ‘боль, страдание’[377]. Среди древнерусских текстов выделяются переводные, которые используют слово болѣзнь, иногда даже предпочитая его слову болесть: в Мудрости Менандра, Житии Нифонта, Житии Василия Нового, Синайском патерике XI в., Изборниках 1073 г. и 1076 г., в Кормчей, Александрии, Хронике Георгия Амартола, Пандектах Никона Черногорца и др. Здесь намеренно перечислены совместно древнерусские тексты, которые были или определенно переведены в Древней Руси, или связаны с восточноболгарской книжной традицией. Традиция для этих двух переводческих школ общая, и употребление известных лексем также со временем получает свою традицию. Свое значение имел и факт неоднократного переписывания текста в разных славянских областях. Так, Пандекты Никона или Пчела, переведенные, по общему мнению исследователей, на Руси в XII в., подверглись редактированию при переписывании в Болгарии, и если сравнить обе редакции того или иного текста, окажется, что в болгарском варианте последовательно заменяются равнозначные лексемы, ср. в Пандектах Никона: болѣзнь — на болесть, недугъ, больный — на недугующий, недугъ — на болѣзнь, пагуба — на недугъ, тогда как немощь — всегда немощь. В этом смысле явно противопоставлены немощь — болезни, тогда как болесть, недугъ, болѣзнь почти синонимы, но принципы их разграничения ускользают от внимания современного исследователя. Останавливает на себе внимание не время перевода и не возможное место этого перевода, а жанр текста и его обращенность к возможному читателю. Перечисленные выше тексты относятся к церковным жанрам: хроники, жития, поучения. Воинские и назидательные произведения, переведенные в тот же период ХII-ХIII вв., предпочитают слово болесть, никаких других слов данной лексико-семантической группы (и болѣзнь в том числе) не употребляя: Повесть об Акире Премудром, Девгениево деяние, Физиолог, XII снов Шахаиши, Сказание об Индейском царстве, История Иудейской войны Иосифа Флавия; в Пчеле, как уже сказано, разновременность перевода различных афоризмов привела к варьированию слов болесть и болѣзнь. Вместе с тем имеется несколько собственно русских текстов, составленных уже в конце XI в., в которых предпочтение оказывается лексеме болѣзнь — и все это тексты житийные: проложное Житие Владимира (в других вариантах его Жития на этом месте употреблено слово болесть: очная болесть), Житие Феодосия Печерского, Чтение о Борисе и Глебе, Житие Леонтия Ростовского. Житие — именно тот жанр, через посредство которого новое слово входит в оригинальную древнерусскую литературу. Первоначально его значение полностью совпадало со значениями русского слова болесть, обозначая только ‘боль, страдание’. В болгарском переводе Изборника 1073 г. специально указывается, что плоть (тело) получает болѣзни параллельно тому, как душа подвластна «тугамъ и печальмъ душьныимъ»[378]. Но точно так же и восточнославянский автор в Печерском патерике говорит: «Не избавленъ ли бысть язвы душевныя и болѣзни телесныя исцѣляя» (90). Следовательно, болезнь воспринимается как физическая боль и страдание. Таково то общее, что объединяет два слова и что стало основой их сближения. В переводах слово болѣзнь обычно соотносится с русским эквивалентом болесть, признаваясь на первых порах словом высокого стиля — но и только. Но уже на русской почве, в самых первых опытах включения новой лексемы в употребление, древнерусский книжник связывает с болѣзнью именно душевные и только душевные переживания, стилистически маркированный эквивалент получает дополнительное значение ‘(душевная) боль’: игумен Даниил, говоря о Богородице, поминал о «болѣзни сердца своего»; но самые ранние примеры такого употребления находим в Поучениях самого Феодора Печерского, а также в круге памятников, связанных с его творческой деятельностью, ср., например: «И еще молюся всею душею моею от болѣзнна срдца, горкыя слезы к вамъ испущая» (Феодосий, VI, 25). В Успенском сборнике все 4 примера употребления слова болѣзнь в оригинальных русских текстах (всего же здесь 38 раз употреблен этот корень) связаны с указанными выше житийными текстами (ср. и в Житии Феодосия: «вижь болѣзнь срдца моего» — 12б). В Повести временных лет, которая 7 раз употребляет это слово, оно относится либо к переводным текстам (описание событий Ветхого завета), либо к русским князьям, патронам Печерского монастыря, и к самому Феодосию Печерскому. Что слово болѣзнь воспринималось в ХІ-ХІІ вв. как слово высокого стилистического ранга, показывает не только его употребление в отношении к святым и блаженным, но и использование его летописцами только в тех описаниях, которые связаны с «плачами» по поводу нашествия внешних врагов, ср. в Повести временных лет под 1068 г. прямую речь, вложенную в уста Бога по поводу первого нашествия половцев: «Послахъ на вы различныя болѣзни и смерти тяжькыя»; в начале XIII в. автор Слова о погибели русской земли в аналогичных обстоятельствах повторил это: «А в ты дни болѣзнь крстьяномъ от великого Ярослава и до Владимера!» В обоих случаях речь идет не о ‘нездоровье’, а о ‘трудности, неприятности’, даже ‘страдании’. Материалы И. И. Срезневского фиксируют такое значение слова и в древнерусских списках XI в., сделанных с более ранних болгарских переводов, но также и в житийных текстах собственно русского происхождения, начиная с XIV в.; ср. в Житии Стефана Пермского упоминание о «болѣзни жития сего». В различных местах Ипатьевской летописи начала XV в. слова болѣзнь и болесть уже отчасти конкурируют в различных по происхождению текстах летописи, а само слово болѣзнь все чаще употребляется для обозначения конкретной болезни. В ХVІ-ХVІІ вв. слово болѣзнь как употребительное обозначение болезни окончательно вытеснило народно-разговорный вариант болесть в книжных (главным образом, переводных) текстах, ср. Вести-Куранты 1600-1644 гг., Назиратель и т.д. Однако до конца XV в. слово оставалось высоким славянизмом, не употреблялось в текстах бытового содержания и даже в летописях (новгородских)[379]. В процессе постепенного вхождения в литературный язык восточных славян слово болѣзнь изменяло свой стилистический статус и постепенно обрастало собственными семантическими характеристиками, отличаясь уже и от старославянского, и от древнерусского употребления. К началу национального периода в развитии литературного языка оно сохраняло значение ‘(душевное) переживание’, ‘болезнь’, тогда как все формы физического недомогания в их общем значении передавались словом болесть ‘боль’. До недавнего времени слово болесть вообще считалось лексическим русизмом[380], поскольку в старославянских текстах оно не зарегистрировано, а все примеры, приведенные И. И. Срезневским, извлечены из русских памятников, в том числе и древнейших. Однако наличие болг. бо́лест,серб. бöлēст, словен. bolêst, нижнелужиц. bо́lasć, древнечеш. bolest (с XIV в.) и пол. boleść (с XVI в.) заставило переменить точку зрения и признать это слово общеславянским[381]. Как можно судить по древнерусским переводам, это слово сохраняло свое старое значение ‘боль’, ‘страдание’, ср.: «Друзии же, не тръпяще мукъ, нудими быша болѣстию солгати» (Флав., 216); Антипатр, по возвращении на родину встретивший всеобщее осуждение и порицание: «тѣмь нача по малу разумѣти домашнюю болѣсть» (Флав., 235); «И вложи [Фероръ] въ уста своя [отравленную еду], и абие прия страсть и болесть» (Флав., 229); «И тии всегда видими... в тмѣ страстий же и прегрешений възвращающе и борющеся... и нудяще нас здѣ тмами злыхъ и болестьми недуги остращеннаа наши тѣлеса» (Васил. Нов., 611); «Имѣяй немощь или страсть, сему бо подобаетъ приложити мало [милостыни]» (Панд., 296 об), — в болгарском варианте на месте немощь стоит болесть. Ориентированность лексемы болесть на обозначение физического страдания впоследствии и привела к постепенному внедрению однокоренного с ним слова болѣзнь, и в общем контексте церковнославянских семантических распределений, требовавших лексического противопоставления явлений земных небесным явлениям, столкновение двух родственных лексем привело к контрасту болесть ‘(физическое) страдание’ — болѣзнь ‘(душевное) страдание’. В таком дополнительном распределении основного значения обе лексемы представлены в книжном языке вплоть до национального периода; диалектные материалы до XVIII в. нам неизвестны, а то, что попадало в записи раньше этого времени, указывает на категорическое наличие в говорах слова болесть и отсутствие слова болѣзнь. В самом литературно-книжном языке продолжалось развитие некоторых значений заимствованного слова: ‘болезнь’, с одной стороны, и ‘горе, скорбь’ и затем ‘беспокойство, забота’ — с другой, тогда как слово болесть кроме исконного значения ‘боль’ развивало параллельное значение ‘болезнь’ (Сл. ХІ-ХVII, 1, 280-281). Таким образом, новое слово развивало круг значений, связанных с морально-нравственными, душевными переживаниями, которые культивировали литературно-книжные тексты. В национальный период развития литературного и народно-разговорного языка начинается проникновение слова болѣзнь и в коренные русские говоры. Легко проследить основные этапы такого изменения. В записях диалектной речи середины XIX в. находим следующие толкования: бо́лесь ‘повальная болезнь, эпидемия’[382]; бо́лесть ‘боль’, ‘болезнь’[383]; болесть 1) ‘болезнь’, 2) в переносном смысле вообще все нехорошее, вредное, неблагоприятное: «Какой болести ты наелась? Ишшо какой болести тебе надо? Каку болесть ты тутока делаш? Пошел замешать корму курицам-то, а посля болесть — падучая болезнь»[384]; болѣсть 1) ‘болезнь, сожаление, соболезнование’ и 2) ‘помеха в производстве чего-либо’[385]. В конце прошлого века отмечены и следующие значения слова болесть: 1) заменяет выражение «как бы не так»: «...ты попроси денег-то у Микиты. — Бо́лесть дас(т)! Слышь какая болесть с ним приключилась»[386]; Бо́лесь; 2) выражение удивления: «Болесть, чего и придумает!; Недоброе пожелание: Болести тебе, болесть бы тебя взяла!» Употребляется и в смысле ‘болезнь’[387]. Несколько позже, после революции, но еще в довоенные годы отмечены значения ‘болячка’ (и ‘болезнь’)[388] и ‘напасть’, ср.: бо́лесь ‘болезнь’, ‘напасть’ (ругательное слово): На кою болесь! ‘на кой черт!’; Иди г болестям! ‘иди к черту!’[389] В начале XX в. большинство наблюдателей для слова болесть фиксировало всего лишь одно, самое общее значение болезнь (примеры многочисленны), однако в этих записях любопытно следующее: ударение постепенно перемещалось на суффикс (болесть в записях 1903 г. по Устюжскому уезду и в записи 1905 г. по Волховскому уезду Орловской губ.), и наряду с тем вместо болесть все чаще начинают писать болѣсть. Оба фонетических признака указывают на то, что на рубеже XIX и XX вв. началось совмещение двух первоначально самостоятельных слов: диалектного бо́лесть и книжного болѣзнь[390]. Изменялась и акцентная характеристика парадигмы, поскольку болесть входила в подвижный акцентный класс (ср. в записях закономерное ударение бо́лесть — болесте́й, болестя́м и др.), а болѣзнь, как это и следует для книжных слов заимствованного происхождения, всегда употреблялось с неподвижным ударением на суффиксе. Совмещение двух слов по морфонологическим признакам шло в сторону книжного варианта, поэтому с конца XIX в. получаем новые формы типа болѣсть, болѣсть — болѣсть, болѣсть и др. Вернемся теперь к значениям слова болесть, которые зарегистрированы собирателями прошлого века: 1) ‘боль’, 2) ‘повальная болезнь, эпидемия’, 3) ‘падучая болезнь’, 4) ‘соболезнование’, 5) ‘нежелательная, неприятная случайность, помеха’, 6) ‘недоброе пожелание или возглас удивления’. Три первых значения отражают развитие исходного значения ‘боль’ применительно к морально-нравственной стороне дела: и эпидемия, и эпилепсия не являются только «болью» индивидуума, субъекта страдания; налицо определенный сгусток смысла, противопоставленного индивидуальной боли такого же необъяснимого происхождения — но это была не болесть, а притка (см. ниже). Многовековое сосуществование болести и болѣзни наложило на разговорную форму определенные ограничения, которые и способствовали дальнейшему сближению лексем. Все значения диалектного слова болесть начиная с четвертого в точности соответствуют уже семантической линии развития литературно-книжного слова болѣзнь — в том виде, как она сформировалась в преднациональный период. ‘Соболезнование’ или ‘беспокойство, забота’ в связи с нежелательной помехой естественнее связать с морально-нравственной стороной «болезни», чем с физической болью субъекта. Действительно, внутренняя реконструкция семантики производных слов в диалектной речи подтверждает, что в процессе заимствования слова болѣзнь первоначально было актуальным именно такое противопоставление диалектного и книжного слов. В Словаре русских народных говоров (3, 72-74) болезенка, болезка, болезненький, болезно, болезновать, болезность, болезнушка, болезный, болезочка связаны со значением сострадательности, соболезнования, сожаления. Все, что вызывает жалость русской женщины, стало болезным, со временем (первоначально в лирических песнях — т.е. также сначала в литературном тексте) и само слово болезнь вошло в говор в том же узком значении ‘милый, дорогой’. Непосредственным источником производных явилась церковно-книжная речь, но говор освоил заимствованное слово, осложнив его своим (уменьшительно-ласкательным) суффиксом. Перед нами совершенно особый пласт диалектной лексики, связанный с выражением не физического, а душевного страдания, направленного на другого, — сострадания. Болезный ‘нездоровый’ — позднейшая семантическая контаминация диалектного болезный и книжного болезненный, она возникает уже на наших глазах: по Словарю русских народных говоров и его картотеке первая фиксация 1964 г. (3, 73). Как отмечено, и само слово болезнь в записях конца прошлого века, хотя оно и встречается редко, означает обращение, выражающее ласку, нежность, любовь: Болезнь моя больная, матушка моя (СРНГ, 3, 73). В соответствии с законами русской разговорной фонетики новое заимствование из книжного языка и произносилось иначе: болезень (зафиксировано в Опыте 1852 г.) или более обычно для говоров болезь[391]; совпадение в произношении форм болесь и болезь (болесь) также способствовало совпадению лексем. Современное просторечное произношение показывает, что слово вошло в систему просторечия, тогда как по говорам сохраняется не только произношение болезень, но и изменение морфологических характеристик слова в угоду произношению, ср. распространенную в псковских говорах форму болезня (ж. рода). В отличие от этого производные от болесть — болес(т)ница, болесть, болестище, болестный и др. — так или иначе связаны со значением ‘боль’, всегда определяющим физическое страдание. Эта семантическая доминанта позволяет не только реконструировать исходную точку соприкосновения диалектного и книжного слов, но и убедиться в длительном противостоянии двух семантических систем и двух культур. Сравнивая употребление слов болесть и болезнь в границах отдельного современного диалекта, опять-таки обнаруживаем некоторое различие между семантикой обоих слов: болесть — всегда какая-то конкретная болезнь, в ее основном значении всегда присутствует сема ‘боль’; болезнь обычно выражает самое общее значение болезни вообще, не имеющей дифференцированности по своим проявлениям, это, скорее, ‘заболевание’; именно это второе слово обычно входит в новые для говора, фразеологически связанные контексты. Судя по картотеке Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей, положение именно таково, ср.: «Болесть-то эту как зовут у целовека? — Да лишай!» (Каргополь); «В глаза-то ей не скажут, што за болесть; говорят, водянка» (Кандопога); «А слыхали болесть, антонов огонь?» (Каргополь); «Но от ей [травки] кажная болесть выходит» (Каргополь); «Какая-то сахарная болесть: заболеешь и сдохнешь» (Каргополь); «Это худая болесть» (Подпорожье); «И она болела такой болестью, што все забыла» (Кемь); «Я не боюсь этих болестей» (боль при операции — Череповец) и др. (ср. и СРНГ, 3, 74). Слово болезнь как литературное не все собиратели записывают, если одновременно с ним фиксируется и болесть; однако, как сказано, только болезнь входит во фразеологические сочетания типа: поправить болезнь, прекратить болезнь ‘вылечить’, набрести на болезнь, подхватить болезнь, пасть в болезнь ‘заболеть’, ср. «Мужик мой под болезнь попал, так умер» (Онежск.). Фразеологизм, связанное сочетание необходимы в переходный период развития слова в говоре. Подобно тому как раньше это было в словообразовательных формах (болезный при болезнь), так и здесь возникает собственный контекст, сам по себе достаточный, чтобы объяснить характер новой лексемы, включить ее в систему говора на равных правах и с диалектными формами; то же и в сочетаниях с прилагательным, например, худая болезнь или черная болезнь для почти терминологического наименования венерического или психического заболевания. Сближение со словом болесть идет по стилистическим и одновременно по семантическим признакам: в подобных сочетаниях болезнь не вообще ‘болезнь’, а какая- то определенная болезнь, т.е. уже болесть. Однако в той же диалектной среде, в которой записаны приведенные примеры, болезнь имеет еще и самое общее значение ‘забота, трудность’, но в свободном употреблении вне устойчивого сочетания, ср.: «Поехал автобус, мы в его сели без болезни» (Череповец); «И до самой смерти все по болезни ползаешь» (Пестово Новгород.), т.е. ‘по трудностям, неприятностям ’. Согласно картотеке Псковского областного словаря в псковских говорах значение ‘боль’ также сохраняется за лексемой болесть, ср.: «Бо́лесть у меня сильная» (Себеж.); «Раньше бо́лесть какая-то, а теперь эту боль убили» (Стругокрасн.); «Нога болит, не знаю, что вся болесть в пяту» (ушла — Дедович.); «Желомустовый дёготь, бо́лесть залей — и конец, всё» (Опочк.); «Это горячка у нево, такая бо́листь ходит» (Палк.); «Все болести перенесешь» (в болезни — Псков.); «Теперь я бо́лести не чувствую (от язвы желудка), только старость» (Печор.), и др. Некоторые контексты с употреблением слова болезнь неопределенны (неясна позиция собирателя в отношении к литературному слову), но и они как будто также указывают на значение ‘боль’, ср. единичное в картотеке употребление нового слова в этом значении: «Как сделали операцию глазу, так болезнь в руку ринулась» (Великолук.). Конкретное заболевание также обозначается словом болесть — это может быть дизентерия, золотуха, катар желудка, оспа, паралич, припадки, колтун, краснуха, мигрень, рак, ревматизм, скарлатина, эпилепсия (перечислены только те болезни, которые указаны в самих контекстах на употребление слова болесть): «Каких только болестей на свете нет» (Ляд.); «Болесть-то всякая есть» (Остров.); «У кого какая болесть» (Стругокрасн.), и т.д. Несмотря на некоторые неточности записей, определенно выявляется одна особенность произношения слова болесть в двух указанных значениях: бо́лесть ‘боль’ с постоянным ударением на корне и боле́сть ‘болезнь’ с постоянным ударением на суффиксе. Именно ударение часто позволяет разграничить эти значения слова в тех случаях, когда из самого контекста они не ясны, ср.: «Мать у ево больная, не знаю, што за бо́лесть: коленки были распухши» (Остров.) — ‘боль’: «А я болеть не болею, а ноги больны, и в коленках больно, а так боле́сти особой нет» (Новоржев.) — ‘заболевание’; ср. еще: «Антонина стукнула грудь, воду несла, от этого убоя и болесть нашла» (Гдов.) — подчеркивается, что в результате ушиба напала болезнь как следствие боли. Боле́сть в значении ‘болезнь’ несомненно связано с ударением литературного слова болезнь; сама возможность сочетания типа болесть нашла подтверждает соотнесенность слова болесть с болезнь, потому что и в псковских говорах устойчивые сочетания с глаголами характерны только для слова болезнь: болезнь получить, в болезнь попасть и другие в значении ‘заболеть’. Употребление слова болезнь в значении ‘конкретная болезнь’ в картотеке Псковского областного словаря отмечается редко. Вполне возможно, что это связано с невниманием собирателей к литературному слову. Однако те контексты, которые приведены здесь по районам с наиболее архаическими говорами (Гдов., Ляд.), показывают, что болезнь в первоначальный момент вхождения слова в говор обозначает только повальные инфекционные болезни: «болезнь называется нос, в горле нарыв...»: «Всякие болезни были: тиф был, скурлатина; оспины на лице — это от болезни такой вываливает» и др. Таким образом, болезнь, в отличие от болести, не физическая боль как отражение переживания отдельного человека, а результат внешнего давления, какое-то действие, которое одновременно может распространиться на целый коллектив. Более ранние записи (обычно фольклорные) показывают, что главным в содержании слова болезнь является внутренняя душевная боль:

Субстратом семантического развертывания все время оставалось самое общее по значению и наиболее распространенное по говорам и в этом смысле общерусское слово болесть. Развертывание значений в соответствии с общерусской тенденцией происходило в нем под внешним давлением смежных по семантике слов, поскольку только слово болесть могло пройти весь путь семантического развития, отмеченный выше. Все прочие слова выражали лишь один какой-то участок этой семантической дуги. Завершение этого развертывания максимально сблизило в семантике диалектное слово с литературным словом болезнь, и в результате возникла возможность для их дублирования, а затем и для окончательной замены слова болесть новым словом, ставшим общерусским. О конкретных этапах стилистического уподобления и семантического варьирования уже говорилось выше; фонетические и грамматические критерии совмещения также указаны.
3. Совесть
Литературное происхождение слова совесть удостоверяется несколькими фактами. Для народно-разговорного языка нехарактерно прояснение слабого редуцированного в такой морфеме, которая не имела параллельной формы с гласным полного образования; ср. совѣсть → свѣсть как съдѣлъка → сдѣлка. Прояснению ъ в данном случае способствовала ранняя оттяжка ударения на еровую приставку — акцентологическая особенность церковнославянского языка в русском его варианте. Действительно, в новгородских и псковских рукописях XVI в. отражается еще исконное ударение слова (совѣсть, ср. и серб. са́вест), а в московских рукописях того же времени представлено уже только церковнославянское ударение со́вѣсть в слове, утратившем всякие связи с производящей основой вѣд-.[405] Напомним, что именно в московских пределах складывалась та норма русского литературного языка, которая и включила в свой состав интересующее нас слово, тогда как на северо-западе оно сохранялось длительное время как варваризм; варваризм же всегда сохраняет и свое ударение[406]. Вторичность происхождения слова подтверждается также отсутствием строго разработанной системы производных: слово совесть не дает ни приставочных глаголов, ни суффиксальных имен, его словообразовательные потенции лимитированы наличием других, собственно русских слов с теми значениями, которые могли бы включаться в сеть производных от слова совесть. Важно также, что это слово отсутствует в архаических русских говорах и неизвестно в других восточнославянских языках, даже в их литературном варианте. Укр. сумління, белорус. сумления представляют собой полонизм (ср. пол. sumienia) и, следовательно, также пришли из другой лексической системы. Чеш. svêdomi, словацк. svedomie как соответствие русскому литературному совесть представляют собой отпричастное образование от вѣдѣти, т.е. является другим по отношению к съвѣсть образованием от того же глагольного корня, тогда как в польском это слово связано с глаголом мьнѣти ‘вспоминать, упоминать’. Лишь южнославянские литературные языки отражают лексему совесть, ср.: серб. са́вест, болг. съвест, макед. совест. По характеру сочетаемости с другими словами в различных славянских языках лексемы совесть — svědomi — сумлення абсолютно тождественны и, следовательно, являются точными эквивалентами в границах национальных литературных языков. Славянские языки, у которых нет развитой литературной традиции, этих слов не имеют, их нет, например, в севернорусском наречии или в кашубском языке. Все указанные образования одинаково восходят к греч. συνείδησις ‘conscientia’, калькой с которого, вслед за А. X. Востоковым, и считают эти слова. Разница лишь во времени, когда определенное понятие, внесенное в славянские литературные традиции, входило в соответствующие славянские языки. Наиболее ранним по образованию является слово съвѣсть. Древнейшие примеры находим в переводах и компиляциях Симеоновской эпохи; по-видимому, это слово и вошло лишь в восточноболгарский вариант старославянского языка в X в. Оно встречается в Словах пресвитера Козмы, в Изборниках Святослава, переписанных с восточноболгарских оригиналов, изобильно представлено в Супрасльской рукописи X в., а также возможно в других рукописях, переписанных на Руси с восточноболгарских списков: в Пандектах Антиоха XI в., в XIII Словах Григория Богослова XI в. и т.д. Особо нужно отметить, что в текстах Библии понятие «совесть» появляется только начиная с апостольских посланий, т.е. не ранее I в. н.э.[407]; в более ранних текстах этой книги ему соответствует «сердце» (ср. чистая совесть = чистое сердце и другие сочетания). Поэтому неудивительно, что славянская калька могла возникнуть не сразу, при первых переводах священных книг Кириллом, Мефодием и их учениками, а позже, в связи с интенсивными переводами учительной литературы. В древнейшем славянском переводе Апостола греч. συνειδησις передается не только калькой съвѣсть, но и славянским словом обычай — последнее, видимо, связано как раз с кирилло-мефодиевской традицией[408]. То, что слово явилось не ранее XI в., подтверждается многозначностью лексемы съвѣсть, а также возможностью ее замены другими словами. И. И. Срезневский в Материалах (3, 679 и сл.) показал четыре основных значения слова в древнерусских рукописях ХІ-ХІV вв.: ‘разумение, понимание’, ‘знание, согласие’, ‘указание, воля’, ‘совесть’; по текстам можно установить и другие значения, ср. в Успенском сборнике ХII-ХIII вв. частые употребления слова в значении ‘сообщение, внешняя информация’ («не можаше бо г҃лати нашею съвѣстию и бесѣдою» — 95 об.). Оно соответствует в каждом случае другому греческому слову. Из русских писателей только во второй половине XII в. это слово употреблял Кирилл Туровский, но лишь в специфически церковных текстах, как и в других русских поучениях конца ХII-ХIII вв., лишь в сочетании чистая совесть. В русских переводах оно также встречается лишь с конца XII в., по-прежнему варьируя со словом обычай, ср. в переводе Пандект Никона Черногорца (по списку ГПБ. Погод. 267, XIV в.): «и веля имъ повиноватися властемъ не бѣды ради, нъ обычаемъ» (322 об.), чему в болгарском варианте соответствует слово съвѣстью, «аще имаши любовь с братомъ и свѣсть свою разумѣеши...» (198), в болгарской редакции также будет съвѣсть и т.д. В оригинальных русских текстах, прежде всего в летописных, деловых или бытовых, это слово не встречается. Его нет даже в древнерусском переводе Пчелы, хотя здесь обсуждается множество нравственных проблем, среди которых могла бы найти себе место и «совесть». Древнерусские авторы, известные нам по именам, также не используют этого слова — ни Владимир Мономах, ни Даниил Заточник, ни один летописец. Два других славянских эквивалента греч. συνειδησις также появились довольно рано, хотя первоначально они и не были связаны со значением ‘совесть’; ср.: сумьнѣние ‘сомнение, колебание’, ‘трепет’, ‘благоговение’ (Срезневский, 3, 619), съвѣдомыи ‘известный, испытанный’ или ‘знаменитый, славный’ (там же, 675) — эти слова распространены во всех старославянских текстах независимо от их происхождения; известны они и восточнославянским говорам. Сумленье, сомнение сохранилось в русском языке, хотя и в узком значении, а свѣдоми встречается в средневековых русских текстах, в частности в Слове о полку Игореве. Вплоть до XVII в. соотношение между съвѣсть и съмьнѣнье было неопределенным, семантические границы между ними в каждом славянском языке определялись по-своему; например, для Памвы Берынды (1627 г.) слово совѣсть значит ‘сомнение, разум’, т.е. включает в себя значение слова сумьнѣние. Таким образом, из нескольких вариантов кальки с греч. συνείδηςις ‘сознание, совесть’, выражавших идею (само)сознания субъектом моральной ответственности за свое действие и поведение перед собой и обществом, воплощавших в общепринятом термине нравственные принципы и убеждения своего класса и своего времени, в русском литературном языке закрепился вариант съвѣсть. Это слово наиболее абстрактно семантически и наиболее гибко грамматически, в словообразовательном отношении оно также сближается с лексикой отвлеченного значения. Попав в литературный русский язык из церковнославянского, слово совесть в народно-разговорный язык проникает не сразу и до сих пор в границах диалектной системы носит черты «литературности». Его значение в говоре довольно трудно определить, поскольку из ранних записей, когда диалектная система была наиболее автономной по отношению к литературной, соответствующих примеров у нас нет; современные записи неопределенны, поскольку в диалектную речь широко проникает литературное словоупотребление, и каждый раз необходимо установить, действительно ли слово использовано в диалектном контексте или это всего лишь подражание литературному словоупотреблению (ее модели). Только обширные и полные картотеки могут оказать какую-то помощь в выявлении собственно диалектного значения этого литературного слова. В картотеке Псковского областного словаря, который составляется как словарь полного типа, слово совесть в литературном значении фактически не зафиксировано. Это может быть и недостатком записи, но, скорее всего, абстрактное значение слова оказывается недоступным носителю говора, поскольку само слово накладывается на диалектную систему со сходными эквивалентами, носящими конкретно-чувственный характер (стыд, см. ниже), и семантически другое содержание субстрата предопределяет восприятие заимствуемого слова. Оно последовательно изменяет свое основное значение и устойчиво сохраняет эти измененные, уже собственно диалектные значения. Субстратом этого литературного слова в псковских говорах стало слово стыд, ср.: «а ей-то стало стыдно, так она и уехала от совести» (Остров.); «народ обесстыживши, совесть потеряна» (Ляд.); «думала — помру от совести» (Остров.); «раньше совесть знали, позор был, если девка ушла» (Великолук.); ср. и производные: «за утятами все гонялась, всё в траве, совестники» (в значении ‘бессовестные’) (Новоржев.); «совестно-то петь нам, стояли сзади» (Бежаниц.); «девушка сказала: “Мне совестно подойти”» (Ашев.). Сюда же относятся и контексты, в которых авторы записи отмечали другие значения слова, ср.: «теперь девки берут нахалом: у какого парня совесть слабая — и попал» (Печор.), здесь диалектолог делает помету, определяя значение — ‘характер’. Производные, как показывают уже и примеры с наречием, сохраняют значение слова совесть ‘стыд’, ср. совестный и совестить: «мой хозяин был совестный, не любил пить» (Остров.); «Юра совестный такой, не хоче идти ко мне» (Красногор); «если человек стыдится, то он совестный» (Остров.); «мухи совестны: ни одна не кусила» (Себеж.); «совестный — боязливый, не пробитной, когда краснеет» (Бежан.); «чего у дверей стоишь, как совестный, проходи в избу» (Псков.); «в меня мужик совестный, все ему было стыдно» (Гдов.); «как много народу, она совестится» (Себеж.), и др. Таким образом, совестный — ‘стеснительный, застенчивый’; авторы Словаря д. Деулино добавляют к этому и значение ‘деликатный’, что уж совершенно определенно является «литературным». Большинство говоров, согласно картотеке Словаря русских народных говоров, также знает слово совестный в значении ‘стыдливый, застенчивый’, хотя в новейших записях появляется и неожиданное для диалектной речи значение ‘правдивый’; контекст показывает, что здесь может быть и исходное для говора значение слова («человек совестный не лжет») — сомнение в установленном значении вызывает и употребление других слов в сочетаниях, литературных по своему характеру (человек вместо мужик или паренъ, лжет вместо врет и т.д.). Эта цитата как раз и отражает попытку моделировать литературное словоупотребление, предпринятую носителем говора, что не замечено диалектологом. Подобные примеры не только искажают реальное диалектное словоупотребление, они еще и запутывают лексикографа в его работе. Столь же новыми являются и образования, свойственные литературному языку, но попадающие в диалектную речь; ср. даже в архаическом гдовском говоре: «Раньше совестливый народ был, а теперь бессовестный», где совестливый вместо совестный, бессовестный вместо несовестный переводят семантическое столкновение литературного ‘честный’ и диалектного ‘стыдливый’ на новый уровень взаимодействия, сближая литературный и диалектный варианты также и в словообразовательном отношении. Такое же пересечение литературного и диалектного значений находим и в глагольной форме: совестить ‘стыдить кого-либо’, но совеститься ‘стыдиться, стесняться (себя самого)’, например: «Он совестился, что у него горобок рос, утошел подальше» (Палк.), «Садитесь, девчонки, кушайте, может, его совеститесь?» (Порхов.). В конце XIX в. запись, сделанная в смоленских говорах, сохраняет еще черты специфически литературные и хорошо демонстрирует столкновение литературного и диалектного значений слова совесть: «Атчаво ета лисавыи завялись, водяный, полявыи, дамавыи? Ета ат дятей Адамовых, што йон пасовестился Богу показать за тым, што яго жонка целуюараву нарадила»[409]. Слово литературного ряда включается в говор не в узколитературном значении ‘удерживаться от какого-то поступка по внутреннему голосу совести’, а в разговорно-просторечном ‘стыдиться, стесняться’ (последнее значение указывает уже В. И. Даль). Роль просторечия, всякого рода популярной народной литературы в данном процессе внедрения литературной лексики в народную речь чрезвычайно велика, и это постоянно следует иметь в виду. Как обычно, устойчивые сочетания сохраняют первоначальное значение слова, свойственное говору. Так, в сочетании с глаголом слово совесть обычно заменяет слово стыд, ср.: «Ты, говорит, меня в совесть ввела такую, что живи одна» (Палк.); «Почему вы так пашете в одну сторону? Раньше нигде пустырька не оставляли. Ты и трактором пашешь, а мне в совесть смотреть» (Бежан.). Предложенные сочетания без глагола соответствуют значению ‘любовь’, ср.: «Она нашла мужа себе по совести» (Локн.); «Я не по совести замуж шла, тятюшка отдал» (Опоч.); «Я вам говорила: ищите другую квартиру, на доброй совести сказала» (Печор.); «Она по доброй совести 15 лет коло скота отходила» (Великолук.). «Есть многие не регистрируются, а просто живут по доброй совести» (Остров.). Сочетание по доброй совести ‘честно, откровенно’ — это дальнейшее развитие значения, связанного с указанием на приязнь, расположение со стороны субъекта действия. Перед нами своеобразное разложение семантики слова, объективация его значения (не сосредоточивается на субъекте, но выносится отчасти и на объект действия). В некоторых контекстах трудно определить значение слова, особенно если оно сопровождается литературным предлогом; ср.: «У одной женщины убили дочку; другая, у которой тоже, ради совести сходила в больницу с гостинцами» (Великолук.) — синкретизм значения в данном случае позволяет соотнести его и с ‘любовь’, и с ‘честь’, и т.д. Исходное значение субстратного слова ‘стыд’ здесь уже нейтрализуется, как бы отталкиваясь от последнего и указывая на положительный нравственный признак: ‘честь’, а не ‘бесчестие’, ‘приязнь’, а не ‘неприязнь’. Синкретизм значения указывает как раз на то, что такое значение возникает в самой диалектной системе, поскольку оно не соотносится четко с тем или иным литературным эквивалентом. Соответствующее значение развивается и в глагольных сочетаниях, теснее связанных с объектными отношениями; ср.: «Нюрка-то нам была не в совесть, ругали мы ее сами-то» (Порхов.); «Она была знакома с шофером, он не в совесть мне был» (Пушкиногор.); «Не в совесть долго идет дождь» (Дн.), ср. еще и в песне: «Лучше с мосту утопиться, чем не в совесть жену брать» (Великолук.). Резкой границы между глагольными и неглагольными сочетаниями нет, поскольку в роли глагола выступает грамматическая связка (которая может опускаться), ср.: «Видно, Ванька сказал: “Матка, я отъеду от дому, а ты прогони жену, она мне не на совести”» (Красногор.), а сама «глагольность» передается наличием отрицания не. Свое значение имеет и субъект действия: обычно человек, но если неодушевленное (дождь), то сразу же возникает возможность другой подстановки (‘слишком’). Такое же значение слова совесть известно и другим русским говорам, следовательно, оно не представляет собой узкого «псковизма»; ср.: «В совесть ли тебе наш Ваня? — спрашивают сваты у невесты... Взял жену себе по совести» (Миртов); в новом Словаре русских донских говоров представлена хорошо разработанная словарная статья с указанием устойчивых сочетаний в совесть, не в совесть, от совести, по совести, под совесть, напустить совесть и др. (Слов. Донск., 132) с общим значением ‘нравится’ или ‘(не) по душе’ и т. д.; совесть ‘любовь’ указывается Косогоровым в калужском говоре[410], ср. и прямое сопоставление двух слов в новой лирической песне:
Ай да я по прежней совести-любови,
Я с ней шуточки шутил.[411]
Здесь использован обычный для фольклора прием «перевода» иносистемного элемента сопоставлением с известным говору словом. Совесть как любовь в широком смысле, как светлое нравственное чувство — так восприняли это понятие в народной речи любого ее стилистического уровня. Не в совесть ‘не нравится’ (Мельниченко, 189). Те же говоры для слова совесть знают и значение ‘стыд’ («совесть — даже стыдно смотреть»[412]), но новейшие записи отражают уже литературное значение слова, ср.: со́вись ‘честность, совесть’[413], кривдой не жила, совесть на совесть жила ‘добросовестно, правдиво’[414], ср. и в картотеке Словаря русских говоров Карелии: «Только у таких людей совесть небольшая; не по совести сделала, я на ней и сейчас серчаю; как его совесть побила; у Нюшки совесть хорошая, хорошая девка» и т.д. В целом можно установить четкое соотношение между литературным совесть и диалектным, разговорным и просторечным (т.е. русским во всей его совокупности) стыд. В. И. Даль определенно указывает на такое соотношение, используя пословицы и поговорки, ср.: «В ком стыд, в том и совесть» (вариант: страх). Поскольку слово является литературным, в народно-разговорный язык оно проникает не сразу и до сих пор носит следы своего литературного происхождения. Прекрасное и исчерпывающее исследование по истории слова стыд позволяет ограничиться краткой исторической справкой: «...историю значение слов студ, стыд, срам можно реконструировать в виде такой схемы. От синкретического значения ‘холод’ как явления природы и физиологически определяемого болезненного состояния тела к более определенному, узкому ‘переживание, аффект, сопровождающийся ощущениями холода’ (ср.: стынет кровь в жилах). Далее обозначение аффекта ‘стыд’ и отсюда социально-оценочное значение ‘позор, поношение’, развившееся путем метонимии, от ‘стыд наготы’ переход к обозначению интимных действий и частей тела, а далее и порока. Последние значения еще и теперь представляются метафорическими, хотя они известны по памятникам с XI в., что можно объяснить их неизменной эвфемистичностью»[415]. Специально в лексеме стыд (студ) развитие значений шло следующим образом: от синкретического ‘ощущение холода, боли’ → ‘мучение от страха, стыда, позора’ → ‘чувство стыда’ → ‘поругание, позор’. По-видимому, не совсем точно считать слова студ и срам (стыд и сором) «древней синонимической парой»[416], поскольку в соответствии с реальными представлениями древних славян их модель нравственных понятий строилась по «отстраненно-бинарному» принципу. Каждое понятие как бы расслаивалось на два равноценных представления, обслуживаемых разными лексемами. Одна из них обозначала «самочувствие» субъекта переживания, а другая — «объективированное» отношение к этому переживанию со стороны других членов коллектива (общины). Подобных «ложных» синонимов может быть одновременно до сотни пар, ср.: горе как проявление чувства — бѣда как отношение к этому действию (аналогичное соотношение в парах типа честь—слава, радость— веселье, страх—гроза, скорбь—печаль и т.д.), но также и студ (стыд) как проявление индивидуальной совести и срам (сором) как отношение к этому чувству со стороны, как отстраненно-объективированное отношение коллектива, в котором соответствующие проявления совести имеют свою ценность. Впоследствии с обобщением человеческой точки зрения на всякого рода нравственные отношения, с развитием индивидуалистических тенденций нового времени такая семантическая модель претерпела преобразование, поскольку древнее (но все-таки более развитое по отношению к первобытному) противопоставление индивида самого по себе и индивида как проявления и воплощения общества стало нерелевантным. Когда это произошло и старый дуализм нравственных понятий был устранен, замещение «синонимической пары» стыд—срам одним словом, например словом совесть, стало вполне возможным также и в народно-разговорной речи. Помимо всего прочего, слово литературного языка наиболее отвлеченно передает значение философской категории и отражает (по крайней мере, этимологически) не физиологическое ощущение (стыд—стужа), а ощущение нравственное (самосознание). Таким образом, историю слова съвѣсть в русских говорах невозможно отделить от истории слова студ (стыд) — развитие и обобщение первого из них влечет за собой сужение в значениях второго. Все значения слова совесть, известные в говорах, совпадают со значением более обычного в них слова стыд (студ). Многочисленные примеры, представленные в картотеке Словаря русских народных говоров, иллюстрируют такое положение по русским говорам. Стыд ‘позор, осуждение’: «А девушка косу заплетает, ленточку вплетает, а две никогда — это как баба, стыд-страм»[417], также и производные стыдить, стыдливый, стыдный и т. д. Обращает на себя внимание словообразовательное осложнение слова стыд для сохранения исходного значения: употребляется не стыд, а производные стыдище, стыдовище, стыдобище, стыдоба, стыдобушка, стыдота и др. Само производящее в таком (исходном) значении сохраняется в сочетании со страм, с которым в древнерусском оно входило в попарное распределение. Своеобразное отталкивание от литературного значения слова стыд проявляется и в других возможностях словообразования; ср. изменение грамматической характеристики в форме стыдъ, отмеченной еще в Опыте 1852 и характерной больше для северных говоров (в южнорусских говорах форма стыдъ сохраняет исконное значение ‘стужа, холод’). Примеры такого рода особенно интересны, поскольку как раз в литературном языке слово стыд не имеет значения ‘позор, осуждение’ (если, конечно, не принимать во внимание разговорных его форм или употребления сочетания типа стыд-срам). Последовательная семантическая контаминация слов стыд и страм произошла только в диалектных системах. В самом деле, и сама форма слова страм показывает вторичность его в диалекте (при возможной исконной форме сором). При этом само слово сохраняет исконное значение ‘позор, осуждение’, отчасти расширяясь за счет значения ‘неприличность’ (сором ‘penis’ во всех южнорусских говорах, соромский ‘неприличный’, например, в отношении к ругательству), но в целом не теряя свое исходное семантическое содержание. В какой бы фонетической форме слово ни было представлено (страм в южно- и среднерусских говорах, сором преимущественно в северорусских и сибирских говорах) само по себе, вне сочетания со словом стыд (студ), оно в своих значениях не пересекается со словом совесть и потому не подвергается влиянию со стороны последнего. Это означает, что в процессе проникновения в диалектную систему слово совесть в дублетные отношения вступает только с тем элементом прежнего бинарного противопоставления, который выражал «внутреннее самоосознание» нравственного недостатка, а не осуждение его со стороны — и как таковой мог выступать в многочисленных вариантах этого общего значения. Таким элементом прежней диалектной системы было слово стыд, всегда выражающее внутреннее переживание нравственного недостатка. Можно установить четкую грань в дробной филиации значений обоих слов: в неодобрительном значении неприличности сором — страм передает внешние атрибуты и свойства осуждения (это penis, ругательство, проступок), а стыд (студ) всегда связан с внутренним, нравственным, внешне не выражаемым самопереживанием субъекта. Тем самым семантическая основа прежнего противопоставления сохраняется, отчасти, правда, нейтрализуясь в производных. Например, прежнее противопоставление возвратного глагола стыдѣтися к соромити, соромотити, срамляти[418] уже и в диалектной речи дает теперь форму стыдить ‘сделать выговор, укорять’, хотя записана она только в произведениях фольклора; ср.:
К нему девка подходила,
начала его стыдить...[419]
В литературном языке изменения грамматической системы перекрыли данное, чисто лексическое соотношение между двумя словами, и в нем стало возможным употребление обеих форм в некотором отношении стилистически неравноценных глаголов: стыдить и стыдиться, срамить и срамиться. Первоначально, как ясно из древнерусских источников, стыд мог быть направлен только на самого субъекта. Стыд ‘скромность, стеснительность’ — такое значение представлено только в производных (в прилагательном и наречии), ср.: стыдка девчонка ‘скромная, стыдливая’ уже в Опыте 1852, затем регистрируется как необычное для литературного языка во многих диалектных словарях[420], как и наречие стыдно[421]. Стыд ‘боязливость, страх’, ср.: глаза стыдятся — боятся света[422]. Стыд с оценочным значением качества, что также передается формой прилагательного: «„У той девушки лицо-то стыднее будет”. — Это что значит? — переспросил я. — „Ну, по-вашему сказать, морда-то похуже будет”»[423]. Стыд ‘холод, мороз, стужа’ в говорах распространено до сих пор, иллюстрируется многими примерами всех картотек и словарей, отражающих лексему; существует наряду с вариантами студ, студь, стыдь. Сопоставляя разные значения слов стыд и совесть в говорах, можно установить некоторую зависимость между их употреблением в речи и исходным семантическим содержанием этих лексем:
совесть 1. ‘самооценка’ (внутреннее нравственное переживание) 2. ‘боязливость, страх’ 3. ‘застенчивость, скромность’ 4. ‘позор, осуждение’ 5. ‘светлое чувство, приязнь (любовь, честь)’
стыд 1. ‘холод, стужа’ (внутреннее физическое переживание) 2. ‘боязливость, страх’ 3. ‘застенчивость, скромность’ 4. ‘позор, осуждение’ 5. ‘неприличие, неприязнь, бесчестие’
Выше показано, что 4-е значение очень неопределенно у слова совесть, а у слова стыд оно возникает в результате пересечения семантики со словом сором (срам). Это самый новый уровень в семантике этих слов, он связан с четким противопоставлением по оценочному признаку в 5-м значении: ‘любовь, честь’ в совесть развивается в результате отталкивания от значения ‘бесчестье, неприязнь’ в стыд и является следствием вхождения слова совесть в диалектную систему. Значения 4 и 5 вообще характерны лишь для разговорной речи и встречаются в говорах, в системы которых новая лексема совесть включается, начиная процесс развития от дублета к синониму или антониму. Общее основание для сближения слов содержится в исходных их значениях 1. Строго говоря, значения 2 и 3 — это всего лишь синтагматическое проявление значения 1 (дано как качество в прилагательном или глаголе), но это также способствует дальнейшему сближению диалектного стыд и литературного совесть. Одновременно происходит усложнение семантической системы говора, поскольку чисто физическое «переживание» как проявление нравственной категории уточняется собственно нравственным «переживанием». Возникает сближение слов на синонимических основаниях. Поскольку сохраняется прежнее соотношение стыд—страм (и парадигматически в системе, и синтагматически в разных устойчивых сочетаниях), разрушение их противопоставления друг другу включает в продолжающийся процесс и значение 4, но происходит это, как сказано, уже (и только) в границах отдельной диалектной системы. Синтагматические проявления этого нового значения у обоих слов (стыд и совесть) прямо противоположны друг другу и развиваются на антонимических основаниях. Таким образом, включение в семантическую сеть дублирующих друг другу совесть и стыд значения третьего слова (страм) порождает новое значение слов стыд и совесть, которые синтаксически проявляют себя иным образом, чем исходные значения дублетов. Общее развитие, говоря фигурально, идет от сочетаемости стыд и срам к сочетаемости ни стыда ни совести — и именно в негативном восприятии этих качеств. Из столкновения центробежных (антонимических) и центростремительных (синонимических) устремлений двух дублетов постепенно, в каждом говоре по-своему, может определиться свой путь включения «варваризма» совесть в семантическую систему говора. По тем примерам, которые приведены выше, можно судить лишь о последовательной субституции (замещении) лексемы стыд лексемой совесть в синтагматически сходных контекстах; на разрушение исходной диалектной системы указывает факт, что одновременно и употребление слова стыд становится столь же неопределенным в тех же контекстах, где возможна уже субституция словом совесть. Так, в псковских говорах, о которых выше говорилось особенно подробно, диалектологи, записывая речь, считают возможным комментировать употребление слова стыд как совесть; ср.: «Ей нет стыда, никого в ней нет» (Новоржев.); «Никому стыда нетути мамке избу покрыть» (Печор.); «Бога нет — и стыд долой» (Опочк.); «Отбей бог стыд — и будешь сыт» (Великолук.); «Бери, я заплачу, ты в стыду не будешь» (‘у тебя на совести не останется’) (Великолук.). Авторитетность литературного эквивалента, тем не менее, не дискредитирует семантической цельности диалектного слова, поэтому при работе с диалектными словарями все время приходится помнить, что стыд в литературном языке и стыд в диалектной системе — не одно и то же слово. Важно отметить, что и на лексическом уровне столкновение диалектного и литературного языка не дает механического внедрения новой лексемы в диалектную систему; происходит постепенное включение в нее новой лексемы с обязательным переходным этапом, когда наряду с основными признаками (в лексической системе — наряду с основными значениями слова) возникают в результате субституции вторичные диалектные признаки слова[424].
4. Образ
Этимологически *ob-raz-ъ — это ‘вырез’ (чередование rěz/raz), т.е. нечто искусственно выделенное, может быть — посредством удара или ударов (по-раз-ить, раз-раз-иться), безразлично — вы- раз-ительное или без-об-раз-ное, но всегда заменяющее по внешнему облику образец, подлинник, натуру. Слово, скорее всего, является общеславянским, но в разных славянских языках оно получило различные значения; например, у южных славян — лицо или щека (также и в северно-русских говорах, о чем речь пойдет ниже) или другие выразительные части лица, в западнославянских языках — изображение, т.е. искусственное изображение лица (Фасмер, 3, 106). Сложность изучения истории этого слова по русским говорам заключается в том, что со временем, но не раньше XVII в., исконное восточнославянское его значение соединилось с литературным, книжным, пришедшим из церковнославянского языка, и теперь очень трудно их разграничить. Начать можно с установления тех образований (а следовательно, и значений слова), которые, несомненно, не являются диалектными (русскими), и с тех формальных признаков различения слов, которые определяют отношение к книжной лексике. Несомненно, например, что образ ‘икона’ и производные (образник — место, где стоят иконы; образница — киот и т.д.), а тем более образ ‘вид чего-либо’ — значения, для русского языка вторичные, как образец ‘тип, разновидность чего-либо’. Первое пришло из церковнославянского, второе — из современного литературного языка. Такой вывод подтверждается и фактами вторичной номинации с помощью той же производящей основы. Так, во всех северных русских говорах (сюда относятся также псковские и новгородские) распространено слово образно́й или о́бразный (утиральник) и производное от него уже указанное о́бразни́к в значении ‘расшитое полотенце на образах’. Связь реалии с иконой, употребление определения образно́й при наличии лично́й (утиральник для лица) и почти полное отсутствие собственно русского (исконного) ударения на корне (обра́зник записано только в Медвежьегорском районе Карельской АССР)[425] — все это подтверждает вторичность слова в народной речи. В Усть-Цильме Л. А. Ивашко (личное сообщение) записала: «Павлик на ево шибко-то находит, папа у нас очень о́бразный» — в значении ‘красивый, представительный’, т.е. опять-таки связанный с неким эталоном красоты, явленной «как на картинке». И здесь ударение слова указывает на вторичность происхождения слова, тем более что других записей в таком значении больше нет. Общее представление о выразительно-красивом всегда присутствует при употреблении слова, контекстные его значения могут, следовательно, варьировать то, что лексикографы именуют «значением слова». Образец в значении ‘вид, разновидность, тип’ записывается только с середины XX в. (примеров множество по разным говорам: очевидно, это результат вторжения просторечия в говор), тогда как прежде то же значение слова использовало иные словообразовательные модели, как бы «примериваясь» к новому для говора значению: в псковских говорах в большом употреблении слово обра́зчик, в говорах Карелии обра́занок или обра́зец с русским акцентом; иногда разница между «резать» и «образец» как бы нейтрализуется в контексте, ср.: «Покажи, мама, им кусочек маленький, обра́занок полотенца холщова» (Кондопога, Карел.) — это не только «образец холста», но и «обрезок холста»; «Образец дан, как шить» (Медвежьегор., Карел.) также с исконным ударением, соединявшим представление о виде и вырезании (не случайно сохранение этих слов с исконным акцентом в портновской терминологии). Древность (первоначальность) акцента на корне доказывает и сопоставление с другими восточнославянскими языками. В украинском, например, о́браз — изображение, картина, образ (икона), образ (подобие), лицо, тогда как обра́за — оскорбление (первоначально может быть ударом; возможно значение ‘личное оскорбление’), ср. и производные для восточнославянской формы: обра́зливый и образли́вый — оскорбительный, обидчивый, обра́зливо — оскорбительно, обра́зли́вість — оскорбительность и др.[426] Такие же отношения и в белорусском языке. В. И. Даль также различал еще о́браз и обра́з: «О́браз — вид, внешность, фигура, очертание (в чертах или плоскостях); подобие предмета, изображение его», и «Обра́з, образе́ц — вещь подлинная, истотная, или снимок с нее, точное подражание ей, вещь примерная, служащая мерилом для оценки ей подобных», другими словами — модель (Даль, 2, 613-614). Семантически все значения слова образ, представленные и Далем (род, вид, направление, сущность; способ, средство; образец, пример; порядок, устройство; портрет, подобие, икона), вторичны для русского языка; они возникли путем наложения на восточнославянское слово калькированной семантики слова из книжного славянского языка[427]. Характерны они и для современного русского литературного языка, в котором, правда, некоторые значения уже перенесены на производные (образец, образа) (БАС, 8, 355-358). Обра́з по акцентному типу является формой исконной, сохраняющей древнее восточнославянское ударение[428]. Дифференциация акцентом — первый формальный признак, которым можно воспользоваться в разграничении искусственно «книжного» и «природного» значения слова. Вторым формальным признаком разграничения является грамматическая форма слова. Например, с прошлого века в говорах в сходных значениях записываются две формы глагола — образить и образовать; вторая из них, несомненно, вторична, поскольку в русском языке глаголы на -овать окончательно сформировались только к XVIII в. В отношении к этим глаголам действуют сразу два формальных критерия разграничения, ср. у Даля обра́зить и образова́ть, более ранняя форма сохраняет и старое ударение. С тем же исконным ударением обра́зить находим и в старых записях диалектной речи, ср. в сводке 1858 г.: «Обра́зить — 1) нарядить в парадное платье (невесту обра́зили под венец); 2) оправить, привести в благовидное состояние. Дом обра́зили»[429]. Другие записи из числа старых все связаны с южнорусскими говорами (курские, орловские, воронежские, калужские, рязанские, пензенские, тамбовские и др. с 1852 по 1966 г., см. картотеку Словаря русских народных говоров, где такие примеры представлены в изобилии). Из примеров выявляется, что первое значение ‘нарядить в парадное платье’ оказывается случайно выделенным; речь идет об обряде зарученья, т.е. о «приведении в порядок свадебных дел», об окончательном сговоре; наряд и угощение в данном обряде — подробность второстепенная. Многие записи фиксируют внимание именно на этом, ср.: образить — привести в порядок: можно образить хату, детей, саму себя — «переоделась, перестала ходить в разорванной и грязной одежде, купив новую на заработанные деньги»[430]. Только в XX в. возникает колебание в ударении слова: обра́зить и образи́ть[431] — налицо вторичное воздействие со стороны литературного слова. Изменение ударения и развитие новых значений слова связаны, очевидно, с появлением переносных значений слова. Недавние записи демонстрируют это. «Образить — привести в порядок; часто в ироническом смысле — обокрасть» (Орл.)[432]; «съесть украдкою; лущить подсолнухи; убирать за обе щеки» (Моск.)[433]; образовать — и образумить, и обмануть, и проучить[434]. Отсюда и новое просторечное сообразить, т.е. привести в порядок (путем обмана, уловки, хитрости); в толковых словарях нашего времени это значение показано уже как шутливое, видимо — вошедшее в речь через посредство просторечия[435]. Образовать употребляется в единственном значении — благословить молодую чету на брак — образами (Опыт 1852 г., 134). Образоваться — помолвить, женить, дать клятву на брак и т.д.[436] Новое значение слова, связанное уже несомненно со словом образ(а́), пришло из литературного языка и является вторичным. Еще более новым значением слова является распространенное во всех русских говорах: ‘возникнуть, проявиться, оказаться, появиться, наступить’ и др. Оно записывается с 50-х годов XX в., а в некоторых словарных картотеках оказывается очень распространенным. Вот несколько примеров из картотеки Карельского словаря: «Три корзинки гумённые образовались кверху дном» (= оказались), «У нас волк как образовался здесь в деревне, так всех поел овец», «Она бежала и образовалась под машиной», «Я нашел папироску: она у меня в кармане образовалась», «Перед ним вдруг старичок образовался», «Лошадь образовалась перед окнами», «Я ладюсь за одного (замуж), а образуется за другого» (= окажется), «Рысь образовалась мертвой», «Кавалер со мной не пошол, а этот образовался рядом» и мн. др. — все в указанном значении, общий смысл которого несомненно связан с формой проявления, «материализации» какого-то лица или качества. Такие же примеры можно найти и в картотеке Псковского словаря, и всякого иного современного диалектного словаря, и во всех них значение слова будет отражать современную просторечную норму. Вторичность самого глагола образовать(ся) подтверждается и производным образованье; слово встречается во всех русских говорах, в том числе и в северных, ср.: «Другой раз приходят родные жениховы — называется образованье: образоваться у нас — сводят снову навесту к жениху»[437]. Ср. с этим новейшую запись в Сибири: «Образованье — выкройка; вот вам надо, чтоб костюм лег хорошо на вас, по стану вашему, какой вы есть»[438]. На первый взгляд кажется, что коренным образом изменилось значение слова, но это неверно; изменилось его назначение — оно не используется уже в устаревшем свадебном обряде, но значение его сохраняется неизменным: соотнесенность формы с моделью, устройство в определенным порядке, возникновение нового (качества) на основе прежних стандартов, — как ни скажи, все будет не очень точным, потому что на многих употреблениях слова трудно уловить семантическую доминанту собственно русского слова. Характерно, что и в прошлом никакой связи с образами-иконами в момент «образования» — рукобитья крестьяне не видели, хотя в ритуале она присутствовала (благословение молодых образами); ср. два авторитетных указания такого рода: «В канун кануна свадебного жених приезжал к невесте с некоторыми из своих родственников, привозил гостинцы и подарки (в том числе обязательно мыло, которым невеста должна была на следующий день мыться в бане). После принятия подарков все вместе садились за стол. По словам человека, со слов которого я записал эти подробности, “образование” не имело отношения к образам (иконам), что, впрочем, весьма странно»[439]. Вполне вероятно, что и в данном случае информаторы, давая оценку слову, смешивали значения слов образить — устраивать и образоваться) — благословлять(ся) в результате наложения двух культур — языческой и христианской. Зато другое, распространенное в говорах, слово несомненно связано с исконным обра́зить — обра́зина, затем и образи́на — урод, харя, уродливое лицо (Даль, 2, 614). Любопытным образом изменилось и отношение собирателей к эмоциональным оттенкам слова: в середине прошлого века, записывая севернорусский говор, собиратель указывал, что образина — просто ‘лицо’[440], но в других случаях уточняли: «неприглядное лицо», «урод, обезображенное лицо»[441], «дурное и смешное лицо»[442], иногда просто «образ человека», т.е. жалкое его подобие[443], «некрасивое лицо, дурная рожа»[444], «словно бранное»[445], в других комментариях и притом часто: «нехорошее», «ругательное», «неприличное», хотя несомненно исконным значением этого производного являлось отмеченное в курских говорах «большое безобразное лицо»[446]; именно такое значение впервые отмечено в диалектных записях: «Образина — большая, нехорошая рожа, лицо, как говорят: — Эка образина!»[447]. То же значение, с обязательным указанием на величину (большое, значительное) см. и в других описаниях по южнорусским говорам[448]. Во всех случаях возникает и помета: «бранное слово», «с презрительным оттенком», «унизительное от образ», «харя, морда» и т.д. Иногда в современных говорах слово образина употребляется именно (и прямо) в значении «ненатуральное» выражение или состояние лица, ср: «А красивый, образина красивая, она за нево и вышла» (Новоржев., Пск.); «Образина-то у тебя какая грязная, помыть надо» (Пудож., Карел.) и т.д.; при этом образина не только и не столько лицо, так что и само слово отчасти колеблется в словообразовательном отношении, ср. в записях по Островскому району Псковской области: «Неплохой он был на образ, высокий», «Не видывать яво образца тяперь» (т.е. лица или внешности) и т.д. В целом можно сказать, что образина — выразительное, чем-то выделяющееся, как правило — крупное лицо, маска, ненатуральное обличье, нечто искусственное, непривычное, так или иначе связанное с понятием «красивый» или «некрасивый» (подобный переход от выразительного к красивому — некрасивому обычен в диалектной речи), в связи с изменением исходного значения слова от нейтрального ‘большая накладная личина’ к бранному ‘отталкивающее лицо’, совмещению семантики слов личи́на, образи́на, видимо, способствовало и изменение ударения (от обра́зина к образи́на). Соотношение производных форм прилагательного также показательно в выяснении последовательности изменения семантики исходного слова. «Обра́зный црк., стар. иноречивый, иносказательный, окольно выраженный...» (Даль, 2, 614); образованный — вторично и значило не всегда одно и то же, ср. «сделанный, сложенный или составленный» (Даль, 2, 613; тут же и значение ‘изображенный’), но также и ‘развратный’[449], что может быть связано с исконным значением производящей основы. Общая историческая последовательность морфологических, акцентных, стилистических и семантических переходов свидетельствует, с одной стороны, об органичности глагольной основы образи- в русском языке, с другой же — о постепенном изменении смысла слова, возникающем под давлением книжной культуры. Внутренняя реконструкция по данным современных русских говоров в их развитии на протяжении полутора веков показывает, что «исходной» народной была глагольная основа образи-ти, и, следовательно, общая «идея» слова-понятия воспринималась через глагол, выражавший действие, т.е. деятельность по украшению, обработке, отделке, достижению законченной выразительной формы или вида кого-нибудь или чего-нибудь. Движение мысли в отношении к образу совпадало с мыслью о лице как объекте двузначном: и подлинное лицо, и лукавая личина-обличье, т.е. и образ, и образина. Наличие вариантов типа образ, обра́за, т.е. именно отглагольных форм, до XIX в. дополнительно свидетельствует в пользу того, что именно глагольная основа преобладала в древнерусском языке, а в связи с этим — что формирование понятия об «искусственном» лице по крайней мере до XIX в. было не закончено в народном говоре. Такое понятие возникло под давлением книжного слова образ, что и определило высокий ранг самого слова образ в современном литературном языке. Литературное о́браз — отвлеченное именование того же, что и народное, конкретное по своему значению образина, но с противоположной эмоциональной оценкой, с принципиально другим отношением к искусственному, надуманному, воображаемому. Чтобы такую противоположность представить себе нагляднее, сопоставим слово образ со словами лицо, вид, подобие, участвовавшими в формировании новой семантики слова образ(ина). В русских говорах лицо — щека, морда животного, одна из сторон предмета, передняя часть прялки, основной цвет материи (фон), но самое главное, что определяет и переносные значения диалектного слова, — это указание на выразительную поверхность, т.е. и «общий уровень ч.-л. по одной плоскости», и «поверхность наковальни», и «черная поверхность пива под пеной», и т.д. (СРНГ, 17, 86). Лица нет — что-то запачкано, скрыто под чужеродным слоем, затрудняющим восприятие. Образ, создающий представление о «лице», тот же, что и в случае с образиной, которая также представляет собою закрытое грязью лицо. На севере лицо (лиценье и т.д.) — щека или скула, т.е. выдающаяся часть лицевой поверхности, ср. в Карел. (записи по Медвежьегорскому району): «Щеки дак лицо, а щека дак лицина», «Лицами вот по обе стороны от носа называется, два лица у целовека», «Одна половинка — та лицо, а две половинки — так лицины, а все лицо — это мордашка», «Зимой морозы страшенные, у меня лица были заморожены» и др. Возможны и переносные значения, связанные с указанием на (принятый) внешний вид, ср. там же: «А заболеть недолго: не под личо оденешься, дак и простудишься», «Такая женщина противная — потеряла всякое лицо» и др. Характерно (хотя и неустойчиво по разным местностям) разграничение значений по акценту: ли́цо дома — фасад избы, выходящий окнами на улицу; лицо́ — в указанном уже значении ‘щека’. Личина — бессовестное лицо, но также и внутренний замо́к у сундука или двери, верхняя часть прялки и др. (там же). На севере личиной в отличие от лица называют выдающуюся часть щеки — скулу, верхнюю челюсть (примеры из Медвежьегорского района): «Две личины, а над личиной — это ягодица», «Какая же тут щека! Вот где щека, а тут личина называется!», «Личину, или ягодицу, засадила занозой — одно равно сказать!» Личина — что-то накладное, видоизменяющее внешний вид поверхности, ср. в Карел.: «Покойника нарежали, личину сделают: страшно́й он» (Каргополь). Новое для говоров слово личность также воспринимается в значении ‘внешность’, ср. по картотеке Псковского словаря: «Личность у нее все как у мужчины» (Новоржев.); часты сочетания «Красивый на личность», «А просто в личность крепкая старушка», «Не портился цвет личности» и др. В конечном счете происходило (достаточно давно) перенесение признака ‘вид’ на слово лицо, первоначально им не обладавшего. Подобное соотношение вполне возможно, поскольку и до сих пор в русских говорах севера вид — прежде всего ‘зрение’, и только производные (например, виденье) обозначают ‘вид’ или ‘лицо’, но прежде всего ‘глаза’, так же как видило — ‘зрачок’, а видимость — ‘наружность чего-либо’ (там же, 4, 273). По данным Карел. картотеки вид — либо ‘зрение’, либо ‘способ обозрения’, ср.: «Нету, желанные, виду-то в глазах, не видно ничего» (Вытегра), «Оба века потеряла, года три цетыре жила без виду» (Каргополь); но также и ‘внешний вид’: «Виду, красы в ей много» (Кирилл.), «Я по видам вижу» (по приметам — Тихвин); «Говоришь в таком виде, что ничего не знаешь» (Кириши); «По всем видам видно»; «На этот вид» (в обоих случаях «таким образом» — Онеж.). Но ср. высказывание, записанное в Подпорожском районе, хотя и характерное для северной речи других мест: «Богородица явилась в живом виде», т.е. в образе живого человека. Обратим внимание на контексты, в которых происходит совмещение значений слов вид, образ, лицо (личность): это «культурные тексты», не связанные с «простым разговором» деревенского жителя. Естественно, что, как только разговор выходит за рамки бытового общения, сразу же возникает и необходимость в употреблении «культурных слов», хотя значение их воспринимается сквозь призму наличных диалектных слов. Отсюда многочисленные смешения в семантике, которые собиратель воспринимает как наложение со стороны литературной лексики или как новую, характерную для говора, многозначность общерусского слова. Детальные подробности состоявшихся совмещений как лексического, так и семантического плана можно наблюдать только непосредственно в поле, только в границах данного говора — более крупные сопоставления окажутся сдвинутыми и не оправдают лингвистического анализа. Поэтому и в данном случае выводы могут быть только предположительными, основанными на общей совокупности всех имеющихся в нашем распоряжении данных. Последовательность появления прилагательных косвенно указывает на постепенное изменение семантики слова лицо: личной и лицевой соотносятся по признаку «относящийся к лицу» (личной, личное полотенце) и «лицо (переднюю часть предмета) составляющее» (лицевой, лицевые мускулы). Таково и обычное соотношение прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ов и -н. Исконная акцентовка производных от подвижноударной основы была наконечной, поэтому ударение лично́й и лицево́й — самые древние. Личны́й вторично по ударению, личнево́й — по суффиксу; ли́чный — «к особе, человеку относящийся», личнево́й — «о ткани или иной гладкой поверхности» (Даль, 2, 258). Отвлеченность признака, передаваемого этим прилагательным, вторична уже в отношении к конкретному лично́й, лицево́й. По свидетельству Даля (там же), лицева́́ть — «придавать вещи красивый наружный вид, чистить, гладить, ровнять с лица», т.е., другими словами, также обра́зить, но не в отношении фактуры и объема, а лишь в отношении наружной поверхности. Развитие понятия о лице проходило последовательные этапы «снятия» признака с «лица» и отстранения его от данного, конкретного, вполне определенного лица; стало возможным совмещение ‘лица’ как поверхности с ‘видом’ как способностью эту поверхность увидеть, с ‘образом’, который также воспринимался в его условной (предполагаемой, не конкретно-чувственной) конфигурации, и тогда-то возникла дополнительная необходимость разграничить положительные или отрицательные степени того, что «увидено». Так и между словами образ и лицо постоянно существовало различие, на которое некоторыми контекстами указывает тот же Даль, ср.: «Где лицо? где наличное или поличное, что найдено» (Даль, 2, 258). Реально существующее, действительное, подлинное все-таки связано со значением лица; лицо всегда конкретно, его «ищут», т.е. определяют степень достоверности в отношении к подлиннику. Образ же — только подобие лица, подражание ему, вот почему после XIV в. одно из значений слова лицо ‘маска’ фиксируется в производном личина, ср. в цитате из памятника XIV в.: «Лице добро без ума подобно есть скомрашину, якоже бо и скомрахъ, аще и злообразенъ будеть, но личины красны имать, тако и сь» (Сл. ХІ-ХVII вв., 8, 257). Скоморошье лицо ложно и лживо, поскольку, даже и безобразное, оно скрывается за красивой маской и кажется красивым. «Личина — накладная рожа, харя, маска» (Даль, 2, 259). Она украшает так же, как и образ, но личина, в отличие от образа, существует материально; это не превращение в другое качество, но только подделка под это другое качество. Отношение к личине также иное, чем к образу: недоверчивое, с подозрением в ее истинности и искренности, тогда как образ — подлинное, не скрывающее за собою ничего ложного. Прошедшие через тексты разного стилистического достоинства, оба слова стали выражением одного и того же понятия в различиях по их качеству: образ — высокое и благое, тогда как личина — низкое и дурное. Таково различие между полным перевоплощением и кажущимся подражанием. Каким образом — каким способом; какой личиной — каким выражением, не больше того. В древнерусском тексте важно и указание на подобие. Подобно лицо, а не образ. «Подобие — сходство, согласие, одновидность, схожесть... церк. стар. — удобный, своевременный, кстати; должный, приличный, пристойный: достойный... подоба — церк. естественная потребность, побужденье...подобень — Южн., Ворон. поличие, портрет, образ // снимок с чего-л.» (Даль, 3, 191). Различие между русским и церковнославянским, между образом и подобием вполне очевидно: в славянском подобное, в соответствии с этимологическим значением производящей основы, — удобное и необходимое, тогда как в русском языке (и по говорам тем более) подобное —сходное, а следовательно, и имеющее степени ценности. Для русского языка подобие — почти то же, что и образ, т.е. обязательно сходство с оригиналом, отрицательные признаки проявления нежелательны. Разницу между образом и подобием полнее покажет исторический экскурс. Как можно судить по старославянским переводам с греческого, слово образъ вступало в эквивалентные связи по крайней мере с десятком греческих слов, причем некоторые из них одновременно дублировались другими славянскими словами, ср.: εικών и τρόπος передавались также словом видъ (которое, как и видѣние, чаще всего соотносилось со словом είδος или ιδέα, εικών, словом тѣло, ῾ομοίωσις — со словом подобие, τύπος — со словом знамение или обличье). По уточнениям, распространениям в текстах, по глоссам можно понять, что образъ — явѣ же есть: то, что проявляет смысл, изображает невидимое, воплошает в себе духовное и т.д., т.е. является внешним знаком выражения сущности, иначе не постигаемой[450]. Когда древнеславянский переводчик использовал слово образъ в значении ‘написание’ (Сказание о преложении книг в Повести временных лет) или выразился таким образом, что «писмены въобразовано въ камени» (в переводе Апостола), он материально выразил идею передачи «невещественной информации» посредством материального знака — буквы или надписи на камне. Здесь несомненна еще связь слова с этимологическим его значением: вырезать, выбивать ударом. Однако первоначально ни образъ, ни подобие никак не соотносились с философскими понятиями типа ипостась (термин собьство) или физис (термин естьство). Само сочетание по образу и подобию, очень распространенное в древнерусской письменности, является переводом греч. το είδος καί ῾η μορφη ‘по виду и по форме’, т.е. по красоте и порядку, и восходит к Аристотелю. В совместном употреблении этих слов указывается то, что видно, противопоставляясь общему принципу формы. Первоначально вид и форма не различались, во всяком случае у восточных славян, и образъ понимался как тѣло (Ковтун, 276, 302, 436 и др.), иногда как круг, как объем. У Кирилла Туровского в XII в. «аще бо и нарицаеться ч(е)л(о)в(е)комъ (Иисус), то не образомъ, но притчею, ни единого бо подобия имѣеть ч(е)л(о)в(е)къ б(ож)ия», т.е. лишь иносказательно Иисус похож на человека, но не видом, потому что никак на человека не похож, а неким сходством[451]. У Кирилла образъ — всегда либо ‘вид’, либо ‘символ’, поэтому и сочетания слова у него всегда однообразны: явился — образом человеческим, животным, рабьим, иноческим, мнишеским и т.д.; образ — Крещения, Ветхого закона, пасхи, тернового венца и т.д. Внешнее изображение становится символом чего-то иного, иначе не постигаемого; образъ — модель познания, образец, эталон средневековой гносеологии. Такова исходная точка семантического развития нового для восточных славян слова — образъ. «(Бог создал) образи разноличнии въ члвчьскыхъ лицихъ. Аще и весь миръ съвокупить, не все въ единъ образъ, но кыи же своимъ лицъ образомъ» (Лавр. лет., 1377 г., л. 796). Здесь несомненно говорится о виде, облике лиц, т.е. о конкретном их проявлении, воплощении, предъявлении. Все древнерусские переводы непременно согласуют употребление слова образъ со словом лице — в отличие от церковных текстов, для которых важно философское осмысление «образа и подобия»; ср. в переводе Повести об Акире «мужъ образомъ сличенъ мнѣ» или в переводе Девгениевого деяния обращение богатыря к девушке: «въборзѣ приклони лице свое ко оконцу и покажи образа своего велегласного» — красивое выражение лица. Вообще при изучении истории отдельного слова важно установить правила сочетаемости этого слова с другими, может быть и однозначными: именно через литературные «штампы» и получала разговорная речь новые значения известных слов (в них же, в подобных штампах, дольше всего и сохранялось исходное значение слова). В самых ранних, переводных древнерусских текстах и основанных на них церковных обычным является выражение образъ житья, тогда как собственно древнерусские переводы чаще используют сочетание образъ лица: написать, изобразить, выразить — образъ лица его. «Измѣнися образъ лица его» — такое же указание на выражение лица; сочетание попало и в летопись, ср.: «Аньдрѣи же то слышавъ от Михна, и бысть образъ лица его попуснѣлъ» (Ипат., 1174 г., л. 203 об.). Подобие в древнерусских переводах понимается как притча — иносказание, символ. В древнерусском переводе Пандект Никона Черногорца в сравнении с переводом (или редакцией) того же текста, сделанного в Болгарии, мы неоднократно найдем соответствие русскому притча — болгарское образъ или подобие. В древнерусском переводе Космографии Козьмы Индикоплова книжному выражению образ и подобие соответствует притчя и образъ, ср.: «Суть убо явлени образи подобия коего вещии» — внешнее сходство неких вещей, понимаемое как проявление такого сходства[452]. В этом переводном тексте древнерусские книжники совершенно отчетливо показали свое понимание образа: образъ — вид, видимость, наружное проявление чего-то, ср.: «и нибеси круглообратенъ образъ даруя» (л. 180), т.е. видимость движения небесной сферы, и т.д. Слову образъ в значении ‘сходство’ в древнерусском языке долго предпочиталось слово подобие (подобие иконное и др.). В Хронике Георгия Амартола находится много древнерусских глосс, из которых, между прочим, выясняется: «история рекше образница», «скиму рекше образъ» (как замена для греч. σχήμα), «иконии рекше образьникъ» и др.[453] при переводе с греческих слов история, схема, икона — во всех случаях образ — то, что изображает нечто, выражает, передает; прежде всего — символ. Образ как ‘внешность’ фиксируется достаточно поздно, причем в переводе того же слова σχήμα, которое обозначает все-таки форму: «Идола образъ украшаетъ, а мужа дѣянья» (в переводе афоризма из Плутарха — Пч., 8). Требуется дополнительное слово, которое способно подчеркнуть красоту того или иного образа, выделить эту сторону изображения. Некоторые из древнерусских контекстов иногда невозможно передать на современный язык достаточно точно. Так, в московской редакции Чина свадебного, созданной в начале — первой половине XVI в., неоднократно говорится о ритуальном поклоне на все четыре стороны, которые делают свахи, дружки жениха и невесты, жених и невеста, ср.: «А сваха бы встала, а в тѣ поры ничево свахе не говорить, и из-за стола свахе не выходить же, и кланятися образомъ на все четыре стороны», «А на крыльце друшку стрѣтит друшка ж, а какъ войдетъ в ызбу и кланяеться образомъ на 4 стороны и говорит тестю: — А государь велѣлъ челом ударити...» и др.[454] Когда ниже говорится о дарах крестами и образами — ясно, что речь идет об иконах; в приведенных же примерах трудно допустить, что дружка, только что сошедший с коня, обращается на все стороны с иконой в руке, которой до этого у него не было. «Кланяется ликом»? Также маловероятно; поэтому можно допустить, что в синкретизме значения нового для московского быта слова присутствует кроме неизвестных нам еще то значение, которое сопоставимо со значением ‘способ, образ действия’ — действующее лицо кланяется как положено, на все четыре стороны. Сводя теперь воедино различные формы выражения одного только этого смысла — ‘таким способом’, — мы можем установить последовательность в смене лексем, обслуживавших понятие о способе действия (именно действия, поскольку древнерусская глагольная основа образи-ти могла совмещаться лишь с выражением действия): разноличь (например, в переводе Козьмы Индикоплова) — различными образы (также сначала в переводах, а затем и в оригинальных древнерусских текстах, прежде всего — в летописях) — просто образомъ (как в тексте Чина свадебного). Постепенно происходило как бы «впитывание» в семантику нового слова привычных значений славянской («местной») лексемы, причем разноличное конденсировалось в различное и первоначально сопутствовало как определение употреблению нового слова, а затем оно могло попросту опускаться, потому что характер самого действия описывался в контексте («на 4 стороны», например). Как можно судить по некоторым замещениям слов в древнерусских текстах и их списках, видъ, видѣние, в отличие от образа, представляют собою только «лицевую» часть изображения, именно потому на месте греч. ῾ορασις возникает чередование слов типа зракъ — възоръ — видѣние, но также и на месте греч. ειδος зракъ — видѣние — образъ: «то, что можно видеть» и вместе с тем «то, чем можно видеть». Из амбивалентности смысла возникает впоследствии и философское значение слова видъ как ‘идея’, видъ как частное в отношении к роду; в обоих случаях эти значения взаимопроникаемы, отношение «субъект—объект» или «часть—целое» можно передать только подобными им словами, выражающими разные стороны все того же (одного и того же) объекта. Ειδος, σχήμα, μορφή как синонимы в значении ‘внешняя форма’ лучше всего (точнее с точки зрения славянского языка) передаются словом образъ[455]. Перевод Козьмы Индикоплова показывает, что видъ всегда связан с лицом, тогда как образъ воплощает их обоих: «ины же вся вои на лица, ли вещи, ли образы» (л. 128); «земля круговидна» (л. 149) в пространственном измерении, потому, в частности, возможно и выражение «на лицы земля» (л. 36), тогда как жизнь и небо — «кругообратны» (л. 134, 140, 154) — а это передает идею движения, неразмещения в пространстве; ср. с этим приведенное уже «небеси кругообратень образъ даруя» (л. 180), из чего следует, что и образъ — также вид, но уже в новом качестве, связанном не с простым размещением в пространстве, а с перемещением во времени постольку, поскольку «круголъ образъ подразумѣваяй» (л. 41). В любой вариации текста для древнерусского книжника характерно восприятие образа как символа вещи, модели ее, образца; ср. русскую и болгарскую редакции Пандект Никона, в которых русскому вещь или смотрение (т.е. собственно видъ) последовательно и часто соответствует болг. образъ. Так и должно быть, потому что восточноболгарское значение слова очень долго не принималось древнерусскими книжниками. Одновременно происходило последовательное и упорное совмещение заимствованного слова образъ со значениями «русского» слова образити. Если для болгарского переводчика статьи Хировоска «О образех» σχήμα поэтическая фигура есть одновременно и видъ, и образъ, древнерусский справщик нашел бы иной способ передать название этого тропа или сохранил бы только термин видъ.[456] Для него внешняя форма проявления и вид (тип) чего-то существовали в совместном восприятии, и их не следовало смешивать. Аналогичным образом можно показать и противоположность образа лицу (и мы приводили примеры, способные это подтвердить), причем окажется, что, несмотря на близость значения, видъ всегда — впечатление от лица, т.е., другими словами, — его образ. Новое столкновение смыслов могло идти и по другому пути — при оценочной характеристике увиденного: вид или лицо могут быть добрыми, красивыми, выразительными и т.д., но образъ свободен от такой характеристики, потому что положительность идеальной модели попросту не допускает никакой оценки по качеству. Осталось сказать, что и лицо происхождением своим связано с глагольной основой, подобно двум другим словам: образъ и видъ. Лицо — первоначально внешняя сторона чего-то, следовательно, уже не образ; но значение ‘сделать (быть) явным’ в нем является исконным. Однако таково же исходное значение каждого слова, рассмотренного в этих заметках: нечто представлено как «явное», как вещь, затем значение слова сужается до обозначения «внешней стороны» этой вещи, в случае с лицо — с лицом, с лицевой стороной. Попутно прорабатывается и значение ‘сторона’ (для слова образъ — в Чине свадебном)[457]. Сжатость исторического комментария, возможно, не помешает читателю понять, для каких целей он здесь приведен. Оказывается, что семантическое развитие слова образ в русском языке повторилось дважды: в древнерусских текстах в общей последовательности своих значений оно входило в систему языка на основе тех же самых принципов семантического сближения и по тем же причинам, что происходит и сегодня в диалектном слове, но уже под давлением собственно русского литературного языка. Диалектная система повторяет путь, пройденный «общерусским» литературным языком, и это облегчает работу над словом. При этом в известном смысле это характеризует и само слово образ.
СЛОВАРИ, КАРТОТЕКИ, ИЗДАНИЯ
АСЭИ — Акты социально-экономической истории северо-восточной Руси. Т. 2. М., 1958; т. 3. 1964. БАС — Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1950-1968. Берында — Лексикон словенороський Памви Беринди. Киев, 1961. БЭС — Български етимологичен речник. Т. 1. София, 1971. Даль — Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1956. Ковтун — Ковтун Л.С. Русская лексикография эпохи Средневековья. М.; Л., 1963. Колесов 1985 — Колесов В.В. Синонимия как разрушение многозначности слова в древнерусском языке // Вопр. языкозн. 1985. №2 (см. наст. сб., с. 117-130). Колесов 1986 — Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. Колесов 1989 — Колесов В.В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989. Кочин — Кочин Г.Е. Материалы для терминологического словаря древней России. М.; Л., 1937. Лексис —Лексис Лаврентия Зизания: Синонима славеноросская. Киев, 1964. Львов 1968 — Львов А.С. Исследование «Речи Философа» // Памятники древнерусской письменности. М., 1968. С. 333-396. Мангаз. — Цомакион Н.А. Словарь языка мангазейских памятников XVII — первой половины XVIII в. Красноярск, 1971. Мельниченко — Мельниченко Г.Г. Краткий ярославский областной словарь. Ярославль, 1961. Миртов — Миртов А.В. Донской словарь. Ростов н/Д., 1930. Николаев 1987 — Николаев Г.А. Русское историческое словообразование. Казань, 1987. Опыт 1852 г. — Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852. ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси. Т. 1-12. М., 1978- 1994. Поликарпов — Поликарпов Ф. Лексикон треязычный. М., 1704. ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. РГО — Русское географическое общество. РНБ — Российская национальная библиотека, С.-Петербург. САР — Словарь Академии Российской. Ч. 1-3. СПб., 1789-1792. Скарына — Слоуник мовы Скарыны. Т. 1. Минск, 1977. Сл. ХІ-ХVII вв. — Словарь русского языка ХІ-ХVII вв. / Отв. ред. Г.А. Богатова. Вып. 1-25. М., 1975-2000 . Сл. СОПИ — Словарь-справочник «Слово о полку Игореве». Вып. 1-6. М.; Л., 1965-1984. Слав. Донск. — Словарь русских донских говоров. Т. 1. Ростов н/Д., 1975. Словник — Словник староукраінськоі мови. Т. 1. Київ, 1977. Соболевский 1980 — Соболевский А.И. История литературного языка. Л., 1980. Срезневский — Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1-3. СПб., 1893-1903. СРНГ — Словарь русских народных говоров / Отв. ред. Ф.П. Сороколетов. Вып. 1-33. М.; СПб., 1965-1999. СРЯ — Словарь русского языка. Т. 2. СПб., 1907. ТрОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома. Трубачев 1963 — Трубачев О.Н. О составе праславянского словаря // Славянское языкознание: V Междунар. съезд славистов. М., 1963. Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1-4. М., 1964-1973. Филин 1949 — Филин Ф.П. Лексика русского языка древнекиевской эпохи. Л., 1949. Филин 1972 — Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. М.; Л., 1972. Филин 1981 — Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981. ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О.Н. Трубачева. Вып. 8. М., 1981; вып. 10. 1983; вып. 13. 1987. Linde — Linde S.В. Slownik języka polskiego. Warszawa, 1807. Lorentz — Lorentz F. Slovinzisces Wörterbuch. St. Petersburg, 1912. Slovnik — Slovnik jazyka staroslovenského. T. 1-4. Praha, 1966-1997.ПАМЯТНИКИ*
*Точная отсылка к рукописи или изданию приводится лишь в случае, если в книге дана конкретная цитата из данного текста; в статье приводятся полные названия источников, если их мало в данной работе.Аввакум — Житие протопопа Аввакума // Пустозерский сборник. Л., 1975. Авр. — см. Откровение Авраама. Адарьян — Повесть об Адарьяне. Акир — Повесть об Акире Премудром. Ал. Невск. — Мансикка В. Житие Александра Невского. СПб., 1913. Алекс., Ал. — Истрин В.М. Александрия русских хронографов. М., 1883. Амарт. — Хроника Георгия Амартола. Андр. — см. Юрод. Ант. — Хождение Антония // Православный палестинский сборник. Т. 51. СПб., 1899. Батый — Повесть о разорении Рязани Батыем // ПЛДР. XIV — сер. XV в. М., 1981. С. 230-242. Беседы — Беседы Григория Двоеслова на Евангелие: (Рукопись XIII в. из собр. РНБ. Погод. 70). Богословие — Богословие св. Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна эксарха Болгарского // Чтения в О-ве ист. и древностей российских. 1877. Кн. 4. М., 1878. Варф. — Вопросы св. Варфоломея // Ложные и отреченные книги русской старины. СПб., 1861. С. 111. Васил. Нов., Вас. — Вилинский С.Г. Житие Василия Нового. Ч. 2. Одесса, 1913. Вести-Куранты — Вести-куранты. 1600-1639 гг. М., 1972; 1642- 1644 гг. М., 1976. Влад. Мономах — Поучение Владимира Мономаха по Лавр. лет. Галицкое ев. — Амфилохий. Четвероевангелие Галичское 1144 г. Т. 1-3. М., 1882-1883. Грам. кн. Всевол. — Грамота князя Всеволода ок. 1136 // Древнерусские княжеские уставы ХІ-ХV вв. М., 1976. Грамматика Мелетия Смотрицкого — Смотрицкий, Мелетий. Грамматіки Славенския правилное Сунтагма. Евью, 1619. — Фототип. изд.: Киев, 1979. Дан. Заточн. — Моление Даниила Заточника. Дан. пророк — Евсеев И.Е. Книга пророка Даниила в древнеславянском переводе. СПб., 1905. Девг. — Девгениево деяние. Договор Игоря — Договоры кн. Игоря 911 и 945 гг. по Лавр. лет. Договор Олега — Договор кн. Олега 907 г. по Лавр. лет. Домострой — Домострой по Коншинскому списку XVI в. Евгеньевская пс. — Колесов В.В. Евгениевская псалтирь XI века // Материалы и сообщения по славяноведению. Т. 8. Szeged, 1972. С. 57-69. ЕКч. — см. Кормчая. Есфирь — Книга Есфирь в древнерусском переводе. Житие Владимира — Житие кн. Владимира по древнерусским Торжественникам. Житие Нифонта — Выголексинский сборник XII века. М., 1977. Житие Ольги — Проложное житие кн. Ольги по изд.: Серебрянский Н. Древнерусские книжные жития. М., 1914. Житие Феодос. — Житие Феодосия Печерского по Усп. сб. Закон Судный — Закон судный людемъ. М., 1961. С. 35-40. Зл. — Малинин В.Н. Десять Слов Златоструя XII в. СПб., 1910. Иг. Дан. — Веневитинов М.А. Житье и хождение Даниила Руськыя земли игумена // Православный палестинский сборник. Т. 3, 6. СПб., 1885. Изб. 1073 — Изборник 1703 года. СПб., 1880. Изб. 1076 — Изборник 1076 года. М., 1965. Измарагд — Изергин В. Материалы для литературной истории древнерусских сборников. 1-2 // Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности. Т. 81. СПб., 1905. С. 16-78. Иларион — Розов Н.Н. Синодальный список сочинений Илариона — русского писателя XI в. // Slavia. 1963. XXXII. 2. С. 152-175. Индейск. — Сперанский Н.Н. Сказание об Индейском царстве // Изв. по РЯС. 1930. Т. 3, кн. 2. С. 369-464. Индикопл. — Космография Козьмы Индикоплова. Иннокентий — Рассказ Иннокентия о последних днях Пафнутия Боровского // ПЛДР: вторая половина XV в. М., 1982. С. 478-512. Ип., Ипат. — Ипатьевский список летописи // ПСРЛ. Т. 2. Пг., 1923. Иппол. — Невоструев К.И. Слово св. Ипполита об Антихристе в славянском переводе по списку XII в. М., 1868. Канон Ольге — см. Сл. Ольге. Кир. — Вопрошание Кирика — Павлов А.С. Памятники канонического права // Рус. ист. б-ка. VI. СПб., 1880. С. 22-53. Кирилл — Сухомлинов М. И. Рукописи графа А.С. Уварова. Т. 2. СПб., 1858. С. 1-124 (тексты Кирилла Туровского). Клим. — Никольский Н.К. О литературных трудах Климента Смолятича, писателя XII века. СПб., 1892. Кн. закон — Павлов А.С. Книги Законные / Пер. XII в. СПб., 1885. С. 41-90. Кормчая — Бенешевич Е.Н. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований (Ефремовская кормчая XII в.). Т. 1. СПб., 1906. КТур. — Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского (XII в.) // ТрОДРЛ. 1955. Т. 12. С. 340-361; 1956. Т. 13. С. 408-426; 1958. Т. 15. С. 331-348. Лавр. лет., Лавр. — Лаврентьевский список летописи // ПСРЛ. Т. 1. Л., 1926. Летопись Авраамки — Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки // ПСРЛ. Т. 16. СПб., 1889. Лопат. — Сперанский Μ.Н. Из истории отреченных книг. III. Лопаточник. СПб., 1900. С. 27-31. Лука Жид. — Бугославский С.А. Поучения еп. Луки Жидяты по рукописям ХV-ХVII вв. // Изв. Отд-ния рус. яз. и лит. 1913. XVIII, кн. 2. С. 196-237. Макар. Рим. — О Макарии Римском (древнерусский перевод апокрифа). Малала — Истрин В.М. «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе // Сб. отд-ния рус. яз. и словесности. Т. 90. СПб., 1913. Моисей — Сказание о Моисее (древнерусский перевод апокрифа). Мол. — Молитвы Кирилла Туровского по списку XIII в. (Ярославский музей. 15481). Моск. свод. — Московский летописный свод конца XV века // ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. Мстиславово ев. — Апракос Мстислава Великого [конец XI в.]. М., 1983. Мудрость Менандра — Семенов В.А. «Мудрость Менандра» по русским спискам. СПб., 1892. Никол. Мирлик. — Леонид. Житие и чудеса Николая Мирликийского и похвала ему (XI в.) // Памятники древн. письм. и искусства. Т. 34. СПб., 1882. Никон. лет. — Никоновская летопись. Новг. гр. 1135 г. — Новгородская грамота ок. 1135 г. // Дополнения к Актам историческим. Т. 1. СПб., 1846. С. 4. Новг. гр. 1146 г. — Грамота Великого Новгорода тверскому великому князю по изд.: Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 36-38. Новг. гр. 1152 г. — Новгородская грамота ок. 1152 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 55. Новг. лет. — Новгородская I летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. Номоканон Ио. Схоластика — Устюжская кормчая XIII в.: (Рукопись. Гос. б-ка, Москва. Ф. 256. №230). Отв. Иоанна — Ответы Иоанна на догматические вопросы (XII в.). Острожская библия — Библіа сиречь книги ветхаго и новаго завета по языку словенску. Острог, 1581. — Фототип. изд.: М.; Л., 1988. Остромирово ев. — Востоков А.Х. Остромирово Евангелие 1056- 1057 года. СПб., 1843. Откровение Авраама — Откровение Авраама // Тихонравов Н.С. Памятники отреченной русской литературы. Т. 1. СПб., 1863. С. 32-53. Палея — Толковая Палея по рукописи 1406 г. по изд.: Толковая Палея. Ч. I. М., 1892. Панд. — Пандекты Никона Черногорца по рукописям: русский перевод XII в. по списку НРБ (Погод. 267); болгарская редакция по рукописи XIV в. Ин-та ист. РАН, С.-Петербург (1356). Пандекты Антиоха — Амфилохий. Исследование о Пандекте Антиоха XI в. ... М., 1880. ПВЛ — Повесть временных лет по Лавр. лет. Печ. Патерик — Абрамович Д.И. Киево-Печарській патерик. Киів, 1931 (в тексте дается текст Касьяновской редакции, 1462 г., а в разночтениях — Арсеньевской начала XV в.). Повесть — Повесть о разорении Рязани Батыем // ПЛДР. XIII век. М., 1981. С. 184-199. Повесть о Горе — Симони П.К. Повесть о Горе и Злочастии. СПб., 1907. Повесть о Меркурии Смоленском — Белецкий Л.Т. Литературная история Повести о Меркурии Смоленском // Сб. ОРЯС. 1922. Т. 99, №8. Посл. Якова — Послание Якова черноризца к князю Дмитрию Борисовичу (около 1281 г.) // ПЛДР. XIII век. М., 1981. Поуч. Моисея — «Слово» Моисея Выдубицкого // ПЛДР. XII век. М., 1980. С. 409-412. Правда Русская — Карский Е.Ф. Русская Правда по древнейшему списку [XIII в.]. Л. 1930. С. 26-62. Пск. лет — Псковская I летопись. Пск. Суда. гр. — Псковская Судная грамота XV века. СПб., 1914. Пч. — Семенов В. Древняя русская Пчела по пергаменному списку. СПБ., 1893 (древнерусский перевод XII в. по списку XIV в. РНБ. Ф. 1. №48). Радз. — Радзивилловская, или Кенигсбергская летопись [XV в.]. СПб., 1902. Речь Философа — Речь Философа по Лавр. сп. 1377 г. Ряз. Кормч. 1284 г. — Рязанская Кормчая 1284 г.: Рукопись Рос. Нац. б-ки (СПб.). F. п. II. 11. Серапион Владимирский — Петухов Е.В. Серапион Владимирский — русский проповедник XIII в. // Зап. ист.-филол. ф-та С.-Петерб. ун-та. 1888. Т. 17. С. 1-15. Сказ. о Бор. и Гл. — Сказание о Борисе и Глебе по изд.: Абрамович Д.И. Жития святых Бориса и Глеба. Пг., 1916. С. 27-66. Сказание — Сказание о Калкском побоище и 70 храбрых // ПСРЛ. Т. 1, вып. 3, Л., 1928. С. 503-509. Сказание об Индейском царстве — см. Индейск. Сл. БГ — Абрамович Д.И. Жития св. мучеников Бориса и Глеба. Пг., 1916. С. 123-176. Сл. Григ. Богосл. — Слова Григория Богослова, рукопись XI в. РНБ. Q. п. 1.16. Сл. Ольге — Кирилла мниха канон и стихиры княгине Ольге // Никольский Н.К. Материалы для истории древнерусской духовной письменности. СПб., 1898. Сл. ОПИ — Слово о полку Игореве. Смоленск. гр. 1229 г. — Смоленская грамота 1229 г. // Смоленские грамоты ХIII-ХІV вв. М., 1963. XII снов Шахаиши — Веселовский А.В. Слово о 12 снах Шахаиши по списку XV в. СПб., 1879. С. 4-10. Соломон — Сказание о Соломоне и Китоврасе (древнерусский перевод апокрифа). Соф. — Сказание о святой Софии Царьградской // Памятники древней письменности и искусства. Т. 78. СПб., 1889. Стеф. Сурож. — Житие Стефана Сурожского (русский перевод XII в.) по изд.: Васильевский В.Г. Русско-византийские исследования. 3. СПб., 1915. С. 77-98. Стоглав — Стоглав 1551 г. по изд.: Российское законодательство Х-ХХ вв. Т. 2. М., 1985. С. 253-378. Сузд. лет. — Суздальская Летопись // ПСРЛ. Т. 1, вып. 2, 3. Л., 1928. Супр. — Супральская рукопись XI в. по изд.: Северьянов С. Супральская рукопись. СПб., 1908. СцС — Сказание о царе Соломоне // Памятники старинной русской литературы. Вып. 3. СПб., 1862. С. 51-57. Толк. Никиты — Толкование Никиты Ираклийского на Слова Григория Богослова по списку XIV века // Соболевский А.И. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910. С. 170. Усп. сб. — Успенский сборник конца ХII-ХIII в. М., 1971. Уст. Л. — Устав Студийский в переводе XI в. по изд.: Лисицын М. Первоначальный славянорусский типикон. СПб., 1911. Уст. гр. Смол. — Уставная грамота Смоленскаго князя Ростислава ок. 1150 г. // Смоленские грамоты ХIII-ХІV вв. М., 1963. Устав Влад. — Церковный устав кн. Владимира. Устав Студ. — Устав Студийский (древнерусский перевод XI в.): (Рукопись ГИМ. Патр 330). Устав Яросл. — Устав Ярослава XI в. // Древнерусские княжеские уставы ХІ-ХV вв. М., 1976. Феодосий — Чаговец В.А. Преп. Феодосий Печерский. Киев. 1901. Феодосий Печерский — Еремин И.П. Литературное наследие Феодосия Печерского // ТрОДРЛ. Т. 5. Л., 1947. С. 159-194. Феод. Студ. — Житие Феодора Студита // Выголексинский сборник XII в. М., 1977. Физиол. — «Физиолог» в древнерусском переводе XII в. Фл., Флав. — Мещерский Н.А. История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958. Хождение Богородицы по мукам — Тихонравов Н.С. Памятники отреченной русской литературы. II. СПб., 1863. С. 23-30. Чин свадебный — Чины на свадьбе // Домострой. СПб., 1994. С. 73-87. Чт. Бор. и Гл. — Чтения о Борисе и Глебе по Усп. сб. Чуд. — Чудовский Новый завет 1355 г. Шестоднев — Шестоднев, составленный Иоанном Ексархом Болгарским, в издании О.М. Бодянского // Чтения в О-ве ист. и древностей российских. 1879. Кн. 3. М., 1879. Юрод. — Житие Андрея Юродивого (древнерусский перевод XI в.).
Примечания
1
Колесов В.В. Исторические основания многозначности слова и лингвистические средства ее устранения // Русское семантическое словообразование. Ижевск, 1984. С. 18-28. (обратно)2
Балли, Шарль. Французская стилистика. М., 1961. С. 39. (обратно)3
Кожина Μ. Н. Функциональная стилистика. Пермь, 1974. С. 51, 54, 59. (обратно)4
Там же. С. 83. (обратно)5
Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989. (обратно)6
Колесов В. Семиотические основы терминологизации в древнеболгарском литературном языке (по переводам Иоанна Экзарха Болгарского) // Първи международен конгрес по българистика: Доклади: Симпозиум Кирило-Методиевистика. София, 1982. С. 150-175. (обратно)7
См.: Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. (обратно)8
Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М., 1980. (обратно)9
Грязнов Б. С. Логика. Рациональность. Творчество. М., 1980. (обратно)10
Колесов В. В. К характеристике поэтического стиля Кирилла Туровского (наст. сб., с. 326 сл.). (обратно)11
Карсавин Л.И. Символизм мышления и идея миропорядка в средние века (XII—XIII вв.) // Науч.-ист. журн. (СПб.). 1914. Т. I, вып. 2. С. 10-28. (обратно)12
Виноградов В. В. О языке художественной прозы. С. 3. (обратно)13
Лосев А. Ф. Проблемы символа и реалистическое искусство. М., 1976. (обратно)14
Колесов В. В. Имя — знамя — знак (наст. сб., с. 491 сл.). (обратно)15
Феоктистова Н. В. Формирование семантической структуры отвлеченного имени. Л., 1984. (обратно)16
Еремина В. И. Метафорический эпитет // Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз. Т. 26, вып. 2. М., 1967. С. 144-152. (обратно)17
Евгеньева А. П. Очерки по языку устной поэзии в записях XVII—XX вв. М.; Л., 1963. (обратно)18
Смирнов И. П. Эпическая метонимия // Тр. ОДРЛ. Т. 33. Л., 1979. С. 175- 203. (обратно)19
Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка. М., 1975. С. 66. (обратно)20
Там же. С. 73. (обратно)21
Феоктистова Н. В. Указ. соч. С. 101, 112. (обратно)22
Томашевский Б. В. Теория литературы. Пг., 1923. С. 34, 35. (обратно)23
Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 420. (обратно)24
Там же. С. 421. (обратно)25
Там же. С. 460. (обратно)26
Мильков В. В. Синкретизм в древнерусской мысли // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья / под ред. В. С. Горского. Киев, 1988. С. 27. (обратно)27
Ковтун Л. С. О неявных семантических изменениях: (К истории значений слов) // Вопр. языкозн. 1971. №5. С. 81-90. (обратно)28
Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание. Л., 1986. С. 92. (обратно)29
Ср.: Колесов В. В. Синонимия как разрушение многозначности слова в древнерусском языке (см. наст. сб., с. 117 сл.). (обратно)30
Μοlnar Ν. The calques of Greek origin in the most ancient Old Slavic Gospel Texts. Budapest, 1985. (обратно)31
Например, в кн.: Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. (обратно)32
Чтобы не усложнять изложения, не привлекаю здесь философские аргументы в пользу реальности (онтологичности) синкреты-смысла при конвенциональности и вторичном ее использовании как значения во всяком контексте; по той же причине здесь не обсуждаются идеи типа дихотомий Bedeutung и Sinn у Фреге или соотношение смысла лексической системы со значением отдельных лексем у Трира и пр. Все подобные сближения только приблизительно связаны с излагаемой здесь точкой зрения, хотя и подтверждают, что «идея» синкретизма языкового символа — это основная идея в творческих ипостасях теоретической лингвистики. (обратно)33
Schupbach R. D. Lexical specialisation in Russian. Columbus, 1984. (обратно)34
Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. (обратно)35
Николаев Г. А. Русское историческое словообразование. Казань, 1987. (обратно)36
Готт В. С., Землянский Ф. М. Диалектика развития понятийной формы мышления. М., 1981. С. 54-56. (обратно)37
Марков В. М. О семантическом способе словообразования в русском языке. Ижевск, 1981. (обратно)38
Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Труды по знаковым системам. Т. 21. Тарту, 1987. С. 10-21. (обратно)39
Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 180, 198. (обратно)40
Логический анализ языка: культурные концепты. М., 1991. (обратно)41
Русский семантический словарь: Опыт автоматического построения тезауруса от понятия к слову. М., 1982. С. 159. (обратно)42
Например, в редактировавшихся Л. В. Щербой сборниках «Русская речь», см.: Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская речь. Нов. сер. II. Л., 1928. С. 28-44. (обратно)43
Шепет Г. Г. Внутренняя форма слова. М., 1927. С. 22 и др. (с возражениями против понятия «значение» вообще, с. 75 сл). (обратно)44
Весьма забавное утверждение о том, что «к лингвистике как таковой Петербург — Ленинград был в целом равнодушен», встречаем, в ряду других запальчивых высказываний, у Б. А. Успенского, рассказавшего это многим зарубежным коллегам в своих докладах (см.: Успенский Б. А. К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы // Труды по знаковым системам. Т. 82. Тарту, 1985. С. 19-20). (обратно)45
Логический анализ языка... С. 117. (обратно)46
Там же. С. 24. (обратно)47
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 15-24; см. схему на с. 22 (те же страницы в переиздании, т. 1(1). М., 1990). (обратно)48
Словарь русских народных говоров / отв. ред. Ф. П. Сороколетов. Вып. 13. Л., 1977. С. 205. (обратно)49
Колесов В. В. Слова литературного языка в диалектной речи. 4. Образ (наст. сб., с. 676 сл.). (обратно)50
Колесов В. В. Семантический синкретизм как категория языка (наст. сб., с. 44-57). (обратно)51
Колесов В. В. Имя — знамя — знак (наст. сб., с. 491 сл.). (обратно)52
Основные направления семантических смещений указаны в ст.: Колесов В. В. Язык и мы — ощущение дня // Нов. журн. 1991. №5. С. 3-16. (обратно)53
Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989. С. 259-277. (обратно)54
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. С. 785. (обратно)55
Барг М. Эпохи и идеи. М., 1987. С. 4, 15 и сл. (обратно)56
Гуревич А. Ментальность // Опыт словаря нового мышления / под ред. Ю. Афанасьева и М. Ферро. М., 1989. С. 454. (обратно)57
Рожанский М. Ментальность // Там же. С. 459. (обратно)58
Кантор В. К. Стихия и цивилизация: два фактора «российской судьбы» // Вопр. филос. 1994. №5. С. 31. (обратно)59
Акчурин И. А. Топология и идентификация личности // Вопр. филос. 1994. №5. С. 143. (обратно)60
Милюков Π. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 2, ч. 1. М., 1994. С. 306. (обратно)61
Пешехонов В. В. Из истории чести и совести // Пешехонов В. В. На очередные темы. СПб., 1904. С. 370-418; см. также с. 416, 383, 381. (обратно)62
Александров А. Д. Философия как осмысление совести // Какая философия нам нужна? / сост. Ю. Н. Солонин. Л., 1990. С. 117. (обратно)63
Там же. (обратно)64
Колесов В. В. Слова литературного языка в диалектной речи. 3. Совесть (наст. сб., с. 662 сл.). (обратно)65
Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. К развитию концепции слова как вместилища знаний // Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования. Калинин, 1980. С. 3-25. (обратно)66
См. работы А. А. Потебни. О самом начальном этапе языковой метафоризации см.: Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 180 сл. (обратно)67
Словарь русских народных говоров // под ред. Ф. П. Сороколетова и Ф. П. Филина. Вып. 6. Л., 1970. С. 298 сл. (обратно)68
Этимологический словарь славянских языков / под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 6. М., 1979. С. 221-222. (обратно)69
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1955. С. 368. (обратно)70
Бибихин В. В. Язык философии. М., 1993. (обратно)71
См.: Кукушкина Е. И. Познание, язык, культура. М., 1984. С. 108 (здесь это называется «терминологией, призванной зафиксировать черты духа времени...»). (обратно)72
Приведенные здесь русские примеры и расхождения описаны и документированы в книге автора «Культура речи — культура поведения» (Л., 1988. С. 184-188). (обратно)73
Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи. Л., 1949. С. 157-158; Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975. С. 107-108. (обратно)74
См. там же. (обратно)75
Ларин Б. А. Проект древнерусского словаря. М.; Л., 1936. С. 74-83. (обратно)76
См.: Грамматическая лексикология русского языка. Казань, 1978. (обратно)77
Верещагин Е. М. У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминотворчества // Вопр. языкозн. 1982. №6. (обратно)78
Колесов В. В., Кара Н.В. Честь, слава, хвала в давньоруських текстах Київської доби // Мовознавство. 1983. №4. (обратно)79
Кара Н. В. Язык и стиль поучений Феодосия Печерского: автореф. канд. дис. Л., 1983. С. 11-15. (обратно)80
Львов А. С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966. С. 106 сл. (обратно)81
Колесов В. В. Лексичні південнорусизми у книжній мови Давньої Русі // Мовознавство. 1977. №1. С. 41-49. (обратно)82
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 168-175. (обратно)83
Колесов В. В. К характеристике поэтического стиля Кирилла Туровского (наст. сб., с. 326 сл.). (обратно)84
Колесов В. В. История русского ударения. Л., 1972. С. 10. (обратно)85
Словарь русского языка ХІ-ХVII вв. Вып. 1. М., 1975. С. 132-139. (обратно)86
Колесов В. В. Лексическое варьирование в Изборнике 1073 г. и древнерусский литературный язык (наст. сб., с. 251 сл.). (обратно)87
См.: Пиккио, Рикардо. Православното славянство и старобългарската културна традиция. София, 1993. С. 215 и сл. (обратно)88
Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 137. (обратно)89
Подробнее об этом см.: Колесов В.В. Словообразование как динамический принцип реорганизации текста // Словообразование. Стилистика. Текст. Казань, 1990. С. 69-83; а также статьи в наст. сб.: 1) Синонимия как разрушение многозначности слова в древнерусском языке (с. 117-130); 2) Символ как семантически системообразующий компонент в текстах Кирилла Туровского (с. 309-326). (обратно)90
Матхаузерова С. 1) Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976; 2) Две теории текста в русской литературе XVII в. // Труды Отд. др.-рус. лит. АН СССР. Т. 31. Л., 1976. С. 271-284; Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989. — Важна также проблема взаимодействия стиля и жанра, см.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М.; Л., 1958 (есть и другие изд.); здесь выделяются стили монументального историзма и эпический стиль для ХІ-ХIII вв., экспрессивно-эмоциональный и стиль «психологическойумиротворенности» для второй половины XIV—XV в., идеализирующий биографизм и утверждение ценности человеческой личности в ХVІ-ХVІІ вв. Все три укладываются в предлагаемую нами периодизацию как проявления определенных жанров: развитие языка диктует смену стилей, а изменение культурных функций приводит к развитию жанров. (обратно)91
См. также: Смирнов И.П. О древнерусской культуре, русской национальной специфике и логике истории. Wien, 1991. — В отношении к текстообразованию («эволюции литературного мышления») автор разделяет средневековье также на три периода, для которых характерны: 1) конъюнкция (культуры с природой) в раннем средневековье — отражение чистой экзистенции с пассивностью в предикате (все строится вокруг быть); 2) дизконъюнкция («создание второй реальности» — культуры наряду с природой) позднего средневековья с активностью в предикате (все строится вокруг хотеть: «негативная, но не дегенеративная культура»); 3) дизъюнкция с XVI в. — развитие связи с внетекстовой действительностью посредством предиката знать. Многие положения этой книги трудно разделить, они опасно заостренны и потому внушают сомнения в истинности; оставим на совести автора утверждения о «конъюнкции как проявлении параноидальности», о равенстве между культом и культурой, символом и образом, о «гипертрофии интенсиональной семантики» в ранних текстах (для них метонимический принцип как раз был важнее метафорического) и т.д. Справедливо, что идеология познания в каждый данный момент определяет в конечном счете жанры и способы текстообразования, стиль и функцию текста в обществе и культуре. Однако на путях психоанализа логические проблемы не решить. Любопытно, впрочем, что, по любым параметрам выделяя периоды развития древнерусской культуры, мы всегда выходим на троичность и тройственность. (обратно)92
См.: Колесов В.В. Древнерусский литературный язык. (обратно)93
См.: Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. С. 179-188. (обратно)94
См.: Колесов В. В. Вещь в древнерусских переводных текстах // Семантика слова в диахронии. Калининград, 1987. С. 4-12. (обратно)95
См.: Колесов В.В. Лексичні південнорусизми у книжній мови Давньоі Русі // Мовознавство. 1977. №1. С. 41-49. (обратно)96
В известном смысле эта программа выполнена в кн.: Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. (обратно)97
Об этом см.: Колесов В.В. Из заметок по древнерусской поэтике // The Intern. Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1982. Vol. 25/26. P. 239-245. (обратно)98
Об этом см.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 168-175 (см. также последующие издания книги). (обратно)99
См.: Колесов В. В. К характеристике поэтического стиля Кирилла Туровского (наст. сб., с. 326 сл.). (обратно)100
См.: Лихачев Д. С. 1) Текстология. М.; Л., 1962 (и другие изд.); 2) Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 57-95. (обратно)101
Соколова М.А. 1) К именному склонению в Домострое // Памяти акад. Л. В. Щербы. Л., 1951. С. 245-254; 2) Очерки по языку деловых памятников XVI в. Л., 1957; 3) Синонимы в памятниках XVI в. // Учен. зап. Латв. ун-та. Т. 36. Филол. науки. Вып. 6а. Рига, 1960. С. 23-43; 4) Чужая лексика в Домострое // Там же. Т. 43. Рига, 1961. С. 43-57. (обратно)102
Рождественский Ю. В. О термине «риторика» // Риторика. 1995. №1. С. 11. (обратно)103
См.: Соболевский А. И. Поп Сильвестр и Домострой // Изв. по рус. яз. и словесности. Т. 1, кн. 1. Л., 1929. С. 187-202; Никифоров С. Д. Из наблюдений над языком Домостроя по Коншинскому списку // Учен. зап. Моск. пед. ин-та им. Ленина. Т. 42. М., 1947. С. 15-79. (обратно)104
Колесов В. В. Литературный язык Древней Руси. Л., 1989. — О языке Домостроя см. также: Колесов В. В. 1) Домострой без домостроевщины // Домострой. М., 1990. С. 5-24; 2) Экономика нравственности и нравственность экономики // Домострой. М., 1991. С. 6-22; 3) Домострой как памятник средневековой культуры // Домострой. СПб., 1994. С. 301-392 (особенно с. 341-349). (обратно)105
См.: Успенский Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983. (обратно)106
См.: Колесов В. В. Критические заметки о «древнерусской диглоссии» // Литературный язык Древней Руси. Л., 1986. С. 22-41. (обратно)107
См.: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1985 (есть и другие изд.); см. также: Еремин И. П. Литература Древней Руси. М.; Л., 1966. С. 234-254. (обратно)108
См.: Besharov Ju. Imagery of the Igor’ Tale in the Light of Byzantino- slavic Poetic Theory. Leiden, 1956; Kitch F.C.M. The Literary Style of Epifanij Premudryj Pletenije sloves. München, 1976. (обратно)109
См.: Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. С. 318-352. (обратно)110
Колесов В.В. Древнерусский литературный язык. (обратно)111
Колесов В.В. К характеристике поэтического стиля Кирилла Туровского (наст. сб., с. 326 сл.). (обратно)112
См. статьи о поэтике, стилистике и языке этого памятника в кн.: Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 1-5. СПб., 1995. (обратно)113
Besharov Ju. Op. cit. (обратно)114
См.: Еремин И.П. Указ. соч. С. 253. (обратно)115
В дальнейшем изложении используем церковнославянский текст Нового Завета (Ц), его Синодальную версию (С) и переработку ее в параллельном английскому тексту варианте (Новый Завет и Псалтирь. La Harba, 1990 — А) в сравнении с новыми переводами О. Л. Лутковского (Л) и так называемым парижским — в издании: Слово жизни. М., 1991 — Ж. (обратно)116
Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 3. СПб., 1900. С. 285-303. (обратно)117
Мурьянов М.Ф. Семантическая эволюция словосочетания насущный хлеб // Вопр. языкозн. 1980. №1. (обратно)118
Соловьев В. С. Указ. соч. С. 289. (обратно)119
Там же. С. 300. (обратно)120
См.: Vondrak V. О mluvě Jana Exarcha Bulharskeho. Praha, 1896; Leskien A. Die übersetzungskunst des Exarchen Johannes // Archiv für Slavische Philologie. Bd 25. Berlin, 1903; много словарных сопоставлений в классическом труде: Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Т. 2, вып. 2. М., 1859; ср. из новейших работ также: Конески Б. Словата на Иоана Егзарка // Македонски jазик. [1] 1957. Кн. І; Иванова-Мирчева, Дора. Йоан Екзарх Български: Слова. Т. 1. София, 1971; Матхаузерова Св. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976; Барашкова Г. С. Лексика русских списков «Шестоднева»: Автореф. канд. дис. М., 1977, и др. — Имеется много конкретных работ по лексике и грамматике первоначальных переводов и переводов, сделанных славянами в эпоху царя Симеона. Они отчасти указаны в перечисленных трудах. Все они создают возможность углубленного изучения текстов на основе уже проведенной текстологической, кодикологической и лексической реконструкции, которые совершенно необходимы для точности всех последующих заключений. Опираясь на подобные реконструкции, дальше в тексте работы для краткости я не отсылаю читателя к литературе вопроса. (обратно)121
См.: Колесов В.В. Лексичні південнорусизми у книжній мови Давньоï Русі // Мовознавство. 1977. №1. С. 41-49. (обратно)122
Тексты цитируются по изданиям О. М. Бодянского: Богословие св. Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Ексарха Болгарского // Чтения в О-ве ист. и древностей российских. 1877. Кн. 4. М., 1878; Шестоднев, составленный Иоанном Ексархом Болгарским // Там же. 1879. Кн. 3. М., 1879. (обратно)123
Слова Иоанна экзарха по изд: Иванова-Мирчева, Дора. Указ. соч. (обратно)124
См.: Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938. С. 141. (обратно)125
Krumbacher К. Geschichte der Byzantinischen Literatur. München, 1897. S. 33 usw. (обратно)126
«Трансплантировались не разрозненные сочинения, а именно культура с присущими ей религиозными, эстетическими, философскими, правовыми представлениями», — говорит Д. С. Лихачев (Лихачев Д. Развитие русской литературы Х-XVII веков. Л., 1973. С. 30), при этом «трансплантация культуры была связана с ее изменением, иногда очень существенным. Нельзя ставить знак равенства между византийской культурой у себя на родине и той византийской культурой, которая была трансплантирована в славянские страны... Славянская "рецензия" византийской культуры имела поэтому собственное лицо» (там же. С. 33-34); в этом контексте особенное значение приобретают сочинения Иоанна экзарха, вообще естественнонаучные переводы, которые в любую переходную эпоху становятся культурным мостом между двумя культурами (двумя уровнями культур); по справедливому мнению Д. С. Лихачева, перевод Шестоднева — основной эстетический кодекс древнеславянских литератур, «откуда черпали свои эстетические идеалы древнерусские читатели и значение которого еще недостаточно определено в научной литературе» (там же. С. 53). Думается, что сама традиционность средневековой уже сложившейся литературы с ее ориентацией на «классиков» заставляет современного ученого с особым вниманием относиться к периоду «первоначального накопления» элементов духовной культуры. К переводам ІХ-ХІ вв. (обратно)127
Lägreid A. Der Rhetorische Still im Šestodnev des Exarchen Johannes // Monumenta Linguae Slavicae. IV. Wiesbaden, 1965. S. 30. (обратно)128
Подр. об этом см.: Колесов В. В. Семиотические основы терминологизации в древнеболгарском литературном языке // Първи международен конгрес по българистика: Доклади: Симпозиум Кирило-Методиевистика. София, 1982. С. 150-175. (обратно)129
Примеры из Изборника 1073 г. приводятся по изданию: Бодянский О. М. Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 года с греческим и латинским текстами // Чтения О-ва ист. и древностей российских. 1882, кн. 4. М., 1883. — Издана только первая половина рукописи, поэтому все приведенные в статье статистические подсчеты охватывают данную половину текста; греческие параллели также взяты отсюда. При отсылке в скобках указываются год Изборника — 1073 или 1076, страницы этого издания. (обратно)130
Изборник 1076 года. М., 1965. С. 842. (обратно)131
См.: Ягич И. В. Четыре критико-палеографические статьи. СПб., 1884. С. 41-42; Евсеев И.И. Книга пророка Исайи в древнеславянском переводе. СПб., 1897. С. 119; Jagic J.V. Zum Altkirchenslawischen Apostolus. III. Wien, 1920. S. 49-50. (обратно)132
Некоторые из указанных смешений не восходят к первоначальному переводу, например, стълпъ и тѣло соответственно относятся к греч. στυλος и στήλη (Погорелов В. Толкования Феодорита Киррского на Псалтырь в древнеболгарском переводе. Варшава, 1910. С. 215). (обратно)133
Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Т. 2, вып. 2. М., 1859. С. 149. (обратно)134
Михайлов А. В. Опыт изучения текста книги Бытия пророка Моисея в древнеславянском переводе. I. Варшава, 1912. С. 132. (обратно)135
3елинский Ф. Гомеровская психология // Труды разряда изящн. словесн. Рос. АН. Пб., 1922. (обратно)136
Примеры приведены по изд.: Невоструев К. И. Слово св. Ипполита об антихристе в славянском переводе по списку XII в. М., 1868. (обратно)137
Сопоставления см.: Евсеев И. 1) Указ. соч.; 2) Книга пророка Даниила в древнеславянском переводе. М., 1905. (обратно)138
Горский А. В., Невоструев К. И. Указ. соч. Т. 2, вып. 2. С. 39. (обратно)139
Там же. Вып. 1. С. 41. (обратно)140
Рыстенко А. В. Легенда о св. Георгии и драконе в византийской и славянской литературах // Зап. Новорос. ун-та. Т. 112. Одесса, 1909. (обратно)141
Воскресенский Г. А. Древнеславянский Апостол. І-III. Сергиев Посад, 1892-1908. (обратно)142
Михайлов А.В. Указ. соч. С. 318. (обратно)143
Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 2. СПб., 1895. С. 539-542; Slovnik jazyka staroslovenskeho. II. Praha, 1973. S. 484-486. (обратно)144
Истрин В.М. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. 2. Пг., 1922. С. 205, 206, 208, 209. (обратно)145
Müller L. Ilarion Werke. München, 1971. S. 61-86 и др. (обратно)146
Колесов В.В. Умное слово в «Слове» Илариона Киевского // Альманах библиофила. Вып. XXVI. М., 1989. С. 95-113. (обратно)147
Примеры приводятся по изданию: Абрамович Д. И. Житие свв. мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916. (орфография упрощена). (обратно)148
Истрин В.М. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. 3. Л., 1930. С. 316. (обратно)149
Сперанский М.Н. Девгениево деяние. Пг., 1922. С. 10. (обратно)150
Буслаев Ф.И. О влиянии христианства на славянский язык. М., 1848. С. 12-13. (обратно)151
Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1914. С. 38. (обратно)152
3вегинцев В. А. Семасиология. М., 1957. С. 222. (обратно)153
Это сделано, например, в кн.: Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. М., 1969. С. 105-123. (обратно)154
См. наст. сб., с. 356 . (обратно)155
Вилинский С. Житие Василия Нового в русской литературе. Ч. 2. Тексты. Одесса, 1911. С. 523-524. (обратно)156
Мещерский Н.А. История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958. С. 199 и 203. (обратно)157
Указаны страницы по изданию текстов Кирилла: Сухомлинов М.И. Рукописи графа А. С. Уварова. СПб., 1858. (обратно)158
О символических значениях славянского слова свѣтъ и смежных с ним см.: Потебня А. А. Указ. соч. С. 28-52; см. также: Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. С. 219-226. (обратно)159
Катков М.Н. Об элементах и формах славяно-русского языка. М., 1845. С. 216-217. (обратно)160
Григорьев А. А. Литературные и житейские воспоминания. Т. 1. М., 1915. С. 125. (обратно)161
Чаадаев П. Я. Соч. и письма. Т. 1. М., 1914. С. 251. (обратно)162
Петухов Е. В. К вопросу о Кириллах-авторах в древнерусской литературе // Сб. Отд. рус. яз. и словесности АН. Т. 14. СПб., 1887. С. 4-5. (обратно)163
Еремин И. П. Литература Древней Руси. М.; Л., 1966. С. 132-144. (обратно)164
Бегунов Ю. К. К стилистике торжественного красноречия. Кирилл Туровский и Григорий Цамблак // Търновска книжовна школа. Велико Търново, 1971. С. 39-51. (обратно)165
Колесов В.В. К характеристике поэтического стиля Кирилла Туровского (наст. сб., с. 326 сл.); Супрун А.Е., Кожинова А. А. К лексической структуре древнерусского текста: На материале Слов Кирилла Туровского // Проблемы лингвистики текста. Мюнхен, 1989. С. 101-120, и др. (обратно)166
Виноградов В. П. Уставные чтения. Вып. III. Сергиев Посад, 1915. С. 97- 176; Thomson F. Quotation of patristic and byzantine works by early russian authors as a indication of the cultural level of Kievan Russia // Slavica Gangensia. X. [Ghent], 1983. P. 65-102 [Belgian Contributions of the IX International Congress of Slavists]. (обратно)167
Виноградов В.П. Указ. соч. С. 109-113. (обратно)168
Примеры приводятся по изд.: И. П. Еремина (ТрОДРЛ. Т. 12. Л., 1955; т. 13. 1956; т. 15. 1958; римские цифры обозначают том, арабские — страницу и строки издания), а также «Молитвы» Кирилла (Мол.) по рукописи Ярославского музея (№15481) XII в. и «Службы Ольге» по изд.: Никольский Н.К. Материалы для истории древнерусской духовной письменности. СПб., 1907. С. 88-94. (обратно)169
Супрун А. Е., Кожинова А. А. Указ. соч. С. 122. (обратно)170
Колесов В.В. Древнерусская вещь // Культурное наследие Древней Руси / отв. ред. М. Б. Храпченко и др. М., 1976. С. 260-264. — Любопытные сближения я нашел впоследствии в статье: Хайдеггер М. Вещь // Историко- философский ежегодник. 1989 / отв. ред. Н. В. Мотрошилова. М., 1989. С. 269- 284. (обратно)171
Еремин И. П. Литература Древней Руси. М.; Л., 1966. С. 134-135. (обратно)172
Все цитаты из произведений Кирилла Туровского и сопоставлений с ними в настоящей статье даны по изд.: Сухомлинов М.И. Рукописи графа А. С. Уварова. Т. 2. СПб., 1858. (обратно)173
Владимиров П. В. Древнерусская литература Киевского периода. Киев, 1900. С. 156. (обратно)174
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 168-175. (обратно)175
Еремин И.П. Литература Древней Руси. С. 135. (обратно)176
Trubetzkoy N.S. Three Philological Studies. Ann Arbor, 1963. (обратно)177
См.: Виноградов В.П. О характере проповеднического творчества Кирилла, епископа Туровского // В память 100-летия Московской духовной академии: сб. ст., принадлежащих бывшим и настоящим членам академической корпорации. Ч. 2. Сергиев Посад, 1915. С. 315. (обратно)178
Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 7 // Труды по филологии. М.; Л., 1952. С. 241. (обратно)179
Там же. (обратно)180
См. наст. сб., с. 301. (обратно)181
Дмитриев Л. А. К литературной истории Сказания о Мамаевом побоище // Повести о Куликовой битве. М., 1959. С. 443. (обратно)182
Там же. (обратно)183
Там же. С. 423. (обратно)184
Чтобы показать границы лексического варьирования в тексте, пользуюсь двумя списками РНБ: О.XVII.6 (в дальнейшем — 6) и Q.IV.342 (в дальнейшем — 342). При цитировании первым всегда указывается пример из изданного Л. А. Дмитриевым списка XVI в. ГИМ. Синодальное собр. №485. (обратно)185
Оба употребления слова зеленый, хотя и не в отношении к знамени, связаны с погаными. (обратно)186
В списках Сказания употреблено слово черные — даже если это и искажение слова чермные, оно весьма характерно. (обратно)187
Уже в русских текстах ХІ-ХII в. испроверже животъ свои употреблено в отношении к врагу, например в отношении к Святополку Окаянному в цикле произведений о Борисе и Глебе; в положительном смысле используются сочетания типа блюсти головы своея, помышляти о своей голове, но также положити головы своя, не щадя головы своея (у Мономаха) и др. (обратно)188
В списках находим вариации слов мудрость — ум, ум — мысль, что указывает на несущественность лексических различий этих слов, совместно противопоставленных душе и сердцу в описании христиан. (обратно)189
Лотман Ю. М. Об оппозиции «честь» — «слава» в светских текстах Киевского периода // Труды по знаковым системам. Вып. III. Тарту, 1967. — Возражения А. А. Зимина несостоятельны (см.: Труды по знаковым системам. Вып. V. Тарту, 1971. С. 464 сл.). (обратно)190
Лихачев Д. С. Древнерусский смех // Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1973. (обратно)191
Иногда это объясняют фонетическим сближением и и ѣ, что неверно, поскольку такое смешение отражается не только в новгородских рукописях. (обратно)192
См.: Лихачев Д. С. Из наблюдений над лексикой «Слова о полку Игореве» // Изв. Отд-ния лит. и яз. АН ССР. 1949. Т. 8, вып. 6. С. 551-554. (обратно)193
Ларин Б. А. Разговорный язык Московской Руси // Начальный этап формирования русского национального языка / отв. ред. Б. А. Ларин. Л., 1961. С. 25. (обратно)194
Там же. С. 22. (обратно)195
Там же. С. 23. (обратно)196
Там же. С. 23-24. (обратно)197
Там же. С. 23. (обратно)198
Материалы и доказательства этого тезиса см.: Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989. С. 136-186. (обратно)199
Issatschenko A. Geschichte der russischen Sprache. I. Heidelberg, 1980. S. 270. (обратно)200
Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.). М., 1975. С. 254. (обратно)201
См. наст. сб., с. 168-169, 174-176. (обратно)202
Примеры из сочинений протопопа Аввакума в основном даются по изд.: Памятники истории старообрядчества XVII в. Кн. І, вып. 1. Л., 1927 (РИБ, т. 39). — См. также: Колесов В.В. 1) Лингво-стилистическая характеристика автографов Аввакума и Епифания // Пустозерский сборник: Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 1975. С. 210-227; 2) Древнерусский литературный язык. Л., 1989. С. 65-73, 171-179, 238 сл. (обратно)203
Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1-3. СПб., 1893-1903. (обратно)204
Рукописный лексикон первой половины XVIII в. / подгот. к печати и вступит. ст. А. П. Аверьяновой. Л., 1964. С. 358. (обратно)205
Здесь и ниже в сопоставлениях сначала дается текст А по автографу БАН, собр. Дружинина, 746, а затем авторское исправление по варианту В (автограф из собрания Заволоко в Отделе рукописей Пушкинского Дома); указаны листы рукописей. (обратно)206
В изучении материала XVIII в. очень важной для меня оказалась помощь А. А. Алексеева, которому приношу свою благодарность. (обратно)207
Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. Т. 1. СПб., 1755. С. 116. (обратно)208
Поликарпов Ф. Лексикон треязычный... М., 1704. С. 207. (обратно)209
Вейсман Э. Немецко-латинский и русский лексикон. СПб., 1731. С. 220, 221, 317, 384, 574 и др. (обратно)210
Тредиаковский В. Сочинения. Т. I. СПб., 1752. С. 198, 206, 213 и др. (обратно)211
См.: Колесов В. К характеристике стилистического варианта в литературном языке (наст. сб., с. 424 сл.). (обратно)212
См.: Пустозерский сборник. Л., 1975. С. 210-227. — Цифры указывают листы автографов, сначала варианта Дружинина, затем — Заволоко. (обратно)213
Русская историческая библиотека. Т. 13. СПб., 1909. С. 768-769. (обратно)214
Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 244, 249, 250. (обратно)215
Порфирьев И. История русской словесности. Ч. I. Казань, 1897. С. 18. (обратно)216
Орлов А. С. Историческая и поэтическая повести об Азове. М., 1906. С. 153. (обратно)217
Житие протопопа Аввакума. Иркутск, 1979. С. 234-235. (обратно)218
Колесов В. В. Древнерусский язык. Л., 1989. С. 16-32. (обратно)219
Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. М., 1970. (обратно)220
Савельева О. А. «Плач Адама» // Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Новосибирск, 1985. С. 164-182. — Другие списки, редакции и факты см. там же. (обратно)221
Бессонов П. Калики перехожие. Т. 1. М., 1861. С. 336. (обратно)222
Адрианова В.П. Житие Алексия человека божия в древнерусской литературе и народной словесности. Пг., 1917. С. 461, 251-253. (обратно)223
Белецкий Л.Т. Литературная история повести о Меркурии Смоленском. Пг., 1922. С. 60. (обратно)224
Виноградов В.В. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. М., 1967. С. 121. (обратно)225
Там же. С. 81-82. (обратно)226
Виноградов В.В. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961. С. 55. (обратно)227
Там же. С. 54. (обратно)228
Ср., например, очень частые в речи Тредиаковского гиперизмы типа тв. падежа мн. числа ж. рода яркими зве́зды, высокими го́ры, секущими ко́сы и т.п. по типу архаических форм м. рода высокими ду́бы, секущими ме́чи. Это дублетные гиперизмы: дело не только в замене окончания, но и в изменении ударения. Исконные формы приведенных слов звезда́ми, гора́ми, коса́ми, но в соответствии с общей закономерностью старое ударение слова невозможно при новой флексии, и мы получаем выравнивание не только в форме, но и в ударении. (обратно)229
Соболевский А. И. Ломоносов в истории русского языка. СПб., 1911. С. 7. (обратно)230
Волков А. А. Ответ Ломоносова Сумарокову // Москвитянин. 1842. Ч. І. №1. С. 148. (обратно)231
См.: Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989. (обратно)232
См.: Колесов В.В. Развитие лингвистических идей у восточных славян эпохи Средневековья // История лингвистических исследований: Позднее Средневековье. Л., 1991. С. 208-254. (обратно)233
См.: Колесов В. В. 1) Лингво-стилистическая характеристика автографов Аввакума и Епифания // Пустозерский сборник: Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 1975. С. 210-227; 2) Порядок слов в русском литературном языке XVII в. (на материале авторской правки в текстах протопопа Аввакума) // Славянская филология: Имя и глагол в исторической перспективе. Рига, 1991. С. 18-25; 3) Выбор стилистически нейтральной формы в редакциях Жития протопопа Аввакума (наст. сб., с. 398 сл.). (обратно)234
Макеева В.Н. История создания «Российской грамматики» М. В. Ломоносова. М.; Л., 1961. (обратно)235
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. Труды по филологии. М.; Л., 1952. С. 216. (обратно)236
Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. М., 1977. С. 11-23. (обратно)237
Булич С. К. Очерк истории языкознания в России. СПб., 1905. С. 262-274, 739, 1077-1100 и др. (обратно)238
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1-2. М., 1993. (обратно)239
Добродомов И.Г. Этимология и историческая лексикология // Этимология 1979. М., 1981. С. 75. (обратно)240
Об этом на различных примерах см.: Колесов В. В. 1) Слово о Мамаевом побоище // Рус. речь. 1980. №5. С. 97-104; 2) Сказание о Варяге и сыне его Иоанне // Там же. 1981. №5. С. 101-107. — Акцентная реконструкция представлена в работе: Колесов В. В. Ударение в Слове о полку Игореве // ТрОДРЛ. Т. 31. Л., 1976. С. 23-76. (обратно)241
См.: Vondrak W. Vergleichende Slavische Grammatik. Gottingen, 1906. Bd 1. S. 490. (обратно)242
См.: Соколова Л. В. Мысль // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 3. СПб., 1995. С. 293-296. (обратно)243
См.: Колесов В. В. Соотношение дисциплин исторического цикла и их значение в университетском преподавании специальности // Спорные вопросы русского языкознания: Теория и практика. Л., 1983. С. 3-18. (обратно)244
Колесов В. В. История русского языка в рассказах. М., 1976. С. 71-73 (2-е изд. М., 1982. С. 73-76; 3-е изд. М., 1994. С. 64-66). (обратно)245
Мокиенко В.М. Образы русской речи. Л., 1986. С. 238. (обратно)246
Относящийся сюда материал см.: Этимологический словарь славянских языков / под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 3. М., 1976. С. 87-92, 104-106, 146-148; вып. 2. М., 1975. С. 235. (обратно)247
Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1. СПб., 1893. С. 192, 196. (обратно)248
Литература вопроса огромна. В нашу задачу не входит текстологическое или историографическое рассмотрение высказанных точек зрения на то, какие именно слова признавались древнерусскими лексическими или семантическими русизмами. Все такие точки зрения учтены, проверены по современным историческим и этимологическим словарям славянских языков и ниже приводятся в общих списках. При подготовке главы использовались работы Б. Л. Богородского, Л. А. Булаховского, В. В. Виноградова, Η. Н. Дурново, В. М. Истрина, Д. С. Ищенко, В. Р. Кипарского, В. В. Колесова, С. М. Кульбакина, П. А. Лаврова, Б. А. Ларина, А. С. Львова, Н. А. Мещерского, Н. К. Никольского, С. П. Обнорского, В. Ф. Ржиги, А. И. Соболевского, Μ. Н. Сперанского, И. И. Срезневского, О. Н. Трубачева, Ф. П. Филина, П. Я. Черных, А. А. Шахматова, а также многочисленные диссертации и сводные списки древнерусских русизмов, данные в коллективных трудах наших современников; ср.: Iсторія украінської мови: Лексика и фразеологія. Київ, 1983. (обратно)249
Мало исследован вопрос о постепенности накопления разностильных лексических элементов в границах переводных текстов, от самых высоких в переводе Священного Писания до самых «подлых» в переводе хроник (см. особенно перевод Хроники Георгия Амартола). «Три стиля» формировались на основе не только оригинальных, но и переводных текстов, которые также вынуждены были отражать изменяющийся «стиль жизни» средневековой Руси. (обратно)250
Этимологический словарь славянских языков / под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 8. М., 1981. С. 228. (обратно)251
Jagić V. Zum Altkirchenslawischen Alostolus. III. Wien, 1920. S. 15. (обратно)252
Буслаев Ф.И. О влиянии христианства на славянский язык. М., 1848. С. 104. (обратно)253
Так полагал А.М. Селищев, см.: Селищев А.М. Старославянский язык. Вып. II. М., 1952. С. 60. (обратно)254
Когда Даниил Галицкий в 1237 г. вошел в Галич, он «обличи побѣду и постави на нѣмечьскыхъ вратѣхъ хороуговь свою» (Ипат., 1237 г.); следовательно, в представлении свидетелей того времени, князь не обозначил и не отметил, а изобразил победу, и притом не знаменем еще, а хоруговью. Таких примеров довольно много в древних летописях, было бы интересно их собрать и проанализировать под указанным здесь углом зрения. (обратно)255
Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981. С. 265. (обратно)256
Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976. С. 33. (обратно)257
Лотман Ю.М. Еще раз о понятиях «слава» и «честь» в текстах Киевского периода // Труды по знаковым системам. Вып. V. Тарту, 1971. С. 469. (обратно)258
Jagić V. Zum Altkirchenslawischen Apostolus. III. Wien, 1920. S. 40-42. (обратно)259
Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 473. (обратно)260
Лотман Ю. М. Об оппозиции «честь» — «слава» в светских текстах Киевского периода // Труды по знаковым системам. Вып. III. Тарту, 1967; Зимин А. А. О статье Ю. М. Лотмана «Об оппозиции...» // Там же. Вып. V. Тарту, 1971. С. 464-468. (обратно)261
Ковтун Л. С. Русская лексикография эпохи Средневековья. М.; Л., 1963. С. 428. — В словарях после этого времени, также изданных Л. С. Ковтун, слово не толкуется, поскольку уже нет необходимости уточнять понятие о «дурной славе». (обратно)262
Евгеньева А. П. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII- XX вв. М.; Л., 1963. С. 263, 267. (обратно)263
Колесов В. В. Лексічні південнорусизми у книжній мови Давньоі Русі // Мовознавство. 1977. №l. С. 41-49. (обратно)264
Имена ж. рода с долгим корнем, как правило, отглагольного образования, сформировались в праславянском относительно поздно, т.е. исторически их появление можно связать как раз с эпохой усиленных контактов с германцами; акцентологические основания этого процесса см.: Mathiassen Т. Studien zum slavischen und indoeuropäischen Langvokalismus. Oslo, 1974. (обратно)265
Кара Н. В. Особенности цитирования текстов традиционного содержания в поучениях Феодосия Печерского // Вести. Ленингр. ун-та. 1983. Вып. 8. (обратно)266
Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI — начала XII в. Киев, 1988. С. 79, 81, 89. (обратно)267
См.: Вознесенский А. Зуб разума // Лит. газета. 1989. №36. С. 5. — Подобные «этимологии» напоминают фантастические уравнения Д. Мартынова, веком ранее выводившего слово истина из слова аминь: «Аминь-яминь-ямнь-ямьсь-ясьсь-яцьць!-ць!-ць!-ць!-ясь-ясть-ѣсть-исть-истьнь-истенъ-истина. А что есть истина? Отвечаю: истина есть истень-ястень-ясьть-ясьсь-яцьць-ць!ць!ць! Вот начало и вот конец премудрости! Беспрерывное богоначертанное мировое ядство, беспрестанно созидающее более совершенных ядов — вот что есть истина» (Мартынов Д. Раскрытие тайны языка человеческого и обличение несостоятельности ученого языкознания. М., 1897. С. 91). (обратно)268
См. также: Успенский Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983. С. 112-113. (обратно)269
См.: Kegler D. Untersuchungen zur Bedeutungsgeschichte von Istina und Pravda im Russischen. Frankfurt a/M., 1975. — Особенно см. схемы на с. 92 и 94. (обратно)270
Бычков В.В. Эстетические проблемы в русской культуре середины XVI в. // Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья. Киев, 1988. С. 225. (обратно)271
Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. Л., 1941. С. 177, 178. (обратно)272
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1955. С. 60; т. 3. С. 379. (обратно)273
Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1911. С. 234. (обратно)274
Герцен А. И. Сочинения. Т. 3. М., 1954. С. 169. (обратно)275
Киреевский И.В. Указ. соч. С. 281. (обратно)276
Григорьев А. Соч. Т. 1. СПб., 1876. С. 211. (обратно)277
Чаадаев П.Я. Соч. и письма. Т. 1. М., 1914. С. 142. (обратно)278
Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 3. СПб., 1898. С. 254 и 961. (обратно)279
Лавров П.Л. Философия и социология. Т. 2. М., 1965. С. 54, 134. (обратно)280
Лавров П.Л. Соч. Сер. IV. Т. 1. М., 1927. С. 113. (обратно)281
Менделеев Д. И. Заветные мысли. СПб., 1904. С. 311. (обратно)282
То же самое наблюдаем в разработках московских концептуалистов, публикующих свои материалы в серии «Логический анализ языка» (Культурные концепты. М., 1991. С. 21-44; Ментальные действия. М., 1993. С. 67-78 — о «концепте правильности»). Все это романисты, для которых концептуальный подход к материалу привычен, а истолкование русских концептов «правда» и «истина» ведется с точки зрения, например, французского verite, в результате чего и «правда» оказывается всего лишь частью «истины». В угоду схеме нарушаются внутренние связи собственно русских концептов, не правда, а истина оказывается «знаком двоения», т.е. расхождения концепта на «подлинное и мнимое» (не на действительное и представленное в идее-слове, как это соответствует русской ментальности). Действительно, слова Андрея Платонова: «Из истины не существует выхода» — до точности отражают ситуацию в изучении наших концептов посредством заимствованных схем и переведенных текстов. (обратно)283
Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 3. СПб., 1900. С. 308-310. (обратно)284
Соловьев В. С. Соч. Т. 2. М., 1988. С. 230, 305, 9, 263, 92. (обратно)285
Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 3. С. 299, 298; ниже цитируются с. 297, 302, 283. (обратно)286
Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 26. М., 1984. С. 57. (обратно)287
Толстой Л.Н. Собр. соч. Т. 15. М., 1983. С. 30. (обратно)288
Розанов В. В. Сахарна // Лит. учеба. 1989. №2. С. 111. (обратно)289
Пришвин М. Собр. соч. Т. 8. М., 1986. С. 168, 600, 607, 619. (обратно)290
Михайловский Н.К. Литературные воспоминания и современная смута. Т. 1. СПб., 1900. С. 294 и сл. (обратно)291
Для иллюстраций использованы следующие труды: Бердяев Н.А. 1) Объективизм и индивидуальность. СПб., 1901. С. 34; 2) Sub specie aeternitatis. СПб., 1907. С. 16, 82-83; 3) О рабстве и свободе человека. Париж, 1939. С. 70; 4) Самопознание. Париж, 1949. С. 355; 5) Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж, 1952. С. 111, 119, 166; 6) Царство Духа и царство кесаря. Париж, 1951. С. 12, 85. (обратно)292
Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. СПб., 1903. С. XVII. (обратно)293
Булгаков С. Н. Два града. М., 1911. С. 251. (обратно)294
Хомяков А. С. Соч. Т. 2. М., 1908. С. 437. (обратно)295
Ткачев П. Н. Соч. Т. 2. М., 1976. С. 136. (обратно)296
Шелгунов Н.В. Очерки русской жизни. СПб., 1895. С. 636, 388. (обратно)297
Успенский Г. И. Власть земли. М., 1985. С. 186. (обратно)298
Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 3. С. 328. (обратно)299
Кожинов В. Правда и истина // Наш современник. 1988. №4. (обратно)300
Kegler D. Op. cit. S. 92. (обратно)301
Arutjunova N.D. Verite et ethique // Relations inter- et intra-predicatives. Lausanne, 1993. P. 5-20. (обратно)302
См. наст. сб. С. 61 [= глава «. (обратно)303
Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.). М., 1975. С. 189. (обратно)304
Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. М., 1977. С. 139. (обратно)305
См. там же. С. 29. (обратно)306
Колесов В.В. 1) Древнерусская вещь // Культурное наследие Древней Руси / отв. ред. М. Б. Храпченко и др. Л., 1976. С. 260-264; 2) Лексичні південнорусизми у книжній мови Давньоі Русі // Мовознавство. 1977. №1. С. 45-47; 3) Литературные слова в диалектной речи. 5. Вещь // Диалектная лексика 1982. Л., 1985. С. 55-67. (обратно)307
Горский А. В., Новоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Т. 2, вып. 1. М., 1857; вып. 2. 1859. С. 11; Евсеев И. И. 1) Книга пророка Исайи в древнеславянском переводе. СПб., 1897. С. 108; 2) Книга пророка Даниила в древнеславянском переводе. М., 1905. С. 98. (обратно)308
Раскрытие этого термина см.: Колесов В. В. Древнерусская вещь. С. 264. (обратно)309
Топоров В.Н. Прусский словарь: А—D. М., 1975. С. 135. (обратно)310
Лексика и фразеология «Моления» Даниила Заточника. Л., 1981. С. 32-33. (обратно)311
Кочин Г. Е. Материалы для терминологического словаря Древней России. М.; Л., 1937. С. 45. (обратно)312
Слоунік мовы Скарыны. Т. 1. Минск, 1977. С. 49. (обратно)313
См. разбор этих записей: Колесов В. В. Литературные слова в диалектной речи. 4. Вещь // Диалектная лексика. Л., 1986. С. 21-32. (обратно)314
См.: Колесов В. В. Проблемы средневекового знания в славянском переводе Ареопагитик // Отечественная философская мысль ХІ-ХVII вв. и греческая культура. Киев, 1991. С. 210-219. (обратно)315
См.: Малютина М.А. К истории слова белый в древнерусском языке // Учен. зап. Кишинев, ун-та. 1962. Т. 47, вып. 1. С. 43-50; Богословская О. А. Язык фольклора и диалект // Живое слово в русской речи Прикамья. Пермь, 1974. С. 140-155; Алимпиева Р. В. Семантическая структура слова белый // Вопросы семантики. Вып. 2. Л., 1976. С. 13-27, и др. (обратно)316
См.: «дияволе попьрание, тьмный цвѣте» (Усп. сб. XIII в., 319, 19). Цитаты из памятников приводятся в упрощенной орфографии. (обратно)317
Буслаев Ф.И. О влиянии христианства на славянский язык. М., 1848. С. 45-46. (обратно)318
Там же. С. 13-14. (обратно)319
Рыстенко А. В. Сказание о двенадцати снах царя Мамера в славянорусской литературе. Одесса, 1904. С. 26. (обратно)320
Jagić V. Zur Entstehungsgeschichte der Kirchenslavischen Sprache. Wien, 1902. S. 90 (63); см. также: Slovnik, 4, 155. (обратно)321
Алимпиева Р. В. Указ. соч. С. 22, 26. (обратно)322
См.: Лозбэ М. Послелог дѣля — предлог для в древнерусском языке // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. VI. М., 1968. С. 75- 89 (здесь же литература вопроса). (обратно)323
Так в списке Новгородской кормчей 1282 г.; в других списках: «того же дѣло помагати имъ» (см.: Карский Е. Ф. Русская Правда по древнейшему списку. Л., 1930. С. 28. (обратно)324
Михайлов А. В. Опыт изучения текста книги Бытия пророка Моисея в древнеславянском переводе. I. Варшава, 1912. С. 301, 321. (обратно)325
Воскресенский В. А. Древнеславянский Апостол. I. Сергиев Посад, 1892. С. 66-67, 96-97; II. 1906. С. 78-79; III. 1908. С. 38-39, 40-41, 78-79 и др. (обратно)326
Кульбакин С.М. О речничкоj страни старословенского jезика // Глас српске краљевске академиjе. Т. 138. Београд, 1930. С. 141. (обратно)327
Slovnik jazyka staroslovĕnského. I. Praha, 1966. S. 551. (обратно)328
Ibid. S. 625. (обратно)329
Ibid. (обратно)330
Ван-Вейк Н. О церковнославянском предлоге за с родительным падежом // Сб. Отд-ния рус. яз. и словесн. АН. Т. 101. Л., 1929. С. 36-38. (обратно)331
Slovnik... Т. 1. S. 550. (обратно)332
Бернштейн С. Б. Об одном чехо-моравизме в памятниках старославянского языка // Учен. зап. Ин-та славяновед. 1951. Т. 3. С. 320-327. (обратно)333
Материал см.: Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956. С. 394-402. (обратно)334
См.: Львов А. С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966. С. 269-272; здесь же литература вопроса. (обратно)335
См., напр., сопоставления, приведенные в кн.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 1964. С. 506; т. 2. 1967. С. 473; т. 3. 1967. С. 484; Толстой Н. И. Из географии славянских слов. 3. Правый—левый // Общеславянский лингвистический атлас. М., 1965. С. 133-141 (хорошо показана архаичность южнославянского ареала специально в данном отношении); здесь же литература вопроса. (обратно)336
См.: Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. 1. СПб., 1893. С. 710; т. 2. 1895. С. 69, 1348-1349, 1352-1354; т. 3. 1903. С. 1599. (обратно)337
См.: Михайловская Н.Г. Прилагательные правый—десный, левый—шуи в русском языке ХІ-ХVII вв. // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964; Мазанько И.Ф. Десный—правый // Рус. речь. 1974. №2. (обратно)338
См.: Львов А. С. Указ. соч. С. 270. (обратно)339
Православный палестинский сборник. Вып. 3 и 9. СПб., 1885. С. 15 и 34. (обратно)340
Там же. XVII, вып. 3(51). СПб., 1893. С. 7, 15, 18-19. (обратно)341
См.: Мазанько И. Ф. Указ. соч. С. 98. (обратно)342
Таким образом, приведенные тексты вошли только в первую редакцию Повести временных лет, не ранее 1116 г. (обратно)343
См.: Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 528. (обратно)344
Вопрошание Кирика // Рус. Ист. б-ка: Изд. Археограф. комиссии. 1872- 1927. Т. 6. С. 38. (обратно)345
Примеры см.: Кочин Г. Е. Материалы для терминологического словаря Древней России. М.; Л., 1937. (обратно)346
См.: Сороколетов Ф.П. История военной лексики в русском языке. Л., 1970. С. 141. (обратно)347
См.: Лопарев X. М. Хождение купца Василия Познякова по святым местам Востока // Православный палестинский сборник. Т. 4, вып. 3. СПб., 1887. (обратно)348
Назиратель. М., 1973. (обратно)349
См.: Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965. С. 91. (обратно)350
Словарь русских народных говоров. Вып. 17. Л., 1981. С. 233-241. (обратно)351
Hammerich L.L., Jakobsan R. Tonnies Fenne’s Low German Manual of Spoken Russian Pskov. 1607. Vol. 2. Transliteration and Translation. Copenhagen, 1970. P. 264, 299, 445. (обратно)352
Бердяев Н. Судьба России. М., 1991. С. 34, 86. (обратно)353
Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII-XVII вв.: Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. Л., 1973. С. 12. (обратно)354
Примеры (в упрощенной транскрипции) даются по изданиям и спискам: Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТрОДРЛ. Т. 12. М.; Л., 1956. С. 340-361; т. 13. 1957. С. 409-426; т. 15. 1958. С. 331-348 (далее ссылки в тексте с указанием тома и страниц); Никольский Н.К. Материалы для истории древнерусской духовной письменности. СПб., 1907. С. 88-94 (Канон св. Ольге) (далее ссылки в тексте сокращенно: Канон, страница, строка); Молитвы Кирилла по рукописи Ярославского музея XIII в. (№15481. Л. 89- 198 об.) (далее ссылки в тексте сокращенно: Молитвы, лист). (обратно)355
См.: Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. С. 278, 288 и др. (обратно)356
Так полагал еще Ф. И. Буслаев, см. его диссертацию «О влиянии христианства на славянский язык» (М., 1848. С. 124-125). (обратно)357
Топоров В. Об одном архаичном индоевропейском элементе в древнерусской духовной культуре — *svęt- // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 246. (обратно)358
В подготовке статьи использованы картотеки Архангельского областного словаря (Моск. ун-т); Словаря русских говоров Карелии, Псковского областного и Печорского областного словарей (С.-Петербург. ун-т); Брянского областного словаря (Рос. пед. ун-т); Смоленского областного словаря (Смолен. пед. ин-т); Словаря русских народных говоров (Ин-т лингв, исслед. РАН, С.-Петербург). Автор очень признателен коллективам словарей и их руководителям за возможность ознакомиться с этими интересными материалами. Примеры приводятся в орфографической записи; в скобках указаны места записи в сокращениях, принятых составителями картотек. (обратно)359
Грандилевский А. Родина Михаила Васильевича Ломоносова: Областной крестьянский говор. СПб., 1907. С. 144. (обратно)360
Там же. (обратно)361
Там же (обратно)362
Другим доказательством древности именно этих слов является широкое их употребление в языке фольклора, в отличие от слова жизнь, попавшего в междиалектный язык сравнительно поздно. (обратно)363
Расторгуев П.А. Словарь народных говоров западной Брянщины. Минск, 1973. С. 101: жысть и життё одинаково значат ‘жизнь’. (обратно)364
Мельниченко Г. Г. Краткий ярославский областной словарь. Ярославль, 1961. С. 66. (обратно)365
Опыт словаря говоров Калининской области. Калинин, 1972. С. 61. (обратно)366
Словарь русских говоров Среднего Урала. Т. 1. Свердловск, 1964. С. 159- 160. (обратно)367
В контексте песни: «Уж я родиной — москвич / жизнью — Нижний городок» (Живая старина. 1897. Вып. 1. С. 189). (обратно)368
См.: Шамина Н.А. Явления родовой синонимии в русском языке: автореф. канд. дис. Казань, 1971. (обратно)369
См.: Носович И.И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870. С. 155; Бялькевіч J.K. Краёвы слоўнік ўсходняй Магілёўшчыны. Мінск, 1970. С. 169; Щатэрнік М. В. Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны. Менск, 1929. С. 95; Гарэцкі М. Беларуска-маскоўскі слоўнік. Вільна, 1921; Картатэка Слоўника Тураўшчыны (Институт мовазнаўства АН БССР, Минск). (обратно)370
Каспяровіч M.J. Віцебскі краёвы слоўнік. Віцебск, 1927. (обратно)371
Бялькевіч J.К. Указ. соч. С. 170. (обратно)372
Бузук П.А. Да характарыстыкі беларускіх дыялектаў гутаркі Асіпавіцкаго раёна // Зап. аддзела гуманіт. навук. Працы класа філалёгіі. Т. 2, кн. 9. Мінск, 1929. (обратно)373
Материалы к диалектологическим атласам, как известно, касаются только этнографической лексики, и только вопросник к "Общеславянскому лингвистическому атласу" предусматривает информацию относительно наших слов. (обратно)374
Обнорский С.П. К истории словообразования в русском литературном языке // Русская речь. Л., 1927. С. 80 сл.; Виноградов В. В. К истории лексики русского литературного языка // Там же. С. 103. (обратно)375
Кульбакин С. М. О речничкоj страни старословенског jезика // Глас српске кралевске академjе. 138, разр. II. Београд, 1930. С. 91. (обратно)376
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина (по материалам этнографического бюро В. Н. Тенишева). СПб., 1903. С. 177-178. (обратно)377
Slovnik jazyka staroslověnskeho. I. Praha, 1966. S. 135-136. — Этот словарь не фиксирует употребления слов болесть и кручина, хотя они и сохранились в поздних списках трудов Клемента Словенского, пресвитера Козьмы, Иоанна экзарха Болгарского и др. (обратно)378
Бодянский И.М. Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 года с греческими и латинскими текстами / Чтения в О-ве ист. и древностей российских. 1882, кн. 4. М., 1883. С. 58. (обратно)379
В Синодальном списке I Новгородской летописи под 1232 г. об архиепископе Антонии сказано: «бысть лѣт 6 въ болѣзни той» (л. 116 об), и больше никаких употреблений этого слова тут нет. (обратно)380
Истрин В. М. Книги временныя Георгия мниха. Т. 2. Пг., 1928. С. 298 (того же мнения и другие авторы). (обратно)381
Дурново Н. Н. [Рец. на указ. соч. В. М. Истрина] Slavia, IX, seš. 4. Praha, 1931. С. 458. (обратно)382
Протопопов А. Слова простонародные, употребляемые... в Вологодской губернии. 1847 г. // Архив АН СССР. Ф. 104. Oп. 1. №81. (обратно)383
Машкин. Быт крестьян Курской губернии Обоянского уезда // Этнографический сборник Русского географического общества. Т. 5. СПб., 1862; Бодров Н. Наречие и областной словарь Переяславского уезда // Архив АН СССР. Ф. 216. Оп. 4. №17. (обратно)384
Луканин А. Сборник простонародных слов, употребляемых в... Пермской губ. 1856 г.: (Рукопись. Ин-т рус. яз., С.-Петербург, №66). (обратно)385
Дополнения к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858 г. (соответственно: псковские и казанские говоры). (обратно)386
Дилакторский П.А. Словарь областного вологодского наречия. 1902: (Рукопись. Ин-т рус. яз. №35). (обратно)387
Васнецов Η. М. Материалы для объяснительного областного словаря вятского говора. Вятка, 1907. (обратно)388
Молчанова Е.П. Материалы для словаря старожильского говора с. Павловского Барнаульского округа Западно-Сибирского края: (Рукопись, 1929-1935 гг. Ин-т рус. яз. №91). (обратно)389
Романов М. Словарь своеобразных слов в народном говоре... Северодвинской губ. 1928: (Рукопись. Там же. №126). (обратно)390
Ср. более раннюю фиксацию: болѣсть в записях А.К. Шешенина по Кемскому уезду Арханг. губ. 1887 г. (Архив РГО. Ф. 1. Oп. 1. №107). (обратно)391
Ср. ст. М. Зырянова (Пермский сб. 1860. Кн. 2, отд. 2. С. 175); Вильер-де- Лиль Адам В. Дер. Княжья гора и ее окрестности // Зап. РГО по этногр. 1871. IV. (обратно)392
Копаневич И. К. Частушки, народные припевки, собранные и записанные в Псковской губернии // ТПАО. Вып. III. Псков, 1905. С. 16. (обратно)393
См.: Словарь брянских говоров. Вып. 1, Л., 1976. С. 66; Словарь русских донских говоров. Т. 1. Ростов-н/Д., 1975. С. 345; Словарь смоленских говоров. Смоленск, 1974. С. 213. (обратно)394
См.: Псковский областной словарь. Вып. 2. Л., 1973. С. 84-85. (обратно)395
Иоан экзарх български. Слова. Т. 1. София, 1971. С. 92. (обратно)396
Соболевский А.И. Материалы и заметки по древнерусской литературе // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесн. АН. Т. XVII, кн. 3. СПб., 1912. С. 77. (обратно)397
Герасимов М.К. О говоре крестьян южной части Череповецкого уезда Новгородской губернии // Живая старина. Вып. III. 1893. (обратно)398
Буслаев Ф. И. Опыт областного великорусского словаря // Отеч. зап. 1852. Т. 85, отд. V. С. 45. (обратно)399
Гарновский К. В. [Словарик говора Опеченского р-на Новгородской обл.]. 1920-е гг.: (Рукопись. Ин-т. рус. яз., С.-Петербург. №26). (обратно)400
Волоцкий В. Сборник материалов для изучения ростовского (Ярославской губ.) говора // Сб. Отд-ния рус. яз. и словесн. (СПб.). 1902. Т. 72. С. 72. (обратно)401
Будде Е. Ф. О некоторых народных говорах Тульской и Калужской губерний // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесн. (СПб.). 1898. Т. 1, С. 882. (обратно)402
Васнецов Н. М. Материалы для объяснительного словаря Вятского говора. Вятка, 1907. С. 255. (обратно)403
Подвысоцкий А.П. Словарь областного архангельского наречия. СПб., 1885. С. 140. (обратно)404
Из самых старых записей его значение («бранное мягкое слово») указано в: Татаринов И.М. Собрание провинциальных слов, употребительных в Зарайском уезде Рязанской губернии // Труды О-ва любителей рос. словесн. Т. 20. СПб., 1820. С. 195. (обратно)405
См.: Колесов В. В. Ударение префиксальных имен в древнерусском и праславянском // Studia Slavica Hungariana. 1975. Т. 21. S. 21. (обратно)406
См.: Колесов В. В. Ударение заимствованных слов в русских памятниках ХVІ-ХVІІ вв. // Русская историческая лексикология и лексикография. Вып. 1. Л., 1972. С. 44. (обратно)407
Съвѣсть в евангельском тексте (Иоанн VIII, 9) не показательно, так как весь отрывок, в котором встречается это слово, является поздней интерполяцией: его нет ни в вульгате (латинский перевод IV в. н. э.), ни в древнеславянском переводе IX в. (обратно)408
См.: Jagić V. Zum Altkirchenslawischen Apostolus. III. Wien, 1920. S. 57, 68. (обратно)409
Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914. (обратно)410
Косогоров А. И. Ответ на программу // Материалы для изучения великорусских говоров. Вып. 11. Пг., 1922. (обратно)411
Соболевский А. И. Великорусские народные песни. Т. 4. СПб., 1898. С. 250. (обратно)412
Марков Д. А. Словарь ветлужского края // Словарная картотека ЛО ИЯ. Шифр 78 (1912 г.). (обратно)413
Романов М. Словарь своеобразных слов в народном говоре... Северо-Двинской губ. // Там же. Шифр 126 (1928 г.). (обратно)414
Симонов В. В. К вопросу о лексическом составе и способах образования в русских говорах // Учен. зап. Киров. пед. ин-та. Вып. II. Материалы кировских говоров. Киров, 1957. (обратно)415
Ларин Б. А. Из славяно-балтийских лексических сопоставлений // Вестн. Ленингр. ун-та. 1958. №14. С. 158. (обратно)416
Там же. С. 153. (обратно)417
Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна Оби. Т. 3. Томск, 1967. С. 212. (обратно)418
В древнерусских текстах ХІ-ХV вв. только такое употребление указанных глаголов при отсутствии стыдѣти (хотя возможны формы срамитися, срамлятися в церковнославянских текстах); см. примеры в Материалах Срезневского (3, 466, 475-476, 582-583). (обратно)419
Соболевский А. И. Великорусские народные песни. С. 208. (обратно)420
См.: Подвысоцкий А. О. Словарь областного архангельского наречия. (обратно)421
Селищев А. И. Диалектологический очерк Сибири. Т. 1. Иркутск, 1921. (обратно)422
3ензинов В. М. Русское Устье Якутской обл. Верхоянского уезда // Этногр. обозр. 1913. Кн. 96-97. С. 213. (обратно)423
Там же. С. 207. (обратно)424
О них см.: Колесов В.В. Фонологическая характеристика фонетических диалектных признаков // Вопр. языкозн. 1971. №4. (обратно)425
Полные выборки даны по картотекам Псковского областного словаря и Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей (далее: Пск., Карел.). (обратно)426
См.: Гринченко Б. Д. Словарь украинского языка. Т. 3. Киев, 1909. С. 24. (обратно)427
См.: Колесов В. В. Лексическое варьирование в Изборнике 1073 г. и древнерусский литературный язык (наст. сб., с. 264-272). (обратно)428
См.: Колесов В. В. Ударение префиксальных имен в древнерусском и славянском // Studia Slavica. XXL Fasc. 1-2. Budapest, 1975. S. 30. (обратно)429
Дополнение к «Опыту областного великорусского словаря». СПб., 1858. С. 152. (обратно)430
Резанова Е. И. Образцы говора и мировоззрения крестьян... Суджанского уезда Курской губернии: (Рукопись. Словарн. сектор Ин-та языкозн., С.-Петербург. №124. 1915). (обратно)431
Фактически во всех записях начиная с середины XX в. (обратно)432
Вуколов Б. Село Луковец и другие Малоархангельского уезда (Орловской губ.) // Архив АН СССР. Ф. 197. №164/2 (1914 г.). (обратно)433
Глебин И.Ф. Бронницкий уезд. 1897 г. // Там же. №118/3. (обратно)434
Ср.: Немченко В.Н. и др. Материалы для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики. Рига, 1963. С. 187 — в архаических говорах, но то же и в старых записях, ср.: Сахаров А. И. Язык крестьян Ильинской волости Волховского уезда Орловской губ. // Сб. Отд-ния рус. яз. и словесн. Т. 68. СПб., 1901. (обратно)435
Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1982. С. 665. (обратно)436
Уже достаточно рано, см. записи по тульским говорам в кн.: Труды любителей российской словесности. Вып. 20. СПб., 1820. С. 125. (обратно)437
См.: Будде Е. Ф. О говорах Тульской и Орловской губерний / Сб. Отд- ния рус. яз. и словесн. Т. 74. СПб., 1904. С. 16. (обратно)438
Федоров А. И. и др. Материалы для общесибирского словаря (хранятся в картотеке Словарного сектора Ин-та языкозн., С.-Петербург. Записи 1970-х годов). (обратно)439
Гарновский К. Местные слова, записанные в Боровичском уезде Новгородской губ.: (Рукопись Ин-та рус. яз. 1923-1928 гг.). (обратно)440
См.: Зырянов А.Н. Язык у шадринских крестьян, 1856 г. // Архив РАН. Ф. 216. Оп. 4. №140; Лепорский А. Слова и выражения... употребляемые жителями в обыкновенных разговорах, собранные в Пермской губернии Оханского уезда села Черновского, 1854 // Там же. Ф. 216. Оп. 4. №79, и мн. др. (обратно)441
См.: Тиховидов А. Словарь местных слов Вятской губ. 1848: Рукопись // Там же. Ф. 216. Оп. 4. №43. (обратно)442
Козлов X. Собрание простонародных слов // Тамбовские губ. ведомости. 1851. №9, отд. 3. С. 45. (обратно)443
Муллов П. Дополнения к «Опыту областного великорусского словаря»: Рукопись Архива РАН. Ф. 216. Оп. 4. №193. (обратно)444
Горелин Я.П. Этнографическое описание Шуйского уезда и его окрестностей: Рукопись РГО. 6, 1, 73. (обратно)445
Преображенский В. Тверской областной словарь // Тверские губ. ведомости. 1860. №253. С. 85. (обратно)446
По записям А. С. Машкина среди рукописей Архива РАН (см.: ф. 216. Оп. 4. №93: «Местные слова Обоянского уезда» и др.). (обратно)447
Мудров А. Н. Словарь Сольвычегодских провинциальных слов: Рукопись 1821 г. (хранится в Ин-те рус. языка). (обратно)448
См.: Резанова Е. И. Образцы говора и мировоззрения крестьян...; Расторгуев П.А. Словарь народных говоров Западной Брянщины; Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь, и др. (обратно)449
Вильер-де-Лиль-Адам В. Деревня Княжая гора и ее окрестности. Этнографический очерк // Зап. РГО по отд-нию этногр. 1871. Т. 4. С. 261 (лужские говоры Петербургской губ.). (обратно)450
Подробности и материал с указанием источников см.: Колесов В.В. Лексическое варьирование в Изборнике 1073 года..., с. 264 и сл. наст. сб.(обратно)
451
Сухомлинов М. И. Рукописи графа А. С. Уварова. Т. 2. СПб., 1858. С. 131. (обратно)
Последние комментарии
7 часов 59 минут назад
1 день 3 минут назад
1 день 8 часов назад
1 день 8 часов назад
3 дней 15 часов назад
3 дней 19 часов назад