ББК 85.143.(2)4 С 29
ОК ПОК 953000
Селицкий А.Я. Николай Каретников.Выбор судьбы: Исследование. — Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 1997. — 368 с., илл.
© А.Я. Селицкий, 1997
Памяти дочери
ВВЕДЕНИЕ
История послеоктябрьской русской музыки переписывается ныне наново, освобождаясь от априорных эстетических и идеологических установок. Возвращаются приговоренные к забвению имена, возрождаются неизвестные или забытые творения, заполняются «белые пятна». Идет переоценка ценностей. Музыкантов вряд ли ожидает нечто аналогичное обвальным публикациям «отреченных шедевров», создавшим литературно-журнальный бум конца 80-х годов. Но и в нашей сфере пока остаются в тени многие свершения, а значит, музыкальной науке предстоит еще сделать немало.
Российское музыковедение наших дней озабочено пересмотром официозно-директивных представлений об успехах и неудачах, о подлинных и мнимых величинах, о «живом и мертвом» в советской музыке. Вся история отечественной музыкальной культуры (даже дооктябрьской) подернута патиной умолчаний, лукавых многоточий, неловких передержек и грубых подмалевок. Задача состоит в том, чтобы, не впадая в противоположную крайность, не заменяя механически все плюсы на минусы и минусы на плюсы (это означало бы всего лишь «конъюнктуру наоборот»), подойти к относительно недавнему прошлому непредвзято, с художественных позиций.
Вероятно, когда-нибудь будет создан труд, подобный пятитомной «Истории музыки народов СССР» (М., 1970—1974), завершаемой, спустя четверть века, двумя дополнительными томами. В известном смысле, подготовка к гипотетическому новому сводному изданию уже ведется: пишутся исследования, посвященные тем или иным периодам, жанрам, стилевым тенденциям советской музыки1, отдельным творческим фигурам. В череде таких начинаний мыслит автор и предлагаемую работу.
Среди мастеров своего поколения Николай Каретников (1930—1994) по сей день продолжает оставаться самым неизвестным из крупных российских композиторов. Или — самым крупным из неизвестных. Однако в последнее время все отчетливее вырисовывается масштаб явления, складывается оценка творчества Каретникова как значительной фигуры русской музыки второй половины XX века. Горько сознавать, но после скоропостижной кончины композитора процесс этот стал двигаться быстрее. Все чаще его имя справедливо ставят в один ряд с С. Губайдулиной, Э. Денисовым, А. Шнитке. В свое время о сочинениях Каретникова приветственно отзывался Д. Шостакович (257: 84; 83: 44, 93).
Вот более поздние высказывания.
А. Шнитке (в ответ на вопрос, кто из представителей современного музыкального искусства ему ближе других): Из моих соотечественников для меня важны сегодня творческие контакты с С. Губайдулиной, Э. Денисовым, Н. Каретниковым, В. Артемовым (254: 28).
С. Слонимский: Вы заметили у наших критиков пристрастие к «тройкам»?.. Раньше были Хренников — Кабалевский — Хачатурян, сейчас Шнитке — Губайдулина — Денисов. Но вот уже Каретников в этот ряд не попал, лишь потому, что он «четвертый». Ужасно обидно за этого композитора, любимого, насколько я знаю, и Губайдулиной, и Шнитке (189).
М. Тараканов: Музыка Каретникова ничуть не уступает тем современным созданиям, которые принадлежат перу композиторов, ныне завоевавших признание как среди музыкальной общественности нынешней России, так и за ее пределами (201: 106). Речь — о серьезном мастере, идущем своею дорогой и потому обладающем тем качеством неповторимости, которое обеспечивает ему прочное место в искусстве (200: 7).
Зарубежная печать называла его удивительным композитором, подлинным открытием, отмечала выработанный им своеобразный, ни на кого не похожий стиль, мощную творческую индивидуальность (154: 15). Однако высказывания эти родились, в основном, под впечатлением от двух-трех поздних созданий композитора. Большинство же зрелых сочинений Каретникова по-прежнему незнакомо слушательской аудитории, особенно отечественной, хотя к ним в разное время обращались Г. Рождественский, Э. Клас, Р. Матсов, В. Гергиев, А. Лазарев, В. Понькин, О. Каган, М. Лубоцкий, А. Ведерников, М. Юдина, В. Фельцман, Л. Берман, 3. Долуханова, Л. Исакадзе, С. Безродная.
Обидно, когда композитор, достойный слушателя, пребывает в безвестности. Вдвойне, втройне обиднее, если художник познал успех и признание в молодости, а в пучину немоты оказались ввергнутыми его более поздние и, бесспорно, более сильные опусы. В начале 60-х годов два балета Каретникова шли на сцене Большого театра, собрав тогда немалую, пусть и неоднозначную в оценках, прессу. Даже о совсем молодом Каретникове, студенте консерватории, газеты и журналы вспоминали чаще, нежели в 70—80-е годы. Приветствовались сочинения, которые автор потом исключил из списков: две симфонии, оратория, хоры.
Все было хорошо, пока композитор не выходил за рамки дозволенного. А недозволенным в то полное надежд «оттепельное» время было многое, очень многое. Нарушение священных рубежей каралось незамедлительно и строго, эстетические «прегрешения» разоблачались как идеологические преступления. Каретникову, одному из пионеров советского музыкального авангарда, довелось в полной мере испытать на себе все прелести запретительно-проработочной политики со стороны руководства Союза композиторов, Министерства культуры. На долгие годы, на десятилетия он был, что называется, изъят из обращения. Ни тяга к трагедийной проблематике, ни серьезное увлечение «порочными» принципами 12-тоновой техники не вписывались в догматы социалистического реализма. А независимая и бескомпромиссная натура знающего себе цену художника не отвечала устойчивым представлениям о том, как подобает вести себя в «инстанциях» молодому автору.
В 60-е годы практически «в стол» сочинялся ряд камерных и симфонических произведений. Их ожидало в лучшем случае «одноразовое» исполнение и запись «для себя» на магнитофонную пленку. Два следующих десятилетия были почти целиком отданы созданию двух капитальных оперных партитур, тоже без расчета на сценическое воплощение, — «Тиль Уленшпигель» и «Мистерия апостола Павла».
Не оправдались надежды на «престижное» исполнение Третьей симфонии. В середине 60-х, во время своего визита в Советский Союз, с сочинениями Каретникова познакомился и одобрил их Л. Ноно2. Вскоре, по рекомендации авторитетного итальянского композитора, Каретников получил предложения выслать свои партитуры по ряду зарубежных адресов; намечалась череда премьер. Но и этим упованиям не суждено было сбыться: после вторжения советских войск в Чехословакию летом 1968 года рукописи вернулись по почте обратно.
У товарищей по несчастью, лидеров советского авангарда, солнце над небосклоном признания стало всходить много раньше. Для Каретникова же забвение длилось около двадцати пяти лет. Его перестали включать даже в «черные списки», которые по-своему также обеспечивали популярность, пусть и скандальную. В частности, он не попал в знаменитую «хренников-скую семерку» (Е. Фирсова, Д. Смирнов, А. Кнайфель, В. Суслин, В. Артемов, С. Губайдулина, Э. Денисов), высочайше обруганную на VI съезде Союза композиторов (1979) именно за приобретение известности на Западе.«В вашем журнале есть рубрика «Возвращенные имена», — говорил Каретников корреспонденту «Огонька» в 1989 году. — Так вот я - невозвращенное имя» (44: 15).
Как и другим коллегам сходной судьбы, ему помогли выжить кинематограф и драматический театр. Выжить и физически (прокормиться), и творчески. Он участвовал в создании десятков фильмов, среди которых «Мир входящему», «Бег», «Скверный анекдот», «Голос», «Власть Соловецкая». На телевидении с его музыкой снят «Тевье-молочник». Немало ярких, оставивших след в театральной Летописи работ связано со столичной драматической сценой: «Десять дней, которые потрясли мир» в Театре на Таганке, «Король Лир» и «Заговор Фиеско в Генуе» в Малом, «Макбет» в ЦАТСА. На протяжении огромного отрезка творческой жизни Каретников воспринимался как преуспевающий кинокомпозитор, и это его больно ранило.
Он успел дождаться отечественной грамзаписи, французского компакт-диска и немецкой премьеры оперы «Тиль Уленшпигель», успеха в стране и за рубежом двух циклов духовных песнопений, новых компакт-дисков с камерными сочинениями, исполнения в Англии и Швеции Четвертой симфонии, авторского концерта в Рахманиновском зале, серии интервью в печати разных стран, выхода посвященных ему телефильма и радиопередач.
Не прошли незамеченными и автобиографические новеллы композитора, общим числом более ста, публиковавшиеся в периодике и вышедшие отдельными изданиями. Это краткие, захватывающие сжатой энергией изложения эпизоды из жизни, нередко язвительные и саркастичные настолько, что приближаются к анекдоту, хотя описанное происходило на самом деле. Некоторые из них, напротив, представляют собой более развернутые «портреты», согретые любовью и благодарностью: М. Юдина, В. Шебалин, Г. Нейгауз, Я. Зельдович, А. Габричевский, А. Галич, отец Александр (Мень)...
За перипетиями биографии, трагикомическими казусами, погруженные в «фактуру», звучат в новеллах сквозные мотивы, чрезвычайно дорогие и Каретникову-композитору: многоликость и искусительность зла, неразрешимость многих жизненных коллизий, неотделимость творческих, эстетических проблем от проблем историко-социальных и нравственно-этических, неприятие безмыслия и двоемыслия и их родича — филистерства в искусстве и жизни. Нет, это не романтический конфликт благородного и безгрешного художника с «окружающей действительностью». Каретников беспощаден к себе не менее, чем к другим.
Новеллы написаны, конечно же, человеком, причастным к миру кинематографа и театра. Некоторые напоминают фрагменты сценария, режиссерскую запись или монтажный лист фильма, где зафиксированы мизансцена, пластический рисунок ролей, интонационно-речевая повадка персонажей, характеристические и изобразительные детали. В то же время глубина второго плана, способность сквозь факт увидеть явление, концепционность мировосприятия близки зрелым симфоническим произведениям Каретникова. Подчеркнутым вниманием к вопросам религии, веры перекликаются они с духовно-хоровыми циклами и операми. А весомость мельчайших подробностей, нетривиальная лепка упругой афористической фразы, лаконизм и непредсказуемость формы, неожиданные «о’генриевские концовки ассоциируются с его камерно-инструментальной музыкой.
Наделены новеллы и своеобразным литературным шармом, как бы маскирующимся под «долитературную невинность», как выразился в послесловии к первой книге новелл писатель А. Ким (99: 109). Задерживаемся на новеллах, ибо вполне вероятно, что они пока — едва ли не самое известное сочинение Каретникова, а для многих — единственно известное... Книга «Темы с вариациями» увидела свет в 1990 году, она опубликована также в Париже во французском переводе. В год смерти автора вышло ее переиздание, с добавлением второй книги новелл, под общим названием «Готовность к бытию» (83).
В 1994 году композитор скоропостижно скончался от второго инфаркта. Некрологи поместили многие российские газеты и журналы, а также «Таймс», «Индепендент», «Гардиан» (Великобритания), «Либерасьон», «Монд», «Русская мысль» (Франция). На письменном столе осталась незавершенной Вторая камерная симфония. Премьера «Мистерии апостола Павла» состоялась в Германии год спустя.
Материалом исследования является творческое наследие композитора, изученное по первоисточникам. Наиболее важную их группу составляют нотные тексты. Автором проанализированы все издания произведений Каретникова, отечественные и зарубежные. Неопубликованные опусы исследовались по рукописям.
Вторая группа первоисточников — рабочие материалы: эскизы, карандашные наброски, черновики, дирекционы и серийные таблицы, без которых был бы крайне затруднен анализ техники сочинения додекафонных опусов (эти первоисточники ранее никогда и никем не изучались).
Третья группа — звукозаписи произведений Каретникова, хранящиеся, в основном, в его домашней фонотеке. Поскольку, в силу описанных обстоятельств, большинство сочинений 60—80-Х годов не имели ни малейших шансов выйти на концертную эстраду, многие записи осуществлялись чуть ли ни тайно, практически без репетиций, и потому они весьма несовершенны в исполнительском отношении. Записи же исполнявшихся произведений сделаны на бытовой аппаратуре; качество их оставляет желать лучшего. Фонограммы кинофильмов и драматических спектаклей дали автору счастливую возможность ознакомиться с работой Каретникова в постановках, уже сошедших со сцены и экрана, с музыкой к фильмам, выход которых в прокат был надолго задержан, или до сих пор ждущих встречи со зрителем.
В особую, четвертую группу первоисточников входят материалы эксклюзивные, появившиеся в процессе личного общения автора с Каретниковым в 1988—1994 годах. Таковы письма, в которых композитор сообщил составленный им уточненный список основных сочинений, высказал суждения по широкому кругу вопросов, в частности, изложил свое понимание додекафонии. Специально для настоящей работы автором записана в 1988 году серия интервью. Из них, а, также из устных бесед почерпнуты уникальные сведения о биографии Каретникова, его творчестве, взглядах. Выдержки из материалов этой группы приводятся в тексте книги как неоговоренные цитаты.
Наконец, пятую группу образуют литературные работы композитора. Это статьи «Немного о музыке в кинофильме» и «Концертный зал человечества», опубликованные в качестве приложения к книгам новелл. К этой же группе следует причислить и сами новеллы. Те и другие используются в книге как «ключи» к личности и творчеству мастера.
Хронологически список литературы о Каретникове состоит, в основном, из двух групп публикаций: 50-х — начала 60-х годов и конца 80-х — 90-х. В 1988 году, когда возник замысел этой работы, и в 1991-м, когда был готов ее первый вариант, современных специальных работ о нем почти не было.
Ранние отклики представляют немалую историческую ценность, характеризуют не только произведения композитора, но и идейно-художественную атмосферу тех лет. Разумеется, с сегодняшних позиций, а также в свете последующего развития творчества Каретникова, многое видится по-другому и нуждается в существенном переосмыслении. Среди новейших публикаций преобладают информационные заметки, упоминания в
газетных и журнальных обзорах, интервью, в лучшем случае — материалы, связанные с драматической судьбой художника. Работы же исследовательского характера крайне немногочисленны. Единственными монографическими очерками, дающими более или менее цельное понятие о творческом облике Каретникова и содержащие глубокие, проницательные суждения о стиле композитора, его месте в современном музыкально-историческом процессе, являются работы М. Тараканова (200; 201). Однако и они, будучи по необходимости краткими, не охватывают наследия мастера целиком, высвечивают лишь отдельные сочинения или свойства музыки.
Характерно, что в целом ряде трудов, имевших своей целью дать панорамный взгляд на советскую музыку 50—80-х годов и охвативших широкий спектр духовных и художественных устремлений, стилевых тенденций, жанров, композиторских имен, Каретников не фигурирует вовсе или бегло упоминается в перечнях (49; 141; 192; 193). Не приходится сомневаться: учти авторы в своих концепциях феномен Каретникова, выводы их были бы иными. Без столь значительной и своеобразной творческой личности рисуемая картина лишается целостности, дает о послевоенном отечественном музыкальном искусстве неполное и в чем-то, не побоимся утверждать, неверное представление.
В книге собраны, обобщены и критически осмыслены многочисленные частные замечания о музыке Каретникова, рассеянные по различным источникам. Использован обширный документальный материал более чем за 40 лет: газетные и журнальные рецензии ( начиная с 1952 года), опубликованные и неопубликованные воспоминания соучеников композитора, интервью Каретникова в печати, на радио и телевидении.
Особое место среди документальных источников принадлежит двум книгам новелл композитора. Они часто цитируются или упоминаются на страницах нашего исследования (в тексте указываются только их названия), что позволяет услышать живой голос композитора. Для знания фактов биографии, для проникновения в духовный мир Каретникова они представляют собой материал поистине драгоценный. Важны они и для ощущения «времени и места» — какими они запечатлелись в сознании художника.
«Я не придумал ни одного слова», — писал Каретников в преамбуле к «Темам с вариациями». Внимательно изучая его жизненный путь, перепроверяя одни данные другими, сопоставляя новеллы с иными документальными свидетельствами, приходилось убеждаться: память иногда подводила мемуариста, кое-где пристрастность оценок оборачивалась очевидной необъективностью. Оно и не удивительно: новеллы вышли из-под пера художника, а не хроникера или летописца. Все «неточности» (за исключением фактологических погрешностей) получают здесь статус абсолютной истины, ибо перед нами, по слову В. Тредиаковского, «поэтическое вымышление», а не злонамеренное лжесвидетельство. Если не относиться к литературным опытам композитора как к учебнику истории, то следует признать, что вопрос, так ли все было или по-другому, теряет принципиальность. Куда важнее оказывается то, как именно увидел и запомнил новеллист происходившее с ним в разные годы. И если в какой-либо новелле слишком явственно проявилось чувство обиды или неприязни к кому-то из гонителей, то эта обида и эта неприязнь суть сами по себе исторический факт. «Мемуарист должен быть страстен и несправедлив. Чтобы не скатиться к объективизму» (190: 12), — под этим парадоксальным заявлением Б. Слуцкого Каретников, вероятно, поставил бы свою подпись. Поэтому, постоянно ссылаясь на новеллы, автор нередко дополняет, поправляет своего героя, а то и вступает с ним в полемику.
В работе охвачена литература об отечественной музыке 50—90-х годов, в частности, о поисках лидеров советского авангарда. Привлечены также источники, связанные с творчеством кинорежиссеров и балетмейстеров, с которыми сотрудничал Каретников, публикации о деятелях искусства и науки, с кем он общался, о людях, оказавших на него влияние (А. Алов и В. Наумов, Н. Касаткина и В. Василёв, В. Шебалин, А. Габричевский, А. Мень). Автор опирался на исследования по различным вопросам музыкального творчества (история жанров и стилей, техника сочинения и т.п.), по философии и эстетике, другим видам искусства, произведения художественной литературы и др.
Предлагаемый труд — первая монография о Каретникове. Этим обстоятельством диктуются цели работы. В наиболее общем виде они формулируются как стремление воссоздать и осмыслить творческий путь композитора на всем его протяжении, дав его по возможмости целостный и разносторонний анализ, показав уникальность и ????? типичность
фигуры Каретникова для советской музыки послевоенных десятилетий. Названными целями обусловливаются, а изучаемым материалом корректируются задачи исследования.
Анализируя совершенно не освещенные в литературе годы творческого становления художника, мы намерены уделить внимание сфере интересов, кругу общения, источникам творческих воздействий, то есть факторам, определившим формирование личности и композиторского таланта юного Каретникова. Изучая ранние сочинения — те самые, от которых композитор впоследствии в резкой форме откажется, — мы постараемся обнаружить как ростки зрелого стиля, так и субъективные основания для резко отрицательной, тенденциозно заниженной самооценки, полученной ими позднее.
Рассмотрение начального периода творческой биографии поможет вскрыть побудительные мотивы, внутреннюю сущность и последствия совершившегося во второй половине 50-х годов мировоззренческого перелома — прихода двадцатисемилетнего композитора к православию, во многом и главном предопределившего последующий путь художника. Здесь же будет выделен в специальную проблему происходивший стилевой перелом, выразившийся прежде всего в обращении к додекафонному методу. В связи с этим необходимо уяснить: почему 12-тоновая техника оказалась настолько близка композитору, что он сохранил верность ей на всю жизнь; как отразилось использование додекафонии на его музыке; какими путями Каретников пришел к ней, как именно ею пользовался; в чем состояли его личные открытия в этой области.
Изучая наследие зрелого Каретникова по жанрам, автор видел свои задачи в том, чтобы установить каналы и способ взаимодействия жанров, их взаимообмена, обрисовать систему жанров в творчестве композитора; определить, с одной стороны, место каждого жанра в наследии мастера, а с другой — значение его сочинений для развития данного жанра в советской музыке в целом; показать, как трактует композитор общераспространенные, широко культивируемые жанры, какие новые жанровые виды он открывает, в каком обличье возрождаются в его произведениях «забытые "жанры».
Одна из сквозных задач монографии — выявление особенностей художественного мышления и стиля Каретникова.
Исследуя очерченные проблемы, автор стремился постоянно держать в поле зрения общую картину развития отечественной музыки, соотносить искания композитора с творчеством его соратников по так называемому советскому авангарду, других композиторов его поколения, их старших и младших коллег. Тем самым, предпринята попытка приблизиться к решению сверхзадачи работы — определить место Каретникова в послевоенной музыке бывшего СССР.
Монография состоит из Введения, сгруппированных в две части десяти глав и Заключения. Первые две главы доводят рассмотрение жизни и творчества Каретникова до конца 50-х годов. Биографический материал в них преобладает, и потому автор счел возможным использовать более свободный стиль изложения. Третья глава существенно отличается от предыдущих как по содержанию, так и по литературной стилистике. Обращена она к проблемам додекафонии, без овладения которой не состоялся бы «новый» Каретников. Материалом анализа служат здесь практически все инструментальные (и некоторые другие) сочинения, появившиеся после 1959 года; таким образом, глава может считаться связующей между первой и второй частями.
Творчество зрелых лет исследуется по жанровому принципу. Тем самым, во второй части на передний план выдвигается проблема жанра, остающаяся краеугольной проблемой музыкальной науки. Биографические же сведения, напротив, занимают подчиненное место: внешняя канва жизни композитора «периода гонений и запретов» небогата событиями. Распределение материала по главам обусловлено избранным принципом, структура глав — доминирующей в них проблематикой, а их порядок - не в последнюю очередь тем местом, которое занимает соответствующий жанр в наследии композитора. Так, к примеру, сочинения для музыкального театра анализируются порознь. Глава о балетах (четвертая) открывает вторую часть не только потому, что все балетные партитуры появились в 60-е годы, но и потому, что они предвосхитили многие находки композитора в других жанрах и, следовательно, помогают в образном толковании имманентно-музыкальных концепций чисто инструментальных опусов. Оперы же рассматриваются в заключительной главе (десятой), ибо роль их в творчестве Каретникова — обобщающая, итоговая.
Инструментальной музыке посвящены главы с пятой по седьмую. Материал в этом «блоке» распределен по принципу «от малых исполнительских составов к большим»: начиная с сольных и ансамблевых сочинений, мы движемся затем к Камерной симфонии и оркестровым концертам, а от них — к зрелым симфоническим партитурам. Глава о театральной и киномузыке (восьмая) идет вслед за ними, а не после анализа всех основных жанров, как почти всегда бывает в подобных монографиях. Сделано это, во-первых, в силу особых отношений, сложившихся в творчестве Каретникова между данным жанром и другими, во-вторых, потому, что музыка московского мастера к драматическим спектаклям и кинофильмам — это инструментальная музыка. Таким образом, рассмотрение балетной и прикладной музыки естественно обрамляет инструментальные главы. Кроме прочего, такая последовательность обеспечивает непосредственное соседство анализа духовно-хоровых циклов (девятая глава) и опер, что отвечает реальной близости этих жанров в наследии композитора по времени создания произведений, по обращению к слову и, что самое важное, по открытому звучанию религиозной темы.
Если центральные разделы глав посвящены разбору произведений, то разделы вводные и заключительные касаются более общих вопросов: поэтики жанра, его эволюции в советской музыке 50 —80-х годов. В зависимости от темы и материала главы свершения Каретникова вписываются в соответствующий контекст творческих исканий современников.
Приложение включает список сочинений Каретникова, список литературы и нотные примеры. Монография снабжена подробным Оглавлением, где дается краткий тезисный план глав.
Считаю приятным долгом выразить благодарность коллегам, работающим на кафедре истории современной отечественной музыкальной культуры Московской консерватории, где автор стажировался в 1995—1996 годах, подготавливая предлагаемый труд к защите в качестве докторской диссертации, — Е.Б. Долинской, И.К. Кузнецову, Т.А. Курышевой, Л.Д. Никитиной, Е.И. Тарасенковой. Склоняю голову перед памятью своего научного консультанта М.Е. Тараканова, незадолго до кончины успевшего прочитать окончательный вариант рукописи. Сердечно благодарю М.Д. Сабинину, Е.Г. Сорокину, А.С. Курцман (Москва), А.М. Цукера, Е.Г. Шевлякова (Ростов-на-Дону), Б.С. Гецелева, Т.Н. Левую (Нижний Новгород), Е.Р. Скурко, Н.А.Спектор (Уфа), А.И. Демченко (Саратов), А.О. Кармадонову (Краснодар), знакомившихся с текстом или его фрагментами на разных стадиях работы и высказавших ценные советы и замечания, а также композитора В.С. Ходоша, хорового дирижера Э.Я. Ходош и священника Алексия Скрипникова (Ростов), оказавших необходимую помощь своими консультациями. Самые искренние слова признательности семье Н.Н. Каретникова, чье деятельное участие ускорило завершение рукописи и подготовку книги к печати.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
НАЧАЛО ПУТИ. ВРЕМЯ И МЕСТО. ПОИСКИ И ОБРЕТЕНИЯ
ГЛАВА 1. ЮНЫЕ ГОДЫ
Пролог
Каретников родился в Москве 28 июня 1930 года.
Биография человека, тем более художника, начинается задолго до его рождения. Своим появлением на свет, обстановкой, в которой прошли ранние годы, да и многим в дальнейшей жизни Каретников обязан странному, причудливому «скрещенью судеб». Причудливому настолько, что оно может показаться плодом фантазии романиста. Не заглядывая в историю слишком далеко, отступим всего на десять лет и перенесемся на Юг России.
1920 год. Крым, восточное побережье, поселок Коктебель. Погасший вулкан Карадаг, прокаленные солнцем и выжженные жарким суховеем каменистые холмы. Седая полынь, пахучий чабрец, живописные колючки. Песчано-галечная прибрежная полоса. Море. Киммерия — так называли этот край древние греки.
В начале века «молчаливые, торжественно-пустынные берега» облюбовал Максимилиан Волошин, чтобы воспеть их в своих акварелях и стихах. Коктебель и Волошин словно отразились друг в друге:
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.
Поэт, художник, переводчик, критик, он обладал еще одним редким даром — притягивать людей искусства, создавать атмосферу несколько богемной вольности и братства, раскрывать и пестовать таланты. Марина Цветаева признавалась, что обязана ему первым самоосознанием себя как поэта (234: 505). Гостями «Макса» были А. Толстой и Замятин, Гумилев и Брюсов, Мандельштам и Ходасевич, Андрей Белый, Чуковский, Нейгауз, Сергей Михайлович Соловьев — поэт и религиозный деятель, внучатый племянник и полный тезка знаменитого историка. Упомянем в этом славном ряду и А. Габричевского, с которым судьба сведет Каретникова в 50-е годы. В гостеприимном доме Волошина в иные летние месяцы живали до пятисот человек. Надо ли после этого специально говорить о том, что сам воздух Коктебеля, казалось, был наполнен ароматом искусства и многозначащих встреч! (Животворный этот фермент сохранялся в дыхании киммерийских скал очень долго. Достаточно вспомнить, что в их соседстве сочинен и сценарий «Андрея Рублева», и многие строки Иосифа Бродского.)
Здесь перед первой мировой войной, завершив свою блистательную артистическую карьеру, обосновалась и знаменитая русская певица Мария Андриановна Дейша-Сионицкая. Критика называла ее, обладательницу великолепного драматического сопрано, «настоящим украшением мариинской сцены», потом «крупнейшей силой Большого театра». За восемь петербургских лет и семнадцать московских она спела более сорока оперных партий. Впервые в Москве она выступила в ролях Ярославны, Земфиры, Купавы, Лизы, создав также образы Антониды, Гориславы, Наташи, Веры Шелоги, Агаты, Татьяны, Марии, Иоланты, Кумы. Ее высоко ценили крупнейшие музыкальные авторитеты3. В газетной статье 1902 года читаем:«Сильный, гибкий голос, прекрасно обработанный; безукоризненный драматический талант; чудесное понимание характера исполняемой роли» (219).
Еще выступая на оперной сцене, Мария Андриановна разворачивает концертную деятельность, которая носит отчетливо выраженный просветительский характер. Она — активная участница керзинского «Кружка любителей русской музыки», член Московского общества содействия к устройству общеобразовательных народных развлечений (!), одна из организаторов Московской народной консерватории, инициатор проведения вечеров «Концерты иностранной музыки». В 1907 году Мария Андриановна на собственные средства устраивает «Музыкальные выставки», имеющие целью познакомить слушателей с сочинениями широкого круга современных композиторов, привлекает к этому предприятию крупные исполнительские силы Москвы, почти во всех концертах поет сама; входные билеты бесплатные.
В быту Мария Андриановна исповедовала строгие правила хорошего тона, что даже послужило причиной долголетней «войны» с волошинской вольницей, описанной в автобиографической прозе Вересаева (24: 136 —137), новелле Каретникова «Как я стал “Почетным планеристом”» и вызывающей сегодня лишь улыбку ностальгии по навсегда ушедшим временам и нравам.
Революция застигла бывшую примадонну в Крыму, в должности заведующей музыкальной частью одного из коктебельских санаториев. За три послереволюционных года Крым пережил установление Советской власти в Феодосии, оккупацию германскими войсками, высадку соединений Антанты, захват армиями Деникина и Врангеля, разгром белых частями Красной армии под командованием Фрунзе. То были последние боевые действия гражданской войны. Поражение белых, их отход к портам и эвакуацию почти восьмидесяти тысяч офицеров, солдат и гражданских лиц опишет потом Булгаков в пьесе «Бег». Когда Каретников, работая над музыкой к фильму по ее мотивам, будет смотреть только что отснятый материал — переход через Сиваш, сабельная атака, — ему покажется, что камера вот-вот выхватит из лавы «красных» лицо отца.
Выходец из замоскворецкой рабочей среды, Николай Георгиевич Каретников встретил революцию в возрасте восемнадцати лет. Пошел в Красную армию, воевал, дослужился до должности заместителя командира полка. Фронтовые дороги привели его в Коктебель как раз тогда, когда на Крым, не успевший перевести дыхание после братоубийственной войны, жестокости обоюдного террора, массовых расправ, обрушилась новая страшная беда — голод. В отдельные месяцы на полуострове умирало до двадцати тысяч человек. Красноармейцев кое-как снабжали продовольствием, курортники давно разбежались, местные жители перебивались, кто как мог.
Тяжелее всего пришлось таким, как Дейша-Сионицкая. Пер-спектива голодной смерти представлялась устрашающе реальной. Кажется непостижимым, что незавидная участь этих «осколков старого мира» тронула сердце юного красного командира. Ведь сражался, бил «буржуев», и бил, надо полагать, неплохо, коль продвигался по службе. Объяснение видится только одно: классовая ненависть не ослепила, оказалась не самым сильным чувством, природные доброта и отзывчивость взяли верх. Может быть, Каретниковым-старшим двигала еще и инстинктивная, «внеклассовая» симпатия к людям искусства — как выражение собственных наклонностей?
Так или иначе, но знакомство отставной солистки императорских театров и двадцатилетнего замкомполка состоялось «по поводу» миски солдатской каши. У красноармейца обнаружился приятный, красивого тембра, хотя и не сильный баритон. Это не могло оставить равнодушной поборницу народного просвещения и музыкального образования. Отношения постепенно переросли в дружеские, почти родственные. Вскоре «почти» было отброшено: стареющая, одинокая, никогда не имевшая детей артистка усыновила молодого человека. Усыновление не носило официально-юридического характера, у Николая Георгиевича была жива родная мать, но это не меняло сути дела. В Москву они вернулись вместе, и Каретников-старший поселился у Марии Андриановны на правах сына.
Мы покидаем Коктебель, но не навсегда прощаемся с ним. С детства и на многие годы поселок станет любимым местом отдыха композитора. Здесь протекут драгоценные часы общения с А. Габричевским и Г. Нейгаузом. Но еще более важно иное: неповторимая духовная атмосфера «времени и места», в которой символически слились всепокоряющие токи русской культуры и грандиозного социального катаклизма, каким-то образом сказалась в самой музыке Каретникова.
В Москве Мария Андриановна, несмотря на преклонный возраст, окунулась в педагогическую деятельность. Приглашенная в 1921 году на должность профессора консерватории, она преподавала также на музыкальном рабфаке и в Первом московском музыкальном техникуме, написала адресованную молодым вокалистам книгу «Пение в ощущениях», изданную «Музсектором» в 1926 году. Николай Георгиевич учился в классе приемной матери. Окончив консерваторию, преподавал, занимал небольшие административные посты в Управлении искусств, Наркомпросе, директорствовал в музыкальной школе, не оставляя работу педагога-вокалиста. Благодаря Марии Андриановне он попал в новый для себя круг общения, в иной стиль жизни. В доме на Большой Бронной, позади Камерного, театра, постоянно бывали коллеги Дейши-Сионицкой, старые друзья, заходили Таиров с Коонен, Аркадин. Сюда же привел Николай Георгиевич молодую жену, с которой познакомился в классе Дейши-Сионицкой.
Мать будущего композитора Мария Петровна имела незаурядные вокальные данные. По сохранившемуся в семье преданию, она, появившись в Москве из провинции в начале 20-х годов, не имея никакого музыкального образования, была буквально с улицы взята в Большой театр и сразу получила партию Лизы в «Пиковой даме». То же предание гласит, что слышавший ее на репетиции Ипполитов-Иванов якобы заметил: такие голоса рождаются раз в сто лет. Увы, дальше репетиций дело не пошло. Потрясенная трагическим известием о гибели (первого) мужа, Мария Петровна потеряла голос. Так она попала в многоопытные руки Марии Андриановны, которая совершила невозможное. Голос вернулся, но как бы с одним условием: звучал дома и в классе, но отказывался служить на сцене. Карьера оперной солистки кончилась, не начавшись, однако с искусством, музыкой, вокалом, Мария Петровна не порвала, проработав много лет в вокально-драматической части МХАТа, давая частные уроки пения.
Детство
«Я родился и вырос под вокальные упражнения», — говорил композитор. Пели отец, мать и «бабка», занимались с учениками. Звучала главным образом русская музыка. Обширный репертуар, особенности и возможности разных голосов были усвоены естественно и непринужденно, и можно только удивляться тому, что на протяжении десятилетий вокальные сочинения занимали в творчестве Каретникова более чем скромное место. Как полагается ребенку из музыкальной семьи, семилетний Коля был отдан в районную музыкальную школу и даже делал немалые успехи в овладении фортепиано: в десять-одиннадцать лет ему уже поручали аккомпанировать на домашних уроках.
Но главным занятием, страстью было чтение. Читал всегда и везде: дома, где еще не знающему букв ребенку позволялось листать книги из «бабкиной» библиотеки; в летние месяцы — в Крыму, в доме Волошина, где «внук Дейши-Сионицкой» был допущен к шкафам и полкам покойного поэта; в эвакуации в Саратове и Свердловске, куда Колю вывезла ехавшая с театром мама; в квартире киносценариста К. Исаева, куда был вхож в послевоенные годы; у Габричевских, у других знакомых и друзей. Мог сидеть с книгой сутками, забывая про сон и еду. Системы тут не наблюдалось, но плохих книг в этих домах не держали. В пятнадцати-шестнадцатилетнем возрасте Коля набирал книги в четырех библиотеках и, чтобы получать редких или запрещенных авторов, вызывался делать всякую черную работу вроде уборки книжных полок. К семнадцати годам он проштудировал античную классику, увлекался Гомером и Софоклом, образ Эдипа-царя до конца дней остался для него одним из сильнейших в мировой литературе. Судя по образованности зрелого Каретникова, образованности основательной, широкой и разносторонней (сам он, кстати сказать, всегда был ею неудовлетворен), к нему вполне приложимы слова Высоцкого: значит, нужные книги ты в детстве читал.
С книг началось и приобщение к живописи, архитектуре. Шедевры мирового изобразительного искусства смотрели на трехлетнего ребенка со страниц «Истории искусств» П. Гне-дича. Три огромных, дореволюционного издания тома, по шестьсот-семьсот страниц каждый, содержали около трех тысяч иллюстраций. Зодчество, живопись, ваяние Египта, Эллады, Древнего Рима, европейского средневековья и Возрождения, искусство Нового времени, русская культура от глубокой древности по XIX век включительно! Прекрасно выполненные копии, в том числе из уникальной коллекции Эрмитажа, воспроизводили классические полотна с поразительной достоверностью, со всеми пятнами и трещинами оригиналов. Еще не владея грамотой, мальчик уже знал, что такое настоящая живопись. Когда же буквы начали складываться в слова, ему оставалось только соединить названия картин и имена художников, которые уже навсегда впечатались в восприимчивую детскую память (см. новеллу «Сколько стоили Рафаэли»).
Легкодоступно и увлекательно, с элементами беллетризма, книга рассказывала не только об искусстве, но и о нравах, обычаях, быте, церемониалах, религии, политике, спорте, об одежде, посуде, домашнем убранстве. Она была поистине историей материальной и духовной культуры, историей цивилизации. Книга и сама являлась произведением полиграфического искусства. Ныне нельзя без восторга и зависти смотреть на удивительно яркие, сочные тона иллюстраций — глубокий синий, золотой, пурпурный, на тяжелый твердый переплет, сработанный на века. Верхний обрез («который пылится в шкапах», как сказано в издательском послесловии) вызолочен, а нижний и боковой специально сделаны слегка шероховатыми для удобства перелистывания. Думается, что, сочиняя потом «Мистерию апостола Павла», композитор вспоминал свое первое знакомство с Римом начала нашей эры, рассказ о гонениях Нерона на первохристиан, а при работе над «Тилем Уленшпигелем» перед глазами вставали картины широко представленных у Гнедича голландских живописцев: погруженные во влажную полутьму лес, пастбище, дорога, сцены ярмарок и народных праздников, грубоватые, неправильные лица фламандцев...
С самых ранних лет в жизнь будущего композитора вошло еще одно искусство — театр. Уже в военные годы он пересмотрел все мхатовские постановки, некоторые — «Царь Федор Иоаннович», «Горячее сердце», конечно же, «Синюю птицу» — многократно, десятки раз. Во МХАТе, как уже говорилось, работала мама, которая часто по вечерам брала сына с собой. Театр стал вторым домом, хорошо знакомым во всех подробностях, до последнего закоулка, изнутри, в то же время оставаясь таинством, без которого нет искусства.
Человеком театра был и отец. Одно время Николай Георгиевич сам выступал на сцене Театра Дома Печати. Организованный в 1928 году, о чем не замедлила сообщить «Вечерняя Москва» (240), он стремился восполнить среднее звено между традиционным сложным многоактным спектаклем и эстрадным представлением. Кроме того, в соответствии со своей ведомственной принадлежностью, он оказался на стыке искусства театра и своего рода периодического издания, утверждал себя как театр-газета, театр-журнал. Сатирические миниатюры с элементами водевиля и мюзик-холла, пародии на «настоящие» театры, злободневность тематики, не чуравшейся политических вопросов (например, чистки партии), привлекала москвичей. Театр собрал вокруг себя людей талантливых, остроумных, «зубастых». Коллективным автором выступала редакция журнала «Крокодил», в число драматургов и режиссеров входили В. Масс, Н. Фореггер, В. Катаев, музыку писали М. Блантер и К. Листов, на сцене играли молодые Рина Зеленая и Борис Тенин. На склоне лет актриса вспоминала: «Маленький зал Театра Дома Печати заполнялся всегда до отказа. Люди стояли и у стен, и за открытыми дверями. Здесь бывала вся литературная Москва: писатели, поэты, газетчики — и, конечно, все актеры. Театр пользовался симпатией. Единение зала и сцены было полным... Подчас люди, о которых шел разговор на сцене, сидели тут же в зале» (72: 47 —48). Просуществовал театр, по-видимому, недолго: уже в 1930 году, вскоре после «великого перелома», газета назвала его «театром для обывателей» (250). Но в памяти отца он сохранился как яркая страница жизни. Позднее любовь к театру совпала с приятной необходимостью посещать спектакли по долгу службы. Нередко в таких походах егосопровождал подрастающий сын. Приходилось бывать «даже» в оперетте — Каретникову-старшему нравилось это веселое искусство, для младшего оно было наказанием.
Говорят, природная одаренность человека определяется еще и тем, насколько рано он начинает осознавать себя. С этим утверждением можно соглашаться или спорить, но когда сталкиваешься с подобными случаями, они не могут не привлечь к себе внимание. Трех лет от роду Коля впервые смотрел «Синюю птицу», о чем рассказал через полвека в новелле «Начинается ли театр с вешалки»? Новелла, казалось бы, не о театре, совсем о другом, но с какими замечательными подробностями описан спектакль! С необычайной яркостью и отчетливостью помнятся и другие очень ранние художественные впечатления. Запомнилась — как высокий седой призрак — и «бабка», умершая, когда мальчику исполнилось два года.
Возвратившись осенью 1942 года с матерью из эвакуации (отец оставался в Москве, пошел в ополчение, чудом уцелел), Коля обнаружил, что год, проведенный в разлуке с фортепиано, губительно сказался на приобретенных до этого технических навыках. В пятый класс музыкальной школы, теперь уже известной ЦМШ, Коля пришел с виолончелью. Он невзлюбил ее сразу, пускался на разные мальчишеские хитрости, чтобы хоть два-три дня не брать ее в руки. Среди талантливых, увлеченных учением и достигающих заметных результатов одноклассников его начал томить комплекс неполноценности. Еще на школьной скамье стал лауреатом международного конкурса скрипач И. Безродный, а за ним и другие. Дети подобрались незаурядные. Пианисты А. Гинзбург, Е. Лифшиц, Н. Тюленева, Л. Берман, Дм. Благой, Е. Малинин, струнники X. Ахтямова, Э. Грач, Р. Соболевский, Д. Шебалин, будущий руководитель Главной музыкальной редакции Всесоюзного радио Г. Черкасов, будущие музыковеды Л. Корабельникова, Д. Дараган, Л. Генина, будущие композиторы Р. Леденев, А. Пахмутова, Е. Птичкин, Ю. Чичков, М.Ройтерштейн. Повзрослев и постарев, они не теряли друг друга из виду.
Рассказывая об одном из «традиционных сборов» в журнале «Музыкальная жизнь», Л. Корабельникова приводит строки Л. Бермана, «главного стихотворца-сатирика класса»:
И страсть к тому, чтоб встретиться нам снова,
У каждого, как прежде, горяча —
От архисдержанного Ромы Леденева
До архипылкого Грача.
Она вспоминает о той нелегкой и счастливой поре, о детском озорстве, за которое однажды весь класс, списком, исключили из школы, о занятиях на инструменте по шесть-восемь часов в день, и с высоты прожитых лет приходит к выводу о рано созревшем серьезном отношении к жизни и профессиональном — к работе (103: 10).
Не все из сказанного прямо относится к Коле Каретникову, особенно первых, «виолончельных» месяцев: занятий было поменьше, озорства побольше. Впрочем, об этом с обнаженной откровенностью и неподражаемым комизмом написал он сам в новелле «Что может произойти от обыкновенного лома». Но какие-то черты взрослого Каретникова прорезались уже тогда. По свидетельству другой одноклассницы, Л. Гениной, он еще в школе «отличался повышенным чувством независимости, «подозрительным» интересом к философии, религии, «подпольной» культуре. Принесенных Колькой в школу практически запрещенных тогда Ильфа и Петрова класс читал по очереди, глядя в щелку парты и давясь от хохота» (38). Глубоко запрятанное в натуре Каретникова «уленшпигелевское» начало тоже проявилось в отроческие годы. Тяга к шутке, розыгрышу нашла выход и в рискованной по тем серьезным временам стенгазете первого курса историко-теоретико-композиторского факультета консерватории: называлась газета «Мы», выпускала ее редколлегия в составе Каретникова, Ройтерштейна, Гениной (триумвират подписался «медицинским» термином КАРОГЕН, составленным из начальных букв фамилий), а девиз, помещенный именно на том месте, где должно было быть неизменное «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», гласил: «За консонирующий диссонанс!». Друзья и близкие не могут без смеха вспоминать разыгрывавшуюся Каретниковым уморительную сценку «Подвыпивший пианист», пародии на Шаляпина и многое другое в этом роде...
В. Шебалин
В декабре начались занятия композицией под руководством В. Шебалина. «Я явился в «директорский» класс Московской консерватории, имея в композиторском портфеле 16 тактов «Лунной сонаты» в до мажоре с русской мелодией в басу», — так начинается новелла «Первый урок». Если безоговорочно верить автору, в композицию Каретников забрел случайно, то ли в результате недоразумения, то ли в поисках спасения от ненавистной виолончели: пораненная на перемене «обыкновенным ломом» нога, вызов на дом школьного врача («про нее было известно, что обо всех событиях и разговорах, происходящих в школе, она информирует директрису»), мама, уверенная, как и все мамы, что ее ребенок гениален, их перешептывания на кухне, вызов выздоравливающего к директрисе и ее наказ явиться в кабинет Шебалина и сыграть ему свои сочинения, которых еще не было... Что ж, для новеллиста ход вполне выигрышный: смешно, немного нелепо, забавно. Думается, в этой истории — не вся правда. Есть ряд фактов и обстоятельств, может быть не столь эффектных для новеллистики, но необходимых для понимания того, как и почему свершился выбор профессии, а с нею и жизненного пути.
...Виссарион Яковлевич Шебалин отказывался от кресла директора консерватории долго и стойко. Согласившись же, — после уговоров и прямого административного нажима, — отдался делу с энтузиазмом и страстью, с основательностью профессионала высокого класса и организаторской хваткой. Назначение состоялось 14 ноября 1942 года, и эта дата сама по себе позволяет хотя бы отчасти вообразить те трудности, с которыми столкнулся человек, взявшийся за восстановление педагогического состава, воссоздание распавшихся с началом войны исполнительских коллективов и оперной студии, за пересмотр программ и самой стратегии воспитания музыканта, за переформирование структуры некоторых факультетов (в частности, историко-теоретический был слит с композиторским). Не существовало вопросов больших и малых, до всего доходили руки, начиная с приглашения на работу Шостаковича и заканчивая одеждой студентов и столовой.
В обязанности директора консерватории входило и художественное руководство музыкальной школой. Виссарион Яковлевич делал всё, чтобы она была ЦМШ не при консерватории, а ее составной частью, младшим отделением. Наряду с замечательными педагогами, специалистами по детскому музыкальному образованию Т.А. Бобович, Е.П. Ховен, А.С. Сумбатян, к работе с «цээмшатами» он привлек Г.Г. Нейгауза, А.Б. Гольденвейзера, К.Н. Игумнова, А.И. Ямпольского, Л.М. Цейтлина, И.В. Способина. В обширной программе преобразований (сокращенное, в сравнении с обычными десятилетками, прохождение точных наук, расширение цикла гуманитарных дисциплин, усиленные занятия по музыкально-теоретическим предметам) значился особый пункт. «Уже в школе, — высказывал твердое убеждение Шебалин, — надо поощрять у учащихся склонности к сочинению, если они имеются» (247: 62). И когда много позже, в только что цитированных воспоминаниях Виссарион Яковлевич приведет фамилии — Д. Благой, А. Пахмутова, Р. Леденев, С. Слонимский, — первым в этом списке он назовет Каретникова.
Надо полагать, для реализации этой идеи Шебалин дал соответствующие задания большому кругу людей, куда наверняка входили и учителя, и директор ЦМШ Е. Маммолли, и — почему бы нет? — школьный доктор. Можно предположить также, что «невод» забрасывался широко, в директорский класс отсылались многие и разные дети, а уж окончательный отбор производил сам Виссарион Яковлевич. И если не усматривать в решении Шебалина относительно пятиклассника Каретникова чистой мистики, то следует признать, что в тех шестнадцати тактах «Лунной сонаты» в до мажоре с русской мелодией в басу опытный «педагог-диагност» обнаружил то, что дало ему для этого решения определенные основания.
Знал ли Шебалин о Колиных домашних импровизациях на оставшемся от «бабки» рояле, подаренном ей владельцем фирмы «Бехштейн» (он и сейчас стоит в осиротевшем рабочем кабинете композитора)? Достаточно было прикоснуться к клавишам, и он «сам играл», издавая поразительной красоты звук. Звук завораживал, манил, втягивал в себя, он обладал глубиной, объемом, плотностью. Ребенок входил в него и оказывался в таинственном, неведомом и страшно притягательном мире. Детские импровизации имели не столько сочинительскую, сколько слушательскую природу. Коля подходил к «Бехштейну» не для того, чтобы что-то изобрести или выразить, а затем, чтобы погрузиться в звук. Он брал трезвучие в высоком регистре, потом другое, третье, возвращался к первому (t—s — D — t в до миноре) — и слушал. То же повторялось октавой ниже, еще и еще ниже, до самых глубоких «органных» басов. Когда мама поинтересовалась однажды, что это такое, он ответил:
— Мое сочинение.
— А как оно называется?
— «Три богатыря», — немного подумав, нашелся автор. Как же еще может называться произведение, состоящее из трех трезвучий!
Зная последующую творческую биографию Каретникова и не боясь совершить натяжку, можно утверждать: пробуждению композиторского дара непосредственно предшествовал, являлся его первопричиной дар слушательский. Дар особого рода: способность загораться от первоэлемента музыки — отдельного тона, обладающего самостоятельной ценностью, в каком-то смысле самодостаточностью, ведь он наделен множеством свойств — высотой, продолжительностью, тембром, силой... У нас еще будет повод вернуться к каретниковскому таланту слушания-слышания, к характеру восприятия им музыкального звука.
Возможно ли, что дар этот он обнаруживал только дома? Может быть, в школе, где у Шебалина были «свои люди», на переменах он занимался не только тем, что подставлял ноги под падающий из-за двери лом? И что позволило Шебалину сказать только-только вступающему на композиторское поприще мальчику:«Когда мы расстанемся и ты, оставшись один, захочешь писать музыку так, как ты сам считаешь нужным, я повторяю — так, как ты сам считаешь нужным, то ты должен быть готов к тому, что тебя будут упорно и жестоко бить» (новелла «Первый урок»)? Ясно одно: и принимая к себе в класс Каретникова, и в своем мрачном пророчестве профессор не ошибся. Объяснить это можно лишь гениальной педагогической интуицией4.
«Еженедельные уроки композиции вел Е.О. Месснер, — вспоминает С. Слонимский, — под непосредственным контролем и руководством самого Виссариона Яковлевича, систематически проверявшего наши работы и направлявшего ход занятий». Уже через год Коля написал развернутую программную пьесу «Утро», заслужившую сдержанную похвалу учителя: «Ну, что же, с большой вещью справился». Одобрил он и «Юмореску», включал ее в ученические концерты, в кинофильм о ЦМШ «Юные музыканты» (188: 66). Пьесы эти утеряны. Но сохранилось косвенное свидетельство, принадлежащее тому же С. Слонимскому, учившемуся в ЦМШ в 1943 —1945 годах. Как пишет в монографии о нем М. Рыцарева, наибольшие творческие стимулы ленинградец находил у старших товарищей, Р. Леденева и Н. Каретникова. Они были зрелее и старались уже писать по-своему, тогда как у него это еще не получалось (170: 31). «Более зрелым» было в то время тринадцать-пятнадцать лет, младшему — одиннадцать-тринадцать, для этого возраста — разница заметная.
Шебалина Каретников обожал, боготворил. Общение продолжалось более двадцати лет — в консерватории и после ее окончания, до самой смерти учителя в 1963 году.«Когда мы прощались с Виссарионом Яковлевичем, — пишет Р. Леденев, — в печальном кортеже после панихиды я ехал с Николаем Каретниковым. Слезы текли по его лицу беспрерывно, слезы горечи и сильной, на всю жизнь, любви к дорогому человеку» (114: 41) Любви и бесконечной признательности.
Каретников считает, что преобразующую роль в его жизни сыграли пять человек: В. Шебалин, М.Старокадомский, К. Исаев, А. Габричевский, А. Мень (постепенно мы расскажем обо всех). Первый среди них — и хронологически первый - Шебалин. В романе Г. Гессе «Игра в бисер» говорится, что встреча двенадцатилетнего Иозефа Кнехта с магистром музыки перевернула его жизнь, заставила по-новому воспринимать мир, стала «магическим событием» (41: 71). Такие же высокие слова вполне уместны и при описании встречи двенадцатилетнего Николая Каретникова со своим «магистром».
Педагогический девиз Шебалина — не только учить, но и воспитывать. Иногда воспитание было довольно жестким. Однажды, на самых первых порах, выловив в принесенном задании дурно звучащие параллельные уменьшенные октавы, профессор сел за рояль, посадил рядом автора и стал бесконечно повторять неудачное место. Завершилась воспитательная акция слезами воспитуемого и кратким, но вразумительным напутствием воспитателя: «Чтобы такой пакости я никогда не слышал!» Спустя много лет учитель заставил трижды переписать в партитуре Первую симфонию: «Корзина под столом у композитора стоит специально для негодных вариантов». А когда только что окончивший консерваторию Каретников осмелился попросить его о какой-нибудь протекции, тот дал понять, что, дескать, плавать следует обучаться самому, а «главному я тебя научил».
Что же главное? Выдающийся педагогический талант Шебалина заключался, помимо прочего, в том, что с разными учениками он был разным. В этом нетрудно убедиться, перечитывая сборник «Памяти Шебалина». Э. Денисов и А. Николаев полагают, что главное состояло в «композиторской технике и композиторской ответственности. Остальное зависело от нас самих» (59: 27). Так считали не одни лишь ученики. «Учиться Вам надо только у Шебалина, — писал Шостакович Э. Денисову в 1951 году, — так как в наше время это единственный педагог, который может научить “музыкальному ремеслу”, точнее — “композиторскому ремеслу”» (224: 11). Т. Корганов указывает другие качества, прежде всего поощрявшиеся наставником: самостоятельность, инициативность, самокритичность, пытливость (104: 35).
Каретников же делает упор на силу и целенаправленность нравственного воздействия. Оно осуществлялось и через музыку, в которой Виссарион Яковлевич всегда стремился вскрыть ее духовную суть, и в более широком плане, через кодекс норм поведения. Об этом редко говорилось, тут действовал личный пример. В тяжелейшем сорок восьмом, обвиненный в страшных грехах, изгнанный из консерватории, поставленный на грань материального бедствия, он не каялся, не лебезил перед властями, вел себя — и это было замечено Каретниковым — абсолютно достойно. Эти уроки тоже пошли впрок.
В чем сходятся, вспоминая учителя, все питомцы, так это в непогрешимости вкуса (и мгновенной реакции на малейшее отступление от него). Шебалин был наделен им сам и старался привить своим подопечным. Кроме двух самых ходовых оценок — «выбросить» и «можно оставить» - была еще третья, самая страшная: «Это музыка из Нарпита». Примитив, дешевка, общие места не допускались категорически.
За годы учения Каретников не пропустил ни одного урока, ходил будучи больным, с температурой, шел и тогда, когда не писалось и нечего было нести, слушал, как Виссарион Яковлевич занимается с другими. Уроки оказались усвоенными столь крепко, что когда шестидесятилетний Каретников рассуждал вслух о композиторском чутье и самодисциплине, о тематическом материале и его развитии, о поисках формы, он, сам того не замечая, часто повторял мысли любимого учителя, вплоть до прямых текстуальных совпадений со статьями и заметками Шебалина.
Отношения не были безоблачными. Порой обнаруживалось взаимное непонимание. Увлекавшийся в молодости, в 20-е годы, ранним Хиндемитом, Шенбергом, впоследствии Виссарион Яковлевич придерживался более умеренных взглядов, высказывал, в частности, симпатии к Глазунову, к которому у Каретникова было более чем прохладное отношение (новелла «Всякая музыка нужна»). И, напротив, не одобрил интереса к нововенцам, вспыхнувшего у воспитанника в послеконсерваторские годы. Впрочем, в последнем случае могли сыграть роль не столько собственные вкусы, сколько опасения, что за это «будут бить». И все-таки Каретников продолжал поддерживать с ним связь, благоразумно молчал, когда приходилось выслушивать эстетически заведомо неприемлемое, и радовался, если новая работа получала поддержку, как то было с Третьей симфонией. Вкусовые разногласия оставались как бы за рамками благоговейного отношения к педагогу. «Для меня Шебалин жив, — так заканчивается новелла «Первый урок». — Часто перед тем, как совершить какой-либо поступок, я думаю — что бы он сказал об этом».
Первые пробы пера
Из написанного Каретниковым в школьную пору сохранилось немногое: фортепианные Вариации и десять пьес (две тетради по пять каждая) для того же инструмента. Последние накапливались в течение 1944—1947 годов и сложились в некое подобие цикла — как внутри тетрадей, так и в целом (образные, тональные, фактурные переклички, развернутость и большая весомость финала). Спустя десять лет пьесы вышли в печать — по-своему достаточно убедительное свидетельство достигнутого в них профессионального уровня. Публикация не прошла незамеченной: автор нотографической заметки в «Советской музыке» отнес пьесы к интересным новинкам скудно пополняемого фортепианного репертуара, отметил, что большей частью они ярки по музыке и благодарны в пианистическом отношении (30: 156). В них встретились детство и юность композитора — безоглядная жажда впечатлений и первые попытки сознательного отбора, почти неизбежная в таком возрасте подражательность и обретение собственного лица.
На первый взгляд, пьесы представляют собой стилистический калейдоскоп: влияния множественны и очевидны. Но уже нет почти ничего случайного, кроме, пожалуй, откровенных «скрябинизмов» второй пьесы из первой тетради (1, № 2): томления, изнеженности, чувствительных замираний мы больше не встретим в музыке Каретникова никогда. Все остальное останется в сочинениях первого периода, до конца 50-х годов, а кое-что закрепится еще прочнее. Более близкую перспективу определят русские классические традиции: Бородин, Мусоргский, в меньшей степени Римский-Корсаков. Мусоргский услышан как непосредственно, так и «сквозь» Прокофьева и Шостаковича, неотвратимое воздействие которых будет сказываться, особенно в балете и прикладных жанрах, практически до конца дней. Присутствие первого из них ощущается то в «сдвинутых» кадансах и других остроумных гармонических «недоразумениях», то в трактовке белоклавишной диатоники, то в общем тоне колкого сарказма. От второго идут некоторые ладо-мелодические образования с пониженными ступенями, широко расставленные октавные унисоны, в отдельных пьесах — несколько суховатая графичность письма, более свойственная Каретникову 60-х годов, нежели 50-х.
Но и обращаясь к более «спокойным», поощрявшимся традициям (не забудем, каково было официальное отношение к Прокофьеву и Шостаковичу в те времена и позднее), юный композитор обнаруживает серьезность творческих намерений, нащупывает интонационную и фактурную характерность, инициативно — для своего возраста и эпохи — работает с ритмом, гармонией, формой. Говоря о путях в будущее, отметим интересную попытку сверхэкономного обращения с материалом — «тритоново-малосекундовую» пьесу (1, № 3), стремление преодолеть инерцию метро-ритмической регулярности (2, № 5), пробуждающееся чувство формы — превосходно осуществленные переходы к репризе (та же пьеса: 1, № 2), излюбленное зрелым Каретниковым совмещение жанровых черт героико-трагического шествия и хорала (1, № 4), обращение к надбытовому миру балагана, цирка, шире — игры, представления (1, №№ 3, 5). Наконец, последнее: избирая сферу чистого (непрограммного) инструментализма, главную для себя в «до-оперные» десятилетия, Каретников уже тут насыщает ее такой характеристической выпуклостью, чуть ли не зримостью, что нетрудно вообразить себе пластическое воплощение этих пьес, скажем, в виде сюиты хореографических миниатюр. Пьесы эти, практически неизвестные современным пианистам, способны и сегодня обогатить фортепианный репертуар, учебный и концертный.
Вариации многим похожи на десять пьес: те же стилевые ориентиры, разве что прибавилось виртуозного пианизма в духе Листа, Балакирева, Рахманинова да поубавилось прокофьевско-шостаковических влияний; то же стремление охватить широкий круг картин и настроений, к чему тип жанровых вариаций располагает не менее, чем тетрадь пьес. И все же Вариации не столь удачны: единая форма требовала большей драматургической цельности, стилевое «поправение» покрыло сочинение налетом академизма... Изданы Вариации были раньше и вдвое большим тиражом. С ними Николая приняли в консерваторию.
Консерватория
В консерватории Каретников учился с 1948 по 1953 год. Многозначительные даты! Год знаменитых постановлений навсегда останется символом мракобесия, варварского избиения культуры, искусства и науки, несколько вышедших из-под державного контроля во время войны. Год смерти «отца народов» — окончание целой эпохи. А между ними — ждановские доклады о литературе и музыке, сессия ВАСХНИЛ, охота на безродных космополитов, дело врачей... Возобновившиеся с новой силой репрессии, жесточайший идеологический диктат.
Конец сороковых годов —
Сорок восьмой, сорок девятый —
Был весь какой-то смутный, смятый.
Его я вспомнить не готов.
Года, и месяцы, и дни
В плохой период слились, сбились,
Стеснились, скучились, слепились
В комок. И в том комке — они, —
писал Б. Слуцкий. Но вспомнить, попытаться «разлепить» — необходимо. Какими бы они ни были, студенческую пору, пору профессионального и личностного созревания Каретникова не обойти молчанием.
Что и говорить, и для того, и для другого времена были далеко не лучшими. Известный пианист, учившийся двумя курсами старше, с болью писал, что этот период — едва ли не драматичнейший в истории консерватории: любое произведение, статья, даже высказывание, не идущие в ногу с упрощенными, догматическими установками сверху, могли быть заклеймены как «проявление антидемократических тенденций, чуждых советскому народу» (151: 73). Над малейшей нестандартностью нависала угроза обвинения в формализме. Шедшие чередой разоблачительные кампании служили питательной средой для сведения личных счетов, взращивали худшие человеческие качества. Изгнанию из консерватории подверглись Д. Шостакович, М. Юдина, Л. Мазель. Та же участь, как упоминалось, постигла Шебалина. Таким образом, на трех младших курсах Николаю пришлось заниматься у другого профессора, что не приносило ему никакого удовлетворения. Как только Виссариону Яковлевичу позволили вернуться, юноша, не без усилий и пожертвовав гарантированной в будущем опекой нового шефа, восстановился в классе Шебалина.
Музыканты старших поколений вспоминают конец сороковых с содроганием (162). Каретников-новеллист рисует те годы в трагифарсовых тонах. Постыдное доносительство, следствие, проводимое «компетентной комиссией» по делу о том, что один из студентов Шебалина написал сочинение с использованием диссонансов (новелла «Скерцо»). Избиение одним, «ныне достаточно известным композитором», другого, «ныне очень известного композитора», в сугробе перед Большим залом консерватории за то, что второй доложил, куда следует, о замеченной им в руках первого партитуре Стравинского («Рассказ со слов пострадавшего»). Одна-две информационно-ругательные фразы, которыми на лекции по истории музыки исчерпалось изучение творчества Малера («Учебный процесс»).
Страшное следствие общественного устройства той поры — если не голодный, то во всяком случае полуголодный репертуарный паек, на котором вскармливались молодые музыканты, катастрофическая ограниченность слухового опыта, особо коварная еще и тем, что не сознавалась как таковая. Когда же открылась истина и Каретников понял, что он обворован, досаде не было конца.
Но жизнь есть жизнь, молодость есть молодость. Даже в абсолютно, казалось бы, затхлой атмосфере находятся отдушины. Оставалось чтение — оно продолжало занимать первое место в ряду интересов Каретникова и удерживало лидерство до четвертого курса, когда верх все-таки взяла музыка. Вдруг вспыхнуло увлечение астрономией. В сорок девятом Николай впервые после войны приехал летом в Крым, и ночное небо, как-то не замечавшееся в детстве, может быть, потому, что рано укладывали спать, ночное коктебельское небо покорило юношу. Он раздобыл литературу, карты, посещал кружок при Московском планетарии. Несколько домашних лекций прочитал ему В. Асмус, астроном-любитель со стажем, философ, эстетик, литературовед, с которым встречался у общих знакомых. Весь математический аппарат астрономии как науки был недоступен, но описательная часть и непосредственные наблюдения глубоко трогали эстетическое чувство. За названиями созвездий вставали античные мифы, знакомые с детства.
С этого времени пробуждается интерес к тому, что Каретников определяет словами «как устроен Божий мир?». Лист дерева, облако, рисунок береговой линии, изгиб жирафьей шеи — царство красоты и естественных законов. Так рождалось преклонение перед естественностью, которое сохранится навсегда и многое определит в эстетике и стиле зрелого Каретникова.
Что же музыка? Отфильтрованный Главреперткомом, продезинфицированный во избежание идеологической заразы, до предела суженный, мир звучащей тогда музыки все-таки включал Баха, Моцарта и Бетховена, многое из века романтизма, русскую классику. Как и многие в двадцать лет, Каретников юношески пылко любил Рахманинова (впоследствии чувство остыло). В консерваторских классах, в частности, на занятиях с Шебалиным, звучало и кое-что из недозволенных авторов — те же Малер и Стравинский.
В 1950 году произошло событие, с которого Каретников начинает отсчет своей жизни как музыканта. По радио передавали Тридцать вторую сонату Бетховена. Исполнение Г. Нейгауза потрясло, сразило наповал. Факт примечательный: не встреча с новой для него музыкой, не познание творческого вдохновения, а именно сильнейшее впечатление от искусства интерпретации открыло Каретникову новую страницу жизни! Он пишет об игре Нейгауза взволнованно, экспрессивно, нетривиально:«Абсолютное понимание фразы, неожиданная интуитивная импульсаторика, совершеннейшее чувство продолженности составляющих и целого, абсолютное распределение динамических масс и точное видение постоянно варьируемого тематического материала делали это исполнение абсолютно авторским... Все вышеперечисленное говорило не только о фантастическом интеллекте, культуре, духовном и душевном богатстве, но прежде всего о свободе, свободе до конца — и все это в Бетховене, который всегда представлялся мне самым сложным для интерпретации из всех существующих композиторов» («Генрих Нейгауз и "Новая венская школа"»).
Каретников и в дальнейшем будет чутко вслушиваться в то, как интонируется, «произносится» музыка, — сошлемся для примера на поздние его высказывания по этому поводу на «круглом столе» в редакции «Советской музыки», где обсуждалась тема «Чайковский и мы» (239: 6).
М. Старокадомский и К. Исаев
Но, быть может, главную, ни с чем не сравнимую радость приносило в эти годы общение. Михаил Леонидович Старокадомский вел в консерватории инструментовку. Сегодня о нем если и вспоминают, то как об авторе детских песен «Веселые путешественники» («Мы едем, едем, едем...») и «Любитель рыболов». Создатель забытых ныне симфоний, концертов, оперы, оперетты, камерных произведений, он слыл блестящим знатоком современного оркестра, энциклопедически образованной личностью. С молодости, со времен совместного учения в классе Мясковского, он дружил с Шебалиным. Они входили в одну музыкальную компанию, немало времени провели в совместном музицировании. В 20-е годы ему посчастливилось побывать в творческой зарубежной командировке (от Ассоциации современной музыки). В Италии, Франции, Германии он встречался с музыкантами, знакомился с архитектурой, посещал музеи, концерты, спектакли.
Редкие свидания с ним, продолжавшиеся в течение немногих лет, памятны Каретникову отнюдь не постижением премудростей оркестровки. Однажды, услышав от студента произнесенное по какому-то поводу имя Овидия, Михаил Леонидович оживился и предложил послушать, как «Искусство любви» звучит по-латыни. В другие разы читался, тоже наизусть и в подлиннике, Катулл и Гораций, потом, уже на древнегреческом, — Софокл и Гомер. Человек, обладающий «волей к культуре», испытывает при этом ощущения, которые хорошо определил С. Аверинцев, юношей тоже оказавшийся в подобной ситуации: не понимал, но радовался (3: 4). С готовностью принимал Каретников приглашения к Старокадомскому домой.
— Думаю, Коля, — говорил хозяин, — что если вы захотите узнать, как в действительности играет кларнет, то вы это и без меня узнаете, — и из огромной папки извлекались факсимильные репродукции рисунков Леонардо.
«Выяснить, как играет кларнет, мне и в самом деле пришлось позже, самостоятельно, но Гомера на древнегреческом мне никто и никогда более не читал», — заключает Каретников новеллу о встречах со Старокадомским под названием «Как играет кларнет». «Я почувствовал, — добавил он в устной беседе, — что существует совсем иная духовная жизнь, не похожая на ту, которой я жил до сих пор». Мимо внимания молодого человека не прошло и то, как вел себя Михаил Леонидович на частых тогда собраниях-погромах в Союзе композиторов: садился в последнем ряду, неизменно отмалчивался, когда требовалось «заклеймить» или «сознаться».
В 1947 году Каретников познакомился с Константином Исаевым, популярным кинодраматургом, участвовавшим в создании фильмов «Подвиг разведчика», «Секретная миссия», «Верные друзья», пьесы «Вас вызывает Таймыр», автором сценариев «Садко», «Неоконченной повести», «Павла Корчагина». Баловень судьбы, обласканный властями, увенчанный наградами и премиями, он жил на широкую ногу. В доме часто бывали знаменитости из мира кино: И. Пырьев, А. Столпер, соавторы хозяина М. Блейман и А. Галич (позднее, когда сгладится разница в возрасте, Каретников и Галич подружатся).
В свое время пользовалась известностью песня на стихи Галича «Спрашивайте, мальчики». Заканчивалась она словами: «Спрашивайте, мальчики, обо всем». Каретников и расспрашивал Константина Федоровича обо всем. «Я задавал сотни вопросов о жизни, литературе, об искусствах, политике, истории, женщинах (что было уж совсем важно, так как мои представления о них носили совершенно книжный характер) — о чем только мне не хотелось узнать! Исаев внимательно слушал и терпеливо отвечал на все вопросы и многое рассказывал и объяснял сам» (новелла «Время было такое...»). Эти разговоры, громадная исаевская библиотека (здесь прочитаны мало известные в те годы Э. Хемингуэй, А. Ренье, М. Пруст) пришлись на поворотные в жизни каждого человека годы — между семнадцатью и двадцатью четырьмя. Годы, когда мальчики становятся мужчинами.
1
Поскольку, в соответствии с историко-культурными реалиями тех лет, к творческому окружению российских композиторов следует причислить их коллег, живших и работавших в республиках бывшего СССР, в книге используется, наряду с другими, понятие «советская музыка». Мы придерживаемся той точки зрения, что сегодня оно лишилось идеологического смысла и «обозначает, по сути дела, лишь музыкальное творчество, создававшееся на территории Советского Союза» (207: 5).
2
После прослушивания в Союзе композиторов «наибольшей похвалы его удостоились... Пярт, Тищенко, Каретников и Волконский», — свидетельствует А. Шнитке (259: 19).
3
Чайковский после московской премьеры «Пиковой дамы» писал: «Больше всех мне понравилась Сионицкая» (237: 504). Скупой на похвалу Римский-Корсаков о ее исполнении партии Купавы отозвался восторженно: «...играла и пела превосходно» (165: 237). Она была дружна и состояла в переписке с Танеевым. Рахманинов, восхищенный ее Земфирой, посвятил певице «Молитву».
4
Примерам ее проявления несть числа. Вот только один из них. Начав заниматься с Э. Денисовым, Шебалин мгновенно угадал, что увлечение нового ученика Шостаковичем быстро пройдет, и посоветовал изучать Дебюсси (224: 12).
«Выброшенные» сочинения
После всего сказанного уже не покажется странным утверждение, что композиторские опусы Каретникова тех лет — далеко не самое главное на этом отрезке пути. Автор сам чрезвычайно строг в оценке созданного им в десятилетие 1947 — 1957 годов, не слишком деликатен в выражениях: это просто не музыка, труха, тухлятина. Он исключил эти работы из списка сочинений:«Я их выбросил». Автору этих строк стоило немалых усилий и обходных маневров, чтобы заполучить ноты для знакомства. Кое-что, так и не добившись, пришлось добывать в Бюро пропаганды Союза композиторов. Знакомство показало: оставить творческую продукцию раннего Каретникова без внимания было бы непростительным упущением биографа. Здесь много незрелого, несовершенного, абсолютное большинство сочинений вряд ли возродится когда-нибудь на концертной эстраде. Но не имея о них хотя бы самого общего представления, невозможно будет понять, как формировалось художническое Я, через что прошел композитор, от чего в себе потом отказывался. И главное: как исподволь назревали те мощные тектонические сдвиги, которые пришлись на конец 50-х — начало 60-х годов.
Вот неполный перечень «выброшенных работ»: две симфонии, оратория «Юлиус Фучик», три хора, обработки двух русских народных песен, три романса, Скерцо для фортепиано. Первое предварительное наблюдение: как бы к ним ни относиться, нельзя не заметить, что они — разные. Автор не топтался на месте, застоя не было. Между, скажем, Первой симфонией и Скерцо — дистанция внушительная. И второе: не так уж мало сочинений вокальных. В свете следующего творческого периода, сплошь бестекстового, чисто инструментального, они могут показаться ошибкой молодости. Оглядываясь же на них из более поздних десятилетий, принесших две оперы и два цикла духовных песнопений, видишь их в ином свете.
Представленная в качестве дипломной работы оратория «Юлиус Фучик» (1953) вызвала интерес в консерватории и за ее пределами. «Многотиражка» поместила интервью композитора (91), об оратории дважды писал «Московский комсомолец» (145; 160). Год спустя сочинение прозвучало в интерпретации Ансамбля советской оперы (партия оркестра исполнялась на двух роялях при участии автора). После премьеры Союз композиторов организовал обсуждение. Видимо, Каретников далеко не сразу разочаровался в своем детище, коль скоро еще и в 1959 году он показывал его, заменив собою оркестр, хор и солистов, на «четверге» в «Комсомольской правде». Оценки давались высокие: вдумчивый, талантливый композитор, музыка свежа, выразительна, эмоционально наполнена.
Развернутую аналитическую статью в «Советской музыке» посвятил «Фучику» С. Разоренов, руководитель семинара молодых композиторов при Центральном доме СК СССР. С его наблюдениями и выводами нельзя не согласиться: в оратории своеобразно сплетаются традиции хорового искусства Баха и славянской народной песенности в бородинско-прокофьевском «богатырском» преломлении; более удачны массово-хоровые части; отсутствуют вычурность, надуманность, внешние эффекты; допущены просчеты в области формы: «автор больше продумал каждый эпизод оратории, нежели их общую связь». Произведение расценивалось как интересное, хотя не лишенное изъянов. За композитором признавалась бесспорная одаренность (159: 25 —28).
С расстояния почти в полвека и с учетом последующей творческой эволюции Каретникова можно дополнить и уточнить оценки, данные по горячим следам. В нескончаемом потоке кантат и ораторий «на значительные жизненные темы», хлынувшем в советской музыке послевоенного десятилетия, с неизбежностью сложился набор клишированных образных и конструктивных решений: громогласные патриотические декларации, дежурный оптимизм, бесконфликтность и как следствие — драматургическая рыхлость. Их отпечаток лежит и на рассматриваемом произведении, и на подобных работах других молодых москвичей — оратории «Слово о полку Игореве» Р. Леденева, кантате «Лик мира» А. Волконского. Оно и неудивительно. Удивления достойно другое. Под жестким прессом неписаных правил Каретникову удалось инстинктивно нащупать такие эстетико-стилевые опоры, которые отчетливо проступят в его музыкальном мышлении много позже. К ним следует отнести тяготение к героико-драматической образности, монументальности формы, большим исполнительским составам, отдельные жанрово-фактурные приемы, связанные с его излюбленными маршеобразными темами. Есть и более прямые связи с поздними сочинениями: музыкальный материал хора «Когда в глазах померкнет свет» ляжет в основу одной из частей «Восьми духовных песнопений», а возникающая здесь ситуация (измученному пытками герою мерещится, что он умер и его отпевают), с характерной полифонией партий хора и Фучика, непосредственно предвосхищают ряд зрелых произведений и прежде всего сцену «Видение Христа» в опере «Тиль Уленшпигель».
Обращение к жанру хоровой миниатюры тоже было в каком-то смысле данью времени. Возможно, сыграла роль и успешная работа в этой области Шебалина1, чьи сочинения рубежа 40—50-х годов явно выделялись из общей массы хоровой продукции. В Трех хорах (1954) молодой композитор, кажется, ни в чем не выходит за рамки эстетических и стилевых установлений тех лет, но в «предлагаемых обстоятельствах» нигде, что называется, не идет «против музыки» и хорошего вкуса. «Как все», он останавливает свой выбор на стихах . Пушкина и Лермонтова, но обходит ярчайших представителей соцреализма типа А. Софронова, чего не избежал даже Шебалин. «Как все», ориентируется почти исключительно на стилистику хоров Танеева, Чеснокова, романсно-ариозную интонацию Чайковского и Рахманинова, но стремится хоть как-то разнообразить ладо-гармонические краски, сбить наезженную колею слушательского восприятия (варьирование строф в «Закате», интересный тональный план «Грозы»: f —a, g — b, f —а — F). Три хора оставили куда меньший след в судьбе композитора, но и этот опыт не прошел даром. Вместе с ораторией они показали, что выпускник консерватории уверенно владеет приемами хорового письма.
Из Двух русских народных песен в обработке для голоса и фортепиано (1953) более удачна первая, «Уж вы, ночи». На двух страницах клавира Каретников сумел создать маленькую лирико-драматическую поэму, охваченную неуклонным нарастанием, с мощной «колокольной» кульминацией. Спустя пятнадцать лет он вернется к этой прекрасной мелодии, сделав ее важнейшим лейтмотивом музыки к кинофильму «Бег».
Три романса для детей (1956), удостоившиеся в свое время благосклонности 3. Долухановой, — последнее в группе ранних вокальных сочинений, принадлежит уже следующему, переходному этапу творчества. Их музыкальный язык заметно богаче, смелее и тоньше. Своеобразие замысла отразилось в оригинальном авторском определении (произвольно измененном издательством): «Три детских романса для взрослых». Стихотворения С. Прокофьевой, вполне подходящие для детсадовского репертуара, прочтены взрослым человеком и понятны будут только «родителям». В традициях «Детской» Мусоргского и «Гадкого утенка» Прокофьева композитор воссоздает происшествия ребячьей жизни («Дождь в лесу»), забавную, со скрытой моралью, сценку из животного мира («Два гуся»), пейзажную картинку («Спящий лес»). Здесь масса метких интонационных подробностей в декламационной вокальной партии, поразительных деталей — в партии фортепиано, развитой до виртуозности, не уступающей по значительности главному голосу. Сочинение несет большой заряд потенциальной сценичности, действенной театральности. От него тянутся нити, с одной стороны, к интонационным находкам «Тиля», с другой - к музыке для мультфильмов (один из них, «Синичкин календарь», 1984, часто показывают по ТВ). А некоторые приемы тематической работы, сложный полимелодизм фактуры, порождающий острые гармонические вертикали, готовит звуковой облик додекафонных опусов.
К симфонии Каретникова потянуло в очень неблагоприятное для жанра время. После 1948 года возобладало недоверчиво-подозрительное отношение к непрограммным инструментальным формам, якобы недоступным «простому советскому человеку». Достаточно припомнить, что в творчестве величайшего симфониста XX столетия Шостаковича Десятая отделена от Девятой восемью годами, — ни между какими другими соседними симфониями у него не было столь долгого перерыва. Обе ранние симфонии Каретникова родились, в духе тогдашних стереотипов, в русле русского эпико-драматического симфонизма конца XIX — начала XX веков, традиции которого к тому времени изрядно академизировались. Всё, казалось, было «на месте»: тематизм, форма, драматургия, оркестровка. Но для подлинной симфонии требовалась острота личностного видения жизни, глубина идейно-философского обобщения, что как раз и было не в чести в послевоенные годы. Сказывался и недостаток профессионального опыта.
Первая симфония (1952) — это и первое крупное оркестровое сочинение Каретникова. В Консерватории ее подвергли суровой и обоснованной критике (155 ), хотя она была ничуть не хуже «Юлиуса Фучика». В оркестровом звучании композитор услышал ее через несколько лет, уже будучи автором Второй, и она его очень разочаровала. Относительно удачнее первая часть, обращающая на себя внимание серьезной, пусть и по-ученически тяжеловесной, работой с тематизмом и композицией: построенные на одном материале грузное вступление и претендующая на динамичность главная партия2, вотдельных размашистых нисходящих, «росчерках» которой угадываются ростки будущего, ее последовательное образное укрупнение, сближение контрастных тем, трансформация песенно-лирической побочной темы в гимническое величание (аналогичный путь пройдет и лирическая тема третьей части, совмещающей в себе признаки скерцо и финала)3, развернутая «утвердительная» кода.
Со Второй симфонией (1955) Каретников поднялся на новую ступень и в плане ремесла, и в плане обретения собственного лица. С ней связан ряд событий, составляющих целую главу композиторской биографии. Симфония прозвучала в рамках смотра творчества композиторов Москвы. Услышав ее по радио, Каретникову позвонил домой Шостакович, поздравил с успехом и спросил, не возражает ли Николай Николаевич против того, чтобы его сочинение было представлено Е. Мра-винскому. Из этой затеи ничего не вышло: масштабы симфонии (55 минут) и оркестровый состав маэстро нашел чрезмерными. Договорились, что партитуру более скромную в том и другом отношении дирижер примет к исполнению4 (новелла «Симфония с ломбардом»).
Именно в связи со Второй симфонией состоялся примечательный диалог с А. Гауком, который, прослушав пленку и уточнив возраст автора, а также убедившись в том, что тот комсомолец, у него живы родители, жена ~ красавица, он сыт, обут, одет, — разразился вспышкой ярости: «Так какого же черта ты хоронишь?!» (новелла «Диалог»).
Еще в одной новелле («Who is who?») Каретников вскользь упоминает, что Д. Кабалевский разнес симфонию в журнальной статье за отсутствие у молодого автора «права на трагедию». Тут мемуарист не совсем точен. Разноса не было. Написанная по следам московского смотра статья выдержана в тоне отеческой заботы. Из всего услышанного Кабалевский выделяет, наряду с другими партитурами, две симфонии — Е. Светланова и Н. Каретникова. Отметив, что многое в них вызывает симпатию и заслуживает большого одобрения, что у обоих авторов чувствуется настоящий симфонический дар и серьезность замыслов, Кабалевский приходит к заключению: «В целом Симфония Е. Светланова произвела на меня впечатление более цельного, уравновешенного, «гладкого» сочинения, зато в Симфонии Н. Каретникова при заметной рыхлости формы я ощутил большее, чем у Е. Светланова, творческое беспокойство, большую пытливость и инициативу».
Но далее следовали советы молодым композиторам: не начинать сразу с «Девятой симфонии» или «Героики», писать нечто иное, что соответствовало бы той жизненной и творческой ступени, на которой оба еще находятся, покамест же накапливать запас своих жизненных впечатлений (81: 7—9). Слова о «праве на трагедию» не прозвучали вслух, но за элегическими напутствиями секретаря правления Союза композиторов и одновременно руководителя его молодежной секции слышался тот же окрик:«Какого черта ты хоронишь?»
Объект скрытых нападок разгадывается без труда — главная часть симфонии, «огромный черно-трагический марш» (слова композитора). Музыка эта не потускнела со временем, она и сегодня способна произвести впечатление — художественной силой и мастерством, уже вполне достойными зрелого Каретникова. В основе части — выразительная, «сосредоточенная и мрачная», как писалось в аннотации концерта, тема (пример 1). Порученная поначалу струнным, она в дальнейшем обрастает, по-малеровски, все новыми мелодическими голосами, переходит к меди, излагается канонически. Сдержанная скорбь сменяется отчаянием, в массовом шествии словно становятся различимыми отдельные лица. Среди шести проведений темы нет двух одинаковых. Форма дышит и устремляется вперед, благодаря еще и последовательному масштабному сжатию темы. Пятнадцатиминутная часть представляет собой крупную, выверенную во всех параметрах волну.
И хотя симфония в целом получилась неровной, несвободной от длиннот и апробированных решений, здесь сделан важный шаг на пути к целостности, внутреннему единству цикла, пронизанного интонационно-тематическими «арками» между частями, сквозными драматургическими процессами, динамической трактовкой формы. В солидном академическом издании, пятитомной «Истории музыки народов СССР», Вторая симфония названа талантливой заявкой, говорящей о потенциальных возможностях композитора (267: 77). Тут Каретников вплотную подошел к созданию индивидуальной трагедийной инструментальной концепции.
К ней вело еще одно сочинение, куда менее масштабное по внешним показателям, — Скерцо для фортепиано (1957). В первом периоде творчества это, пожалуй, самое «левое» произведение. Мелодико-гармоническая острота при «режиссирующей» роли тонального фактора, четкость ритмической пульсации, энергичная моторика, ясная структурная расчлененность музыкальной речи, некоторые фактурные приемы заставляют вспомнить стиль Прокофьева 10—20-х годов. В условиях советской музыки середины 50-х он воспринимался как «авангардный», устремленный в будущее. В трактовке жанра композитор шел за Шопеном, создателем скерцо мятежно-драматического, погруженного в стихию душевной тревоги и протеста. Тот же исток имеет «обручение» скерцо с сонатной формой. Форма и драматургия — главные завоевания Каретникова в этой пьесе, подлинной инструментальной драме. Расстановка драматургических сил, яркая «коллизийность» развития, его целенаправленность, образные превращения (особенно рельефные в судьбе связующей темы, роль которой, по ходу развертывания формы, возрастает), — все это невольно толкает к поискам так называемой скрытой программы. Нерасторжимое слияние в интонационной фабуле пламенной мятежности и гротесковости, устремления и торможения, плача и издевки странным образом повторилось в судьбе самого сочинения. «Весной 1957-го Министерство культуры объявило конкурс «под девизом» на сочинение обязательной фортепианной пьесы для Первого конкурса им. П. И. Чайковского. Я получил первую премию, гонорар, и впоследствии пьеса была напечатана. На конкурсе играли пьесу Д. Б. Кабалевского» (новелла «Премия»).
Второй симфонией, детскими романсами и Скерцо завершилась творческая молодость Каретникова. Здесь были окон-50 чательно исчерпаны консерваторские ресурсы и одновременно предприняты попытки пробиться к новым стилевым пластам. Но разведка шла как бы вслепую: композитор уже достаточно ясно сознавал, от чего хочет уйти, но, как это нередко бывает, весьма приблизительно представлял себе предмет поисков. Поворотным пунктом он сам считает Третью симфонию. На наш взгляд, поворотным следует считать целый этап творчества, включивший в себя и три названные работы. Да, и они заслуживают критики. Но назвать их, вслед за автором, «ка-балевско-советской музыкой», то есть в каретниковском понимании музыкой дистиллированно пресной, ориентированной на нормативную ждановскую эстетику, никак нельзя. Без них стилевой перелом не свершился бы.
И все же у нас были основания утверждать, что в период по окончании консерватории не музыкальные сочинения являлись тем главным, что определяет творческую личность. Главное заключалось в сложных, болезненных процессах, которые протекали во внутреннем мире молодого композитора. Происходила духовная ломка, переоценивались ценности. Наступало прозрение.
ГЛАВА 2. ДУХОВНЫЙ ПЕРЕЛОМ
1956-й и другие годы
Те, кого мы называем шестидесятниками двадцатого века, сегодня пожилые люди. Иных уж нет. Их детям и внукам, родившимся в 50—60-е годы и позже, наверняка трудно представить себе до конца ту встряску, которую претерпело сознание шестидесятников в их молодую пору, когда перелом истории совпал с наступлением человеческой зрелости.
Для Каретникова почти пять лет, от получения консерваторского диплома до Третьей симфонии, — кризисная полоса. Сильнейшее духовное потрясение, вызванное XX съездом, ряд иных событий, не имевших всеобщего значения, но много значивших в судьбе Каретникова как личности, резкое раз-движение интеллектуального, культурного горизонта, нараставшая внутренняя неудовлетворенность плодами своего труда, активные поиски «иных миров», выход на качественно новые рубежи творчества, — все сплелось в тугой узел.
Когда и как пришла внутренняя свобода, где он ухитрился подхватить эту опасную болезнь? В детстве и юности у него «ничего такого» не было, о многом, что его окружало, даже не догадывался. В этом он мало чем отличался от абсолютного большинства своих сверстников. «Я рос здоровым, правоверным, был комсоргом в школе, потом в консерватории, молился на Сталина, — вспоминает Каретников. — В семье моей никто не пострадал, так что жизнь казалась прекрасной» (44: 16).«Но наступил 1956 год, и он сыграл решающую роль в моей жизни» (63: 13).
Привычные устои оказались ложными и рухнули. Мир пошатнулся, необходимо было заново учиться ходить, приноравливаясь к свалившейся на плечи тяжести, заново учиться видеть и думать. Об этом — негладкие и тяжелые, как обломок скалы, но по-своему сильные строки Н. Коржавина, датированные пятьдесят шестым:
Мороз был — как жара, и свет — как мгла.
Все очертанья тень заволокла.
Предмет неотличим был от теней.
И стал огромным в полутьме — пигмей.
И должен был твой разум каждый день
Вновь открывать, что значит свет и тень.
Что значит ночь и день, и топь, и гать...
Простые вещи снова открывать.
Ныне та «оттепельная» правда видится неполной, усеченной. Тогда она ошеломляла. Очевидно, уровень правды должен был достичь некой критической отметки, чтобы, оглядываясь, многое из пережитого увидеть новым зрением и переосмыслить. «Первый удар случился в 48-м году — те самые постановления. В виновность Ахматовой и Зощенко поверил сразу — их книг я тогда не знал. Но музыку-то я уже знал! Мне было 18... Прокофьева и Шостаковича я слушал и почитал как Великих Мастеров. И вот сверху, с высоты, равной солнцу, спускается Постановление об опере Вано Мурадели «Великая дружба», где сказано, что Прокофьев, Шостакович, Шебалин — композиторы вредные и порочные. Это не укладывалось в голове: с одной стороны, Великие Мастера, с другой — Великое Правительство во главе с Великим Вождем... Удивительно, но голова не раскололась. Оказалось, можно жить с двойным сознанием. Это страшное двоемыслие длилось долго, до тех пор, пока я не узнал правду», — говорил Каретников в интервью, озаглавленном корреспондентом «Огонька» «Освобождение от двоемыслия» (44: 16).
Память возвращала и более давние времена, вплоть до самых ранних, детских. В доме, где он жил, постоянно исчезали люди. Вспоминались приглушенные разговоры взрослых: «Взяли мужа Лепешинской»,«Арестован брат Косиора» (дом был «привилегированный»)... Как может столь страшная реальность проходить мимо сознания, великолепно показал Ю. Трифонов (он был старше Каретникова на пять лет) в автобиографическом романе «Исчезновение».
В 1947 году, за неделю до празднования 8 Марта, юноша обнаружил на столе у отца, парторга Министерства высшего и среднего образования, протокол еще не состоявшегося торжественного собрания, посвященного этой дате. Выборы президиума, оглашение приветственной телеграммы товарищу Сталину, «все встают», «разрешите ваши аплодисменты считать за одобрение...», внизу от руки:«Утверждаю» и подпись неразборчиво (новелла «Поэза»). На этот протокол, как две капли воды, похожа сцена отречения императора Карла от престола в опере «Тиль Уленшпигель»: она решена как заранее отработанная, читаемая «по бумажке» репетиция.
Примерно в сорок девятом Каретников был свидетелем мук, которые испытывала его шестидесятилетняя мама, готовясь к зачету по «Краткому курсу истории ВКП(б)», его четвертой, «философской» главе. Мама споткнулась на первой же фразе: «Что дает марксистское мировоззрение члену коммунистической партии?» Она повторяла ее на разные лады, не умея проникнуть в сокровенный смысл риторического вопроса. Зачет мама сдала успешно:«Они дали мне книгу, и я прочитала им один абзац, так и сдала» (новелла «Четвертая глава»).
Чудовищным ударом закончились отношения с Исаевым, у которого на протяжении ряда лет, до женитьбы и переезда на другую квартиру в 1954 году, Каретников бывал почти ежедневно, а после этого — редко, но встречали его по-прежнему ласково и любовно. В 1955-м, знакомясь с одним литератором, он в момент рукопожатия услышал:
— А-а-а... Вы тот молодой человек, о котором мне рассказывал Кот Исаев. А знаете, почему вас в этом доме так долго терпели — ведь вы им очень мешали! Они уверены, что вас к ним приставило МГБ!
«Годы отношений сложились в короткую вспышку, она расколола мне мозг, и я потерял сознание...» («Время было такое...»).
Каретников попал в ситуацию, видимо, отнюдь не исключительную в среде советской интеллигенции тех лет. Вспоминается созданная на исходе хрущевского десятилетия повесть Ю. Даниэля «Искупление». Ее герой, художник Виктор Вольский, облыжно обвинен друзьями в «стукачестве», выброшен из привычного круга общения. Финал трагичен: Виктор сходит с ума.
После XX съезда Каретников быстро ушел дальше в постижении того, что произошло со страной, куда дальше тех объяснений, которые были предложены в секретном докладе Хрущева. Политические воззрения Каретникова 60-х годов недвусмысленно высказаны в новеллах «Сентиментальное путешествие», «Покупка», «Явление власти в 1962-м», «Здесь надо родиться».
Каретников и «шестидесятничество»
Современные публицисты, историки, философы, выдвинувшиеся в горбачевские годы и позднее, нередко иронизируют над шестидесятниками, упрекают их в половинчатости, в бессмысленности попыток «бороться со сталинизмом под знаменем Ленина и водительством Хрущева», что было так же нелепо, как намерение «изгонять бесов посредством Вельзевула». Думается, критикам шестидесятничества отказывает чувство историзма. Умонастроения одной эпохи некорректно оценивать с позиций другой. Но как раз Каретникову конца 50-х уже нельзя поставить в вину «историческую внеконтекстуальность». Бороться со сталинизмом молодому художнику было не под силу и не входило в его планы. Но понимать исторические процессы он хотел и немало преуспел в этом. Понимать и противостоять внутренне покачнувшейся, но сохранившей запас прочности Системе.
Один из разоблачителей шестидесятничества, которого мы уже начали цитировать, пишет:«Сколько-нибудь успешно противостоять тоталитарному коммунистическому монстру можно было не изнутри (как то пытались делать шестидесятники), а только будучи вне его догм, постулатов... то есть находясь в иной системе координат, в другом культурном, этическом, духовном, цивилизационном контексте» (261: 178, 181).
К стремительному прорыву Каретникова в другой духовный контекст были внутренние предпосылки: хорошее, не по «Краткому курсу», знание всеобщей и российской истории, глубинная приобщенность к мировой культуре. Мощными катализаторами освобождения от двоемыслия продолжали оставаться встречи с незаурядными людьми.
А. Габричевский
В 1962 году он услышал и навсегда запомнил слова: «Я думаю, что история человечества есть прежде всего история культуры... Мне совершенно неинтересно, разбил Рамзес Второй хеттов или не разбил, — меня интересуют египетские живопись, скульптура и лирическая поэзия. Мне абсолютно наплевать на походы Наполеона — меня интересуют Давид и Жерико. ...В результате различных исторических коллизий... случилось так, что наша страна лишилась культуры, а, следовательно, выпала из истории... А раз она выпала из истории, но все же существует, она исторический нонсенс. А если она исторический нонсенс, то здесь может произойти все что угодно» (новелла «Манеж»).
Эту тираду произнес А. Габричевский, которого Каретников считает одним из своих духовных отцов. Влияние его на личность Каретникова было огромным и всеобъемлющим. Едва ли не все, что свершалось в те годы в миропонимании, в перемене взглядов на искусство, в собственном творчестве, несет на себе печать общения с этим человеком5.
Александр Георгиевич Габричевский (1891—1968) принадлежал к тому же поколению русской интеллигенции, что и другие «боги» Каретникова — Шебалин, Нейгауз, Пастернак. К поколению, о котором Волошин, еще один его представитель, писал:
Мы вышли в путь в закатной славе века,
В последний час всемирной тишины,
Когда слова о зверствах и о войнах
Казались всем неповторимой сказкой.
Но мрак, и брань, и мор, и трус, и глад
Застигли нас посереди дороги...
В Александре Георгиевиче все было крупно, значительно, мощно. Старинные родовые корни: он сын известного микробиолога Г. Н. Габричевского, именем которого названа одна из московских улиц и основанный им Бактериологический институт, внучатый племянник А. В. Станкевича, выросший в его доме. Блистательное домашнее образование: античную литературу он изучал под руководством Ф. Корша, живописи учился у Д. Корина, скульптурой занимался у С. Коненкова и С. Волнухина, танцами — у солиста Большого театра М. Мордкина, уроки музыки брал у Д. Шора.
Историк по образованию, искусствовед по профессии, мыслитель по призванию. О его эрудиции ходили легенды, знавшие его люди рисковали сравнивать Габричевского с титанами Возрождения: он владел семью языками, разбирался практически во всех видах искусства, ни в одном из которых не чувствовал себя дилетантом. Казалось, говорил Каретников, не существовало в европейской культуре, старой и новой, явления, которое не было бы ему известно. Знаток Кватроченто, влюбленный в Данте, Моцарта и Гете, он понял и принял Шенберга, восхищался Пикассо и Матиссом, Джойсом и Кафкой, интересовался Ле Корбюзье и художниками-конструктивистами. Он был в близких отношениях с Волошиным и Пастернаком, Цветаевой и Ахматовой, Фальком и Фаворским, Нейгаузом и Рихтером. Будучи человеком высочайшей культуры и могучего интеллекта, любил и «умел дурачиться», всегда находил общий язык с молодежью, и она платила ему ответной любовью.
Биографии Габричевского - по объему сделанного и пережитого - хватило бы на пятерых. В предреволюционные годы он окончил Московский университет (историческое отделение историко-философского факультета), посетил Англию, занимался античной пластикой в Британском музее, в 1914 году прослушал летний семестр в Баварском университете, в Мюнхене, где познакомился с В. Кандинским. В 20-е годы молодой ученый преподает в alma mater на кафедре истории и теории искусства факультета общественных наук, являясь одновременно хранителем вазового подотдела Музея изящных искусств при МГУ. В течение этого десятилетия Габричевский сотрудничает минимум с восемью научными и учебными заведениями, в их числе Институт художественной культуры (ИНХУК), Московский институт художественных исследований и музыки (МИХМ), Сектор по теории искусства и музыки при Академии материальной культуры (СЕТИМ), Государственная академия художественной науки (ГАХН). В конце 20-х ГАХН была разгромлена, многие ее члены репрессированы. Габричевскому повезло: арест продолжался всего несколько месяцев.
30-е годы — время работы в Архитектурно-строительном институте и Академии архитектуры, где Александр Георгиевич ведет научно-педагогическую и редакторскую деятельность. В 35-м — новый арест и ссылка в Каширу, не прервавшие, однако, творческого труда. Осенью 1941 года, когда вражеские войска стояли у врат столицы, ученого, вместе со многими деятелями науки и искусства (в том числе вместе с его другом Г. Нейгаузом), арестовали в третий раз и, осудив по «58-й», выслали в маленький поселок под Свердловском. Позже ему разрешили перебраться в Свердловск, где он читал лекции в эвакуированных туда Союзе архитекторов и на искусствоведческом отделении МГУ.
С конца войны — снова Москва, академия, архитектурный институт. Живет в квартире под Зоологическим музеем МГУ, описанной Булгаковым в «Роковых яйцах», живет без прописки, вынужденный по вечерам и ночью скрываться от настырного участкового на черной лестнице. 1948-й принес новую порцию «мрака и брани»: взор недремлющего державного ока пал наконец на архитектуру. Главным «формалистом» и «космополитом» в этой области был назначен И. Жолтовский, а Габричевский как его ближайший сотрудник оказался отовсюду изгнан. Средства к существованию семьи добывались продажей книг из библиотеки Станкевича. Положение несколько выправилось, когда, благодаря усилиям А. Щусева, Габричевскому отыскалось место в Музее архитектуры, а Б. Виппер нашел ему «почасовку» в университете.
В 1952 году, с началом «дела врачей», понимая, что надвигается очередная волна арестов, Александр Георгиевич спешно вышел на пенсию и уехал в Коктебель, где еще лет пять назад купил домик. Именно в Коктебеле в 1954 году с ним познакомился Каретников.
Нелегко даже в самых общих чертах обозначить сферу применения недюжинных сил Габричевского, хотя сам он в конце жизни говорил, что не смог (не дали) реализоваться. Он занимался учением о художественной форме, проблемами времени и пространства в различных искусствах, его занимали пейзаж и портрет, история архитектурных теорий, творчество и философские воззрения Гете. По его замыслу и при его участии осуществлено уникальное издание серии комментированных переводов классиков теории архитектуры Альберти, Виньолы, Витрувия, Барбаро, Палладио. В 13-томном собрании сочинений Гете, выпуск которого начался в 1932 году под общей редакцией Л. Каменева, А. Луначарского и М. Розанова, Габричевский редактировал первые два тома (с С. Шервинским), писал к ним статьи и примечания, переводил. На склоне лет он выполнил перевод «Пира» Данте.
Многие идеи ученого рождались благодаря свободному владению материалом разных искусств и наук. Вчитаемся в некоторые его суждения, попытаемся увидеть их глазами молодого Каретникова, который внимательно изучал рукописные работы Габричевского. Вот как он пишет, к примеру, о взаимодействии материала и формы, этой «очень важной проблеме в развитии искусства», неизменно встающей и перед композитором, о роли отдельных конструктивных элементов, о пропорциях: «Почему грек, обрабатывая торец-иероглиф, выбрал форму вертикальных бороздок? Для соблюдения принципа постепенного развития архитектуры здания по вертикали. Он вновь возвращается к вертикальным членениям колонны, к каннелюрам и повторяет этот мотив выше, в невысокой «сокращенной» детали. В музыке это часто имеет место, когда основная тема вновь появляется, но в сокращенном виде» (33: 95. Курсив мой, — А. С.).
И снова — о пропорциях: «Образные признаки всякой каркасноордерной системы, колоннады являются результатом взаимодействия между пролетом, толщиной и высотой опоры. Эти взаимоотношения устанавливают связь между небом и землей, дают представление о нагрузке, о том, как работают опоры и как разрешается борьба между тем и другим» (33: 93. Курсив мой, — А, С.). И вновь — процессуальные ассоциации, понятия, чуть ли не заимствованные из музыкальной драматургии. А как легки, выразительны эти строки о сугубо, казалось бы, научно-теоретических вещах, строки, написанные не кабинетным ученым-сухарем, а ярко одаренной художественной натурой!
Судя по всему, природа наградила Габричевского еще и блестящим лекторским даром. Это ощущаешь и в письменных высказываниях:«Можно, с одной стороны, утверждать, что самый факт изображения той или иной человеческой индивидуальности, что сходство или несходство этого изображения с оригиналом — по существу никакого значения не имеют... Изображает ли портрет Наполеона, просто натурщика или вымышленное лицо — все это для созерцающего художественное произведение имеет ровно такое же значение, как и то, что художнику ничего не заплатили за заказ или то, что он привык работать натощак — то есть, другими словами, никакого»(34: 53).
Точность и глубина научных суждений о том или ином жанре, виде искусства подкреплена практическим знанием основ ремесла. Ведь, скажем, статья «Героический пейзаж и искусство Киммерии» написана тою же рукой, что и картины «Карадаг» или «Бухта Енышары». Десять живописных работ Габричевского — масло, карандаш, акварель — экспонировались в музее имени Пушкина на «Декабрьских вечерах» 1988 года. Эссе о Прокофьеве и Шостаковиче (опубликованные в 1946 —1947 годах на немецком языке в журнале «Sowiet Literatur» и на русском в «Советской музыке» в 1989-м) созданы тем человеком, который играл на фортепиано, музицировал в четыре руки с Нейгаузом. Человеком, который в свое время не только близко общался с Б. Яворским, но и изучал его музыкально-теоретические идеи, свободно разбирался в вопросах гармонии, полифонии, инструментовки. Человеком, который, чтобы услышать новое произведение Шостаковича, мог специально отправиться в Ленинград, а уж в Москве и подавно не пропускал ни одной его премьеры.
«Музыку Шостаковича я люблю страстно, — начинает он статью 1946 года, когда еще были свежи в памяти идеологические наскоки критики на Восьмую симфонию и еще не стих недоуменный ропот по поводу Девятой, — люблю настолько, что не могу себе представить ни жизни, ни мира без нее. Все мысли, образы и интонации его художественного языка мне близки и понятны. Мне всегда кажется, что он говорит то, что сказал бы я, будь наделен чудесным даром музыкальной речи... Шостакович для меня — самый современный из моих современников... Я счастлив и горд тем, что мы современники» (32: 89).
В числе «музыкальных» работ Габричевского упомянем также участие в подготовке к изданию трехтомника статей Шумана (260 ), книги материалов, статей и писем Нейгауза (137). О завидной музыкальной эрудиции Александра Георгиевича свидетельствует его превосходный комментарий к роману Т. Манна «Доктор Фаустус», где не только просто и кратко растолкованы понятия и термины музыкальной теории, но порой по отдаленному намеку в тексте точно угаданы подразумевающиеся произведения, причем отнюдь не самые обиходные.
Есть у Б. Асафьева статья о Блоке «Видение мира в духе музыки» (9). О Габричевском можно сказать, что ему было свойственно видение мира в духе художественной культуры. Его высказывание на этот счет, сохраненное Каретниковым и процитированное выше, представляется программным:«История человечества есть прежде всего история культуры».
В этом духе он воспитывал Каретникова. Впрочем, слова «воспитывал», «учил» и им подобные здесь заведомо неточны, хотя Габричевский, помимо всех своих талантов, был, видимо, прирожденным педагогом. Он походил, скорее, на Сократа, беседующего с учениками. Надо было просто уметь находиться рядом с ним: слушать, смотреть, думать. Габричевский постоянно сам являл примеры мышления, анализов и оценок — исторических, политических, культурных, наконец, просто житейских (см. новеллы «Манеж», «Обида», «Дополнение к “Истории костюма”», «Флоренция», «Четвертая глава»).
К тому времени Каретников был уже подготовлен к общению с таким человеком. Услышанное ловилось с жадностью, будило мысль.«То, как они (Габричевский и Нейгауз, — А. С.) слушали музыку, уже само по себе было особым, очень напряженным действием, а то, что потом говорилось, могло бы стать специальной школой, хотя говорилось очень скупо» (новелла «Генрих Нейгауз...»).«Мнения А. Г. Габричевского о явлениях истории, искусства или об отдельных людях всегда обладали, несмотря на их краткость, удивительной полнотой, единственностью взгляда и всегда давали... возможность свободно размышлять далее» («Обида»).
Главный итог «бесед с Сократом» — приобщение Каретникова к определенному типу восприятия мира и стилю мышления. Думается, в последней из приведенных цитат, характеризуя Габричевского, композитор говорит и о своем собственном идеале.
По бережно хранимым Каретниковым фотографиям, опубликованным в книге «Темы с вариациями», по любительской кинопленке, снятой им в Крыму (ее, запечатлевшую Габричевского и Нейгауза, несколько раз показывали по ТВ), нетрудно вообразить себе Александра Георгиевича последних лет жизни. Крупная, массивная голова, очень сильные очки, палка, неизменная папироса... Он говорит неторопливо, ничего не навязывая, но веско, низким раскатистым голосом, «по-дворянски» грассируя, часто в середине слов произнося «в» вместо «л»... Годы общения с ним, с середины 50-х до середины 60-х, Каретников называет «эпохой Габричевского».
Приход к православию. А. Мень
...Внутренняя свобода необходима художнику не менее, чем одаренность и профессионализм. Она приходит, когда с души человека сбрасываются шоры, и душа как бы зажмуривается, привыкая к неведомому свету. Когда из сознания, как ржавые гвозди из доски, выдираются ложные догмы и обветшавшие стереотипы, чуть ли не с рождения вколоченные пропагандой. Тогда аксиомы при ближайшем рассмотрении оказываются теоремами, а то и всего лишь шаткими тезисами. Догмы сильны до тех пор, пока их не начинают обсуждать и подвергать критике. После этого они уже не догмы.
На вопрос, как он относится к марксистской философии, Габричевский ответил:«Главным пунктом этой теории является положение, что материя первична, а сознание вторично. Это просто голое, как факт, утверждение. На чем же тут можно строить философию?..» («Четвертая глава»).
Дало трещину, а потом вовсе раскололось и следующее голое утверждение из того же ряда — что «Бога нет». Был примечательный, похожий поначалу на мистификацию, разговор академиков, «академиков нашей, советской, Академии наук», в компанию которых почти случайно затесался молодой композитор. Речь шла о «высшем разуме» («Новый год»). Был еще, примерно в то же время, смиренный взгляд голубых, цвета вылинявшего василька, глаз молодого священника в церкви Новодевичьего монастыря, куда «автор уже двух симфоний», «гордо шагнувший в самостоятельность», забрел из любопытства. Вид сверстника, который в середине XX века, «в самом передовом в мире государстве, где всем давно известно, что... никакого Христа не было, что все это поповские выдумки для неграмотных старух... идет служить уходящей идеологии, вызывал гнев, желание одернуть, поправить сбившегося с пути». А вышел он из церкви с залитым краской мучительного стыда лицом и желанием избавиться от самого себя и всех своих «громко и пусто гремевших побуждений». Пришедший к вере во второй половине 50-х годов, Каретников и через 30 лет вспоминал этого голубоглазого священника и благодарил за урок, с которого «началось обучение души» («Началось...»).
В 1965 году Каретников познакомился с Александром Менем (1935 —1990), тогда еще молодым священником, ставшим впоследствии выдающимся деятелем русской православной церкви. Познакомился, переживая труднейшую полосу жизни, когда перед ним захлопнулись двери театров, концертных организаций, издательств. Отцу Александру Каретников обязан спасением от греха отчаяния. «С первой встречи я отдал ему свое сердце, — сказано в новелле «Отец Александр», — и наши отношения, отношения пастыря и пасомого, продолжались до дня его трагической гибели. Для меня в знакомстве с отцом Александром был Божий промысел... Он стал играть в моей жизни огромную роль: крестил мою жену, потом венчал нас, крестил наших детей, освятил дом... Отец Александр стал моим духовным руководителем в момент, когда я осознал, что все пути для меня закрыты и мне не на что более рассчитывать... Какое-то время я держался, надеялся... Тратил нервы, пытаясь пробить стену всеобщего умолчания. К началу 65-го... отчаяние стало полным... Он просто поставил меня на ноги, укрепил в вере и настолько, насколько это было возможно, стал моим наставником в работе». Отец Александр причастен к созданию обеих опер Каретникова, «Восьми духовных песнопений». От него была унаследована широта и открытость воззрений на христианство — при глубокой приверженности традициям православия.
Благодаря А. Меню композитор соприкоснулся с отечественным православным богословием периода его расцвета, — ведь, как верно пишут мемуаристы и биографы (73; 127; 150), А. Мень был единственным православным пастырем послевоенной эпохи, кто целенаправленно собирал и распространял труды мало кому тогда известных в стране крупных мыслителей — представителей так называемого русского религиозного возрождения конца XIX — начала XX века (Н. Бердяева, С. Булгакова, В. Лосского, В. Соловьева, П. Флоренского).
Новое искусство
Духовный, интеллектуальный переворот совершался и под воздействием незнакомого прежде искусства, хлынувшего в нашу страну сквозь неширокую щель в приоткрывшемся «железном занавесе». Москвичи старшего поколения вспоминают очереди на выставку картин Дрезденской галереи, приезд на гастроли П. Скофилда с «Гамлетом», «Берлинер-ансамбля», театра Жана Вилара. «Голубь» Пикассо вызывал жуткий ажиотаж, бурю чувств, смятение. Все новое казалось чудом, подобным цветку, распустившемуся в пустыне. Особенно жгучий интерес возбуждало современное западное искусство, дотоле совершенно закрытое для глаз и ушей советского человека. Олег Прокофьев, сын композитора, художник и искусствовед, где-то раздобыл «Лысую певицу» Э. Ионеско. На подобные находки сбегались друзья, знакомые, знакомые друзей. Стали появляться записи зарубежной музыки, привозимые или присылаемые теми, кто имел «связи с заграницей».
Постоянно снабжал товарищей новинками Андрей Волконский, в творчестве которого ныне усматривают водораздел, обозначивший новый период — «советский авангард», а его самого считают родоначальником и лидером этого направления (222: 5). После исключения Андрея из Московской консерватории его, лишенного средств к существованию, приютил у себя Габричевский. У Волконского водились материалы по П. Мондриану и П. Клее, альбомы и словари, он давал читать собственные подстрочники Г. Апполинера и Р. Шара. И главное: он щедро знакомил сверстников с западноевропейской музыкой XX века, которую — единственный из молодых советских музыкантов — фундаментально знал. К тому же он блестяще владел фортепиано, виртуозно читал «с листа». Общение, даже не слишком тесное, с этим европейски образованным представителем древнего русского княжеского рода, потомком Рюриковичей, открывало новые миры.
Стремительно расширялся музыкальный кругозор. Расширялся с опозданием, и потому к чувству радости примешивались досада и гнев.«Мне довелось услышать Вагнера только в 16 лет... А должен был услышать, наверное, в 11 или 12. ...Малера следовало бы услышать в 15, а не в 23 года, а «Новую Венскую школу» хотя бы в 18, а не в 27. У моего поколения украли 8—9 лет жизни, важнейших в развитии человека, и эти потери никому и никогда не возместить» (новелла «Не восполнить!»).
Что касается Малера, то справедливости ради надо сказать, что партитуры его симфоний были известны, благодаря Шебалину, и ранее. Любовь к австрийскому композитору сохранилась на всю жизнь. Замечая следы его влияний в своей музыке, Каретников говорил: это малерия.
Тогда же произошла встреча с композитором отнюдь не запрещенным, просто «пройденным» в пору учения.«Как-то ни с того, ни с сего открыл оставшийся от бабки сборник песен Шуберта. И «открыл» его для себя, — вспоминал Каретников. — Два года я играл и пел его песни, не прикасаясь к нотной бумаге. Появилось ощущение: все, что я знаю о композиции, — школьная премудрость, не более того. Шуберт показал мне, что музыкальная форма есть производное от тематического материала». Можно удивляться, но факт остается фактом: эту истину он постиг не на музыке Баха, Бетховена или Шостаковича, не на консерваторских лекциях по анализу музыкальных произведений, наконец, но на песнях Шуберта! Автору очерка в «Музыкальной жизни» А. Соколову он метафорически разъяснил наблюдение:«Шуберт дает возможность появиться ростку, а затем очень осторожно поливает его и ведет именно туда, куда тот растет... то есть цветок вырастает сам (при очень хорошем садовнике). В этом ненасилии над тематическим материалом — альфа и омега шубертовских песен» (194: 6). В них Каретников нашел столь ценимую им в искусстве естественность.
Двухлетнее молчание разрешилось Второй симфонией, но она, как мы помним, не удовлетворила автора. Поиски продолжались. И размышления над музыкой, своей и чужой. Своя вызывала все большие сомнения. В чужой все сильнее влекло к венской классической традиции. Тут подоспело знакомство с «Новой Веной». На премьере Второй симфонии случай свел его с Филиппом Гершковичем (1906 —1989), оркестровое «Каприччио» которого исполнялось в той же программе. Уроженец Румынии, где он окончил свою первую консерваторию, Гершкович двенадцать лет провел в Вене, учился у Берга и Веберна, потом вернулся на родину, а с установлением в Румынии фашистского режима переехал в СССР. Состоявшийся после концерта короткий разговор с этим знатоком и почитателем как «Новой», так и «Старой Вены», укрепил Каретникова в его устремлениях.
А в следующем году в Москву приехал канадский пианист Г. Гульд и на встрече со студентами консерватории исполнил Вариации Веберна (соч. 27). Очевидцы свидетельствуют:«Произведение было прослушано с всепоглощающим вниманием, но... с полным непониманием» (229: 120). Каретникова на том выступлении не было, Вариации он услышал позже в магнитофонной записи. Первая реакция выразилась... в смехе: это казалось чудовищной нелепицей, надувательством! Однако, отсмеявшись, он все-таки прослушал пленку несколько раз. Понадобился целый год, чтобы научиться воспринимать эту музыку. Затем последовали другие сочинения Веберна, «Воццек» Берга, «Моисей и Аарон», Камерная симфония, «Уцелевший из Варшавы» Шенберга. Как только стало возможным, долго сидел, изучая нотные тексты, чтобы понять, «как это делается». Явление по имени «нововенская школа» постепенно представало во всей своей значительности.
Многое, смутно томившее в последние годы, прояснилось — как отвергаемое, так и искомое. Изъяны собственной музыки явились во всей наготе. Главных было, пожалуй, три. Первый — присутствие расхожих приемов, готовых формул, мелодико-гармонических, фактурных и прочих штампов. С тех пор и на всю жизнь к ним возникла устойчивая идиосинкра-зия. От неприятия музыкальных трюизмов идет и категорическое отрицание Каретниковым массовой культуры, всех тех звучаний, которые «закладываются в голову с одного раза, как обойма в пистолет, и прилипают к памяти, подобно небезызвестному банному листу» (см. новеллы «Объяснение в любви», «Всего лишь пена», «Александр Галич»). Второй недостаток — прямое следствие первого — стандартность формы:«выполняй правила, наполняй ее любыми нотами, и тебя будут слушать. А что? Звучит же. Но это кукла» (44: 16). Наконец, третье — произвол случайности: «случайность должна быть запрограммирована».
Вот почему среди изобилия новой музыки, обрушившейся на советских музыкантов в те годы, — Хиндемит, Барток, Стравинский, Мессиан, Лютославский, Пендерецкий, к которым потом прибавились авторы алеаторической, сонористической, электронной и конкретной музыки, — Каретников сразу же отдал предпочтение нововенцам. Приход Каретникова к додекафонии — как раз тот случай, о котором говорил А. Ухтомский: «Открытая истина часто оказывается сокращением и упрощением того, что думалось людьми перед тем» (217: 127). В творческих идеях Шенберга и его учеников он нашел то, что искал еще до знакомства с ними.
Додекафонные опусы нововенцев убеждали: целое можно построить, не прибегая к моментам так называемого свободного развития. Инстинктивное стремление к единству, заявившее о себе во Второй симфонии, приняло там известную форму мотивных связей и тематических реминисценций по образцу до минорной Симфонии Танеева. Новая техника обеспечивала генерализацию композиторских намерений.
Каретников получил наконец ответ на вопрос, почему ему всегда были особенно близки Бах и плеяда австро-немецких мастеров XVIII —XIX веков. Окрепло убеждение в единстве метода, свойственного всей Венской школе, от «старой» до «новой». Сковывающая, как иногда говорят, композитора по рукам и ногам, додекафония открывала для Каретникова перспективу невиданной творческой свободы. Она и сама представлялась метафорой свободы: отсутствие единого звуковысотного центра (тоники), полное «равенство перед законом» всех двенадцати тонов звукоряда. Он видел в этом не только чисто музыкальный способ организации:«Мир постепенно освобождался от тирании, автократии, возросла степень свободы личности. И новая музыкальная форма неизбежно должна была возникнуть как адекватное отражение содержания этого нового мира, мышления и чувств людей новой эпохи» (44: 15)6.
Сквозная тема творчества Каретникова — тема преодоления. Совершенно очевидно, что она имеет автобиографическое происхождение. Сколько времени и сил ушло на то, чтобы осознать и превозмочь собственную ограниченность, зашоренность, элементарное незнание того, что знать необходимо! Пробил час, предугаданный некогда Шебалиным, — «когда ты захочешь писать музыку так, как ты сам считаешь нужным», — и наступила пора отстаивать право быть самим собой. А внутренние препятствия, то, что принято называть сопротивлением материала! «Творчество, — настаивает Каретников, — есть процесс борьбы с немотой, с тем врагом, что внутри тебя» (44: 16). Немота же — всегда несвобода — вспомним, к примеру, пролог «Зеркала» А. Тарковского или воспоминания Ю. Трифонова о своей литературной юности, озаглавленные этими же словами: муки немоты(214).
Выбор был сделан. «Я избавился от вечной проблемы «идти —не идти»... Я стал думать, что делаю, говорить, что думаю, и делать, что хочу» (44: 17). И еще он понял, что компромиссы бессмысленны. Компромисс ведь тоже есть род несвободы. Нередко случается так, что бескомпромиссность, как оборотная сторона юношеского максимализма, с годами смягчается и уступает место более широкому и спокойному взгляду на порядок вещей, большей терпимости или, как говорят в наши дни, толерантности. Каретников проделал обратный путь и считал свой выбор счастьем. Впрочем, в известном смысле, ему не пришлось выбирать. Выбор сделали за него Творчество и Вера. Музыка закалила характер. Читая первую книгу новелл, на это обратил внимание писатель А. Ким:«Был секретарем комсомольской организации. Подозревал кое-кого в стукачестве — и сам был подозреваем. Робел перед начальством. Ненавидел сильных мира сего, творящих произвол, беззаконие и плохую музыку, но шел их поздравлять в толпе приспешников...» (99: 109).
С начала 60-х годов подобное стало невозможным. К примеру, не задумываясь ни на минуту, он отверг заманчивое предложение сотрудника КГБ, гарантировавшего издание и исполнение всех сочинений, поездки за границу и деньги на представительство в обмен «всего лишь» на кое-какую информацию (новелла «Дай, Бог, последнее свидание»).
Размышления о роли и месте компромисса в жизни художника нашли отражение в новелле «Александр Галич»: «Он оказался в положении пророка Ионы, который вопиял к небесам:”Я не хочу, Господи, но ты толкаешь меня в спину!”» Отказавшись от компромиссов, надо научиться перебарывать страх. В другой новелле Каретников пишет:«С приходом к вере сама возможность какого-либо компромисса с властью начинала вызывать чрезвычайную брезгливость. Это крайне затрудняло пребывание в социуме» («Отец Александр»). Таким образом, и отношения с социумом были предопределены: приятие исключалось, действенная конфронтация воспринималась как форма контакта, что также не могло быть принято. Оставалось одно: двадцатипятилетнее затворничество — крайняя мера, на которую не решился, кажется, никто из его сверстников-авангардистов (за исключением разве что А Караманова).
Одинаково ошибочным, по нашему разумению, было бы отвергать такую позицию «с порога», как и ожидать от каждого неукоснительного ей следования. Безусловное право на существование имеют и другие точки зрения, например, такая:«Я думаю, что исключать что-либо, в том числе и компромисс, для художника было бы неправильным. И вместе с тем нет ничего губительнее, чем компромисс... Я не позволил бы себе примкнуть к строгим блюстителям правды, которые исключают самую возможность компромисса. И, вместе с тем, я не с теми, кто каждодневно работает на этот очень актуальный, но никогда не точный компромисс. Между этими двумя сферами и находится правда» (75: 114). Иначе говоря: постоянный компромисс нехорош, но иногда возможен и даже необходим.
Кредо Каретникова, укладывающееся в лютеровское «На том стою и не могу иначе», по крайней мере, не может не вызвать уважения.
«Последний компромисс»
Последним компромиссом, «попыткой договориться с режимом», композитор считает «Драматическую поэму» для большого симфонического оркестра (1960). Она закончена уже после Третьей симфонии, но по всем статьям принадлежит предыдущему периоду.
...В 1958 году на экраны страны вышел кинофильм «Ветер», снятый А. Аловым и В. Наумовым. Это была третья работа режиссерского содружества, вторая — начинающего кинокомпозитора Каретникова, и первая — их совместная. Картина рассказывала о юных героях, через фронт гражданской войны пробирающихся в Москву на съезд рабоче-крестьянской и красноармейской молодежи, тот самый съезд, что провозгласил рождение российского комсомола. На долгом, полутора-тысячеверстом пути их ждут страшные опасности, мучения и смерти. Трое из них погибают, и только четвертый, переживший «неудачный» расстрел и даже погребение, доходит до цели. В словах этого четвертого нашла выражение одна из ведущих идей фильма, одинаково дорогая постановщикам (они же сценаристы) и композитору: «Ну, засыпали землей. Сыро. Холодно. Давит со всех сторон. Слышу — гудит земля, гудит: "Встань. Ты не можешь помереть, у тебя дело...”»
Фильмы стареют быстро, в наше время особенно. Сейчас нет смысла разбирать чисто кинематографические достоинства и недостатки «Ветра». Картина целиком принадлежит эпохе «восстановления ленинских норм». Отметим лишь самоочевидное. Первое: идея, выраженная приведенными словами, не подвержена идеологической девальвации. И второе: кинолента предлагала новое по тем временам решение историко-революционной темы — подчеркнуто нехрестоматийное, ярко анти-бесконфликтное, открыто противостоящее розово-идиллическому изображению гражданской войны. Кинокритика отмечала темпераментность и неравнодушие режиссуры, броскую, даже несколько чрезмерную, избыточную экспрессию.«Это все равно, что исполнить музыкальное произведение от начала до конца фортиссимо», — писал обозреватель «Советского экрана» (15:7).
Далекой от совершенства, особенно по нынешним меркам, получилась и музыка. Ей свойственна и иллюстративность (когда, к примеру, экранный показ красногвардейского отряда сопровождается звучанием «Варшавянки», а свадьба — наигрышем гармони), и перегруженность, и другие просчеты.«Но, наряду с этим, — проницательно заметил музыкальный критик, — автору удалось провести через весь фильм одну ведущую тему, которая обобщает главную идею фильма, — идею неудержимого движения вперед наперекор всем препятствиям» (65: 113).
Вариации на эту тему, рассредоточенные в кинопартитуре и при переработке сомкнутые в единую цепь, легли в основу конструктивного замысла симфонического произведения. Так родилась развернутая одночастная, поэмного типа монотематическая композиция, совмещающая, как это было еще у Листа, признаки сонатного allegro, сонатно-симфонического цикла и концентрической (симметричной) формы. В будущем Каретников не раз еще прибегнет к подобной структуре. Профессионализм автора, пожалуй, нагляднее всего проявился именно в области формы, в работе с тематическим материалом, а также в оркестровом мышлении7. Двенадцать неравновеликих вариаций образовали стройную и целеустремленную линию, контуры которой обусловлены отчасти «симфонизмом» породившего их сюжета, но в основном — логикой собственно музыкальной.
Монотема произведения в своем первоначальном изложении подобна сжатому motto героико-драматического характера. Она родственна таким темам Каретникова, как вступление к I части Первой симфонии, которую мы приведем здесь для сравнения, чтобы стало понятно, насколько более собран, концентрирован и рельефен стал тематизм композитора (примеры 2, 3). Первая вариация, она же главная партия, — марш. Спустя несколько лет в буклете, выпущенным Большим театром к премьере «Ванины Ванини», Э. Денисов справедливо назовет марш излюбленным жанром Каретникова, появляющимся в различных модификациях во всех его крупных сочинениях. Добавим: чаще всего это марши трагедийного звучания, траурные массовые шествия. Их немало будет и позже, отнюдь не только в кино- и театральной музыке, вплоть до сцены сожжения Клааса в «Тиле Уленшпигеле». В их трактовке многое воспринято от Малера: черты хоральности и фанфарности, гибкое чередование пунктирных и триольных ритмических фигур, в последующих проведениях — полифоническая разветвленность оркестровой ткани.
В первой вариации грузные аккорды сопровождения (низкие струнные пиццикато, рояль) приобретают особую выразительность благодаря паузированию в условиях переменного размера: это поступь усталая, с остановками, чтобы перевести дыхание. Во второй вариации (побочная партия) тема становится женственно-хрупкой, застенчивой, затем, просветляясь, — дифирамбической. В разработке она звучит то стремительно и возбужденно, то судорожно, задыхаясь, то как слезные стенания, то как зловещий вихрь (ветер!). Моменты, подобные последнему, явно напоминают «злые» токкаты Шостаковича с их механистически безостановочным кружением, резкими туттийными «тычками», рявкающей медью и пронзительным визгом флейт.
Конфликтно-драматическая кульминация приходится на последнюю разработочную вариацию — точку «золотого сечения» формы. Это почти зримая картина боя — или, если отрешиться от программных ассоциаций, жестокой схватки противоборствующих сил. Схватки с трагическим исходом: десятая вариация, начало зеркальной репризы, представляет собой, по слову Л. Живова, «траурный дифирамб» погибшим (65: 114). В одиннадцатой вариации мы вновь слышим шествие, но теперь, в отличие от экспозиции, устанавливается строгая четырех-дольность, аккорды сопровождения движутся непрерывной чередой. Марш дышит энергией и решимостью, олицетворяя мужество и стойкость (дирижер Дж. Далгат, под чьим управлением прошло первое исполнение поэмы, делает здесь постепенное небольшое ускорение темпа, не предусмотренное композитором, но весьма уместное). «Драматическая поэма» получила достойное концертное воплощение, слушатели приняли ее восторженно. Присутствовавшие на премьере в Колонном зале Дома союзов вспоминают, как публика аплодировала стоя. Почему же это яркое, эффектное произведение Каретников счел творческим компромиссом? Может, основанием к этому послужил финальный апофеоз, чуточку затянутый и излишне шумный (хотя в нем нет лучезарной «славильности», и заключительный ми мажор с внедренными тонами соль и си-бемоль звучит достаточно напряженно, вызывая в памяти коду Пятой симфонии Шостаковича)? Может, потому, что написал симфоническое произведение на материале киномузыки, считая это для себя зазорным, то есть усматривая компромисс там, где его не увидело бы абсолютное большинство собратьев по профессии? Скорее всего, главными были две взаимосвязанные причины. Одна из них: поэма — последнее сочинение, в котором внешние воздействия, прежде всего Малера и Шостаковича, столь ощутимы. Вторая: к 1960 году Каретников был уже с головой погружен в додекафонию, в иную техникостилевую ауру.
К рассмотрению проблемы «Каретников и додекафония» мы и перейдем после того, как кратко подведем итог тому периоду, который предшествовал творческой зрелости и возвестил ее приход.
На грани 60-х: второе рождение композитора
50-е годы в целом — пора становления человеческой и творческой личности Каретникова. Становления довольно бурного: от абсолютной веры в «партию и правительство» — через «двоемыслие» — к частичному и полному прозрению; от «комсомольского» атеизма — к христианству; от музыки в «кабалевско-советском» стиле — через неудовлетворенность ею, двухлетний кризис и неудавшуюся попытку преодолеть его (Вторая симфония) — к встрече с «Новой Веной», ко второй, менее продолжительной полосе молчания, означавшей не просто техническое перевооружение, но переход в «Новую Музыкальную Веру». Эволюционные процессы, сотрясавшие композиторский мир Каретникова, завершились резким скачком. Рубеж 60-х годов знаменовал его второе рождение. Но скачок этот был бы невозможен без ранних сочинений, от которых автор потом столь вызывающе отрекся.
Во всем этом много для той поры типичного, относящегося к значительной части композиторов «поколения XX съезда», но много и индивидуального, каретниковского. В частности, общими для многих сверстников и одновременно «своими» были источники творческих воздействий и характер их усвоения.
Вполне закономерно, что интонационность самых первых опусов Каретникова исходит из тогдашней звуковой среды, почти целиком заполненной творениями Баха, венских классиков, русских и зарубежных композиторов XIX века.«Моя музыка была похожа на Глазунова, когда я еще не знал, что это Глазунов». Уже к семнадцати-восемнадцати годам выпускник ЦМШ, как и многие его сотоварищи, испытывал сильное влияние Прокофьева и особенно Шостаковича, через которых в советскую музыку 30—50-х годов проникало дыхание XX века. Однако в сочинениях юного Каретникова практически нет следов стиля Мясковского, весьма заметных в опытах композиторской молодежи тех дней. Примечательно, что любовь к Рахманинову (сменившаяся затем огульным отрицанием) совершенно не отразилась на том, что писал Каретников: «половодья чувств» он не допускал в своей музыке смолоду.
Взрывообразное расширение кругозора привело к серьезному пересмотру ориентиров, но не к их полной замене. После знакомства с новой музыкой пришло новое понимание музыки старой. На этом этапе, с конца 50-х годов, Каретников уже выделяется в среде коллег более резким своеобразием симпатий и антипатий.
К примеру, разделяемые многими (не только композиторами, но и исполнителями) вкусы А. Волконского, о которых можно судить по репертуарной идеологии «Мадригала», определялись движением «вперед» и «назад» от XIX столетия. Каретников, верный идее непрерывности венской школы, «оставил» себе и век романтизма, отдавая предпочтение в нем Брамсу и Вагнеру. Три любимых композитора Э. Денисова — Моцарт, Глинка, Шуберт, в которых он более всего ценит изящное и возвышенное (224: 48). Моцарт и Шуберт значатся и среди вечных спутников Каретникова, но по другим мотивам. Чайковский, любить которого в -наши дни «не принято», не исключен Каретниковым из своего кругозора, но взгляд на него не слишком привычен:«Петр Ильич Чайковский — самый сильный композитор в русской национальной школе... К счастью для нас, Чайковский более, чем кто-либо другой из отечественных композиторов, смог оценить непреходящие достоинства венской классической школы — имею в виду сумму композиционных приемов, если можно так выразиться, способов существования. Не случайно его увлечение Моцартом — оно уже о многом говорит! Если бы такое же пристальное внимание обратили на венскую школу и другие мастера русской музыки, достижения ее в целом были бы еще выше» (239: 6).
Р. Щедрин высказывается на этот счет так: «Я вообще сторонник того, чтобы впитывать все, что я слышу» (262: 343). Тем не менее мы вряд ли ошибемся, если заметим, что на рубеже 60-х годов и позднее Р. Щедрина в большей мере затрагивало все, связанное с неофольклорными веяниями, в особенности Стравинский. Всеядность же, как следует из сказанного выше, Каретникову чужда совершенно; влияние Стравинского задело его «по касательной».
Своими «германофильскими» ориентирами Каретникову, казалось бы, ближе других А. Шнитке. Но это не совсем так. По признанию последнего, из немецких композиторов наибольшее влияние оказал на него Берг, перед тем — Малер, из прошлого — Шуберт и в какой-то степени Моцарт. Бах стоит для него «в центре всего» (75: 37). Даже если сравнивать только сам «список» (оставляя в стороне вопрос о том, как проявляются влияния в творчестве обоих мастеров), заметно существенное отличие: для Каретникова на первом месте из нововенцев стоит Веберн.
Словом, к началу 60-х годов Каретников не только перевооружился технически, обрел новый стиль и тем самым занял место одного из первопроходцев в плеяде советских авангардистов. Он и в этой плеяде сразу же выделился «лица необщим выраженьем».
ГЛАВА 3. ДОДЕКАФОНИЯ. ТЕХНИКА, СТАВШАЯ УБЕЖДЕНИЕМ
Додекафония проникает в Советский Союз
Российский музыкальный авангард середины нашего века можно сравнить с неизученным материком. В его существовании мало кто сомневается — и те, кто предпочитают пользоваться понятием «неоавангард» (имея в виду, что собственно авангард случился в России в 1910 —1920-е годы), и даже те, кто вовсе отказывают ему в праве носить этот гордый титул. Но если о названии можно спорить, то, вероятно, многие согласятся с тем, что происхождение «материка», его ландшафт, этапы истории почти не описаны, нет точных сводных карт, на которые был бы нанесен рельеф местности, ее границы, обозначены климатические пояса. Все еще приблизительны, отрывочны сведения об одной из стран этого материка — Додекафонии. Ясно одно: многие десятки композиторов разных поколений, в разных уголках огромной страны оказались затронуты, хотя и в неодинаковой мере, новыми идеями: А. Волконский и А. Пярт, Э. Денисов и Р. Леденев, С. Губайдулина и А. Шнитке, С. Слонимский и В. Суслин, Р. Щедрин и К. Караев, Г. Уствольская и В. Салманов... Даже Шостакович не прошел мимо додекафонии. Все это лучше любых манифестов и деклараций говорило о привлекательности и заманчивости самих идей.
Додекафония, открытая Шенбергом в 1920-е годы, стала известной в Советском Союзе в хрущевскую эпоху. Тридцатипятилетнее отставание провоцирует некоторых исследователей на утверждение, будто изголодавшаяся советская композиторская молодежь набросилась на «блюдо второй свежести», ибо к тому времени, как пишет, к примеру М. Тараканов, классическая шенберговская додекафония давно уже стала для музыкального Запада «пройденным этапом» (201: 109). Действительно, к концу 1950-х годов никого из нововенской тройки уже не было в живых, большинство их сочинений датировано 20—30-ми годами. Но широко распространяться их идеи стали только после второй мировой войны, на Западе и в СССР с разрывом в одно десятилетие. Нововенцев, особенно Веберна, подняли на щит лидеры послевоенного западного авангарда — П. Булез, К. Штокхаузен, Л. Ноно, которые сами по-настоящему познакомились с их музыкой в середине 50-х (233: 111). Действительно, в те годы уже наступала эра противопоставивших себя шенберговскому методу сочинения алеаторики, других новаций. Но это означало лишь то, что додекафония входила в сознание современников почти синхронно со своими антитезами. О том, как музыкальный мир открывал в ту пору творения Шенберга и его учеников, известные при их жизни только одиночкам-энтузиастам, в литературе уже сказано (246: 93 —95; 229: 112 —114).
Для «всемирно отзывчивой» отечественной культуры было не впервой ассимилировать инонациональные творческие идеи. Как и прежде, занесенные западным ветром зерна, прижившись на новой почве, дали новые всходы. Попав в иной культурный контекст, наложившись на иные художественные традиции, додекафония стала явлением российской культуры. Вероятно, подобные процессы происходили в музыке эстонской, украинской, армянской... Российский (советский) авангард не был всего лишь национальной разновидностью авангарда европейского. Ему предстояло развиваться, защищая свое право на существование в государстве, остававшемся тоталитарным, несмотря на все изменения эпохи «оттепели». В государстве, где любые художественные поиски могли немедленно быть объявлены «происками», получить идеологическую оценку с последующими оргвыводами. Соответственно, сами авангардисты ощущали свое искусство родом эстетического — а стало быть, не только эстетического — диссидентства. Властями же оно воспринималось как искусство оппозиционное (10: 40; 52: 25; 224: 4).
Подобные мысли, неоднократно высказанные музыковедами и композиторами, нуждаются лишь в одном уточнении. Авангардный бум и в пережившей вторую мировую войну Европе имел не только сугубо внутримузыкальные предпосылки. И там к искусству примешивалась идеология, но с другим «знаком»: интерес к нововенцам подогревался горячим желанием распрощаться с наследием гитлеризма и его жесткими табу в области культуры.
Стилевое размежевание, или Война на уничтожение
На рубеже 60-х годов, когда рождение советского авангарда стало свершившимся фактом, наступило время стилевого размежевания. Г. Григорьева, которой принадлежит это удачное определение, в книге, посвященной современной русской музыке, пишет:«Предшествующий этап в значительной мере предопределил течение этих процессов — стилевая «обтекаемость» и нивелированность, заметные в музыке конца 40-х — начала 50-х годов, преодолевались все более активно. Новая стадия привела к заметной конфронтации стилевых тенденций, выразившейся в параллельном развитии основного (?? - АС), классического направления и того, которое несло на себе заметный отпечаток радикальных новаций» (49: 55).
К сказанному необходимо прибавить, что в «конкретно-исторических условиях» послесталинской эпохи конфронтация стилевых тенденций сопровождалась конфронтацией в личных отношениях, размежеванием административным и социальным, предрешала, кому быть хвалимым, а кому хулимым. Как характерна оговорка ученого, назвавшего «классическое», то есть традиционалистское, академическое, а в терминах Каретникова — «кабалевско-советское», направление основным! Великолепной иллюстрацией к тому, что именно стояло порой за «стилевым размежеванием», является новелла Каретникова «Дай, Бог, последнее свидание...», где приводится простое объяснение начальственных запретов, данное неким «старичком из Академии художеств», по-видимому, представителем соцреалистического истеблишмента, молодому, в меру «левому» живописцу:«Эх, милый! Какие идеи, спрашиваешь? Да никаких идей нет. Просто мы вам копейки не дадим заработать!»
Понятно, что реальная диспозиция творческих течений, индивидуальных эстетик и стилей в отечественной музыке после 1956 года была сложнее и не сводилась к жестко двуполюсной схеме противостояния «архаистов» и «новаторов». Среди официально одобряемых значились талантливые сочинения А. Эшпая, М. Вайнберга, Б. Чайковского, от которых Каретников недвусмысленно дистанцировался, но которые никак нельзя отнести и к направлению, названному им «кабалевско-советским». Но факт остается фактом: такое противостояние существовало.
Говорят, история не знает сослагательного наклонения. И все же рискнем предположить: не будь вначале «железного занавеса», на долгие десятилетия изолировавшего нашу страну от музыки остального мира, не сработай потом эффект запретного плода, не вылейся «творческая полемика» в оголтелое шельмование и запретительство, советский авангард был бы в чем-то иным. В частности, не таким ригористичным. Но жизнь распорядилась иначе. Молодые, радикально настроенные художники — не только композиторы, но и живописцы, объединявшиеся тогда вокруг различных студий (Билютинская и другие), — испытывали к официальному искусству нескрываемое отвращение. Вместе с пафосом верноподданичества отвергались и те средства, которыми это искусство оперировало.
Каретников и его товарищи по несчастью, не хотевшие и не умевшие принадлежать к «основному» направлению, сочиняя свою музыку, дышали ворованным воздухом. Автор этой блистательной метафоры — О. Мандельштам:«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух». Дальше из-под пера тонкого лирического поэта, человека тихого и интеллигентного, вырываются слова, от которых делается не по себе — столько в них желчи и ярости. Но осудить его за них способен только тот, кто не знает, что такое писать без разрешения во времена, когда полагалось испрашивать таковое:«Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда» (122: 172).
Противостоящая сторона платила молодым радикалам той же монетой, но с одним существенным отличием: в ее руках была власть. Кажется, еще не появилось ни одного отечественного додекафонного опуса, как музыкальная печать развернула широкомасштабную контрпропагандистскую кампанию. Упреждающий удар наносился по всем правилам военной науки — мощно и массированно, из всех калибров. Били по закрытым целям, «по площадям». Только в 1958—1959 годах и только в журнале «Советская музыка» вышел с десяток публикаций, проникнутых, помимо боевой злости, почти мистическим ужасом перед крайне опасным, хитрым и кровожадным чудовищем. Невежественные и агрессивные выпады закамуфлированы под отеческую заботу о молодежи, которая проявляет нездоровые увлечения всякого рода модернистскими извращениями. Радетельные наставники бьют тревогу:«Отдельные молодые композиторы, — сообщается в передовой статье, — экспериментируют в области политональности и даже (! - А.С.) додекафонии» (29: 5). Грозному предостережению вторит Кабалевский, осуждающий «самоновейшие достижения» в области музыкального письма, включающие чуть ли не (! - АС) серийную технику...«Кое-кто из нашей молодежи, услышав что-то о новизне «серийной музыки», готов уже, кажется, применить ее в своем творчестве» (80: 14 —15). Композиторов с высоких трибун призывают к «большей скромности выразительных средств», «моцартианству и глинкианству» — они «сейчас нам очень нужны — в противовес малерианству, штраусианству и иже с ними» (18: 19).
Доставалось и персонально Каретникову. Композитор В. Власов пишет письмо в редакцию, выдержанное в стилистике доноса:«В его балете «Ванина Ванини»... много интересной музыки, смелых экспериментов. Но слушатели правы, когда сетуют на недостаток мелодии, на обилие «устрашающих» гармоний, на перегрузку эффектами, утомляющими и раздражающими слух... В музыке к кинофильму «Монета» Н. Каретников пошел еще «дальше»: в течение всей картины слышатся всплески отдельных инструментов (совсем как у Веберна), оглушающие удары, рев тромбона, кваканье трубы. Кроме любопытной полечки... вся музыка состоит из шумо-звуков» (27: 106).
Попытаемся суммировать обвинения, брошенные додекафонии тогда и позднее, не слишком удивляясь тому, что некоторые противоречат друг другу. Первое: голое конструирование, схоластика, головное произвольное звукоизобретательство; система чисто рассудочная; одно из самых злостных проявлений формализма. Второе: подобно мифическому Прокрусту, насильно вытягивавшему либо обрубавшему ноги людей, система уродует музыкальные мысли, извращает объективные закономерности искусства; музыка перестает быть музыкой, превращается в разнузданное варварство. Третье: полная невозможность самостоятельного музыкального мышления; школа привлекла к себе композиторов прежде всего малоталантливых. Четвертое: крайняя односторонность и бедность переживаний, круг эмоций замкнут и далек от простых, естественных человеческих чувств; отсутствие эмоционального воздействия на нормального, не извращенного человека. Пятое: крайний индивидуализм, нигилизм, утверждение бессмысленности существования, страх и ненависть одиночки ко всем, кто живет в общении с другими людьми8.
Несколько иначе сформулировал типичные упреки А. Шнитке, выступая в 1965 году на Всесоюзной конференции «О подлинном и мнимом новаторстве в современной музыке»: во-первых, средства превратились в самоцель, во-вторых, они разрушают традицию, в-третьих, нивелируют индивидуальность композитора, в-четвертых, народ этого не поймет, наконец, в-пятых, самое главное: эти средства идеологически порочны (255: 26).
Кстати сказать, авангардисты, как могли, отбивались от нападок, смело вступали в бой с превосходящими силами противника, использовали любую возможность публично изложить свою позицию. Сразу же заметим: Каретников в ряды бойцов не встал (не было среди них и С. Губайдулиной, А. Волконского, А. Пярта) — и в силу комментированного в предыдущей главе нежелания «выяснять отношения» с Системой, и из-за отсутствия склонности к музыковедению и публицистике, которой уже тогда были отмечены Э. Денисов, А. Шнитке, С. Слонимский. Еще в 1956 году, когда советская музыка была лишь беременна авангардом, а Постановление 1948 года не подвергалось пересмотру, только что окончивший консерваторию Э. Денисов писал:«Пора перестать делать событие из каждой малой секунды и кричать о «неизжитом формализме» по поводу любого диссонирующего аккорда» (56: 29). Э. Денисов был, кажется, единственным, кто осмеливался выступать и в зарубежной печати. В середине 60-х годов он поместил в одном итальянском журнале статью «Новая техника — это не мода», в которой критиковал изоляцию советской музыки, говорил об угрозе академизма в послевоенные годы, а главное — представил зарубежному читателю своих коллег-сверстников, в том числе и Каретникова (224: 25 —27). А. Шнитке в 1961 году со страниц «Советской музыки» призвал развивать теорию гармонии на основе современной музыки, ссылаясь на концепции О. Мессиана, П. Хиндемита, Э. Лендваи (253). Статья вызвала широкий резонанс, послужила поводом для дискуссии, стимулировала изучение гармонии XX века.
Военные действия, по большей части односторонние, продолжались в прессе, на представительных композиторских форумах до 70-х годов. Р. Щедрин вспоминает, как в канун пленума Союза композиторов 1966 года он и К. Караев приготовились выйти из секретариата, если музыка, написанная в серийной технике, будет покарана и обвешана запретительными ярлыками. После ортодоксальнейшего выступления Ю. Келдыша контрударом прозвучала страстная речь К. Караева. Р. Щедрин считает этот год, этот пленум поворотным моментом: какие-то препоны были преодолены, музыка стала развиваться более естественным путем (263: 15). Однако, судя по событиям последующих лет, например, по той отповеди, которую получил Э. Денисов на свои публикации в 1970 (!) году (69: 45), автор «Поэтории» выдает желаемое за действительное. Рецидивы ждановщины давали о себе знать еще очень долго.
Борьба шла за и против нового в музыке — нового вообще. Додекафония была на самом острие нового и на острие борьбы. Ко второй половине 60-х годов, когда Прокофьев, Барток, Хиндемит, Онеггер уже были признаны классиками XX века, отрицание нововенцев оставалось последним бастионом консерваторов. Но в это время поношения перестали быть единственным, что можно было услышать о додекафонии. Начали появляться объективные, спокойные, вдумчиво-аналитические работы Л. Мазеля (119), М. Тараканова (203; 204; 205), Э. Денисова (55).
Эта двойственность, эта одновременность противоположных явлений и тенденций, эти колебания маятника между «разрешить» и «запретить», между «да» и «но» — характерная примета эпохи «оттепели». Начало 60-х... Денежная реформа, Гагарин, Карибский кризис. Прорыв нового во всех областях искусства — и вместе с тем боязнь нового, яростное сопротивление со стороны властей и их обслуги, чиновников от культуры.
Выставки молодых художников — и знаменитое посещение Манежа главой государства, а также последовавшие за ним «встречи правительства с творческой интеллигенцией». А. Битов работает над романом «Пушкинский дом», «Новый мир» печатает А. Солженицына, «Юность» — так называемую молодежную прозу. Но роман выйдет в свет сначала на Западе и только в конце 80-х — у нас, автор «Одного дня Ивана Денисовича» скоро будет выслан из страны. Та же участь уготована — после разносной критики — В. Аксенову, А. Гладилину, В. Войновичу. Рождается и обретает шумную славу Театр на Таганке (кстати, Каретников писал музыку к одному из первых его спектаклей), но буквально каждая постановка пробивается к зрителю с немыслимыми трудностями, некоторые — не пробиваются. На международном фестивале в Венеции премировано «Иваново детство» А. Тарковского, но на родине фильм обвинен в пацифизме и удушен в прокате. Сходную судьбу имела лента А. Алова и В. Наумова с музыкой Каретникова «Мир входящему». Выходит на экран картина М. Хуциева «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»), но изуродованная бдительной редактурой и тут же попадающая под кинжальный огонь идеологических орудий с «самого верха»: она удостоилась разгрома из уст самого тов. Ильичева, главы Идеологической комиссии при ЦК КПСС, что позволило столичным острякам переименовать ее в «Заставу Ильичева». Москва поет песни Окуджавы, рвется на вечера поэзии в Политехнический, но поэтам не спускают ни одной острой строки, их честность выглядит вызывающей смелостью.
Возвращается из небытия Четвертая симфония Шостаковича, хранимая автором от «суда общественности» 25 лет, написана и исполнена Тринадцатая, но... связанные с ними события слишком хорошо известны. Возрождается на театральных подмостках русская оперная классика XX века — «Игрок», «Катерина Измайлова», «Нос», но дамокловым мечом висит над музыкальным искусством грозное напоминание из партийного документа, хотя и «исправившего ошибки» Постановления 1948 года, но подтвердившего верность основополагающим принципам:«Справедливо были осуждены формалистические тенденции в музыке, мнимое «новаторство», уводившее искусство от народа и превращавшее его (надо полагать, искусство, а не народ. — А. С.) в достояние узкого круга эстетствующих гурманов» (142: 3).
Примеры можно множить, увы, бесконечно, но и приведенных достаточно, чтобы представить себе общую карту погоды тех лет. Пригретые солнцем оттепели сады гнулись до земли под шквалистыми ветрами, осыпались крупнокалиберным градом старого образца, по ним били молнии из туч 48-го года. Садовниками, по мрачной шутке И. Эренбурга, работали лесорубы (264: 92). Смягчение нравов было относительным, приоткрывшаяся правда о прошлом строго дозировалась. Свободомыслие, даже художественное, мягко говоря, не поощрялось. Призраки «формализма и абстракционизма» продолжали пугать идеологов, как кадровых, так и вольнонаемных. В тех, кто проявляет интерес к нетрадиционному искусству, кто, как выражались охранители, «предпочитает всякие гнутые проволочки», видели врагов (см., к примеру, новеллу Каретникова «Интуиция»).«Это не забавы, — грозил Л. Ильичев, — это отступление от принципов». Ему подпевал президент Академии художеств В. Серов:«Абстракционизм не форма, а идеология в искусстве» (70).
Вероятно, в книге, пишущейся в середине последнего десятилетия XX века, не стоило бы так подробно останавливаться на, казалось бы, давно канувшем в Лету злобном шельмовании определенного вида композиторской техники и родственных явлений. Не стоило бы и подыскивать контраргументы, упражняясь в адвокатском красноречии в наши дни, когда обвиняемый давно оправдан за отсутствием состава преступления, когда додекафония для многих стала действительно пройденным этапом. По меньшей мере два обстоятельства побуждают посвятить тому и другому несколько страниц. Первое — желание воссоздать реальную атмосферу эпохи, дабы воочию представить, какое ожесточенное сопротивление пришлось преодолевать молодым и не очень молодым советским композиторам, которых увлекли находки Шенберга и его питомцев, какое мужество и какие жертвы потребовало от них это увлечение. И второе: консервативно-антиисторические установки сохранились в иных умах в первозданной свежести практически до сего дня. Установки эти лишились зубодробительной идеологической подоплеки, но чисто художественные мотивы негативного отношения остались. Крупный ученый, знаток современного западного искусства, в книге, вышедшей уже в «перестроечную» пору, продолжает стоять на своем: реформа Шенберга пыталась «настойчиво утвердить первостепенное и самодовлеющее значение конструирования, регламента, расчета, чистого умозрения... дистанцировала эти технические аспекты от художественной содержательности, образности, интуиции... исказила природу музыкального искусства» (67: 103, 105).
1
В маленьком сборнике, где увидели свет хоры Каретникова («Хоры молодых советских композиторов». — М., 1955), они помещены рядом с сочинениями двух других питомцев Шебалина — Э. Денисова и А. Николаева.
2
Прием, заимствованный из последних симфоний Чайковского и Мясковского.
3
Подобные образные мутации были широко распространены в русском симфонизме второй половины XIX — начала XX века: концерты Чайковского и Рахманинова, симфонии Калинникова, Танеева, Скрябина.
4
Ею стала Третья симфония, но она не устроила Мравинского по стилю.
5
Материалом для рассказа о А. Габричевском послужили опубликованные сведения (66; 177; 178) и устные воспоминания знавших его людей.
6
Вопросу «Каретников и додекафония» специально посвящена следующая глава.
7
Состав — средний между тройным и четверным, с усиленной медной группой (6 валторн, по 4 — труб и тромбонов), двумя арфами, роялем и вибрафоном.
8
Все формулировки подлинные и лишь сгруппированы нами (6: 119; 212: 122, 126; 80: 14-15; 98: 159-160; 168: 177-178; 136: 4-7).
Некоторые эстетические и исторические параллели
В сознании Каретникова, хорошо знавшего пластические искусства, рождались концептуальные параллели:«Нечто подобное в живописи делали Клее и Кандинский. А ближе всего, пожалуй, супрематизм Малевича. И модульная архитектура» (44: 15)1.
В серии виделся аналог модуля — принятой в архитектуре условной единицы соразмерности, которой кратны соотношения размеров сооружения и его частей. Понятие модуля, как и сам термин, были известны еще древним. Теоретики эпохи Возрождения (чьи труды в переводах Габричевского Каретников, напомним, читал) разработали систему модульных взаимозависимостей классического архитектурного ордера. За модуль принимался, к примеру, диаметр колонны, а сами соотношения частей повторяли пропорции человеческого тела, то есть имели происхождение самое что ни на есть природное. Так, скажем, отношение диаметра колонны к ее высоте — 1:6 — соответствовало отношению длины стопы к росту человека. Английский музыковед Д. Митчелл сравнивает серию с модулем в архитектуре XX века, ссылаясь на работы таких столпов современного градостроительства как В. Гропиус, Ш.Э. Ле Корбюзье (273: 14). Показательно, однако, что Каретников, проводя подобные аналогии, более красноречивыми считал примеры из отечественной архитектуры эпохи «русского барокко», называя, в частности, храм Покрова в Филях, где в качестве модуля, определяющего четкость внутренних пропорций, выступает кирпич.
Аналогии с так называемой беспредметной живописью напрашивались сами собой. Между прочим, их усматривало и обыденное, эстетически неразвитое сознание: художникам-абстракционистам и композиторам-додекафонистам приходилось слышать однотипные инвективы — набор звуков, мазня, эдак каждый сумеет. Но вопрос этот заслуживает и более серьезного рассмотрения. Многое, что Каретников тогда интуитивно ощутил, подтвердилось в искусствоведческих трудах и исторических свидетельствах, которые появились (или проникли в Советский Союз) позднее.
Первые атональные сочинения Шенберга и первые абстрактные полотна Кандинского возникли одновременно — в 1910 — 1911 годах. Левые течения в обоих искусствах пережили новый подъем после войны с фашизмом. Тогда заговорили о «втором пришествии абстракции», с не меньшим основанием можно констатировать «второе пришествие додекафонии» в послевоенной Европе.
Во многом сходными были стимулы и цели обеих стилевых революций, совершавшихся на широком фоне явлений духовной жизни первой четверти века. Кандинский рассуждал примерно так: если любой элемент живописного языка поставить на необычное место, вырвать его из тривиального контекста, произойдет взрыв привычного смысла, в результате которого этот элемент обратит на себя внимание и приобретет значительность (270: 128). В принципе того же — раскачать устоявшееся восприятие языка словесного — добивались русские поэты-футуристы, чей манифест, сборник «Пощечина общественному вкусу», был выпущен в 1912 году. Ю. Кон убедительно показал тесную связь шенберговской реформы с таким течением в литературе Австрии и Германии начала века, как «критика языка». Формальные по внешним проявлениям искания Г. Гофмансталя, Р.М. Рильке, К. Крауса были инициированы содержательными моментами. Как и Шенберг, они не отказывались от коммуникативных свойств языка, не порывали с традицией, а выступали против облегченности в выборе языковых средств, против использования готовых клише, стремились преодолеть нейтральность, стертость языка (101: 113). Подобное объяснение произошедших перемен в музыке (и даже в близких выражениях) дает С. Губайдулина:«Уже к началу нашего столетия вызрела необходимость... «растворить» сложившуюся в XIX веке семантическую сформулированность музыки. Семантика стала слишком устойчивой, затвердевшей в тональной системе настолько, что смысл чисто музыкального текста оказывался слишком явным, почти словесным... («Затвердение» семантики связано не только с ладо-тональностью, но то, в каком свете видится проблема одному из крупнейших композиторов современности, весьма показательно, — А.С.) Если воспользоваться метафорой, необходимо было расколоть асфальт, копать и раскапывать землю, чтобы в конце концов образовалась новая благодатная почва, в которую снова можно посадить семя и вырастить деревце... Почему вначале появился атонализм, а потом пришли к додекафонии? На мой взгляд, это не что иное, как вскапывание, а затем разравнивание почвы» (51: 1).
Эстетические параллели, естественно, более условны, чем историко-стадиальные. Проводя их, следует соблюдать предельную осторожность. Тем не менее и сами творцы, и исследователи настойчиво ищут точек соприкосновения. Кандинский называет свои картины «импровизациями» и «композициями», в трактате «О духовном в искусстве» цитирует Шенберга, в статьях и книгах пользуется музыкальными понятиями. Комментатор переписки двух апостолов модернизма приходит к выводу: Кандинский и Шенберг —«уникальный в истории искусства случай поразительного параллелизма устремлений, взглядов, даже творческой эволюции» (258: 72).
Мондриан сформулировал свое кредо так, как часто описывают метод Шенберга, то есть как систему запретов и ограничений. По его теории, трехмерность должна уступить место плоскости, кривой контур — прямой линии, многоцветие смешанных красок — только основным цветам (163: 154 —155).
Но все-таки: ЧТО с ЧЕМ сравнивать в беспредметной живописи и додекафонной (атональной) музыке? Д. Митчелл проводит параллели между тональностью и перспективой, музыкальной темой и предметом в живописи. Соответственно, отказ от фигуративности сравнивается с отказом от тональности. Мы бы со своей стороны предложили другую аналогию: фигуративностъ — жанровость. «Очищенность» музыки от первично-жанровыхэлементов, так же как отсутствие на полотне узнаваемых предметов, усложняет семантическую расшифровку произведения (но не отменяет саму возможность такой расшифровки). Думается, более продуктивным было бы отыскание позитивных аналогий, исходящих не из тех свойств, которых нет в такой живописи и такой музыке, а от свойств, которые им присущи.
В высшей степени симптоматичным представляется то обстоятельство, что как тональность из музыки Шенберга и его учеников, так и фигуративность из живописи абстракционистов ушли не в одночасье. Творческой эволюции нововенцев мы коснемся ниже. Говоря же о творцах беспредметных полотен, сошлемся на пример, часто встречающийся в литературе, — серию рисунков Мондриана начала 1910-х годов, в которой хорошо видно, как дерево постепенно превращается в геометрическую конструкцию. Ряд переходных картин есть и у Кандинского.
Как верно утверждается в ряде трудов, абстрактная живопись далеко не всегда полностью абстрактна. Один из теоретиков направления, французский искусствовед М. Сейфор определяет границу следующим образом:«Живопись следует назвать абстрактной, если мы не можем узнать в ней ничего из той объективной реальности, которая образует нормальную среду нашей жизни» (278: 2). В качестве теоретического постулата подобная сентенция приемлема. Такое произведение как «Черный квадрат» Малевича — декларированное отречение от предметности. Надо полагать, Малевич не хуже других понимал, что аналогичное полотно при помощи линейки, флакона туши и кисточки может изготовить каждый смертный. Суть брошенного этой картиной вызова лаконично и образно выразил А. Габричевский, высказывание которого сохранил Каретников:«Во все времена у всех народов живопись была «дыркой в стене». Когда в девятьсот четырнадцатом году2 я пришел на выставку и увидел «Черный квадрат» Малевича, то понял, что «дырку» замуровали» (новелла «Черный квадрат»).
Но реальный художественный процесс не может состоять из одних деклараций. Практика показала: избавиться от аналогий с предметным миром — затея почти неосуществимая. Даже геометрические фигуры таят в себе те или иные жизненные ассоциации. На «беспредметных» холстах угадываются кораблик, подкова, очертания губ, контуры скрипки и многое другое. Угадываются, как можно предположить, не всегда вопреки намерениям художников. На основе таких неистребимых аллюзий возникает новая фигуративностъ. Подобное происходит и в музыке. В соответствии со своей эстетической природой она органически тяготеет к «абстрактности», ибо не предназначена к запечатлению предметной реальности мира. Но и в этом «абстрактнейшем из искусств» совсем уйти от жизнеподобия, то есть от ассоциаций, невозможно. Их можно лишь, как пишет А. Соколов, завуалировать, «измельчить», осуществить семантическое переключение (195: 56). В известном смысле новые направления искусства XX века продолжали традицию. Точно так же, как романтизм, провозгласив себя антитезой классицизму, немало от него воспринял, антиромантические течения начала столетия выступили — реально, не в одиозных манифестах, — наследниками романтического искусства. Словом, «чистым формам», будь то творения Мондриана или Веберна, отнюдь не заказана узнаваемая образность. На своем языке они говорят о бытии, времени, человеке. Путь, который нередко проделывает при этом слушательское восприятие, обрисовал Б. Кац в посвященной музыке Г. Уствольской статье «Семь взглядов на одно сочинение» — путь от первого знакомства, сопряженного порой с непониманием и даже раздражением, через более углубленное вслушивание к аналитическим размышлениям и попыткам интерпретации (97). Растворенная, переставшая быть слишком явной, семантика как бы вновь восстанавливается, «конденсируется» в сознании слушателя. Приведем еще один пример того, «как слушать и понимать» новую музыку. Он взят из давней, времен «стилевого размежевания» статьи А. Сохора (по случайному совпадению, речь также идет о сочинении Г. Уствольской):«Освобождаясь от первого ощущения необычности, постепенно улавливаешь смысловую выразительность музыки... Начинаешь различать зовы, вопросы и гневные возгласы, интонации просьбы, жалобы, сомнения, убеждающей речи, страстного утверждения. То есть схватываешь те самые идиомы, от которых музыка, казалось, безоглядно отрешилась! Главное же отличие от более привычных эстетики и стиля в том, что “все выражено сдержанно, кратким штрихом или намеком”» (197: 167). Так рождается новая жанровость музыки или, что в данном случае почти то же самое, новая семантичность, или, выражаясь точнее, новые формы их существования.
В одной из новелл Каретников рассказал, каким долгим и нелегким бывает путь слушателя к подобной музыке, даже если слушатель этот — великий музыкант, человек огромной эрудиции, «фантастического интеллекта, культуры, духовного и душевного богатства». Молодой Каретников был свидетелем того, как однажды на летнем отдыхе в Коктебеле, в доме Габричевских, 75-летний Г. Нейгауз ежевечерне слушал записи сочинений Веберна. Прослушивания неизменно завершались неприличным словом, бросаемым Нейгаузом в адрес «вашего Веберна», но на следующий день Генрих Густавович вновь просил включить его в программу. Так продолжалось целый месяц.«А осенью (1963 года, — Л.С.) в Москву приехал прекраснейший ансамбль под управлением Янигро, и в программе были все те же «Пять пьес для квартета». Нейгауз был в концерте и вдруг совершенно влюбился в эту музыку... Произошло чудо. Сейчас понятно, как оно могло случиться: в течение месяца Генрих Густавович напряженно вслушивался в эти сочинения и старался проникнуть в их логику и интуитивный ряд. Он привык к новому для него языку и перестал воспринимать его как толпу китайцев... Веберн открылся Генриху Густавовичу во всей своей кристаллической красоте и грандиозности» («Генрих Нейгауз и “Новая венская школа”»).
Характерный парадокс: от «Сюпрема» Малевича, представляющего собой похожие на аппликации разбросанные по холсту геометрические фигуры, от близких по духу работ П. Мондриана, Т. Ван Дусбурга, Р. Делоне, Г. Арпа, В. Вазарелли многое позаимствовали современный плакат, искусство книжного оформления, театральная декорация, дизайн, реклама. Совершился бросок от самого элитарного к самому массовому. В музыке подобный бросок совершили додекафония, позднее алеаторика, сонористика и другие авангардные течения: родившись в недрах филармонических жанров, рассчитанных на квалифицированное восприятие, они затем прекрасно вписались в эстетику киномузыки и других прикладных жанров. То, что зачастую отказывались принимать «эстетствующие гурманы», не вызвало отторжения у широкой аудитории.
Органическому, глубинному усвоению Каретниковым додекафонии в решающей степени способствовало и то, что он воспринимал нововенские идеи в широком историко-музыкальном контексте.
Около 1970 года, когда им уже был создан целый ряд додекафонных сочинений, Каретников взял несколько частных уроков у Ф. Гершковича. В эту «Новую венскую школу» в Москве «ходили» в те времена многие молодые музыканты. Нынче невозможно точно установить, что именно услышал Каретников от Ф. Гершковича, а до чего додумался сам — вопреки господствовавшему в советском музыковедении тезису о том, что Шенберг категорически порвал с традицией. Перевод лекций и писем Веберна (23), первая публикация статьи Ф. Гершковича «Тональные истоки шенберговской гармонии» (40) вышли в 1973 году, а его книга «О музыке» (39) — в 1991-м. Но совпадение суждений разительное.
Шенберг:«Моими учителями были в первую очередь Бах и Моцарт, во вторую — Бетховен, Брамс и Вагнер». В числе наставников он называет также Шуберта и Малера. «Я консерватор, которого вынуждают быть радикалом... Лично я не-нанижу, когда меня называют революционером, так как я не являюсь им. То, что я делал, не было ни революционным, ни анархическим» (246: 103, 102, 98).
Гершкович: «Мастера Новой венской школы... стали крупными новаторами музыкального искусства благодаря тому, что они начали свой путь по магистрали, которую прокладывали своим творчеством великие мастера прошлого. Шенберг и два его ученика знали, были уверены в том, что они — продолжатели той традиции, которая берет свое начало у Баха и доходит до Малера, проходя через венских классиков, Шуберта, Брамса и Вагнера».«Великие мастера представляют собой единую цепь» (39: 326, 62).«Шенберг, этот Колумб музыки нашего времени, открыв Америку, действительно открыл путь в добрую старую Индию» (40: 379).
Каретников:«Это некая поразительная эстафета, которая как бы предваряется универсальным опытом Баха: Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Вагнер, Брамс, Малер, Шенберг, Берг, Веберн. Ее можно представить себе как... некое восхождение, непрерывную линию, единый пласт сознания» (83: 159). Мысль эта настолько ему дорога, что он не преминул обнародовать ее в статье, написанной совсем на другую тему, а потом повторил автору монографического очерка (194: 6).
В представлении Каретникова, додекафония — доведенный до абсолюта «венский» метод. Он формулирует его следующим образом: «Истинная музыкальная композиция зиждется на искусстве выдвижения тезы и последующих доказательств справедливости этой тезы средствами, заключенными в ней самой».
Столь же близки «нововенским» взгляды Каретникова на проблему свободы и несвободы в додекафонной музыке, понимание феномена формы.
Эстетические и исторические аналогии, в окружении которых явилась молодому Каретникову додекафония, лишали ее ореола экспериментальности и художественной замкнутости.
Советские композиторы и додекафония: между временным увлечением и способом существования
Спустя сорок лет после «пришествия додекафонии» в Советский Союз отчетливо видно: познакомившиеся с ней композиторы воспринимали ее каждый по-своему, знакомство это по-разному отразилось на их музыке, в разные сроки приходили они к додекафонии и уходили от нее.«Мы ни в коем случае не «школа» и не «направление», — говорил Каретников о себе и своих товарищах-авангардистах. — У каждого своя композиторская техника, свой стиль. Если мы и выглядели группой, то группой изгоев, отщепенцев» (44: 15).
Каретников был убежден, что начал осваивать додекафонию первым среди соотечественников, с ревностью относился к любым посягательствам на свое мнимое первенство. Мы склонны видеть в этом не столько амбициозность, гордыню (тем более что говорил он об этом только в приватных беседах и не затевал, в отличие от Шенберга, тяжбу за утверждение своего приоритета), сколько по-детски наивное желание быть поближе к предмету обожания. Ему хотелось присвоить себе не лавры, а самое додекафонию. Он мог бы сказать о своем отношении к додекафонии то же, что и об отношении к Евангелию: «Я начал воспринимать его так, будто оно специально для меня и написано» («Отец Александр»). Склонны видеть в этом и подтверждение тому, насколько неполно были информированы отечественные адепты 12-тоновой техники о творческих делах друг друга, насколько разобщены. Попытаемся в самых общих чертах восстановить картину.
Первопроходцем додекафонии «на одной шестой части земной суши» выступил А. Волконский. Уже в 1956 году он создал серийную «Musica stricta» для фортепиано, в I части которой разрабатывался четырехзвучный ряд, а в трех последующих — 12-тоновые серии. 1959 годом помечена «Сюита зеркал». Более или менее явное присутствие додекафонной техники наблюдается в его сочинениях 60—70-х годов. Но уже «Игра втроем» (1961) тяготеет, скорее, к алеаторике. В конце 70-х он «вдруг почувствовал желание поставить три бемоля при ключе», вернуться в русло романтической традиции (222: 18).
Первая додекафонная партитура А. Пярта — «Некролог» (1960). Интерес к 12-тоновой технике сохраняется у него на протяжении десятилетия, но — одновременно с интересом к технике сериальной, алеаторической. 1966 год приносит Концерт для виолончели с оркестром «Pro et contra» — сочинение полистилистическое.
Э. Денисов перешел к додекафонии в 1961 году, но одновременно он штудирует и активно впитывает музыку Дебюсси, Стравинского, Бартока. А в 1964-м, в «Солнце инков», он уже покидает лоно додекафонной ортодоксии, чтобы испробовать сериализм и сонорику3.
К объединению додекафонии и сонорики тяготеет в 60-е годы и С. Губайдулина, у нее нет, кажется, ни одного чисто серийного сочинения. Похожую картину представляет собой творчество В. Сильвестрова: начало 60-х годов, период учебы в консерватории — немного классической додекафонии, середина и вторая половина десятилетия — серийность, сонорика, с начала 70-х — полистилистика, затем поворот к неоромантизму, «тихой музыке». Авангардный период, указывает сам композитор, длился года три-четыре (186: 12).
С. Слонимский овладевает додекафонией в соотнесении с другими актуальными течениями, в первую очередь неофольклорным, нацелившим композиторов на разработку древних пластов народного творчества.
В ряду самых первых советских додекафонистов оказался и представитель старшего поколения В. Салманов, серийные опусы которого появились в 1961 году. В течение своего «додекафонного десятилетия» он сочинил ряд инструментальных произведений, ориентируясь, по-видимому, на берговскую модель додекафонии: его серии не лишены тональных признаков, развертывание ткани часто опирается на сохраняемый опорный тон. В эти же годы продолжают рождаться тональные сочинения (самое яркое из них — хоровой концерт «Лебедушка»), в которых фольклорные элементы обогащены находками, почерпнутыми из современных видов техники.
А. Шнитке, придающий существенное значение методам сочинения, делит свое творчество на периоды, исходя из типов используемой техники. Согласно авторской периодизации, интенсивным применением додекафонии, сериализма и др. отмечены годы с 1963 по 1967, 1978-й открывает период свободной техники. Авторы монографии о композиторе, предлагающие более дробную периодизацию, ограничивают «экспериментальный додекафонно-серийный этап» всего двумя годами (1963 —1964), а затем, после переходного 1965-го, выделяют отрезок времени между 1966 и 1972 годами, ознаменовавшийся «достижением творческой зрелости, формированием индивидуального стиля» (230: 23 —24), когда уже ясно обозначился поворот к технике «микро-», коллажности, полистилистике. К аналогичному заключению приходят и исследователи творчества Э. Денисова: «К началу 1964 года (то есть к моменту отхода от додекафонии, — А.С.) настоящая школа композиторского мастерства в основном была пройдена» (224: 21). Иными словами, творческая самостоятельность у обоих мастеров наступила после того, как они освоили додекафонию и отказались от нее. Оценкам ученых не противоречат суждения самих композиторов. А. Шнитке к середине 60-х годов «показалось, что с этой техникой что-то неблагополучно» (259: 40). Э. Денисов считает, что «каждый композитор обязан пройти через серьезное и глубокое изучение творчества композиторов второй Венской школы. Каждый композитор должен поработать несколько лет в 12-тоновой и серийной технике» (57: 12. Курсив мой, — Л. С.).
Для целой плеяды крупнейших зарубежных композиторов — Булеза, Лютославского, Ноно — увлечение этой техникой тоже составило лишь определенный этап творчества.
В середине 60-х годов, когда первая «додекафонная волна» в советской музыке стала спадать, серийную технику начали использовать другие авторы разных поколений. Один из них — Г. Фрид, который был намного старше додекафонистов первого призыва. Далекий от языкового радикализма, но чуткий ко всему новому, он, как и многие, тяготеет к примирению элементов серийной техники с тональным мышлением, использует неполновысотные ряды (235).
Каретников не «переболел» додекафонией. Он не разделял почти всеобщего (для композиторов его круга) ощущения исчерпанности предлагаемых ею средств. Не разделял и распространенного отношения к ней как к острой приправе, долженствующей придать новый вкус знакомым кушаньям.
Как и многие другие композиторы, испытавшие воздействие додекафонии, Каретников не просто осваивал ее. Во-первых, воспринималось и «присваивалось» не все подряд. К примеру, его почти не затронула идея вырастить из серийности сериализм, распространив ведущий принцип на иные, помимо звуковысотного, параметры музыкальной речи — ритм, тембр, нюансы громкости и т.д. Во-вторых, кое-что привносилось от себя, как по части собственно техники, так и в образно-драматургическом плане (мы еще скажем об этом подробнее). До-декафонные сочинения Каретникова всегда узнаваемы, непохожи на работы его «единоверцев», как непохожа, скажем, додекафония Р. Леденева на додекафонию А. Бабаджаняна. Воистину, усмотреть в 12-тоновой технике нивелировку индивидуальности можно, лишь воспринимая созданную на ее основе музыку как «толпу китайцев»!
Погрузившись в чужую додекафонную музыку, Каретников не торопился с собственными произведениями в этой технике. «Я «въехал» в неё постепенно», — говорил он. Через более или менее продолжительный период эскизов и упражнений прошли, вероятно, многие. У Каретникова было иначе. Он считает, что впервые опробовал новый метод в Третьей симфонии (1959). Не будь авторского признания, ни один аналитик в этой партитуре додекафонии не обнаружил бы. То была «своя» система, изобретенная им в целях самоадаптации и являющаяся по сути мостиком от более традиционных способов построения формы к «настоящей» додекафонии. С последовательностью образно-тематических элементов он работал как с серией. Это позволяет судить о том, как он ощущает серию в общепринятом смысле. Каждый звук здесь не просто тон определенной высоты, а весомый смыслообразующий элемент. Атом, подобный галактике. Третья симфония свидетельствует: Каретников начал с уяснения самой сути шенберговского метода, которая состоит вовсе не в том, что нельзя повторять тон, пока не пройдут все остальные, а в том, как надлежит работать с исходным материалом.
Уместно напомнить: нечто подобное происходило с самим Шенбергом. Раскрывая технический замысел Серенады соч. 24, он указывал на применение в ней «инверсий и ракоходных обращений, уменьшений и увеличений, канонов разного рода... другими словами, все технические приемы и методы [додекафонии] здесь налицо, кроме ограничения двенадцатью неповторяющимися тонами» (248: 138).
За Третьей симфонией последовали балет «Ванина Ванини» и Lento-вариации для фортепиано (1960). Вопреки утверждениям композитора (44: 16; новелла «Лекарство от тщеславия»), строгой серийной додекафонии в балетной партитуре нет. Использовано несколько микросерий по 3—5 звуков. По большей части это додекафония несерийная или свободная, допускающая и повтор тона или звуковых групп, и несоблюдение заданного порядка интервалов, и другие «вольности». Но приемы развития тематизма, способы выращивания музыкальной ткани — из арсенала нововенцев. В частности, наряду с прямыми имитациями, используются имитации ракоходные и инверсионные, на передний план выходит линеарное движение голосов. Кстати, внимание к горизонтали, самостоятельность средних голосов к тому времени уже прочно утвердились в музыке Каретникова. Как и нововенцы, он воспринял это свойство от позднего Малера и узнавал его в сочинениях Шенберга и Берга как малеровское. Уроки Малера приблизили его к музыке новой венской школы.
Фортепианные вариации — сочинение свободно-двенадцатитоновое, по сути преддодекафонное. Первая серия — неполновысотная, но внутри ряда звуки повторяются. В последующих разделах формы излагаются 12-тоновые ряды, то есть постепенность приближения к додекафонии демонстрируется в рамках одного сочинения. И опять-таки важнее количества звуков иное: тотальная тематизация ткани, абсолютное интонационное единство всех голосов.
Для сравнения — несколько примеров из классики. В той же Серенаде Шенберга ряд содержит меньше двенадцати звуков с повтором некоторых из них. В раннем, доопусном Квартете Веберна (1905) — почти за двадцать лет до реформы — разрабатывается трехзвучная микросерия типичной для этого автора структуры: до-диез, до, ми. Признаки нововенского мышления очевидны в его оркестровой Пассакалии (1908), произведении еще тональном. Микросерии, как известно, предпочитал Стравинский. Классики сами «въезжали» в додекафонию постепенно. «Как техника она была осознана уже после того, как применялась», — обоснованно резюмирует Ю. Холопов (223: 57).
Первым серийным (в общепринятом понимании) произведением Каретникова явилась Соната для скрипки и фортепиано (1961). Характерно, что ее главная партия родственна по складу начальной теме Lento-вариаций: близки интервальная, ритмическая структуры, артикуляционный профиль. Сочинения 1959 —1961 годов дают возможность наблюдать, как формировалась додекафония Каретникова: он пришел к ней через микросерии, через более чем 12-тоновые ряды, через вызревание нового метода в недрах тональной системы мышления, то есть теми же путями, которые и в историческом плане вели к кристаллизации додекафонии.
Последующие тридцать пять лет жизнь Каретникова была накрепко связана с додекафонией. Теперь в сочинениях вокально-сценических, где свои условия диктуют внемузыкальные факторы, у него могла звучать музыка, написанная в любой технике. В жанрах же инструментальных единственно приемлемым способом мышления оставалась додекафония.
Тридцатипятилетний «додекафонный стаж» — рекорд, достойный книги Гиннеса. Это на несколько порядков выше, чем продолжительность «додекафонных периодов» в творчестве лидеров советского авангарда. Если тут позволительно воспользоваться спортивной терминологией, Каретников перекрыл даже результаты самих нововенцев: Шенберг посвятил додекафонии менее тридцати лет (примерно 1923—1948; в ряде последних произведений он вернулся к тональной технике), Веберн — менее двадцати (1925—1943), Берг — десять лет (1925-1935).
Можно ли на основании этих данных назвать Каретникова ортодоксальным и последовательным додекафонистом? Нет, выступить с таким утверждением значило бы совершить непростительную ошибку. О том, что он обращался с методом достаточно неортодоксально, будет сказано ниже. Последовательным же его можно считать разве что в том смысле, что он оставался верен ему до гробовой доски. Даже в недодекафонных сочинениях, например, в духовных песнопениях, ощущается его скрытое присутствие.
Столь длительная приверженность определенному виду композиторской техники выглядела бы странным упрямством, если додекафония хоть в какой-то мере ограничивала бы круг идей и настроений художественного высказывания Каретникова.
Образно-выразительные возможности
Казалось бы, тезис о «безобразности» 12-тоновой музыки давно опровергнут живой композиторской практикой. Но нет, вопрос этот встает вновь и вновь. Встает хотя бы потому, что провоцирует аналитика на чисто формальный разбор. В самом деле, хитросплетения голосов, игра сегментов, головокружительные вертикальные перестановки, смена инверсий ракоходами буквально зачаровывают. Легко рождается иллюзия, что композитор больше «ничего не имел в виду». Не по близкому ли поводу иронизировал Б. Шоу, пародируя некую аналитическую штудию, якобы написанную о знаменитом гамлетовском монологе «Быть или не быть?»: «Сперва тема изложена в инфинитиве, затем следует ее инверсия...» (213: 46)?
На словах ныне все признают: любая техника — не более чем техника. Но при встрече с додекафонией почему-то чаще, чем в других случаях, забывается, что тут, как и в тональной музыке, есть образность, драматургия, целостный художественный замысел, есть стиль, жанр, форма. Не считаем же мы необходимым, рассматривая произведения Моцарта или Шопена, непременно отметить, что септима доминантсептаккорда при разрешении идет, как правило, на ступень вниз, — находятся и другие темы для размышления.
Неудивительно, что художественная сторона додекафонии мало исследована. Все же дело, движется, и каждый шаг в этом направлении — очередной акт признания все новых «территорий», находящихся под ее «юрисдикцией». После «голых конструкций» в этой музыке расслышали ужас и отчаяние, смятение и безнадежность, душевную опустошенность и прострацию, скепсис и иронию. Потом в ней открылся мир философских размышлений, драматических переживаний и проникновенного лиризма. Затем настал час утонченности и застылости. Вслед за касавшимися данного вопроса зарубежными авторами — X. Елинеком (269), Б. Шеффером (276), И. Ру-фером (275) — к нему обратились В. и Ю. Холоповы, чья книга о Веберне (229) резко расширила наши представления относительно образных возможностей додекафонии.
В области композиторского творчества не существует патентной службы, выдающей свидетельства об открытиях и изобретениях. Историк, утверждающий приоритет сочинителя в той или иной сфере, всегда рискует быть опровергнутым: «Это уже было у N». Да и не формальным первенством определяется тут ценность сделанного. И все-таки, насколько нам известна общая картина, у Каретникова имеются личные заслуги перед додекафонией, выразившиеся в открытии или, по крайней мере, в убедительном воплощении образов, считавшихся для нее недоступными. Сошлемся на эпизод воодушевленного характера в жанре молодежного марша из I части Четвертой симфонии, многие страницы мужественной героики в этом сочинении.
Кстати говоря, несмотря на то, что жанр был объявлен нововенцами нежелательным, они позволяли себе отступать от этого правила. У Шенберга одна из «Пяти пьес для фортепиано» соч. 23 — вальс, фортепианная Сюита соч. 25 состоит, согласно старинной традиции, исключительно из танцев (Гавот, Жига, Волынка, Менуэт). Берг, «полюс умеренности» Новой венской школы, сохраняет жанровую определенность музыкальной речи гораздо чаще, чем затуманивает ее. И даже Веберн, «полюс радикализма», не освободился до конца от жанровых прообразов. Изощренный слух А. Шнитке уловил в знаменитых веберновских трехзвучных мотивах, а также в мотивах по две ноты с паузой, следы венского вальса (256: 22)! Есть подобные примеры и у самого А. Шнитке: в поли-стилистической Первой симфонии маршевые и танцевальные ритмы, господствующие в коллажных разделах, проникают и в додекафонные эпизоды. Пик жанровой остроты у Каретникова — пожалуй, гротескная мазурка в «Мистерии апостола Павла».
Самый яркий образец расширения образных возможностей додекафонии у Каретникова — Маленькая ночная серенада (1969). Замысел возник как откровенно полемический: надоели постоянные разговоры о том, что додекафония способна показывать только сумеречные состояния души, трагические эмоции. «Я решил написать светлое сочинение, — свидетельствует композитор, лишний раз подчеркнув тем самым, что додекафония — это всего лишь техника, воспользоваться которой можно совершенно по-разному» (194: 6). Так родилась музыка, наполненная чистейшей целомудренной лирикой и юмором. Последнее выделим особо: сфера юмора, как известно, не далась нововенцам, хотя попытки овладеть ею предпринимались Шенбергом (опера «Сегодня на завтра», хоровые «Сатиры»). Сегодня можно смело заявить, что причина неудачи крылась не в особенностях 12-тонового метода, а в характере творческого дарования нововенской тройки.
Юмористическое произведение, созданное с использованием додекафонии, в 60-е годы вышло и из-под пера С. Слонимского, но «юмор» и «додекафония» в его «Концерте-буфф» разведены и противопоставлены: первую часть — серьезную, выполненную по всем правилам тройную фугу (все три темы серийны), словно высмеивает вторая — джазовая импровизация, и лишь под занавес в общий карнавальный пляс пускается одна из додекафонных тем.
Оценивая с обсуждаемой точки зрения додекафонные произведения Каретникова в целом, можно отметить: ступив на эту стезю, он сразу же пошел своим путем. Первым услышанным им додекафонным сочинением, были, как мы помним, Вариации соч. 27 Веберна. Но его собственные опусы начала 60-х годов, как и последующие, далеки от ученически подражательного вебернианства хотя бы тем, что начисто исключают «адраматургичность». В Сонате для скрипки и фортепиано, Квартете использован классицистский (бетховенский) тип драматургии и формы, основанный на конфликтности, воплощающий целенаправленно развивающееся музыкальное «действие». Только в 70-е годы, в Двух пьесах для фортепиано, Каретников затронул веберновскую сферу: краткие вспышки, мгновенные блики и угасания, таинственные шорохи, звоны, но — опять но! — в качестве лишь одной из драматургических сил.
Образные миры музыки Каретникова и классиков додекафонии, при наличии некоторых близких черт, разительно несхожи. У русского мастера не найти характерных для Шенберга болезненных состояний психики — неуверенности, подавленности, страха. Не найти и веберновских погружений в статику и созерцательность. Его музыка, в отличие от берговской, не рождает ощущения беспросветности человеческого существования. Подобные настроения могут встретиться у Каретникова, но как эпизоды, далеко не определяющие основных параметров эстетики и стиля. Напротив, в его сочинениях нередки образы героики, физической мощи, заставляющие вспомнить, скорее, Бетховена, Вагнера и Малера, образы моторного движения, в том числе негативно окрашенные, идущие от Прокофьева и Шостаковича, но выраженные иными средствами.
Где же предел образным ресурсам 12-тоновой системы? Вряд ли стоит его директивно устанавливать. Может быть, те области содержания, которые представляются недоступными сегодня, будут покорены ею завтра — упоение жизнью, душевный покой, величавая гимничность и т.п. (этих чувств, кстати сказать, не слишком много в современной музыке и за пределами додекафонии)?
Словом, вопрос, поставленный некогда Брамсом, — «Хорошая ли это музыка, если не принимать в расчет техники?» (232: 72) — сохраняет свою особую актуальность по отношению к додекафонным произведениям.
Техника и обращение с ней
Сказанное выше вовсе не означает, что технологический анализ серийной музыки не нужен. Думать так означало бы впасть в противоположную крайность.
Что же мог узнать неофит во второй половине 50-х годов о додекафонии по существу? Среди журнальных материалов тех лет выделялась статья И. Тильмана, композитора и музыковеда тогдашней ГДР. Выделялась и особой истерической скандальностью тона, которой могли бы позавидовать доморощенные блюстители нравов, и тем, что из нее, едва ли не единственной, можно было почерпнуть кое-какие полезные сведения. Основы додекафонного метода композиции излагались как свод запретов, к каковым он якобы сводился: не повторять звук, пока не прозвучат все двенадцать, чтобы ни один из них не возобладал над остальными и не «изнашивался»; не злоупотреблять ходами на одинаковые интервалы, таящими опасность монотонии; избегать движения по трезвучиям, что создает нежелательный намек на тональность; не допускать скачков на два широких интервала подряд. Сообщалось и о некоторых приемах технического формопреобразования 12-тонового ряда (212: 121 —124). Кстати сказать, многими формулировками немецкого коллеги воспользовались потом наши авторы, не ссылаясь на первоисточник.
Мы не располагаем данными о том, знакомился ли Каретников со статьей И. Тильмана, как и о том, попала ли в поле его зрения брошюра Э. Кшенека «Лекции по двенадцатитоновому контрапункту», изданная в Нью-Йорке в 1940 году и переведенная на многие языки, в том числе — в «самиздате» — на русский. Скорее всего, ответ на оба вопроса следует дать отрицательный: в своих рабочих серийных таблицах и в начале 60-х годов, и в начале 90-х Каретников не прибегает к общепринятым обозначениям — О. (Originalis) или Р. (Primus), R. (Retroversus), I. (Inversus), R.L, а маркирует серию и ее производные следующими индексами, не встречающимися ни в одном известном теоретическом труде: S., R., OR или Inv. I, Inv. II, Inv. III. Совершенно очевидно, что теоретические положения распространялись тогда наподобие «фольклора», а главным источником информации были для Каретникова немногочисленные поначалу звукозаписи и нотные тексты.
Жестокий дефицит фактических сведений был, однако, не в силах затормозить продвижения в избранном направлении. Вспоминает А. Пярт: «Когда люди голодны, они чувствительны к каждому намеку на пищу. То же самое происходит с идеями. Особенно тогда в Советском Союзе. Информационный голод временами был так велик, что достаточно было услышать только пару аккордов — и перед тобой раскрывался целый новый мир» (158: 130).
Каретников рано понял всю абсурдность обвинений в адрес 12-тоновой техники. Музыка нововенцев убеждала в обратном: возможности додекафонии — в плане образности, формы, драматургии, а также масштабов и исполнительских составов — богаты, практически не ограничены. Он пришел к несколько неожиданному с общераспространенной точки зрения выводу: техника, в сущности, очень проста4 и основывается на принципе сочетаний и перестановок, на комбинировании исходного комплекса элементов. Нововенский метод не только гарантирует сочинению абсолютное внутреннее единство, к которому он так стремился еще до встречи с додекафонией, но и обеспечивает свободу развития и максимальную выразительность. Он же позволяет избежать банальностей в кульминациях, где к ним порой невольно ведет стремление адекватно передать силу эмоции. Рассказывают, что на это жаловался Малер в беседе с Фрейдом.
Не беремся утверждать, пришел ли Каретников к этим выводам самостоятельно или формулировки сложились под воздействием (гипотетического) более позднего знакомства с литературой, но факт налицо: они снова удивительно точно совпадают с постулатами «отцов-основателей». Шенберг усматривал главное достоинство метода в обеспечиваемом им триединстве выразительности, экономии средств и цельности произведения (101: 113). Веберн не уставал говорить о свободе. Он же подчеркивал, что пресловутое единство и взаимосвязь всех конструктивных элементов отнюдь не самоцель: «Взаимосвязь служит наглядности мыслей!» (23: 25).
Для композитора, владеющего техникой додекафонии, работа над произведением начинается с сочинения серии. Всмотримся в них внимательно. Да, серия — не тема, «еще не музыка», а только ее строительный материал, всего лишь набор интервалов, который, как правило, не звучит в сочинении так, как приводится на схемах: вне длительностей, чаще всего в пределах одной октавы. Но и она, серия, может кое-что сказать о произведении и даже о некоторых свойствах мышления композитора.
Как известно, многие серии Веберна, тяготевшего к кристаллической ясности высказывания, абсолютно симметричны, основаны на принципе максимальной экономии интервалов. Они пронизаны внутренними соответствиями, нередко весь ряд выводится из первого трех- или четырехзвучного сегмента. Недаром Веберн и его последователи часто возвращались к мотивам типа В-А-С-Н: они манят не только своей символикой, не только концентрированностью хроматической интонации, но и внутренней симметричностью. Приводим серию Квартета Веберна, в котором вторая четверка — обращение, а третья — секвенционное повторение первой (пример 4).
Конструируя серию Виолончельного концерта, Э. Денисов, вероятно, опирался на этот веберновский ряд, который, в результате незначительных перестановок, превратился в шестизвенную секвенцию начального полутонового мотива (пример 5).
Серию Первого квартета А. Шнитке ось симметрии делит пополам так, что вторые шесть звуков оказываются ракоходом первой шестерки (пример 6). Серии Первой скрипичной сонаты и Концерта для фортепиано и струнных созданы, очевидно, под впечатлением Скрипичного концерта Берга: они отмечены тотальной терцовостью, порождающей трезвучные гармонии (которые практически не используются Каретниковым в додекафонной музыке). Великолепный образчик звуковых отражений, к тому же непосредственно обусловленных содержательным замыслом, — серия «Сюиты зеркал» А. Волконского, написанная на стихи Гарсиа Лорки, открывающиеся строками: «Христос держит зеркало в каждой руке, они умножают его явленье...» (пример 7).
К этим принципам в какой-то мере приближается серия Скрипичной сонаты Каретникова (пример 8). Она состоит из трех четырехзвучных сегментов (нижние штили), каждый из которых симметричен внутренне. Третий сегмент является неточным (малая терция вместо большой) ракоходом первого. Кроме того, вторая половина серии образована ракоходом, тоже неточным, первой половины (верхние штили). Поэтому ракоход серии в целом подобен ее основному виду, а, соответственно, ракоход инверсии подобен инверсии. Как видим, даже в этой, самой «правильной» каретниковской серии нет абсолютной геометричности.
В дальнейшем и таких соответствий больше не будет. Жесткости в конструкциях убавится, они как бы задышат, словно при их проектировании больше пользуются лекалами, чем линейкой. Симметрия предстанет столь же очевидной, сколь и слегка «сдвинутой», как в человеческих лицах, которые симметричны и несимметричны одновременно, даже самые красивые. В серии Большой концертной пьесы для фортепиано внутренне симметрична только последняя пятизвучная группа, в силу чего она буквально совпадает с начальными пятью тонами ракохода инверсии (пример 9). Ни разу не привлек Каретникова и всеинтервальный ряд — вероятно, по той же причине слишком жесткой заданности.
Кстати говоря, опора не на тройки или четверки звуков, разделяющие двенадцатитоновый ряд на равные части, как то предписывалось теорией и практикой нововенских мастеров (269; 272; 275; 276; 277), а на пятерки — специфически каретниковское конструктивное решение, сравнимое, например, с излюбленными денисовскими полутоновыми началами (особенно Es-D или наоборот — музыкальными инициалами композитора), трезвучными и квартаккордовыми ходами. Серии Камерной симфонии и Концерта для духовых инструментов строятся по формуле 5+5+2. В обоих сочинениях пятерки подобны, что опять-таки делает серии в целом симметричнонесимметричными. В симфонии второй сегмент представляет собой транспонированное обращение первого (пример 10). На схеме — справа от основного ряда — хорошо видно, как складывается звуковой комплекс ре — фа — фа-диез —ля, важнейший конструктивный элемент сочинения. В концерте вторая пятерка — транспонированная на малую терцию первая. Ходом на малую терцию сегменты сочленяются, тот же интервал образуют тона И и 12 (пример 11). Приведем также серии Четвертой симфонии, Квартета и Квинтета с помеченными соответствиями между сегментами, еще раз подчеркнув, что соответствия эти не полные (примеры 12, 13, 14).
Примечательна интервальная структура серии, лежащей в основе Маленькой ночной серенады (пример 15). Если ее представить себе как состоящую из четырех трехзвучных сегментов, нетрудно заметить, что каждый из них диатоничен. В то же время в ней силен целотоновый элемент, который становится особенно наглядным, если, доиграв серию до конца, сразу же начать ее сначала. Выразительные свойства такой структуры в известной мере уже предвосхищают теплый, спокойный, с оттенком таинственности, колорит нечетных частей произведения. Тоны же 7, 8, 9 и 10 образуют тот экспрессивно-лирический оборот, с которого начнет свой напев скрипка в первых тактах I части. Проглядывающая сквозь хроматику диатоничность хорошо гармонирует с яркой жанровостью четных частей.
Элементы диатоники ясно просматриваются в серии Квинтета: две первые тройки — трихорды в кварте и квинте, последняя четверка воспринимаются как тритон и его разрешение в до мажоре. В музыке крайних частей диатонические потенции маскируются, в лирической же средней части — реализуются достаточно полно.
Среди серий Каретникова нет скроенных по единой мерке, в каждой своя структурная идея, своя «изюминка». Серии красивы, как может быть красив хорошо работающий механизм (недаром авиаторы говорят, что некрасивый самолет не полетит) или математическая формула. Нам могут возразить, что это красота графическая, предназначенная для зрительного созерцания. Но, во-первых, этот фактор тоже не следует сбрасывать со счета. Такова традиция, которая куда старше, чем изыскания нововенцев. Вспомним хотя бы Бетховена, для которого был очень важен зрительный образ сочинения, наглядность воплощения звукового замысла. В его письмах, когда он говорит о музыке, нередки выражения «вижу», «внутренний взор», «стоит у меня перед глазами» (100: 97 —100). Шенберг и Веберн, для которых Бетховен был кумиром, тоже не раз высказывались о необходимости контролировать творческий процесс не только слухом, но и зрением, об оптическом образе музыкальной идеи. Стоит напомнить еще одного музыканта, персонаж романа Т. Манна «Доктор Фаустус» — Кречмара, читающего лекцию «Музыка и глаз».
Во-вторых, пусть не все, но многое из того, о чем сказано выше, не только видно, но и слышно. Существуют какие-то скрытые, пока что лишь угадываемые пружины восприятия, на которые воздействует способ композиции. Эстетические достоинства явлений и предметов, построенных вроде бы на чисто конструктивных закономерностях, часто воспринимаются подсознательно, «шестым чувством». Разве в состоянии мы, глядя на великие произведения мировой архитектуры, вывести их математическую формулу, высчитать внутренние пропорции? Нет, нас просто поражают соразмерность и красота, когда мы видим, скажем, древнегреческие храмы или улицу Зодчего Росси в Петербурге.
Но есть и вполне конкретные факторы, способствующие схватыванию слухом конструктивной логики. Так, формула 5+5+2, которой подчинена серия Концерта для духовых, отражается в синтаксическомстроении первого рефрена (см. пример 36). Экспонированию каждой пятерки соответствует предложение, два заключительных звука отделены паузой. В фортепианной пьесе соч. 25, когда волна развития, достигнув высшей тесситурной точки, откатывается назад, то есть движется вспять, звуки серии даны в ракоходной последовательности.
И это не единственные примеры того, как структурные, «для глаз», закономерности не остаются индифферентными по отношению к форме, образно-драматургической стороне, а это как раз то, что слышно.
Додекафония и музыкальная форма
Долгое время существовало мнение, что 12-тоновой музыке наиболее полно отвечает вариационная форма. Мнение, как теперь понятно, неверное, но родившееся не на пустом месте. Веберн, любивший иногда блеснуть парадоксом, так и говорил: «Наша 12-тоновая музыка основана на постоянном возвращении определенной последовательности двенадцати звуков — принцип повторения!» (23: 31. Курсив мой, — А.С.). Ф. Гершкович еще более заостряет мысль: Шенберг и Веберн рассматривали музыкальное произведение «как состоящее из одних повторений. Я бы сегодня предпочел сказать, что музыкальное произведение представляет собой систему повторений» (39: 106). Шенберг, по собственному признанию, учился форме у венских классиков, называя их стиль «стилем развивающейся вариации» (246: 106. Курсив мой, — А.С.). Несмотря на кажущиеся различия, все формулировки справедливы в равной мере. Суть дела сводится к тому, что додекафонное произведение действительно состоит из n-ого числа проведений серии, а все, что происходит с серией, есть не что другое как ее варьированные повторения. В этом, между прочим, заключалась сильная сторона додекафонной техники: она давала возможность и побуждала композитора непрерывно обновлять музыкальную ткань до самого конца сочинения.
Но из правильной посылки делались ложные выводы. Первый: додекафония обрекает форму на ослабление репризности, на отказ от нее. Второй: поскольку все произведение основывается на одной серии, в нем недостижимы контрасты — опора развитых форм, в том числе сонатной. Даже такой авторитетный теоретик, как Ю. Кон считает:«Додекафония неизбежно влечет за собой отказ от сонатной драматургии, где образно-тематические контрасты неразрывно связаны с контрастами ладов и тональностей. Музыка теряет возможность передавать диалектику жизненных процессов, столкновение и борьбу конфликтных начал. Все это заменено чисто конструктивным варьированием однородного на всем протяжении пьесы материала серии» (102: 412).
По счастью, и репризность, и контрастность в серийной музыке вполне возможны. Репризность — потому что всегда можно найти нужную меру обновления материала и его узнаваемости. Контрастность — потому что однороден «на всем протяжении пьесы» только звуковысотный, интервальный материал, а все остальные факторы могут быть мобилизованы для создания образных антиномий любой силы и смысловой направленности.
Учтем и то, что, хотя в серийной музыке нет тональности, но остается гармония, а вместе с ней — возможность такой мощной композиционной опоры как лейтгармония. В частности, в Четвертой симфонии Каретникова это созвучия, образованные 1, 2 и 3 или 7, 8 и 9 тонами серии, а также их сочетанием. Многократно повторяемые, притом на тех же звуках, они утверждаются в слуховом сознании в качестве своеобразных «устоев», а их последовательность уподобляется «кадансовым оборотам». На приеме «серийного кадансирования» построена, к примеру, кода Камерной симфонии.
Подобную роль играют и ритмические структуры: нередко ритм изложения серии становится «ритмическим модулем» для целого. Из всего разнообразия ритмических рисунков выделяются ведущие (некоторые из них мы отметим в последующих главах по ходу анализа).
Нет равноправия и между видами (модусами) серии. В Концерте для духовых, написанном в форме рондо, все три рефрена и кода построены на основном виде серии, а контрастирующие им эпизоды — соответственно на ракоходе, инверсии и ракоходе инверсии; два последних модуса транспонированы. Квартет тоже демонстрирует прямую взаимосвязь видов серии с формообразованием частей и композицией цикла в целом. Главной партии I части соответствует основная форма серии, побочной — ракоход, в основе второй части лежит инверсия, финала — ракоход инверсии. В Маленькой ночной серенаде каждая из четырех частей развивает свой модус, при этом в двух средних использованы транспозиции, что вносит необходимый контраст звуковысотного колорита (замещающий контраст тональный) парных, близких по характеру частей — I и III, II и IV. В I части Квинтета контрасту модусов в экспозиции отвечает их единство в репризе — очевидная аналогия с тональным планом классической сонатной формы! В пьесе для фортепиано соч. 23 особая нагрузка падает на ракоход инверсии, выступающий в качестве «центрального элемента системы» (термин Ю. Холопова). На нем построены второй рефрен и большая разработка, его провозглашением в глубоких басах ознаменована главная кульминация формы.
Наконец, определенной иерархии подчиняются транспозиции. Особенно широко они применяются в только что названной пьесе, обоих оркестровых концертах, «Мистерии». Детально разобраться в технике их сочинения помогут предлагаемые схемы — так называемые «шенберговские квадраты», на которых компактно представлены все 48 звуковых форм каждой серии.
Фортепианная пьеса (пример 16): хаотичное мельтешение кратких мотивов в побочной партии решено как калейдоскопическая смена практически всех высотных позиций серии в основном виде. Во втором рефрене и разработке господствует, как указывалось, ракоход инверсии — и тоже почти во всех высотных позициях, среди которых значение опорной приобретает та, которая начинается от ре-бемоль (до-диез). Она возвращается в заключительных тактах (от фа, ми-бемоль и соль-бемоль), после побочной партии репризы, которая основана на ракоходе в исходной высотной позиции, то есть от того же звука до-диез. Наличие общих звуков и звуковых последовательностей дает богатейшие возможности для переключений — «серийных модуляций» (термин Э. Денисова).
В квадрате, демонстрирующем схему модусов Концерта для духовых (пример 17), выделен ряд, который, будучи взят в прямом и возвратном движении (то есть как инверсия и ее ракоход), кладется в основу второго и третьего эпизодов соответственно. На схеме также обозначены совпадающие последовательности в двух рядах, вертикальном и горизонтальном. Созвучие, образованное этими тонами (до-диез, ре, фа-диез, соль), — одна из лейтгармоний концерта. Совпадений гораздо больше, чем отмечено: в обоих рядах соседствуют до и ми-бемоль, си и си-бемоль, ля-бемоль и фа. Кстати, оба ряда начинаются от седьмых тонов серии и инверсии.
Все эти выкладки, разумеется, не отвечают на вопрос, как в додекафонном сочинении построить динамическую форму, — недаром А. Шнитке считает это главной трудностью, проблемой номер один (259: 16). Однако следует иметь в виду, что задача эта непросто решается и в музыке, выполненной в любой другой технике. Здесь хотелось лишь показать, что для решения такой задачи 12-тоновый метод содержит объективные, пусть и не всегда очевидные предпосылки. Отметим пока главное: за Каретниковым числится принципиальное завоевание, уже зафиксированное исследовательской мыслью, — соединение узами брака норм додекафонии с принципами поступательного симфонического развития (227: 192 —193; 229: 122).
«Додекафония - это свобода»
В литературе о серийной музыке не раз звучало сомнение не слишком ли дорогой ценой куплено то, что приверженцы метода ценят превыше всего, — единство музыкального материала? Зачем художнику стеснять фантазию? Сам факт такого стеснения, казалось, не требует доказательств. Проблема «свободы — несвободы», которую мы уже несколько раз затрагивали, взятая даже в этом, сравнительно узком аспекте, выходит за рамки технологии и касается психологии, этики, а может быть, и философии творчества. Допустим для начала, что так оно и есть: композитор, работающий в додекафонной технике, по своей охоте засаживает себя в клетку, которую так напоминает «шенберговский квадрат». Но ведь творец связан системой ограничений и запретов в любом роде, жанре и стиле творчества. Драматург, сочиняя пьесу, не может, в отличие от прозаика, передать мысли персонажа, не высказанные им вслух. Традиционное стихосложение обязывает к рифме и избранному ритму. Художник-график лишен возможности воспользоваться красками. Композитору нельзя выйти за пределы взятого исполнительского состава и поручить, скажем, в струнном квартете одну из мелодических фраз флейте. И так ли уж свободен был Бах, выверяя звучание тройного или четверного контрапункта? Разве тональная музыка не накладывает определенных обязательств? Шенберг был совершенно прав, отметив, что «тональность не только служит вам, наоборот, она требует, чтобы ей служили» (246: 115).
Короче говоря, слухи о композиторской неволе в условиях 12-тоновости сильно преувеличены. Автор додекафонных композиций, если он владеет этой техникой, а не техника владеет им, скован не более, чем каждый его собрат, работающий в любой иной манере. Веберн, разъясняя преимущества нововенского метода, шел в своих умозаключениях еще дальше: «Только теперь стало возможным сочинять соответственно своей вольной фантазии, не будучи связанным ничем, кроме ряда. Это звучит парадоксально: лишь с этими неимоверно тесными оковами стала возможной полная свобода» (23: 81). То же неизменно подчеркивал Каретников: «Бессмертный урок Веберна в том, что, соблюдая строгие законы, добровольно им подчиняясь, он был совершенно свободен».
Ни в период постепенного вхождения в додекафонию, ни тогда, когда он прочно там обосновался, ни тем более в последние десятилетия, пору «мирного сосуществования» 12-тоновых и тональных опусов, а также опусов смешанных, Каретников не чувствовал себя пленником системы. «Я никогда не относился к этой технике чисто математически, все подвергая всегда слуховому контролю. И если строгое изложение давало не устраивающий меня звук, шел на нарушение». Примеры нарушений есть во всех без исключения его работах. Вопреки предписаниям классической додекафонии, Каретников не избегает мелодических оборотов и гармонических структур, вызывающих тональные ассоциации (хотя пользуется ими весьма умеренно); повторяет, когда этого требует замысел, отдельные звуки; не отвергает начисто симметричные ритмы, в том числе песенно-танцевального или маршевого склада. Нет, кажется, такого правила, которого он не преступил. Собственно говоря, во все времена все мастера так обходились со всеми школьными правилами. В «нарушениях» замечены сами «основоположники». «В живой музыке нет стерильной додекафонии», — справедливо утверждал А. Шнитке (230: 23).
Словом, мастер всегда связан теми или иными законами, «им самим над собой признанными» (Пушкин). И всегда — свободен. Тот, кто обрел себя в додекафонной технике, свободен в создании серии, а затем в выборе модуса и его высотной позиции. Свободен в драматургическом профиле и идейно-художественной концепции произведения. Даже самое «страшное» правило — не повторять звук, пока не прозвучат остальные одиннадцать, — не является абсолютным. «Самая заметная ошибка - случайно повторенный звук, — поясняет Каретников. — Я слышу его — как фальшь — и через две, и через четыре октавы. Задуманный повтор — иное». В серийной додекафонии весьма распространена и часто используется Каретниковым перестановка сегментов и звуков внутри них. А есть еще додекафония несерийная, где заданный порядок интервалов вообще не обязателен.
Почему же додекафония стала для Каретникова гораздо большим, чем суммой технических приемов — способом существования? Ответы на этот вопрос следует искать и в тех обстоятельствах творческой биографии, которые сопровождали и стимулировали обращение к ней, и в особенностях ее восприятия, и в том, как он «входил» в новый метод, и как именно им пользовался.
В пору личностного и творческого кризиса она явилась ему как откровение — и сделалась убеждением, верой на всю жизнь. Профессиональная, художническая зрелость наступила у него не после овладения додекафонией и ухода от нее, а вместе с обращением в новую веру и благодаря ей. С первых же шагов на неизведанном пространстве, шагов неторопливых и осторожных, он ощутил себя не разведчиком, не геологом, не любопытствующим путешественником, а колонистом, пришедшим сюда навсегда. Он осваивал это пространство не для того, чтобы пересечь и идти дальше, а чтобы на освоенной территории — жить.
Хотя Каретников и любил повторять, что додекафония — всего лишь техника, в этой «школе» он проходил не только чисто техническую выучку. Она стала для него и школой (или даже «аспирантурой») бескомпромиссности художника, школой верности своим взглядам. Он охотно подписался бы под шенберговскими максимами: не идти навстречу ожиданиям слушателя, не заботиться об успехе, не допускать музыкальных банальностей и легковесности. Каретников увидел в додекафонии не каприз, не прихоть истории, а явление, подготовленное и обусловленное предшествующим развитием музыкального искусства. Увидел в ней, разумеется, не единственную, но во всяком случае законную правопреемницу классических традиций.
Каретникову не было в ней тесно. Ему открылись такие глубины, в которые можно погружаться вечно. Парадоксально это или нет, додекафония подарила ему свободу — в том смысле, в каком говорил о ней Веберн. Свободу же обращения с додекафонией, немыслимую для Веберна, он даровал себе сам, ибо она была для него, как уже ясно, средой обитания, а не набором догм. Он хорошо чувствовал себя и в других «средах». Но что бы потом, после 1959 года, ни влекло композитора, как бы ни смещались жанровые приоритеты, ему требовалось время от времени вернуться, словно в отчий дом, в сферу чистого додекафонного инструментализма. Таковы созданные в «оперную эпоху» фортепианные пьесы (1970, 1978), в последние годы — фортепианный Квинтет (1990), Концерт для струнных инструментов (1992), оставшаяся неоконченной Вторая камерная симфония (1994). Прививкой же от стилистической стерильности были работы в области кино- и театральной музыки, которые опосредованно, чepeз балет и оперу, воздействовали на инструментальные жанры.
Именно к балетному творчеству Каретникова мы намерены сейчас обратиться.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТВОРЧЕСТВО ЗРЕЛЫХ ЛЕТ. ЖАНРЫ В ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И ВЗАИМОВЛИЯНИИ. ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ
ГЛАВА 4. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР ВРЕМЕН «ОТТЕПЕЛИ» И «ЗАСТОЯ»
Балет в ряду других жанров творчества Каретникова
Названия трех балетов Каретникова ныне вряд ли что-то говорят большинству музыкантов. Все они созданы в 60-е годы:
1959—1960 — Ванина Ванини (поставлен в 1962 году)
1960 — Геологи («Героическая поэма»; поставлен в 1964 году)
1967 — Крошка Цахес («Волшебный камзол»; поставлен в СССР в 1983 году)
Между тем и в судьбе композитора, и, осмелимся настаивать, в истории жанра сочинения эти сыграли важную роль.
Замыслы всех трех балетов возникли почти одновременно. В рецензиях на «Ванину Ванини» сообщалось о том, что уже готова музыка и либретто нового сочинения «на современную тему», и о планах относительно балета по Гофману. И пусть «Геологи» вышли на сцену с опозданием и не с той музыкой, что предполагалось, пусть «Крошка Цахес» был окончен в партитуре через несколько лет, а сценическую жизнь обрел еще позднее, это не меняет сути дела.
В творчестве Каретникова, в сложившейся в нем системе жанров, эти сочинения заняли особое место. Композитор не создал ни вокальных циклов, ни кантатно-ораториальных произведений (оба эти жанра в советской музыке той поры переживали полосу расцвета), ни программной музыки. Следовательно, балет составляет ту едва ли не единственную сферу творчества Каретникова 60-х годов, где музыкальные образы взаимодействуют с внемузыкальными. Соединяясь с сюжетом, теми или иными сценическими ситуациями, человеческими характерами, такие музыкальные образы, как известно, приобретают в восприятии слушателя большую конкретность, идейно-смысловую определенность. Отголосками балетов — образно-содержательными, собственно музыкальными — наполнены чисто инструментальные сочинения Каретникова. Именно балеты приходят на помощь в понимании замыслов симфонических и камерных опусов, «дешифруя» их чисто музыкальные концепции, подсказывая аналогии и ассоциации. Наконец, балеты, особенно первые два, поставленные Большим театром, встретились с публикой раньше и резонанс вызвали больший, чем его работы 60-х годов в других жанрах.
Н.Касаткина и В.Василёв
Приход Каретникова в балет выглядит почти случайным. С середины 50-х годов до середины 60-х на семинаре, организованном при Союзе композиторов, он вел группу начинающих авторов. Там и состоялось знакомство в Владимиром Василёвым, талантливым танцовщиком, который, готовя себя к балетмейстерскому поприщу, решил овладеть основами композиции. Вероятно, он, вместе со своей женой и соавтором Наталией Касаткиной, исходил из верной и ко многому обязывающей мысли Стравинского: «Я не знаю, как можно быть балетмейстером, не будучи, в первую очередь, музыкантом, подобным Баланчину» (198: 68). О том же говорил Ф.Лопухов, а в свое время — Ж.-Ж.Новерр.
Композитор и будущие постановщики подружились. В их лице Каретников нашел поклонников своего таланта. Спустя много лет они говорили о нем как о композиторе, чья музыка вошла в круг их личных пристрастий (94: 3). Поэтому не было ничего удивительного в том, что, задумав свой первый спектакль, с предложением написать музыку они обратились к Каретникову.
Однако хорошо известно: всякий поворот творческой судьбы, поворот, еще вчера непредсказуемый, имеет глубокие предпосылки. Здесь таких предпосылок видится две. Первая — заложенное в природе дарования пластическое начало, родственное прокофьевскому. Оно проявилось уже в ранних, еще полудетских фортепианных пьесах. Как и у Прокофьева, «ба-летность» музыки Каретникова не означает ни «дансантности», ни любви к длительному пребыванию в сфере лирических состояний. Как и Прокофьев, он брльше тяготеет к острой характерности, действенности, стремится передать в музыке не только строй мыслей и чувств персонажа, но и его внешнюю повадку, манеру двигаться. Схватить движение характера через характер движения �[Здесь нелишне будет упомянуть о том, что Каретников время от времени обращался к лепке, и если он лепил, скажем, фигурку животного, то она была не просто похожа на прототип, но позволяла угадать его нрав и поведение.]. Каретников в те годы и позднее очень любил балеты Прокофьева, считал их лучшей частью его наследия и охотно признавал, что это увлечение сказалось в его собственных балетных партитурах. Влияние Прокофьева испытывали тогда многие молодые композиторы, выступившие на балетном поприще, — А. Петров, С. Слонимский, Б. Тищенко, Р. Щедрин.
Вторая предпосылка заключалась... в незнании законов жанра. Точнее, тех рутинных, устаревших «традиций», которые невероятно живучи во всяком искусстве, но в музыкальном театре, пожалуй, особенно, и которые упорно сопротивляются обновлению и эксперименту. Последнее, разумеется, не исключает новаторских поисков выдающихся мастеров и смелых бросков к далеким горизонтам.
Работа над первым балетом пришлась на исключительно важный, рубежный период в жизни и творчестве композитора, когда рождался «новый» Каретников. Создание партитуры подоспело в разгар «стилевой революции» в творчестве композитора и стало важным ее этапом. Взгляды 30-летнего Каретникова на то, что есть музыкальная композиция вообще, уже вполне сложились, и он не собирался от них отказываться в сочинении для хореографического театра. Единство и целостность собственно звукового замысла, его внутренняя логика заведомо были вне посягательств. Задачу свою композитор понял так, чтобы, не жертвуя стилевыми и концепционными «параметрами» музыки, найти такие повороты материала, которые удовлетворяли бы требованиям сцены. Это не было «свободой в оковах», как определил статус балетного композитора Глазунов. Это была та свобода, каковую как раз и можно объяснить скомпрометировавшей себя в иных сферах формулой «осознанная необходимость».
Иначе говоря, отношение Каретникова к новой для него области творчества регламентировалось лишь самым общим, и потому фундаментальным, представлением: балетная партитура есть симфоническая музыка, обладающая качествами театральности. Остальное подсказывали талант, интуиция и здравый смысл. Интуиция же, в свою очередь, питалась некоторым опытом, уже приобретенным к тому времени работой в кинематографе и драматическом театре. Необремененность жанровыми предрассудками дарила свободу, свобода обусловливала активный приток нового, в чем остро нуждался советский балетный театр в середине века.
Подобно иным жанрам — оперному, кантатно-ораториальному — балет захлестнула волна исканий. Специалисты считают 1960-е годы одним из самых бурных периодов в послереволюционной истории отечественного балета. Балет — не только жанр музыки, но и самостоятельный вид сценического искусства, в котором роль не менее, а порой и более значительную, чем композитор, играет постановщик. В те годы ярко заявила о себе плеяда молодых балетмейстеров, которые энергично реформировали хореографический язык, форму спектакля, постановочный стиль в целом, — Ю. Григорович, И. Бельский, Ю. Виноградов. В этом ряду по праву стоят имена Н. Касаткиной и В. Василёва — соавторов всех трех балетов Каретникова. Новый стиль едва ли не с большей наглядностью обнаруживает себя при постановке произведений хорошо известных, классических. Недаром в числе высших достижений Ю. Григоровича — возрождение балетов Чайковского, обновленные «Каменный цветок» Прокофьева, «Спартак» Хачатуряна; одна из таких вершин у Н. Касаткиной и В. Василёва — «Весна священная» Стравинского.
Как нередко случается в подобных кризисных ситуациях, когда резко отвергаются «вчерашние» идеи, пробуждается интерес к идеям «позавчерашним», к которым обращаются «через голову» предшествующей эпохи. Новые времена вернули актуальность новаторским свершениям 20-х годов, востребовали творческие искания старейших советских хореографов К Голейзовского и Ф. Лопухова, которые еще здравствовали и продолжали восхищать своими смелыми балетмейстерскими работами.
Естественная реакция на унифицированную эстетику спектаклей 30—40-х годов привела к отрицанию «драмбалета» с его тяготением к излишнему жизнеподобию, детализированной мотивировке характеров, приближавшими спектакль к театральной пьесе, зачастую в ущерб музыкальной драматургии и танцу.
Как видно из сказанного, с конца 50-х годов в хореографическом театре происходили процессы, во многом родственные тем, что разворачивались в области музыкального творчества. Перед композиторами, обратившимися в ту пору к балетному жанру, независимо от их музыкально-стилевых ориентаций, выдвинулись новые драматургические задачи.
Первые балеты Каретникова появились на фоне бурных дискуссий о хореографическом и музыкальном симфонизме в балете, о соотношении музыки и пластики, о тематике спектаклей. Об одной из актуальных тенденций, в которую вписываются «Ванина Ванини» и «Геологи», скажем сразу: на смену многоактному, помпезному, монументально-тяжеловесному зрелищу явилась череда «короткометражных» спектаклей, девизом которых были лаконизм и обобщенность. Часть из них возникла на основе классической и современной музыки, не предназначенной для танца, — «Картинки с выставки» Ф. Лопухова, «Испанское каприччио» В. Гонсалес и М. Камалетдинова, «Ленинградская симфония» И. Бельского. Для балетной сцены адаптировались произведения многих композиторов, включая Баха, а на Западе Дж. Баланчин ставил даже Веберна. Но, видимо, не случайно в списке облюбованных балетмейстерами имен глаз невольно выделяет Дебюсси и Равеля, Стравинского и Прокофьева, перу которых принадлежат также и блистательные балетные партитуры.
Другая часть новых спектаклей рождалась в содружестве хореографов и композиторов, создававших оригинальную музыку. Таковы, например, «Берег надежды» А. Петрова (1959) и «Конек-Горбунок» Р. Щедрина (1960). К этой ветви относится и «Ванина Ванини» Каретникова.
Лирико-героическая дуодрама о любви и революции («Ванина Ванини»)
Звучащая около сорока пяти минут партитура потребовала года композиторского труда. Каретников получил от Касаткиной и Василёва уже готовое либретто. В соответствии с современными взглядами на балетный сюжет, они не стали перегружать его событиями, к чему толкала новелла Стендаля. Из довольно многочисленных действующих лиц остались два главных: гордая, привыкшая повелевать аристократка Ванина Ванини и одержимый революционной идеей вождь карбонариев Пьетро Миссирилли. Сценаристы пренебрегли возможностью обрисовать любовный треугольник (в новелле фигурирует обожатель Ванины — Ливио), раскрыть поистине дьявольские способности героини в плетении интриг и многим другим. Зато кое-что добавили. В частности, развернулось в целую сцену тайное собрание соратников Пьетро, о котором писатель только упоминает. Появилась сцена бреда раненого при побеге из тюрьмы Пьетро — Каретников снова после «Фучика» встречался с героем, находящимся между жизнью и смертью.
Первый балет по Стендалю задумывался и осуществлялся как лирико-героическая дуодрама. Драма несовместимости двух родственных натур. Драма с трагической развязкой: желая удержать при себе возлюбленного, Ванина выдает его друзей сбирам — тайной полиции, а Пьетро, узнав об этом, добровольно сдается в их руки, обрекая себя на гибель. В основу типично романтического сюжета положен классицистский конфликт чувства и долга.
Симпатии к Стендалю, трактовка сюжета, общее видение будущего произведения, — все у сценаристов-постановщиков и автора музыки оказалось близким. Работа протекала при полном взаимопонимании. Сотрудничество на предварительном этапе создания спектакля еще раз доказало свою плодотворность. Музыка каждой сцены сочинялась после того, как были оговорены ситуации и их психологическая подоплека, приблизительный «метраж» отдельных кусков и всей сцены.
Путь к огням рампы и сценическую судьбу «Ванины» не назовешь счастливыми. Балет готовился как внеплановый — со всеми вытекающими отсюда последствиями и осложнениями. Выручило вмешательство Галины Улановой, заявившей, что этот спектакль — общее дело театра, и его надо обязательно выпустить (216). Помог и Е. Светланов, знавший Каретникова еще по консерватории и уже работавший в то время дирижером Большого театра. На последней предпремьерной стадии в решительную оппозицию партитуре встал прославленный оркестр ГАБТа. «Нервное напряжение возникло на первой же репетиции, — читаем в новелле «Лекарство от тщеславия». — Музыканты эту музыку не понимали и не принимали». Посыпались жалобы на «сомнительного композитора» в дирекцию театра, Министерство культуры и ЦК КПСС. Последний бой на приемном худсовете был выигран только благодаря Шостаковичу. Ему предоставили первое слово. И если правда, что дипломатия немыслима без лжи и лести, то выступление Шостаковича было речью дипломата: он от всей души поздравил оркестр, который блистательно справился с труднейшей партитурой. «Затем, — продолжает мемуарист, — он объяснил присутствующим различные свойства моего симфонизма. Дело было решено. Все выступавшие вслед за Д.Д. не осмелились ему возражать».
В многотиражной газете ГАБТа это заседание описано без подробностей и, разумеется, без предыстории. Под торжественным, на первой полосе, анонсом «Сегодня премьера балета “Ванина Ванини”» сообщалось:«Все выступавшие дали положительную оценку музыке, постановке и оформлению спектакля. Отмечался интересный музыкальный материал Н. Каретникова, он драматургически насыщен и высокопрофессионален» (191). О «сложности партитуры» тоже говорилось, но без осуждения.
«Ни в одной из газетных рецензий на «Ванину» о музыке не было фактически ни слова, — рассказывал Каретников через тридцать лет. — Иногда вскользь упоминалось мое имя. Говорили же исключительно о хореографии» (44: 16). Композитор запамятовал: о музыке писали. Итоговая оценка, данная историком балета на страницах труда о Большом театре, гласит:«Пресса безоговорочно высказалась за спектакль, особенно в отношении постановщиков... Менее удовлетворила партитура Каретникова — неровная, во многом суховатая, часто лишенная рельефности мелодических образов, перегруженная диссонантными гармониями и чрезмерными оркестровыми эффектами» (50: 338).
Этот «дайджест» почти правдив. Откликов было много. Действительно, постановщиков и исполнительницу заглавной партии Е. Рябинкину хвалили в один голос. Касаткина и Василёв смело обогатили классическую танцевальную лексику, с одной стороны, движениями старинной итальянской школы, с другой — приемами драматического театра и кинематографа. Яркая индивидуализация пластического почерка персонажей, точная режиссура, лаконичная и экспрессивная сценография (художник А. Гончаров) произвели впечатление: «Спектакль в хореографическом отношении весьма самостоятелен, и если в нем и есть новое, то я — за такое новое» (Г. Уланова. — 216); «умная и тонкая балетмейстерская работа» (Мих. Габович. — 31).
В оценке же композиторской работы большинство рецензентов варьировали мысли Улановой. Великая балерина, в свое время всем сердцем принявшая, хотя и не сразу, острую, непривычную для мира балета музыку Прокофьева, о партитуре Каретникова отозвалась критически. Признавая за композитором яркую одаренность и то, что «многое оригинальное в его музыке звучит вполне закономерно», она нашла в ней и «просто оригинальничанье», и «сухость и холодность», пожелав ему на будущее «большей внутренней эмоциональности, большей теплоты, большей выразительности образов». Вкусы «времени и места» требовали щедрого мелодизма, открыто романтического выражения чувств — и не находили их.
Рядом с увесистыми дубинами, обрушивавшимися в те времена на головы «абстракционистов и формалистов», критика первой балетной партитуры Каретникова выглядит ласковым взъерошиванием волос (26; 76; 124; 128; 241; 242; 249). Да, талантливо, но «в холодных построениях «головной» музыки» часто меняются ритмы, а мелодия ломкая и непоследовательно развивающаяся (А. Маркова);«музыка балета остра и несколько суховата» (А. Медведев и Е. Светланов);«лишь намеки на мелодию, отдельные всплески оркестра... перегруженность резкими «устрашающими» гармониями... излишняя изысканность оркестровой палитры» (Вл. Власов);«образы лишь намечены... музыка производит впечатление очень хорошо составленного конспекта... нет места широкому разливу мелодии» (Н. Шереметьевская). Иную позицию занял, кажется, один Габович. В молодости солист Большого театра, а в то время балетный сценарист, педагог, критик, он оказался проницательнее многих музыкантов: «Музыка Каретникова рождает споры. Но, безусловно, она обладает весьма примечательным свойством. Она сугубо театральна по своей природе и в своих лучших местах... создает яркий музыкально-театральный образ спектакля».
После премьеры балет исполнили семь раз, после чего сняли с репертуара. В 1977 и 1981 годах спектакль возобновлялся, сейчас не ставится нигде. Осталась только рабочая магнитофонная запись и изданный в 1973 году клавир. Но достаточно познакомиться с музыкой балета даже в таком виде, чтобы сильно усомниться в справедливости многих критических замечаний.
С главной героиней зритель встречается во 2-й картине («Бал у Ванины»). Соло Ванины длится 40 тактов и на всем его протяжении развертывается мелодия широкого дыхания. И если в ней «нет тепла», то оттого лишь, что пылает жар (пример 18). И разве не ощущается в ней эмоциональной наполненности, большой внутренней силы, за которой нетрудно угадать натуру решительную и страстную! Верный своим принципам, Каретников ни разу не повторяет лейттему буквально. Из особенно ярких и выразительных модификаций отметим диалог виолончели и флейты в характере медленного вальса из 4-й картины («Объяснение»), экспрессивный монолог высоких струнных в начале 5-й («Долг»).
Столь же мелодически насыщена тема Пьетро, собранная и волевая (пример 19). И она подвергается многочисленным жанрово-фактурным трансформациям. Неужели это всего лишь «намек на мелодию»? Легко обнаружить удачно найденное родство тем - и в общем патетико-монологическом складе, чертах маршевости (более завуалированных у Ванины), и в отдельных интонационно-ритмических оборотах. В то же время они достаточно контрастны: в теме Ванины преобладают мотивы опевания, в теме Пьетро — активно восходящие, фанфарные интонации. Это психологически оправданно, ведь, как писала (правда, не касаясь музыки) Н. Чернова, перед нами«два сильных характера, в чем-то родственных, а в чем-то чуждых друг другу; две незаурядные личности, между которыми неизбежна близость, но еще более неизбежен конфликт».
Темы начинают взаимодействовать в 3-й картине («Пьетро в бреду»), а в 5-й образуют «дуэт непонимания». Здесь герои уже словно не слышат друг друга (хореографы построили сцену расставания на разных движениях Ванины и Пьет-ро).
Обеим темам, в свою очередь, близка тема любви, Она робко зарождается в проникновенном Adagio последних тактов 3-й картины (струнный квартет) и экстатично провозглашается солирующей трубой — в заключении 4-й (пример 20).
Лирика «Ванины», как и в других сочинениях Каретникова, словно чревата героикой. Героический полюс музыкальной драматургии — коллективный образ карбонариев. Их тема, она же — тема долга, мрачно величественная и энергичная, являющаяся как бы утяжеленным вариантом летящего лейтмотива Пьетро, открывает 6-ю картину, сцену клятвы (пример 21). Ею балет и завершается. Это один из многочисленных героико-трагедийных маршей Каретникова.
Музыкальный язык балета и впрямь лишен романтического благозвучия. Наряду с усложненной тональностью, как, например, в теме клятвы, наряду с привычными жанровыми ритмо-формулами, ходами мелодии по тонам диатонических аккордов, здесь многое подчинено иным, нововенским принципам мышления. Фактура насквозь тематизирована, различие между ведущими и второстепенными голосами становится подчас проблематичным. Логика движения по горизонтали подчиняет себе полифонно-гармоническую вертикаль, которая в любой момент может оказаться сколь угодно жесткой — разумеется, с точки зрения классико-романтических норм. Критики, шокированные резкостью звучания (кстати, подобных эпизодов не так уж много), оценивали их просто в другой системе эстетических координат.
Вместе с тем один драматургический просчет композитора, просчет, как нам представляется, серьезный, концепционный, критика не заметила. Каретникову не удался музыкальный образ предательства — тема, долженствующая сыграть ключевую роль в финальной картине, которая так и называется — «Предательство». Тема сама по себе весьма впечатляюща (впервые у кларнетов, ц. 131); кроме того, в ней слышны отголоски тематизма обоих героев и танца карбонариев, что с точки зрения интонационной драматургии вполне оправданно. И не беда, что она почти буквально совпадает с главной темой «Драматической поэмы». Беда в другом: в ней нет ничего, что указывало бы на страшную греховность поступка Ванины. Впрочем, этому есть объяснение: у Каретникова и не могла получиться тема, «осуждающая» героиню. Симпатии автора принадлежат ей. Может быть, оттого не до конца убедительной вышла «драматургическая модуляция»: в последней картине центр тяжести должен был сместиться с Ванины на Пьетро, презревшего любовь во имя революции, но в плане музыкальной концепции развязка несколько декларативна...
1
В музыке Каретникова, не склонного к программности, эти параллели не породили конкретных творческих замыслов. Э. Денисов создал пьесу для фортепиано «Знаки на белом», перекликающуюся с картиной П. Клее «Знаки на желтом», А. Шнитке — сценическую композицию «Желтый звук» по либретто В. Кандинского (ранее использованному Веберном). Оба сочинения (1974) написаны не в додекафонной технике (сонористика, алеаторика). Спустя десятилетие Э. Денисов вновь обратился к образам швейцарского художника в «Трех картинах Пауля Клее» для альта и инструментального ансамбля.
2
Либо Н. Каретников, либо А.Г. Габричевский ошиблись: картина, созданная в 1913 году, была выставлена в 1915-м.
3
В современном музыковедческом труде читаем:«Самым последовательным приверженцем техники нововенцев в 60-е годы был Э. Денисов» (141: 172) — и это один из примеров неверных выводов, сделанных исключительно от скудости информации.
4
Противоположного мнения придерживается Э. Денисов:«Это одна из самых сложных техник» (57: 12).
На пути к вершине («Геологи»)
Сюжетная канва балета «Геологи», второй совместной работы Каретникова с Касаткиной и Василёвым, несет на себе неизгладимый отпечаток времени. В конце 50-х — начале 60-х годов увлечение таежной романтикой завладело страницами литературных журналов, радиоэфиром, театральными подмостками. И внеофициальная бардовская «костровая» лирика, и «залитованная» советская песня наперебой рассказывали «о жарких степях и далеких путях», о «дальних и трудных дорогах», о том, что «ты уехала в знойные степи, я ушел на разведку в тайгу». М. Шатров, автор нашумевшего, казавшегося архисмелым цикла документальных драм о Ленине и революции, начинал пьесой о геологах «Современные ребята».
В повальном интересе к какому-либо образу, теме, есть что-то от феномена моды. Но мода в искусстве — всегда шлейф тенденции. Иначе говоря, тема возникает как ответ на какие-то общественные запросы. Думается, в советском искусстве тех лет геолог, «солнцу и ветру брат», выступал примерно в той же роли, что цыган — в искусстве прошлого века. Романтически приподнятый и идеализированный образ «разведчика недр» символизировал надбытовое начало, дух странствий и вольности.
В ряду произведений такого рода появился рассказ В. Осипова «Неотправленное письмо», по которому вскоре был снят кинофильм (режиссер М. Калатозов). На этом незамысловатом сюжете и остановили свой выбор сценаристы. Из четырех героев они оставили трех, двух молодых людей и девушку, смело исключив при этом любовно-лирическую интригу. Геологи пробираются по тайге, борются с ненастьем, находят ценный минерал, попадают в пожар. Старший погибает, второй юноша ранен, девушка тащит его на себе: нужно выжить, добраться до людей, рассказать о сделанном открытии... Либретто содержало восемь эпизодов: Тайга, Ветер, Усталость, Находка и радость, Отдых, Пожар, Оплакивание погибшего, Возвращение. По поводу подобных сюжетов иронизировал писатель Ю. Трифонов: «В наше время, когда это понятие (экстремальной ситуации, - А.С.) возникло и стало излюбленным у критиков, оно связано с войной, тайгой, пустыней, кораблекрушением и прочим в этом роде. Связано с тем, что требует физической смелости и спортивной закалки» (215: 239). Самого Ю. Трифонова привлекали «экстремальные ситуации духа». Но именно о духе, а не о физической закалке, думали авторы нового балета — недаром сначала он шел под более обобщенным названием «Героическая поэма», и только потом его заменили на «современное» — «Геологи».
Балетный театр тогда активно стремился овладеть «современной темой», это считалось его основной задачей. Осуществить ее, не погрешив против искусства и природы жанра, было непросто, о чем наглядно свидетельствует длинный список конъюнктурных произведений-однодневок. Даже один из безусловных фаворитов тех лет, «Берег надежды» А. Петрова, повествующий о «непримиримом антагонизме двух социальных лагерей», представляется ныне в сценарном плане вульгарной политической агиткой. Что уж говорить о произведениях вроде «Далекой планеты» или «Обелиска» Б. Майзеля, «Звездной рапсодии» Л. Фейгина и т.п. «В большинстве эти постановки оказались недолговечными, — пишет исследователь. — Заметно выделился лишь балет Н. Каретникова «Геологи»... Балет надолго удержался в репертуаре Большого театра» (112: 235).
Получив либретто (еще до премьеры «Ванины Ванини»), Каретников решил, что напишет симфонию. Принципиально важный момент! Уже говорилось, что в балете XX века сосуществуют практически на равных два принципа. С первым, так сказать, все ясно: специально для спектакля пишется партитура. Вокруг второго, связанного с привлечением музыки, рожденной не для сцены, споры не смолкают до сегодняшнего дня. Замысел Каретникова предполагал их слияние. Это должна была быть именно симфония, причем симфония сложная по языку, написанная в додекафонной манере, и без всяких скидок на «балетность», — и при этом самим автором предназначенная для хореографической интерпретации.
К концу 1962 года Четвертая симфония была, в основном, готова и безоговорочно принята постановщиками. Но тут мир художественной интеллигенции облетела потрясающая новость. Глава государства посетил выставку в Манеже, приуроченную к 30-летию Московской организации Союза художников (МОСХ), где экспонировались работы молодых «левых» живописцев. Случившееся там столичные острословы окрестили «кровоизлиянием в мосх». В последние годы об этом многонаписано. Совершенно ясно, что то была умело организованная провокация, имевшая целью использовать некомпетентность и вспыльчивость Хрущева в качестве детонатора взрыва — новой широкомасштабной «антиформалистической» кампании. Механизм запускался старый, проверенный. Как и многие, Каретников в тот же день понял, какие ожидаются последствия. «Круги от этого посещения расходились широко и захлопывали форточки не только в изобразительном, но и в других искусствах, — читаем в новелле «Манеж». — С надеждами надо было вновь расстаться неизвестно на какие сроки».
Жизнь задавала композитору сложную задачу. Дано: показывать «инстанциям» такую симфонию равнозначно самоубийству; заявка на спектакль принята; покидать площадку Большого театра, отказываясь от постановки, неразумно; быстро написать новое сочинение, да еще в «реалистическом» ключе, невозможно. В задаче спрашивалось: как поступить? Так Четвертая симфония была заменена «Драматической поэмой», которой надлежало во второй раз выступить в роли компромисса, претерпев еще одну жанровую метаморфозу.
Мысль о замене симфонии поэмой пришла Каретникову одновременно с открытием: на сей раз абсолютно бескомпромиссное по средствам выражения сочинение создавалось по тому же композиционно-драматургическому плану. Все сюжеты ~ кинофильма «Ветер» и рожденной от музыки к нему симфонической поэмы, балетного либретто «Геологов» и заданной им программы Четвертой симфонии — восходили к единому инварианту: жизнь как преодоление препятствий — борьба и смерть — оплакивание потерь — победа над отчаянием.
Разумеется, уже готовая партитура поэмы потребовала адаптации. Материал подвергся перепланировке, кроме того, композитор все-таки рискнул включить в него из симфонии два фрагмента, связанных с крайними эмоциональными состояниями. Один лег на эпизод радости по поводу находки, другой — на сцену прощания с погибшим товарищем. Премьера состоялась через год с небольшим. Незадолго перед тем генеральную репетицию показали слушателям Всесоюзного семинара балетмейстеров. И тогда, и при возобновлении в 1977 и 1981 годах «Геологи» шли в один вечер с «Ваниной Ванини», «Весной священной», другими одноактными балетами. Уйдя из Большого, постановщики перенесли «Геологов» на сцену созданного ими Государственного концертного ансамбля «Московский классический балет», позднее преобразованного в Московский государственный театр балета.
Поскольку музыка балета рассмотрена выше как «Драматическая поэма», ограничимся здесь разговором о постановке. «Геологи», бесспорно, относятся к крупным творческим достижениям молодых хореографов. Двадцатипятиминутный спектакль радостно приветствовался прессой (45; 46; 62; 106; 107; 108; 243; 266). «Несомненная удача», — восклицала В. Кригер. «Большая и принципиальная удача», — поддерживал А. Дьяконов. «Интересное и новое явление в жизни театра... большой шаг в развитии советского хореографического искусства», — утверждала К. Южина. К дружному хору похвал присоединили свои голоса С. Мессерер, В. Красовская и другие авторитетные в балетных кругах лица. Спустя двадцать лет И. Моисеев в статье, посвященной Касаткиной, отозвался о спектакле восторженно: балет «прозвучал очень своевременно, окрыляюще, вызывающе хорошо». И, несколько преувеличивая, заметил: «Геологи» поставлены в то время, «когда в балете даже не угадывалось попытки изобразить современного человека» (133).
Музыканты хранили молчание. Никто не обратил внимания даже на то, что по музыкальному языку второй балет, в сравнении с первым, оказался шагом назад. Эту партитуру, к тому времени уже ни в коей мере не определяющую черт стиля Каретникова, могли бы поощрить как «ответ на критику». Но этого никто не заметил. На сей раз о музыке действительно не было сказано ни слова.
Причина успеха спектакля крылась, конечно же, не в сюжете как таковом. Трудовой героизм, геолого-разведочная романтика, борьба со стихией стали лишь поводом для яркого хореографического действа. Опираясь, как и в «Ванине Ванини», на балетные искания 20-х годов и почти одновременно со своими современниками, молодыми балетмейстерами-реформаторами, Касаткина и Василёв решительно вторглись в заповедные владения канонизированного классического танца. Не отвергая его «с порога», используя некоторые его фигуры, они соединяли их с реальной жизненной пластикой, с элементами спортивной акробатики. Язык рождался аскетичный и изобретательный одновременно. Он был, по словам A. Дьяконова, гибок и многозначен, эмоционально щедр и красочно метафоричен, на смену привычной танцевальной гладкописи пришла резкость и терпкая прямота «выражений».
Счастливейшая хореографическая находка: встречающиеся на пути персонажей преграды — бурелом, горы, ветер, огонь — изображались не декорациями, не кордебалетом, а ими самими (главные роли исполняли Н. Сорокина, Ю. Владимиров и B. Василёв)! Пластическое единство героев и преодолеваемых ими препятствий заключало в себе метафору броскую и сильную: самое трудное — победить себя.
Сценография (художник Э. Стернберг) была выполнена в едином с пластической идеей ключе. Сцена почти пуста, лишь лаконичный живописный штрих указывал на место действия. Даже такой традиционный для балета прием, как движущаяся панорама, подчинялся избранной стилистике: зрители видели движение через неширокую вертикальную щель на заднике. Кордебалет тоже предстал в новом качестве. Он не изображал толпу, но, одетый в красное и черное, оказался как нельзя более кстати в сцене после катастрофы, где обессиленных, впавших в полузабытье героев обступают кошмары.
Пожалуй, только заключительная сцена — появление, как «бога из машины», спасателей, охотников-якутов — этот «извиняющийся финал», несколько портил «суровую трагическую фреску» (К. Южина).
«Антисоветский» балет («Крошка Цахес»)
Третий балет, рожденный тем же творческим содружеством, сильно отличается от первых двух. По-другому сложилась и его судьба.
Предложенный сценаристами сюжет сказки Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» снова совпал с литературными пристрастиями композитора, а сочинявшаяся им музыка встречала их полное одобрение. Задумывался фильм-балет. Не экранизация театрального спектакля, а оригинальное кино-хорео-музыкальное произведение. Худсовет «Ленфильма» принял картину к производству и... на этом светлая полоса в жизни балета кончилась.«Вы хотите снять антисоветский балет!» — кричал композитору зам. председателя Госкомитета по делам кинематографии тов. Баскаков. Оправдания — вроде того, что Гофман написал свою сказку в 1819 году, что авторы не имели в виду никаких политических аллюзий, разве что приход Гитлера к власти, — не были приняты во внимание (новелла «Аллюзии»). Съемки запретили. Произведение легло на «полку».
Что же, высокопоставленному чиновнику не откажешь в проницательности. Композитор, делая невинные глаза, бесспорно, лукавил. Гофман подарил музыкантам множество сюжетов: вспомним шумановскую «Крейслериану» и вагнеровского «Летучего голландца», балетную классику — «Жизель», «Коппелию», «Щелкунчика», в XX веке — произведения Оффенбаха, Бузони, Хиндемита... «Крошка Цахес» — самый беспощадно-язвительный из них.
...В бюргерски благопристойных владениях глуповатого князя Деметрия живет мерзкий уродец Цахес, лишенный дара членораздельной речи, не умеющий ходить. Благодаря вмешательству феи Розабельверде (в сказках добрые волшебники всегда помогают обиженным и несчастным), злобное ничтожество становится в глазах окружающих красавцем, наделенным выдающимися талантами, постепенно прибирает к рукам власть в государстве. Заслуги других приписываются ему. Разоблачает оборотня поэт Бальтазар...
Мудрая сказка раскрывала механизм действия и самое философию тоталитаризма, а потому имела смысл универсальный и провидческий. Аресты «интеллектуалов» и высылка их из страны, отправка волшебных лебедей на жаркое, военизированные музы, управляющие искусством, — уж не смотрел ли Гофман в чудесное зеркало мага Альпануса? Великий романтик воссоздал гнилостную атмосферу всегосударственной спячки, торжества агрессивного невежества власти, ее бездеятельности («Всякий знал, что страной этой правит князь Деметрий, однако никто не замечал, что она управляема, и все были этим весьма довольны»), бездуховности и торгашеской морали обывателей. В этой стране генерал-директор всех совокупных дел по части природы подвергает цензуре солнечные и лунные затмения, а ученые в своих трудах доказывают, что «без соизволения князя не может быть ни грома, ни молнии, и что если у нас хорошая погода и отличный урожай, то сим мы обязаны единственно лишь непомерным трудам князя».
В балете образ Цахеса как бы увеличился в масштабах и стал еще более зловещим. За фигурой политического временщика нельзя было не увидеть вереницу его реальных, исторически достоверных собратьев — деятелей XX века. В Берлинском оперном театре, ознакомившись с партитурой и либретто, доверительно мотивировали отказ: «Да ведь это — Ульбрихт!». Несомненно похож на Цахеса был тот, кому Ю. Нагибин дал такую характеристику: «Государственный деятель, не совершивший никакого деяния, четырежды герой без подвига, увенчанный лаврами писатель, не написавший ни строчки, грандиозное ничто, которого играли окружающие, как на сцене играют короля, создавая образ поклонами, подобострастием, лестью, неустанными знаками благоговейного внимания, покорностью и бесконечным превознесением до небес» (рассказ «Сауна и зайчик»).
Нет ничего удивительного в том, что на родине композитора балет дожидался сцены семнадцать лет. Правда, в этом промежутке «Цахес» был поставлен в Опернхаузе города Ганновера (тогда ФРГ, 1971), и за два года выдержал сорок два аншлаговых спектакля1. Удивительно как раз другое: Касаткина и Василёв приступили к постановке в 1982 году, когда еще был жив Брежнев.
Но теперь былое согласие с композитором дало трещину. В том ли было дело, что за эти годы постановщики из начинающих стали знаменитостями, объездившими многие страны мира, удостоенными званий и премий, а социальный статус Каретникова едва ли не понизился? Или в том, что эпоха «позднего застоя» побуждала к бесконечным уступкам, которые приходились не по нраву композитору?
Некоторых коррекций потребовала огромная сцена Дворца съездов. Так, волшебную прядь в волосах Цахеса, зажигающуюся по мановению феи и становящуюся зримым символом избранности, заменили на волшебный камзол, откуда возникло новое название балета. Но главное — постановщики сгладили заостренно-обличительное звучание гофмановской сказки, ими же подчеркнутое в либретто и еще более конфликтно окрашенное в музыке. Вместо замаскированной под небылицу язвительной политической сатиры на сцену явилась лирикоюмористическая сказка для детей. И если судить спектакль по законом этого жанра, ему не откажешь в эстетической последовательности и внутренней цельности.
Постановка сочно зрелищна и красива, осуществлена с тонким вкусом и чувством стиля. Опытный театральный художник Т. Бруни сочинила многокрасочные, роскошные костюмы, нарисовала веселый, немного «конфетный» городок: крытые ярко-оранжевой черепицей дома, остроконечные шпили, причудливые башенки, изумрудная зелень деревьев, бабочки, стрекозы, венчики цветов. С пожалованием Цахесу сана Первого министра декорация буквально выворачивается наизнанку и как бы становится «на голову»; в городе, в туалетах придворных остаются только две краски — черная и белая: мир обесцвечивается. В финале все обретает первоначальный вид.
Режиссура также тяготела не к жизнеподобному «театру переживания», а к условному «театру представления», «игре в театр». Об этом заявлял уже маленький пролог: оркестранты настраивают свои инструменты, разогреваются танцовщики, через весь зал идет к рампе скрипач в костюме времен Моцарта. На сцене почти постоянно присутствовал внесюжетный персонаж — Арапчонок. Он вел спектакль на правах помощника режиссера, но был еще и реквизитором, и костюмером, реагировал на происходящее, общался со сценой и залом. В заключительной картине в празднество врывался Цахес, сбрасывал костюм и оказывался маленькой балериной. Все это как будто говорило, что к увиденному не стоит относиться серьезно, но проницательным зрителем должно было восприниматься в прямо противоположном смысле, — подобно, к примеру, прощальным словам Звездочета в «Золотом петушке»:
Разве я лишь да царица
Были здесь живые лица,
Остальные — бред, мечта,
Призрак бледный, пустота...
Но детской аудитории, заполнявшей зал КДС в дни школьных каникул, вряд ли до всего этого было дело.
Постановка содержала немало интересных находок. Фея Розабельверде, столь опрометчиво облагодетельствовавшая злонравного карлика, представлена близорукой, часто подносит к глазам очки. Она оживляла погибшего Цахеса (этого нет у Гофмана) и возвращала его матери, а придворные принимали за несравненного господина Циннобера усыпанный орденами Волшебный камзол и устраивали ему пышные похороны2.
Говоря о хореографии, в первую очередь следует упомянуть острохарактерную лексику Цахеса, подсказанную в большой мере самим Гофманом. В сказке фигурируют его «паучьи ножки», а движения описываются не иначе как глаголами типа выползает, копошится, отбрыкивается, барахтается, вскарабкивается, корячится и т.п.3 В остальном балетмейстеры предложили более «спокойные» решения, опирающиеся на традиционно-классическую пластику, к тому же несколько перенасыщенную пантомимой. Столь же спокойными, без тени дискуссионности (тем более — без углубления в «аллюзии»), и доброжелательными были отзывы прессы (12; 22; 117; 153; 171; 172).
Музыка понесла в этом балете тяжелые потери, не только косвенные, из-за идейно-эстетических несовпадений с постановкой, но и прямые. В соответствии со своим видением спектакля как «игры в театр», что само по себе не может быть оспорено, Касаткина и Василёв решили поместить на сцене оркестр, одев музыкантов в костюмы придворных и включив его в действие. Но для этого состав оркестра пришлось сократить с девяноста человек до пятнадцати. Партитуру переинструментовали, прибегнув к услугам другого музыканта (уродовать свое детище собственными руками Каретников не смог). Понятно, что звучание камерного ансамбля кое-где попросту не могло охватить многозвучную гармонию, где-то ему не хватало драматической силы, где-то лирической экспрессии, а где-то — убийственности сарказма. Словом, пострадали практически все образные сферы и, следовательно, музыкальная концепция произведения в целом. Поэтому стоит рассматривать композиционно-драматургический облик балета, имея в виду прежде всего оригинальную партитуру.
Намерение создать кинобалет продиктовало либреттистам и композитору многоэпизодную структуру, энергичный монтаж сцен, учащенный темпоритм действия. Краткие, быстро сменяющиеся, ясно отграниченные друг от друга и, в основном, композиционно законченные эпизоды сплочены воедино сплошным током симфонического развития. Музыкальная драматургия гораздо более многосоставна и разветвлена, чем в предыдущих балетах Каретникова.
В ее основе — несколько образных сфер. Одна из них связана с обывательским мирком придворных, другая с Цахесом, третья — с Бальтазаром, четвертая — с волшебниками. Кроме того, можно говорить о трех, несовпадающих с названной дифференциацией, технико-стилевых пластах партитуры. Дирижировавший спектаклем в Опернхаузе X. Иорис писал: Каретников «не боится поставить рядом серийные моменты со слащавостью банально понимаемого романтизма, саркастически исказить придворный менуэт и дать большую любовную сцену с арфой и струнными». Говоря точнее, разные стили распределены в партитуре так: эпизод счастливого правления князя Деметрия и образ Бальтазара написаны в свободно-додекафонной манере; в строгой серийной технике решена характеристика Цахеса и кое-что в сфере волшебства; средствами огротескованной жанровости обрисован двор.
Все, что связано с окружением князя, пропитано едкой иронией: жеманный, будто оттопыренный мизинчик, «Танец с чашечками», идиотический галоп в сцене охоты. На тех же темах построены другие номера — «Помолвка Кандиды и Цахеса», «Погоня за Цахесом», Финал. К этой сфере относится и образ Кандиды: предмет воздыханий Бальтазара — всего лишь дитя своей социальной среды. Ее лейтхарактеристика — кукольно-шарманочный менуэт.
Цахес получает целый комплекс тем. Во-первых, судорожно подергивающийся лейтмотив Цахеса-уродца (пример 22).
Во-вторых, фанфарные обороты, так или иначе деформированные: скажем, диатоническому кварто-квинтовому кличу отвечает его хроматизированное «кривозеркальное» отражение (пример 23)4. В-третьих, гротескно-триумфальные темы Цахеса-правителя, ставшего господином Циннобером. Они и превращают апогей власти в фарс.
Бальтазар — единственный образ балета, поданный всерьез. Каретников, видевший в гонимом поэте автобиографические черты, написал для него музыку «от первого лица», впрямую смыкающуюся по типу выразительности с его камерными и симфоническими произведениями. Одна из лейгтем — типично каретниковский инструментальный монолог, порученный экспрессивному унисону виолончелей и бас-кларнета (пример 24). Окрашенная в философические тона, она может звучать и проникновенно-лирически (эпизод чтения стихов), и трагедийно («Отчаяние»). Варианты темы образуются по правилам додекафонии, хотя сама тема не серийна.
Каждая из образных сфер имеет свою линию развития, а музыкально-драматургическое целое балета складывается из их сложных и тонких отношений. Конфликт между Бальтазаром, с одной стороны, Цахесом и придворными — с другой, развертывается спиралеобразно. Всякий новый виток приводит ко все более глубокому проникновению злого начала в мир чистых и высоких проявлений человеческого духа. Так, сцена чтения стихов, представляющая Бальтазара-художника, завершается восторгом придворных, аплодирующих Цахесу. В Адажио, этом своеобразном «па-де-де втроем», где Бальтазар и Цахес как бы сливаются в глазах Кандиды в единый образ, происходит подмена добра злом, тематизм Бальтазара обволакивается противоположным ему по смыслу материалом и растворяется в нем. Тема борьбы из сцены дуэли Бальтазара и студентов в вывернутом наизнанку виде станет символом власти бесстыдного ничтожества.
Словом, все благородные порывы творческой натуры извращаются, тонут в глупости и пошлости существующего миропорядка. Коварство, цинизм и вероломство зла заключаются здесь не столько в прямом насилии, сколько в присвоении себе и приспособлении к своим низменным целям духовных ценностей - чувства личного достоинства, творчества, любви.
Но вот Цахес повержен. Чудом был он вознесен на пьедестал и, может быть, поэтому, держался там не так уж прочно. Зная, благодаря магу Альпанусу, уязвимое место господина Циннобера, Бальтазар в первом же открытом поединке вновь обращает его в убогого крошку Цахеса. Следующий затем бесславный конец уродца и особенно эпизод торжественных похорон, заставляющий вспомнить гротесковый, ложнотрагедийный марш в Первой симфонии Малера, казалось бы, должны были привести к счастливой развязке. Именно так, кстати сказать, и поставлен финал хореографами. В музыке звучит иное. Да, этого выродка больше нет, но остались те, кто ему аплодировал. Осталось «агрессивно-послушное большинство», которому абсолютно все равно, кого славить, кого сживать со света. Обыватели-придворные, только что восторгавшиеся Цахесом, премило веселятся на свадьбе Бальтазара, еще не опомнившегося от их же травли. Кому не знакомы подобные метаморфозы «общественного мнения», случающиеся и в заоблачных высях государственной власти, и в повседневной жизни! Перечитаем хотя бы новеллу Каретникова «Лекарство от тщеславия». Преодолев воинствующую косность оркестрантов и вкушая успех премьеры своего первого балета, он раз за разом выходит на поклоны. «Я, наконец, опустил взор долу и узрел оркестр... Они все, стоя, аплодировали... Их развернуло, как флюгер».
С обывателем не помогут справиться даже волшебные силы, к обывателю не пробьется пламенное слово поэта. И покуда эта социальная среда жива (а разве может она исчезнуть?), появление нового Цахеса возможно в любой момент. В «Крошке Цахесе» пошлость победила: в финальном танце, этом апофеозе пустого самодовольства, не осталось и намека на музыку Бальтазара. Именно эта общественная сила, невероятно живучая, способная бесконечно мимикрировать и ассимилировать, и была для Каретникова главным объектом обличения. «Я воспринимаю этот сюжет как мою личную войну с обывательщиной», — делился композитор (171: 28).
На передовых рубежах хореографического театра
Три балета Каретникова вписали яркую, хотя сейчас уже и полузабытую страницу в историю жанра.
«Ванина Ванини» и «Геологи» выдвинулись на передовые рубежи российского хореографического театра начала 60-х годов. Они дали удачный, стремительный старт артистической карьере талантливых балетмейстеров Н. Касаткиной и В. Василёва. Каретников в числе первых из поколения шестидесятников пришел в балет. Лидеры советского музыкального авангарда встретились с этим жанром намного позднее («Лабиринты» А. Шнитке — 1971, «Исповедь» Э. Денисова — 1984). Таким образом, в начале 60-х годов Каретников оказался автором самой «левой» балетной музыки в стране (из новой музыки XX века Большой театр обращался в те годы к «Прекрасному мандарину» Бартока, но спектакль под названием «Ночной город» вышел, по общему мнению, неудачным).
Спектакли точно обозначили новые подходы к героической теме. Героика сходила с котурнов, избавлялась от лозунговой прямолинейности, наполнялась психологической глубиной. На балетной сцене появились персонажи, идущие к подвигу, а не герои по призванию. «Подвиг, — отмечал Б. Львов-Анохин в рецензии на оба одноактных балета Каретникова, — это вершина человеческого духа, которую человек достигает не так просто, на пути к которой он может и споткнуться, и упасть, и ослабеть, и потерпеть неудачу» (118). Героическая тема обрела личностное звучание, вне привычной для предшествующего периода связки «коллективный герой — образ народа», как то было, к примеру, в «Спартаке» Хачатуряна. Первые балеты Каретникова проложили путь дальнейшим поискам в этом направлении — «Икару» С. Слонимского (1971) и др. Героика эмансипировалась от исторической конкретики, где была накрепко спаяна с революционной или военной эпохами, получила отвечающую природе жанра философски-обобщающую трактовку.
«Крошка Цахес» обещал стать сатирическим балетом. Сатира — вообще нечастый гость на хореографической сцене. Партитура Каретникова и первоначальный замысел постановщиков позволяли ожидать, что эта линия, идущая от «Петрушки», ранних балетов Шостаковича, «Подпоручика Киже» на музыку Прокофьева, получит достойное продолжение. Этого не случилось, но не по вине композитора. «Крошка Цахес» все еще ждет адекватного воплощения на отечественных подмостках.
Три балетных спектакля Каретникова, Касаткиной и Василёва — три разных композиционных решения. «Ванина Ванини» строилась на последовании относительно развитых сцен, «Геологи» представляли собой поэмную форму, в «Крошке Цахесе» возрождался номерной принцип, осуществленный в традициях Стравинского и Прокофьева (и качественно отличающийся от его использования в классико-романтическом балете). Но одно оставалось для авторов незыблемым: спектакли создавались на основе серьезной музыки, пронизанной духом зрелищных искусств (театра, кинематографа) и одновременно — духом симфонизма.
Многие тенденции времени проявились в балетах Каретникова раньше, чем у других композиторов, или были вполне оригинальными на фоне музыкально-хореографических исканий тех лет. В широкую панораму развития и обновления российского балета 60-х годов — обновления идейно-художественного, музыкально-стилевого, хорео-лексического — они внесли важные штрихи и оттенки. Произведения новаторские, они в чем-то, вероятно, опередили время.
ГЛАВА 5. ПОЛЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ИСКАНИЙ. КАМЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ
Бестекстовые, непрограммные жанры в наследии Каретникова
Даже после того, как в творческий портфель Каретникова легли две объемистые оперные партитуры, и сам композитор, и почти все, писавшие о нем, называли симфонические и камерные сочинения его «главным делом». А ведь к двум операм необходимо еще прибавить три балета, десятки кинофильмов и драматических спектаклей. Парадокс? Вовсе нет. В тех жанрах, где музыка уступает часть своих полномочий другим искусствам, композитор сообразует собственное высказывание с их требованиями, будь то сюжетная канва, образы персонажей, возникающие по ходу действия фабульные или психологические ситуации. В музыке чистой, абсолютной, о которой недаром говорят как о воплощении самой эстетической специфики музыкального искусства, художник свободен от подобных обязательств.
Творец музыки синтетических жанров выступает в «театре одного актера»: оставаясь самим собой, он перевоплощается в советского геолога, апостола-первохристианина, фламандскую девушку XVI века или сказочного героя. Инструментальная музыка, беспрограммная и неприкладная, способна стать духовным автопортретом своего создателя. Симфония и квартет нередко воспринимаются как высказывания «от первого лица». Вспомним, что Чайковский видел в симфонии «самую лирическую из музыкальных форм», музыкальную исповедь души (238: 54), а И. Соллертинский сравнивал ее с дневником (196: 305).
Выше мы назвали творчество Каретникова автопортретом на фоне времени. Слова эти в наибольшей мере и безоговорочно относятся к сфере чистого инструментализма.
Весьма огрубленно разделяя сочинительство на две сферы, «для себя» и «для хлеба насущного» (и подразумевая под первой инструментальные жанры, а под второй — киномузыку), Каретников объясняет: «Когда я пишу «для себя», то музыка сама себя строит, она живет в рамках своей собственной философии» (194: 7). Иначе говоря, эта область творчества привлекает Каретникова тем, что музыка существует здесь, подчиняясь своим внутренним законам. И воле автора.
Именно из такой музыки исходит (и на нее нацелено) каретниковское определение «венского метода» (см. с. 39), которое в его представлении относится к композиции вообще и сводится к основополагающим категориям искусства звукообразов: тематизм, развитие, единство формы. Опираясь на классические принципы музыкальной формы и драматургии, Каретников активно ищет на путях их обновления. Одновременно его влекут поиски в области собственно звуковой материи. Нет, он не принадлежит к числу композиторов-колористов, если под колоритом понимать исключительно пышную красочность, пряную экзотичность звуковых решений.
Говоря о том, как сочиняется бестекстовое непрограммное произведение, Каретников подчеркивает: «Главное — найти инструментальную идею индивидуального свойства: тембр, фактуру, приемы игры. Дальше она поведет себя сама. И аналитику нужно потом смотреть, как развивается идея. Чисто формальный анализ будет достаточен, потому что я никогда за этим ничего не вижу». Приняв первую половину высказывания к сведению, со второй хочется поспорить. Композиторы, в XX веке особенно, с неохотой говорят об образнопоэтическом содержании своих творений и с куда большей легкостью — о технической стороне. Каретников — не исключение. Но, во-первых, Каретникову возражает сам Каретников, не раз говоривший, что процесс сочинения музыки — это умение «слушать внутренние импульсы», быть готовым к встрече, когда «приходит состояние». Во-вторых, оппонентом композитора по этому вопросу выступает его музыка. Когда слушаешь его Квартет, фортепианные пьесы, уже «доаналитическое» восприятие фиксирует качество, органически присущее мышлению композитора: рельефность образов, острота конфликта, целенаправленность интонационной фабулы, словом — концепционностъ, подразумевающую глубину обобщения жизненных реалий. Музыка Каретникова часто буквально напрашивается на образно-художественную интерпретацию, и мы не будем противиться искушению, хотя и отдаем себе отчет в том, что предлагаемые прочтения — далеко не единственно возможные. В отдельных случаях сочинение провоцирует словесные толкования и одновременно ускользает от них. Например, тогда, когда в музыке, с одной стороны, немало элементов, по типу выразительности вызывающих аналогии с оперно-балетными партитурами, а с другой — узнаваемая семантика тех или иных интонационных образований оказывается все же не столь конкретной, как в сценических произведениях.
Для одного или немногих инструментов
Даже беглого взгляда на хронограф творчества Каретникова достаточно, чтобы вырисовалось место, занимаемое в нем камерной инструментальной музыкой. Балет «Ванина Ванини» окружен Lento-вариациями и Скрипичной сонатой. Вслед за Четвертой симфонией появился Квартет, за Камерной симфонией — Маленькая ночная серенада. Весь список сочинений, законченных в 70-е годы, исчерпывается двумя фортепианными опусами. Спустя некоторое время после завершения «Тиля» и «Мистерии» возник Квинтет.
Итак, восемь сочинений, созданных на протяжении трех десятилетий:
1960 — Lento-вариации для фортепиано (в дальнейшем — Вариации)
1961 — Соната для скрипки и фортепиано (Соната)
1963 — Струнный квартет (Квартет)
1964 — Kleinenachtmusik (Серенада)
1970 — Большая концертная пьеса для фортепиано (Пьеса)
1978 — Две пьесы для фортепиано (Две пьесы)
1985 — «Из Шолом-Алейхема». Сюита для камерного ансамбля
1990 - Фортепианный квинтет (Квинтет)
Ровно половина сочинений датирована 60-ми годами, остальные появились в течение последующих двадцати лет. Падение темпа работы и продуктивности в этой сфере понятно: львиную долю времени и сил поглощала оперная дилогия. Весь список довольно краток.
Разумеется, почерк автора ощутим в любом его сочинении, камерные опусы имеют много общего как друг с другом, так и с работами в иных жанрах. Узнаются уже слышанные в другом месте детали, излюбленные у Каретникова драматургические ходы. В ряде случаев образуются «пары» сочинений. Но среди камерных произведений композитора нет и двух работ, совпадающих хотя бы по составу, как нет и работ случайных, проходных. Каждое по-своему значительно. Мы рассмотрим их все, разве что с разной степенью подробности. Для удобства анализируемые произведения целесообразно разбить на группы. Деление на периоды творчества в данном случае мало пригодно. В этой сфере не складываются такие группы, по которым естественно разошлись симфонии: Первая и Вторая — ранние, Третья и Четвертая — зрелые. После 1960 года стиль Каретникова существенно не менялся. Кстати, ни в одном жанре зрелый Каретников не работал так долго. Поэтому в хронологическом плане глава о камерной музыке будет самой «длинной», что дает повод вновь обращаться к фактам биографии композитора, к событиям и тенденциям общественной и музыкальной жизни.
В качестве критерия для типологического разграничения изберем исполнительский состав изучаемых сочинений и разделим их на сольные (фортепианные) и ансамблевые, а последние — на созданные для нормативных и ненормативных составов. Таким образом, в первую группу войдут Вариации, Пьеса и Две пьесы, во вторую — Соната, Квартет и Квинтет, в третью — Серенада и Сюита.
Жанровая панорама отечественной музыки, того ее этапа, который начался во второй половине 50-х годов, хорошо изучена. О причинах и обстоятельствах подъема инструментальных жанров говорилось выше и в нашей работе (во второй главе). Сказанное в большой мере распространяется на область музыки камерной. Здесь, как всегда в подобных случаях, действовал целый комплекс стимулов, из которых выделим один: беспрецедентное по скорости и глубине технико-стилевое обновление. Оно требовало — или, лучше сказать, — нуждалось в опытном полигоне для проведения испытаний новейших приемов и средств.
Камерную музыку принято называть полем стилистических исканий, сферой эксперимента, творческой лабораторией. Это верно лишь отчасти — в том смысле, что у камерного сочинения, при прочих равных условиях, короче путь к публичному исполнению, что в звучании одного или немногих инструментов (когда «мало нот») композитору легче проконтролировать творческий результат и при необходимости внести в него коррективы. Если же под лабораторным экспериментом понимать действия наугад по принципу «интересно, что получится, если...», некие манипуляции, последствия которых сам экспериментатор не берется предугадать, то таких экспериментов не бывает у подлинных мастеров искусства, всегда знающих, чего они добиваются. Даже если творческим экспериментом именовать нечто сверхнепривычное, вызывающе нетрадиционное, будоражащее воображение, призванное во что бы то ни стало удивить, а в музыке последнее чаще и прежде всего связано с необычностью внешней звуковой оболочки, то и таких экспериментов в сфере академических жанров Каретников практически не предпринимал. (В 60-е годы по разряду эксперимента иные критики числили чуть ли не всю новую музыку. Позднее, когда новое перестало эпатировать, а композиторский азарт обновленчества в целом поутих, удивить кого-либо и чем-либо стало невозможно.)
Словом, в стойком интересе к произведениям для одного или нескольких исполнителей Каретников един со многими и многими своими коллегами, представителями разных поколений, благодаря усилиям которых жанр этот, долгое время пребывавший на далекой периферии общественного внимания, стал примерно с начала 60-х годов приобретать положение, достойное его возможностей. Об авторитете жанра наглядно свидетельствуют, в частности, восемь квартетов Шостаковича, от Восьмого до Пятнадцатого, созданных между 1960 и 1974 годами.
Но по отношению к тенденциям времени Каретников, как всякий крупный художник, столь же восприимчив, сколь и разборчив.
У А. Волконского период классических жанров и составов — середина 50-х годов: написанные еще на студенческой скамье Фортепианный квинтет, Струнный квартет, Соната для альта и фортепиано. Но это еще предавангардные годы. С обращением к додекафонии он утрачивает к ним интерес: начиная с «Сюиты зеркал» в камерные ансамбли нередко вводится вокальный голос, чисто инструментальные произведения тяготеют к тембровым сочетаниям барочного типа, к которым иногда присоединяются современные ударные или восточные инструменты. Думается, из подобных тембровых предпочтений и родилась идея «Мадригала»; осуществившись же, она оказывала обратное воздействие на творчество руководителя коллектива. Примечательно, что и ранние ансамблевые сочинения А. Волконского, будучи классическими по жанровому облику и составу исполнителей, демонстрируют не классическую, а либо необарочную модель цикла (Квинтет), либо сугубо индивидуальную циклическую форму (Квартет).
60-е годы в творчестве Э. Денисова верно называют десятилетием камерной музыки. Обращается он к ней и позднее, но, как отмечают биографы, приверженность к нормативным составам совершенно не характерна для его камерного стиля (224: 109 —110). Образцы такого рода у него встречаются, но среди обилия камерных сочинений они остаются в явном меньшинстве.
Не менее индивидуализировано подходит к выбору инструментов А. Шнитке. Рядом с двумя скрипичными сонатами, тремя струнными квартетами и Фортепианным квинтетом у него стоят численно преобладающие другие произведения, характерный пример которых — Гимны для разных атипических составов.
Единичны образцы классических жанров-составов у С. Губайдулиной. Одно из самых ярких ее ранних сочинений — Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных.
С. Слонимский, обратившись в 60-е годы к струнному квартету, трактует его отнюдь не по классическим заветам — в духе «инструментального театра» (исполнители перемещаются по сцене), а в сфере интонирования опирается на нетемперированный строй.
Вероятно, в выборе жанров камерно-инструментальной музыки Каретников шел за Шенбергом и Веберном, точнее, за той частью их наследия, в которой заметнее всего обнаружились классицистские веяния. Линия фортепианных произведений восходит, конечно, к веберновским Вариациям соч. 27, шенберговским циклам соч. И, 19, 23. Квартет создавался, как можно предположить, под влиянием Шенберга, автора четырех сочинений этого жанра, и в большей мере — Веберна: именно в 1963 году, которым датирован Квартет Каретникова, он вместе с А. Габричевским и Г. Нейгаузом ежедневно слушал записи Квартета и Пяти пьес для квартета Веберна. Симптоматично, однако, что ориентиром ему послужил Квартет, а не Пять пьес, чья форма оказалась привлекательной для Р. Леденева (Шесть пьес для квартета и арфы, 1966) и Г. Фрида (Пять пьес для квартета, 1972).
Произведения для фортепиано
Lento-вариации — хронологически первое в основном корпусе камерных сочинений Каретникова. Именно они явили сформировавшийся в основных чертах новый стиль композитора. Музыкальная ткань, по большей части, разрежена и аскетична, хотя встречаются моменты насыщенные, полнозвучные. Ее недостаточно слушать, она требует вслушивания, причащения к таинству звука, его сокровенному смыслу. Да не покажется сказанное натяжкой, но музыка эта — пусть далекий, однако прямой потомок «Трех богатырей», детского опыта Коли Каретникова. Зерна, посеянные преклонением перед Веберном, проросли на почве, готовой к тому, чтобы их принять.
Здесь действительно много от Веберна, — начиная с названия «Вариации», предпосланного произведению в сонатной форме. Напомним, что сыгравшие в «новообращении» Каретникова решающую роль Вариации соч. 27 Веберна представляют собой по форме, скорее, небольшой сонатный цикл (58: 169). Но главное — особое ощущение времени и пространства музыки, а именно их предельное сжатие. «К сжатию во времени, — указывается в монографии о Веберне, — могут быть сведены многие, если не все, основные стилистические изменения в элементах музыки. ...Можно сказать, что Веберн сдвинул на одно деление все временные аспекты музыки — от пропорций между частями формы и до функции тембра» (229: 165 —166). В структуре целого звук стал играть роль, посильную ранее мотиву, фразе, даже теме.
Насыщенность звука смыслом проявляется уже в том, что чуть ли не каждый артикулируется по-разному. Так, первые такты (начало главной партии) содержит не менее десяти различных комбинаций длительности и исполнительского штриха (пример 25). Тонко детализирована и громкостная динамика, вплоть до неисполнимого на рояле (но долженствующего подразумеваться) крещендо на выдержанном тоне. Каждый тон «что-то значит», при этом они соединяются, вытягиваются в довольно продолжительную линию, что, кстати, нечасто встречается и слабее выявлено у Веберна. И другое отличие: в подобных темах Каретникова, медитативных, скрыто напряженных (они появились у него до увлечения додекафонией!) всегда ощутима немалая физическая сила, хочется даже сказать — мужское начало.
Побочная партия переносит слушателя в иную образную сферу — волшебной зачарованности, неземной хрупкости, парения в невесомости (пример 26). Само собой вспоминается об интересе молодого Каретникова к астрономии. И «на земле», и «в небе» — свои коллизии, и тут, и там сосуществуют противоположности. В главной партии это тревожные триольные фигурки и аккордовые «стоп-кадры», в побочной — внезапное «возбуждение материи».
Нотные примеры позволяют понять, как организует Каретников музыкальную ткань в произведении, по его словам, «почти додекафонном». Главная партия начинается с шести неповторяющихся звуков и продолжается более спонтанным мелодическим развертыванием. В побочной возникают как бы случайные сочетания; впрочем, в структуре аккордов явно доминируют собранные в вертикаль «веберн-группы» (секунда плюс терция в тех или иных комбинациях), которым принадлежит главенствующая роль в первой теме. Заключительная партия соединяет «звездные аккорды» побочной партии в контрапункте с инверсией главной, лишний раз удостоверяя их структурное единство.
Разработка — зона высвобождения энергии, мощного выброса драматизма, нарастание которого приводит к ослепительной вспышке (т. 73). Развитие всей формы устремлено к репризе. Она сжата и носит синтезирующий характер, исходные музыкальные идеи качественно преображены. Медитативно-монологические мотивы главной партии вознесены ввысь, аккордовые мерцания побочной — напротив, словно спустились на грешную землю и слились в общем звучании. Дилемма «или — или» разрешилась мудрым, примиряющим «и — и»: земное и небесное не так далеки друг от друга, вселенная неделима, человеком и звездой правят одни и те же законы.
Вскоре после написания Вариаций Каретников познакомился с М. Юдиной. В то время пианистка была одержима новой музыкой, разучила и записала на радио произведения Стравинского, Бартока, Кшенека, Хиндемита. Тогда же в ее репертуар вошли сочинения молодых соотечественников — авангардистов А. Пярта и Э. Денисова. Играла она и Вариации Каретникова. Позднее их исполнял — с очень точным ощущением стилистики — А. Ведерников.
Два фортепианных опуса 1970-х годов — два полюса в использовании инструмента, на одном из которых — виртуозный блеск, а на другом — сугубая камерность высказывания. Как говорилось, оба сочинения родились в период работы над операми. По-видимому, она требовала передышек, переключения мысли. В отличие, к примеру,от А. Шнитке или С. Губайдулиной, Каретников писал, не адресуясь ни к кому конкретно из концертирующих солистов. И был вознагражден в 1984 году, когда оба опуса блистательно исполнил В. Фельцман.
Уже само название Большой концертной пьесы5 указывает на ее виртуозный склад. От исполнителя она требует высочайшего класса технического мастерства и умения построить довольно масштабную, отнюдь не «веберновскую» форму, воссоздать ее целенаправленную драматургичность. Главная находка («инструментальная идея») композитора заключена уже в начальном семитакте рефрена �[Рондо-сонатная форма типа А —В —А —R —А —В —С (АВ). Грани формы подчеркнуты яркими фактурными и темповыми контрастами и не требуют специальных пояснений.]: контраст негромкой и далее естественно затухающей звучности в соответствующем фортепианном туше и резкого аккордового толчка — по ремарке автора, «удар сверху напряженными пальцами» (пример 27). Первый элемент представляет собой последовательное, тон за тоном, собирание 12-звучного комплекса. Здесь пианисту следует позаботиться о том, чтобы к четвертому такту не «пропал» ни один звук. Второй элемент — тот же комплекс, взятый в одновременности, что тоже непросто исполнительски: двенадцать звуков надо взять — сверху! — десятью пальцами.
Некоторые из возможных образных аналогий: разрастание «точки» в «объем», подготовка — бросок, интуитивный поиск - озарение. За приведенным фрагментом, первой волной развертывания, следуют еще три, дающие все новые модификации обоих элементов, перераспределяющие их соотношения. Меняются масштабные пропорции — в тактах: 4 + 3, 4 + 2, 5,5 + 0,5, 4 + 3. В третьем предложении аккорд берется дважды в обратно-пунктированном ритме, что дробит и ослабляет удар, и не отделяется синтаксически от двузвучных мотивов, принадлежащих первому элементу. Само это построение — дважды взятый аккорд и рождающийся из него краткий мотив — проходит три раза, в разных звуковых комбинациях. Третье предложение приобретает, таким образом, развивающий характер, а четвертое — репризный. От предложения к предложению меняется динамика, регистр, модусы серии. Жестко конструктивный материал отливается в живую, «дышащую» форму. Точно так же драматургические процессы не сбавят активности во втором, третьем рефренах и коде ~ музыка Каретникова, как мы уже убедились, не терпит буквальных повторений.
Эпизод (побочная партия) основан на типе движения, который был опробован композитором ранее в Четвертой симфонии и Концерте для духовых инструментов и который ассоциируется со стремительным танцем тончайших паутинок. Здесь его смысл можно расшифровать примерно так: то, что медленно и трудно созидалось, может легко разлететься под слабым дуновением ветра. Сквозь эти легчайшие дуновения, однако, слышатся «стоны», танец несколько раз прерывается. Все порождает тревожные ожидания, и все-таки перелом — вторжение резких 12-звучных аккордов — наступает неожиданно. Перед нами типичный для сонатной формы сдвиг в развитии побочной партии, но с одним исключительно важным отличием: в образцах классико-романтического типа тематизм побочной партии после перелома восстанавливается, у Каретникова же вслед за вторжением наступает следующий раздел формы.
В разработке движение с чертами танцевальности возобновляется, темп возрастает, и вот уже оно сливается в сплошной вихрь, превращаясь в своего рода «мефисто-вальс». Когда разгул дьявольского хаоса достигает апогея, в спор с ним вступает позитивное, дисциплинирующее начало — волевая, полная силы и бесстрашия тема, провозглашаемая октавными унисонами басов в мощном ритмическом увеличении. Реприза не приносит ни победы какому-либо из образно-смысловых начал, ни примирения, сохраняя их динамическое равновесие.
Две пьесы — своеобразный диптих, части которого ярко контрастны по характеру, но объединены общностью звуковысотного материала, то есть основаны на одной серии. В аннотации к авторскому концерту 1985 года сочинение характеризовалось как «контрастный цикл, в котором вступительная первая пьеса предваряет основную вторую, насыщенную и напряженную до предела. Ее необычный образ можно уподобить клокочущему магмой вулкану или даже втягивающей в себя космические излучения “черной дыре”».
Вторая пьеса и впрямь весьма впечатляюща. Каретников построил ее на «запрещенном», по его выражению, приеме — тремоло, довольно редко встречающемся в оригинальной фортепианной литературе и используемом преимущественно в переложениях как не вполне равноценная замена тремоло или педали в оркестре6. Тремоляция, медленно переливаясь тяжелыми красками в нижней половине клавиатуры, вызывает ассоциации фантастические и мрачные. Например, с Солярисом, каким его увидел А. Тарковский, — мыслящим океаном, притягательным для человека и равнодушным к нему (пример 28).
Но тогда и первая пьеса оказывается не просто предварением главного, а его неотъемлемой составной частью. Ибо «главное» — в их сопоставлении, в их удаленности, замешанной на единстве. Продолжая образную аналогию, первую пьесу хочется сравнить со сценой «Крис прощается с Землей» из того же фильма. Молодой ученый жадно впитывает голоса природы: пение птиц, журчание ручья, шелест листвы. Его переполняет нежность, но мыслями он уже на станции... Как и в некоторых других сочинениях, Каретников сопрягает множество различных микроэлементов: мгновенно проносящаяся, словно неуловимое видение, фигурка тридцать вторых, ее звуковой след (те же звуки, собранные в вертикаль), болезненный укол, краткие, но безусловно кантиленные по природе мотивы, настойчивый зов репетиций (пример 29).
Исполнявший роль Криса Д. Банионис дал своим воспоминаниям, написанным для сборника о режиссере, точное название: «Приобщение к неведомому». Фильм строился, размышляет он, как «стыковка крайностей: взгляд в человеческий мозг... и взгляд в космос». Сам же Солярис для Тарковского — «всемирный ум», «непознанная, стоящая над человеком сила». Так и во второй пьесе цикла Каретникова ощущается нечто более значительное, чем изобразительность, пусть яркая и необычная. «Возможно, ты, — развивает мысль артист, — будучи человеком, отнюдь не являешься божеством, возможно, что-то или кто-то... экспериментирует над тобой, играет с тобой» (11: 134-137).
Пьеса строится как волна нарастания и спада громкости, плотности звучания, волна регистрово-колористическая. Тремолируют два звука, потом четыре, число их постепенно возрастает до десяти. Ширится диапазон, державшаяся некоторое время на отметке пианиссимо динамика взмывает к предельной громкости. Температура кипения достигает критического рубежа, что неминуемо ведет к взрыву: оглушительный грохот кластера на самых низких клавишах и, как ответ на него, — град отрывистых мелких длительностей в приберегавшемся до той поры высоком регистре. Вновь дадим слово Банионису:«Человек рвется к нему, а Солярису глубоко безразлично, существует ли такое, как человек, или нет. Лишь после многочисленных попыток человека пробиться к нему Солярис наконец среагировал: что же, испытаем тебя». Клокочущая волна откатывается назад, в глубину и тишину, и замирает в ожидании...
Две пьесы — образчик лаконичного высказывания, они уместились на трех страницах нотного текста. Фактура тут гораздо скромнее, чем в Пьесе, — при выпуклости образных контрастов и явственной драматургичности как внутри каждой пьесы, так и цикла в целом. Веберновские по масштабам, Две пьесы (особенно вторая) совершенно самостоятельны по образности, по философской идее. По-своему организована и музыкальная ткань. Даже в первой пьесе, где расчлененность звуковой материи, казалось бы, очевидна, Каретников связывает «точки» в линии, благодаря использованию наложений, протянутых «педальных» тонов. Только в таких условиях возможно поступательное драматургическое развитие, являющееся неотъемлемой чертой стиля Каретникова.
Ансамбли нормативного состава
Соната для скрипки и фортепиано по типу цикла — двухчастного с кодой, выполняющей роль общей репризы формы, — предвосхищает Камерную симфонию. По некоторым приемам письма — тесно связана с Вариациями. По драматургии и содержательной направленности — вполне индивидуальна. «Инструментальной идеей» сонаты стала, надо полагать, принципиальная неслиянность двух участников ансамбля. Именно так, как разные индивидуальности, слышит Каретников тембры рояля и любого из струнных инструментов. Отсюда ярко диалогическая трактовка дуэта — даже при том, что тематический материал един, и «персонажи» постоянно им обмениваются. Складывается впечатление, будто в одни и те же «слова» они вкладывают неодинаковый смысл.
Первая часть, написанная в сонатной, но с преобладанием медленного темпа, форме, содержит несколько достаточно контрастных образно-интонационных элементов. Главная оппозиция, как отмечалось в краткой характеристике сонаты, данной в «Истории музыки народов СССР» состоит в чередовании плавных линий и импульсивных вспышек (202: 258). Веду-щий контраст части отразился в двух ее кульминациях: «громкой», драматически-действенной, где звучание достигает ор-кестрального размаха (т. 28), и «тихой», где бесплотные флажолеты и наигрыш рояля в высоком регистре уподобляются дуэту флейты и челесты (т. 31 —34). Реприза вносит в исходные темы малозаметные, на первый взгляд, но весьма значимые изменения.
Характер быстрой второй части не поддается однозначному определению. Музыка вобрала в себя черты разных жанров — скерцо, марша, танца (возможно, с легким испанским «акцентом»). То же можно сказать о ее образном строе. Здесь чувствуется веселье, ирония и беспечность, но есть и скрытый второй план: веселье как будто балансирует на грани истерики или катастрофы. В действительности ничего «этакого» не случится, но ощущение такое, что срыв может произойти в любое мгновение. Движение время от времени ненадолго (на один такт) прерывается замедленным скандированием одного звука.
Кода — концентрат смысла, ключ к концепции произведения. Она воспроизводит драматургически опорные точки первой части: из заключения экспозиции и всей формы, из флажолетного эпизода (то есть конца разработки). Воспоминания, раздумья, ставящие героя сонаты перед решающим выбором, сметаются неожиданным возвратом основного скерцозного материала. Возникает эффект, сравнимый со знаменитой заключительной фразой гоголевских «Записок сумасшедшего»: «А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?» Нечто подобное мог бы «выкинуть» Тиль Уленшпигель, способный комиковать с наброшенной на шею веревкой. Короткое (всего шесть звуков!) и тихое завершение сонаты напоминает и некоторые броские, «ударные» концовки новелл Каретникова. В контексте же сочинения оно истолковывается как преодоление внутренних колебаний перед лицом неизвестности, как сказанное себе «Будь, что будет!»
По совпадению, которое вряд ли можно счесть случайным, среди ранних додекафонных сочинений А. Шнитке и Э. Денисова тоже значатся скрипичные сонаты, написанные в одном и том же 1963 году. Выбор исполнительского состава понятен: минимальное число участников дает возможность легко охватить слухом звуковое поле, в то же время тембры достаточно разнородны, чтобы опробовать их различные сочетания, используя не самые ходовые приемы игры. Следует признать, что художественный результат у товарищей Каретникова оказался менее убедительным. Как отмечает исследователь, у Э. Денисова старательное выполнение структурно-технологических задач в значительной степени затмило содержательную сторону музыки, у А. Шнитке недостает концепционно оправданного контраста частей (49: 59, 60). По отношению к сонате Каретникова подобные упреки были бы несправедливыми: образность, драматургия, художественная концепция здесь очевидны.
Струнный квартет — один из лучших камерно-инструментальных опусов Каретникова 60-х годов, отмеченный глубиной творческой мысли и виртуозностью в решении композиционно-технических проблем.
«Инструментальная идея» квартета служит воплощению трагического замысла произведения и состоит в последовательном, от части к части, сужении приемов игры на струнных, в «развитии наоборот» — от многообразия к единообразию. Драматургический процесс имеет аналогичную направленность: созданный поначалу «образ мира» постепенно разрушается. Такова и судьба тематизма, в своем «обратном развитии» приходящего, по слову композитора, к «эсхатологическому» окончанию.
В чем-то близкие идеи осуществлены в первых квартетах А. Шнитке (1966) и С. Губайдулиной (1971). А. Шнитке говорит об «идее нарастающей деструкции: от структурной и фактурной стройности к тщательно рассчитанному хаосу» (259: 48). По авторскому пояснению С. Губайдулиной, идея ее сочинения — в постепенной дезинтеграции, отчуждении инструментов друг от друга (195: 199).
Первая часть7 — Moderate energico — вся на крутых перепадах, частых и внезапных, словно по команде «все вдруг», сменах средств выразительности. Как почти всегда у Каретникова в зоне главной партии, образно-интонационные элементы множественны и предельно лаконичны. Начальный четырехтакт, который мы приводим, даст о них, тем более обо всей гамме противоречивых состояний, далеко не полное представление (пример 30). Но он несет в себе эмбрион философской идеи сочинения, в нем «закодирован» дальнейший ход событий. Обратим внимание лишь на три элемента: напористые, императивные мотивы, малосекундовый стон, сухой и резкий аккорд col legno. Они укладываются в триаду «тезис — антитезис — синтез». Кажется, наибольшее число событий выпадает на долю лирического «антитезиса». Во втором проведении главной партии он вообще отброшен, как бы сметен развитием. В третьем — сжат в вертикаль и дан в «обращенной» динамике р < f, чтобы тут же имитационно расслоиться в новых ритмических модификациях. В последних, драматургически вершинных тактах главной партии из полутонового мотива вырастает целый патетический монолог виолончели, зато вовсе исчезает наступательная активность «тезиса». Аккорд («синтез»), который своей безжизненностью гасил и примирял два контрастных начала, выступает далее в качестве «тезиса» новой волны развития (но с заменой приема на sul ponticello).
Побочная партия отличается большей цельностью, стушеванностью, особенно поначалу, контрастов. Но впечатления остановки развития не возникает: вводятся новые приемы звукоизвлечения, и, что важнее, течение мысли дважды пресекается, будто каменистыми порогами, вторжением элементов главной партии. Второй из «сдвигов» — тремолирующий аккорд фортиссимо — воспринимается как знак некой катастрофы.
В разработке, наряду с трансформацией экспозиционного материала, появляются новые тематические образования и новая тембровая краска — рикошет-тремоло. Как всегда, существенные изменения внесены в репризу. В наибольшей мере они затрагивают главную партию. Она сильно сокращена и отличается явным смягчением «тезиса», утрачивающего здесь свой напор и приближенного по характеру к ламентозной сфере. В заключительных тактах в нем слышатся интонации жалобы, даже русского причитания.
Авторское обозначение второй части8 — Vivo scherzando molto grazioso, но музыка воспринимается отнюдь не как легкое грациозное скерцо. В ней нет ни истинной легкости, ни подлинной живости, ни настоящего веселья. Многократно повторяющаяся ритмическая фигура  позволяет считать далеким жанровым прообразом лендлер, напоминая тем самым скерцозный эпизод из Скрипичного концерта Берга. В сравнении с первой частью, движение тут более равномерное, динамический уровень ниже. Но постепенно начинают проступать и черты сходства — в принципах разрежения и сгущения ткани, в отдельных интонациях, в контурах фактурного рисунка. Все то же и все другое! Происходящее словно отодвинулось за грань реальности и отражается теперь в кривом зеркале. Будто пережитая однажды драма во второй раз разыгрывается комедиантами. Будто реалистический сюжет пересказан в иной, абсурдистской эстетике. В коде музыкальная ткань рефрена распадается на микрочастицы. Неподдельный, хотя не слишком очевидный драматизм ненадолго проглядывает из-под маски.
позволяет считать далеким жанровым прообразом лендлер, напоминая тем самым скерцозный эпизод из Скрипичного концерта Берга. В сравнении с первой частью, движение тут более равномерное, динамический уровень ниже. Но постепенно начинают проступать и черты сходства — в принципах разрежения и сгущения ткани, в отдельных интонациях, в контурах фактурного рисунка. Все то же и все другое! Происходящее словно отодвинулось за грань реальности и отражается теперь в кривом зеркале. Будто пережитая однажды драма во второй раз разыгрывается комедиантами. Будто реалистический сюжет пересказан в иной, абсурдистской эстетике. В коде музыкальная ткань рефрена распадается на микрочастицы. Неподдельный, хотя не слишком очевидный драматизм ненадолго проглядывает из-под маски.
Третья часть9 погружает слушателя в ароматную атмосферу тончайшей лирики, благоговейного созерцания красоты, но красоты не чувственной, а одухотворенной и, хочется сказать, мудрой. Краски приглушены (все инструменты играют с сурдинами), покой и умиротворение лишь на миг уступают место экспрессивным восклицаниям (ц. 36), но они звучат как изъявление восторга.
Финал10 Каретников считает центром тяжести цикла. Это трагическая развязка, предсказанная первыми двумя частями и отсроченная третьей. Намеченный в начальных построениях контраст отражает ведущую образную коллизию: жуткому, как голос загробного мира, хоралу в обесцвеченном, сдавленном звучании квартета non vibrato, отвечают двузвучные интонации отдельных инструментов росо vibrato. «Антижизнь» постепенно поглощает островки едва теплящейся «жизни». Между партиями ансамбля утрачивается «согласованность действий», он перестает существовать как единое целое. Во втором эпизоде мотивы интонируются уже без вибрации, притом в хриплом звучании sul ponticello, и вскоре от каждого мотива остается лишь по одному тону, на второй уже «нет сил». Время останавливается, пульс не прощупывается, слушателю передается почти физическое ощущение удушья...
Глядя еще раз на дату окончания Квартета, сопоставляя его образно-драматургическое решение с теми событиями, которые оставили наиболее глубокий след в памяти композитора (нет сомнения, что именно такие события запечатлены в новеллах), с другими свидетельствами времени, невольно приходишь к мысли, что идейно-художественная концепция сочинения допускает и более конкретную интерпретацию. Две начальные части представляются двойным «портретом» эпохи «оттепели». Многообразие — один из символов той поры, с ее драматизмом и непоследовательностью, борением противоположных устремлений. Таково первое Moderate. Скерцо — трагикомическая изнанка происходящего, намек на то, какими гримасами могут обернуться «благие намерения» при их неумелом осуществлении. Медленная часть воспринимается как обращение к тем сторонам жизни, которые не поддаются опошлению. Природа? Любовь? Красивые люди, красивые и внутренней, духовной красотой, хранители русской культуры, за радость общения с которыми Каретников не уставал благодарить судьбу, в самом факте существования которых он черпал нравственные силы? Весьма вероятно. Финал Квартета, где слышатся хрипы задушенных, звучит как мрачный социальный прогноз, вскоре подтвердившийся. Образ захлопнутых форточек (новелла «Манеж»), перекрытого воздуха, времени, наступающего на горло, можно встретить у многих авторов, вспоминающих и анализирующих вторую половину 60-х годов. Знаки отката, начавшегося после 1964 года, не заставили себя долго ждать: судебные процессы над И. Бродским, затем над А. Синявским и Ю. Даниэлем, приближение «юбилиады» 1967—1970 годов, давшей повод для проведения ресталинизации, наконец, чехословацкие события шестьдесят восьмого, после которых все стало окончательно ясно. Как сказал (в телевизионной передаче) один из видных шестидесятников, литературный критик Ю. Буртин, «наступила ситуация не просто кризисная, наступила смерть».
Квартет Каретникова удостоился чести получить относительно развернутую характеристику в главе о камерной инструментальной музыке соответствующего периода из «Истории музыки народов СССР». Некоторые из высказанных там суждений совпадают с нашими, иные вызывают возражения. Справедливо выделен финал как центральная и одновременно лучшая часть сочинения. Преувеличено влияние Шостаковича (его имя упомянуто в одном абзаце трижды): Квартет, на наш взгляд, создан в иной системе стилевых и драматургических координат. Недооценено значение первой части, которая произвела на автора «впечатление вступительной прелюдии». По нашему мнению, она полностью соответствует семантическому амплуа заглавной части цикла и воплощает драматически-действенную сторону концепции. Иначе истолковывается нами и образный смысл финала, отражающий, как сказано в цитируемом труде, «постепенное погружение в себя, в свои сокровенные думы, порой заслоняющие для человека окружающий его мир» (202: 259).
Фортепианному квинтету суждено было стать последним в ряду камерно-ансамблевых произведений композитора. Впрочем, к роду собственно камерной музыки его можно причислить с оговоркой. Фортепианный квинтет — самый «некамерный» из классических ансамблевых составов. По своим широким возможностям в плане фактурно-динамического пол-нозвучия он приближается к оркестровому звучанию, к концертно-симфоническому жанру. Значительно превосходит Квинтет другие камерные произведения Каретникова и по хронометражу — около 21 минуты (Соната — менее 7, Квартет — около 15; для сравнения: Четвертая симфония, самое масштабное инструментальное сочинение зрелого периода — 25). Однако лаконизм самой манеры высказывания в произведении сохранен.
Цикл трехчастен и строится по принципу «умеренно быстро ~ медленно — весьма быстро». Столько же частей было в Третьей симфонии, но их последовательность там иная. В Сонате, напомним, две части, в Квартете — четыре. Драматургия Квинтета остро коллизийна и целеустремлена. За исключением отдельных участков формы, почти каждое мгновение «что-то происходит». Музыкальная ткань насыщена образными контрастами не только по горизонтали, но и по вертикали. Велик соблазн описать партитуру детально, ничего не упуская, дабы проследить все перипетии музыкального действия. Ограничимся все же характеристикой сравнительно сжатой.
Первая часть, написанная в сонатной форме, открывается вступительным провозглашением энергичной, мужественной темы, отчасти напоминающей начало Четвертой симфонии. Это центральная музыкальная мысль произведения как в конструктивном (изложение 12-тонового ряда11), так и в образном отношении, несмотря на то, что в таком виде она не прозвучит больше ни разу (пример 31). Стальные унисоны ансамблевого тутти, ораторская, повелительная интонация, колоссальная сила устремления ввысь, — все говорит о том, что с первых тактов нам явлен герой. Герой и в более широком («лирический герой» произведения), и в более тесном смысле слова — героическая личность.
Главная партия снова состоит из множества микроэлементов, дифференцированных в артикуляционном, штриховом, динамическом, ритмическом отношении и, следовательно, различных жанрово-семантически: восклицания, ариозность, острые уколы. Немногим уступает ей в этом побочная: настойчиво-тревожное постукивание рояля, тускло отблескивающие металлом аккорды sul ponticello. И все же первая больше склоняется в сферу позитивной образности, вторая — негативной. Разработка, целиком выдержанная в триольном движении, что сообщает ей черты токкаты, тарантеллы, принципиально отличается от экспозиции образным единством, или, лучше сказать, образной деиндивидуализацией. Жестко механическое кружение, поначалу тихое, затем мощно крещендирующее, не столько устрашает (как у Шостаковича), сколько лишает воли, засасывает в свой бессмысленный бег по кругу.
Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?
.........................................
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...
Но в том-то и дело, что смысла нет...
Могучее усилие вырваться из плена этой серой, холодной круговерти знаменует новый поворот интонационной фабулы: на непрекращающемся триольном фоне (фортепиано, вторая скрипка, альт) несколько раз исступленно звучит начальная интонация темы вступления — стремительный восходящий бросок12. О том, что попытки эти в конечном итоге оказываются безуспешными, свидетельствует кода, для которой Каретников, согласно своему излюбленному драматургическому принципу, приберегает решающее событие. Здесь, композиционно обрамляя первую часть, звучат величественные унисоны — та же последовательность тонов, в том же ритмическом рисунке. Но все восходящие интервалы заменены на нисходящие. Усилию отвечает крушение, стремлению — низвержение.
Вторая часть (с нее началась работа над произведением) носит название «Ноктюрн». По авторскому комментарию, здесь передано ощущение ночной пустоты, «висящего» звука. Каретников использует фактурный прием, знакомый по Фортепианному квинтету Шостаковича, в связи с которым Прокофьев говорил о «секстетности звучания» (144: 71 —72): два голоса фортепиано широко разведены по крайним регистрам, а партии четырех струнных располагаются в очерченном диапазоне. У Каретникова секстет складывается как бы из трех дуэтов (пример 31). Вот еще один образец чистейшей лирики, музыки возвышенной и красивой, написанной в строго додекафонной манере. Выдержанная квинта у рояля, подкрепленная в последнем такте построения виолончелью и второй скрипкой, звучит подобием тонального устоя соль-бемоль; вполне тонально последование интервалов си, фа — до, ми. (В заключительных тактах Ноктюрна звучание рояля, акустически доминирующее над партиями струнных, обрисовывает контуры ля мажора.)
Эмоционально-образное содержание третьей части, в черновой рукописи именуемой Скерцо (сонатная форма), — торжество негативных сил. Основанием для такой интерпретации служат аналогии с балетом «Крошка Цахес» и «Мистерией»: мотивы в характере кадрили, которые у Каретникова почти всегда олицетворяют бездуховность и мещанское равнодушие (в Квинтете они приобретают еще и определенную напористость), и жесткие, синкопированные, но с маршевым «подтекстом» аккорды наподобие тех, что пронизывают сцену «Триумф Нерона», — символ грубой силы и пустого бахвальства. Из «Мистерии» пришел и символ смерти — ускоряющаяся репетиция многозвучного аккорда. Этому комплексу зла противостоят когда краткие, а когда и более протяженные монологические фразы разных инструментов, родственные тематизму Бальтазара и встречающиеся в других инструментальных сочинениях Каретникова. Драматургический итог финала и всего Квинтета — проведение основной кадрильной темы в фактурно-динамическом облике начальной темы сочинения. Она выступает с такой же силой и волевой собранностью, но качества эти — «украденные» у лирического героя и по-цахесовски присвоенные силами, враждебными художнику.
Поэтому Квинтет воспринимается как произведение трагическое. От двух других трагических вершин в творчестве Каретникова, Квартета и Концерта для духовых, Квинтет отличается действенной активностью финала, не иссякающей до последних тактов партитуры.
После исполнения Квинтета на «Московской осени» 1990 года М. Тараканов назвал его лучшим из камерных сочинений, созданных в России за последние годы (201: 118).
Ансамбли ненормативного состава
Kleinenachtmusik (второе название — Квартет для флейты, кларнета, скрипки и виолончели) — самое жизнерадостное произведение Каретникова, лишенное даже намека на драматическую конфликтность (см. с. 42). Сохраняя верность стилевой манере «Новой Вены», он создал музыку, восходящую к традициям Вены «старой».
Во времена Моцарта циклические ансамблевые пьесы такого рода именовали кассациями, дивертисментами, ноктюрнами. Они игрались на открытом воздухе, в исполнительском составе главенствовали духовые (в сочинении Каретникова виолончель может заменяться бас-кларнетом). Количество частей, их порядок и функции свободно варьировались, но, как правило, превышали «классическое» число четыре и допускали включение, наряду с частями сонатно-симфонического цикла, частей танцевальных, как бы взятых из сюиты. Цикл Каретникова четырехчастен. За исключением первой, Прелюдии, три остальные — Скерцо, Адажио и Финал — вполне соответствуют классическим композиционным нормам. Здесь словно реализована историческая перспектива, прочерченная Г. Абертом в книге о Моцарте: подобные пьесы «в большой мере содействовали дальнейшему прогрессу камерной музыки, в особенности — развитию струнного квартета». Такие «ночные музыки», замечает далее Г. Аберт, «являлись подлинной сокровищницей тончайших звуковых эффектов и тембровых сочетаний» (1: 186, 187).
Мысль эта представляется очень важной для понимания природы и эволюции камерных жанров: корни этого, ныне «трудного», «элитарного» искусства — в музыке быта (подробнее — 183: 146). В свое время квартет с трудом пробивал себе дорогу на концертную эстраду, считаясь музыкой сугубо домашней. Две эти стороны — «элитарности» и «домашности» — сосуществуют в нем изначально. Недаром в одной из статей Чайковского на одной и той же странице квартет именуется «великолепной отраслью музыкального искусства» и «скромным родом музыки» (236: 65). За два века в квартете необычайно развилась лишь одна из присущих ему черт — философическая углубленность, интеллектуализм, вытекающая отсюда детализация выразительных средств. Но ведь было и другое: задушевная доверительность высказывания, яркий мелодизм, сочная бытовая интонация, чуткая к звучащей среде времени (181: 13).
Каретников словно заставил два русла вновь слиться воедино. В известном смысле его Серенада — «свернутая» история жанра.
Для сравнения уместно вспомнить, что за год до нее появилась Серенада для пяти музыкантов А. Шнитке (кларнет, скрипка, контрабас, фортепиано, ударные). Ее состав дальше от старовенских «ночных музык» (рояль — инструмент не «уличный», а колокола — не «серенадный»), это произведение чисто филармонического рода. В нем использована серия и элементы додекафонного развития, но в целом Серенада А. Шнитке — опус полистилистический, с включением и смешением массово-бытовых жанров в их банальном обличье, а также отрывков из популярной классической музыки, как это будет вскоре в его Первой симфонии. Художественным результатом явилась блестящая пародия на старинную серенаду. Каретников же создал произведение, условно говоря, такое, какое мог бы написать современник Моцарта, доживи он до наших дней и овладей он додекафонией, — произведение юмористическое, но отнюдь не пародийное.
Медленные Прелюдия и Адажио родственны по материалу и общему характеру звучания. Тишина теплой летней ночи, легкое дрожание воздуха, в котором кажутся таинственными очертания самых обычных предметов, но которое чудесным образом гармонирует с внутренним лирическим трепетом... Тонко нюансированное, с загадочными фруллато, матовое соло флейты и откликающийся на него ласковый напев засурдиненной скрипки с выделяющимися в нем романтическими секундами ( пример 33)...
Четные части связаны с моторными жанрами — танцем (скорее всего, опять с кадрилью, но без тени сарказма) и маршем. В Скерцо, воспроизводящем оживленную, беззаботную «болтовню» прогуливающихся горожан, преобладает первый, в Финале - второй. Заканчивать «ночные музыки» маршами — давняя традиция. «Я представлял, — комментирует композитор, — что музыканты, нанятые для исполнения серенады под балконом дамы, уже получили обещанное вознаграждение и, играя этот марш, удаляются, довольные заказчиком и собой». Довольные, но преисполненные достоинства. Здесь масса уморительных подробностей, способных вызвать улыбку слушателя: задорные «разбеги» флейты, залихватские кадансы, сопровождающиеся выстукиванием ритмической фигуры  (духовики ударяют по клапанам, струнники — древком смычка по корпусу инструмента), внезапные разделения фактуры на соло, переходящее от кларнета к виолончели и обратно, и подчеркнуто элементарный аккомпанемент.
(духовики ударяют по клапанам, струнники — древком смычка по корпусу инструмента), внезапные разделения фактуры на соло, переходящее от кларнета к виолончели и обратно, и подчеркнуто элементарный аккомпанемент.
Сюита «Из Шолом-Алейхема» принадлежит к роду музыки, говоря словами Глинки, равно докладной знатокам и простой публике (42: 271). Массовый слушатель непременно откликнется на яркую характеристичность образов, «общительную» жанрово-бытовую интонацию, знаток оценит тонкую работу с материалом, остроумную инструментовку, стройную композицию. Музыка эта знакома тем, кто смотрел телевизионный спектакль «Тевье-молочник», поставленный С. Евлахишвили.
Стало быть, перед нами «музыка, сошедшая с экрана»? Вопрос отнюдь не риторический. Прежде чем ответить на него, изложим соображения Б. Каца, высказанные в книге «Простые истины киномузыки» (разницу между кинофильмом и телеспектаклем можно не принимать во внимание).«По-видимому, есть смысл различать три состояния киномузыки... Музыка К фильму — это то, что содержится в партитуре, представленной композитором на киностудию. Такая музыка, разумеется, специально подготовлена для вступления в контакт с экраном, но контакт этот еще впереди... Музыка В фильме — это то, что слышно со звуковой дорожки киноленты... При записи и монтаже музыка, как правило, подвергается многочисленным и порой весьма резким изменениям. Но именно здесь... она и осуществляет полностью свое назначение... Музыка из фильма — это то, что попало из фонограммы или партитуры в программы концертов или в печатные издания... С кино она связана фактически лишь двумя нитями: своим происхождением и памятью о фильме, хранящейся в сознании слушателей и в названии исполняемой пьесы» (96: 25—26).
В нашем случае мы имеем дело с музыкой К спектаклю. Сюита создавалась как бы вне и до телевизионного произведения. Композитор был достаточно свободен в выполнении режиссерского задания и ориентировался только на литературный источник, предоставляя в то же время и постановщику полную свободу в обращении со своей музыкой (каковой свободой тот не преминул воспользоваться). Существенная подробность: произведение называется «Из Шолом-Алейхема», а не «Тевье-молочник». Так с самого начала композитор дает понять, что содержание музыки шире одной книги писателя [Выпуская партитуру все-таки с подзаголовком «Тевье-молочник», издательство, видимо, пожелало сыграть на «памяти о спектакле, хранящейся в сознании слушателя».]. Во всяком случае, в сюите не стоит искать ни портретов, ни пейзажных зарисовок, ни описаний местечкового быта, ни тем более пересказа сюжета. Видимо, задачу свою Каретников понял более широко и обобщенно: воссоздать национальный характер, мироощущение, жизненную философию многих «тевье».
Каждая из десяти частей сюиты имеет название (и эпиграфы, а некоторые части еще и прозаические интермедии, исполняемые чтецом), но лишь немногие напрямую связаны с текстом романа, и ни один — с его фабулой. Большинство названий стилизованы под Шолом-Алейхема, под Тевье-молочника. Бытовое, обыденное поднято здесь до высокого обобщения, и это сказывается буквально во всем, возьмем ли мы тематизм, инструментальный состав или композиционное целое.
Вслушаемся в главную тему сюиты, на которой основана начальная часть «Наша жизнь» (пример 34). Мелодия первого кларнета, кажется, целиком построена на обиходных ритмах и ладоинтонациях еврейских песен и танцев, вплоть до многочисленных прямых совпадений с фольклорными образцами. Но вот уже отклонение в фа минор и, тем более, в ми-бемоль минор, имеет иное происхождение. Как и меланхолические реплики второго кларнета, тонкая игра гармоническими переченьями, возникающими между мелодией и подголосками.
Другой пример — пьеса «У нас все слава Богу» (№ 3), особенно ее середина. Внезапный сдвиг из до мажора на полтона вверх, будто музыканты сбились со строя, выписанные интонационные погрешности в теме тубы, имитирующие дилетантскую неряшливость исполнения, неестественно «жидкие» аккорды сопровождения, — все это, с одной стороны создает комический, точнее, гротесковый, эффект, с другой — демонстрирует ту тщательную проработку гармонии и фактуры, которая тоже никак не укладывается в нормы бытового музицирования, а идет от «высоких» форм камерного ансамблевого письма (пример 35).
Исполнительский состав — тоже симбиоз «низкого» и «высокого», словно повстречались дореволюционная клезмерская капелла из черты оседлости и современный камерный или симфонический оркестр. Набор инструментов в еврейских ансамблях можно себе представить по книгам того же Шолом-Алейхема, например, роману о скрипаче «Стемпеню», или по рассказу Чехова «Скрипка Ротшильда»: скрипка (или две), кларнет (иногда флейта), цимбалы, контрабас, барабан. Каретников, сохраняя всенепременную скрипку, добавляет к флейте и двум кларнетам свой любимый саксофон, к струнному басу — бас духовой (тубу), к барабану с тарелками — треугольник, вводит тромбон. А сами партии требуют от участников отнюдь не «уличного», а настоящего филармонического мастерства.
Ощущение ясной драматургической направленности, достигнутой здесь, в отличие от других сочинений Каретникова, без помощи симфонических принципов, возникает благодаря особому расположению пьес и их смысловым перекличкам. Части сюиты, группируясь вокруг трагического центра, «Кадеша», образуют композицию из симметрично размещенных пар:

Первая часть имеет обобщающее значение, в ней заключены все основные образно-интонационные начала, получающие затем развитие. В этой размеренной, неторопливой мелодии заложены и танцевальность пятой части, и печальная задумчивость обоих «Поразмышляем», а в среднем разделе уже скрыто присутствует скорбная патетика «Кадеша». (Связи начальной части с последующими столь многочисленны, что показывать их на схеме нет необходимости.)
Главный драматургический «секрет» заключен в характере внутрипарных соотношений. К примеру, «У нас все слава Богу» — попытка самоутешения или самообмана, а значит — род игры с самим собой, напоминающей примерку наряда с барского плеча. Недаром марш звучит фальшиво и иронично: какое уж там «слава Богу»... Парная часть, «А как живут богатые!», трансформирует марш в мещански-идиллический шарманочный вальсок — столь же ненатуральный, пародийный. В нем слышится и умиление, и восторг, и мимолетная зависть, испытываемые бедняком при созерцании «шикарной» жизни, но и органическая неспособность воспринимать ее всерьез, как истинный идеал.
Основная тема № 2 — не образ счастья, а образ эфемерности мечтаний. Саксофон ведет мелодию красивую, до нарочитой вычурности, но неизбывно печальную. В № 9 музыка становится похожей на похоронный марш, но в его основе лежит та же тема! От «как было бы хорошо» до «хуже некуда» один шаг...
Так воплощается одна из сверхидей сюиты: все иллюзии рушатся, все упования на лучшую долю оборачиваются трагедией. Но балансирование на противоположных состояниях, так свойственное персонажам Шолом-Алейхема, тоньше и многообразнее: там есть не только слезы сквозь смех, но и смех сквозь слезы. В этом отношении особо показателен финал, написанный в традициях «горького пляса», идущих еще от Мусоргского и унаследованных Шостаковичем, который в подобных случаях часто использовал «еврейский» тематизм.
Жизнь жестоко бьет героев Шолом-Алейхема, но после каждого удара они поднимаются. Им знакомо отчаяние, но никогда оно не завладевает ими надолго. И всегда при них безотказное спасительное средство — способность усмехнуться над собой и своими несчастьями.
Отказавшись от мощного арсенала средств, свойственных его инструментальному мышлению, — процессуальности развития, конфликтного взаимодействия образов, развитых форм — Каретников создал настоящую, глубокую концепцию, в чем и обнаруживается рука симфониста. Подобно тому как в классической схеме сонатно-симфонического цикла семантические амплуа частей соответствуют четырем ипостасям Человека, создавая его целостный и обобщенный образ (7: 24), сюита Каретникова репрезентирует типичные умонастроения и эмоциональные состояния Местечкового Еврея. Типичные, но принадлежащие личности незаурядной, носителю многовековой традиции народа. Взятые в совокупности, части сюиты рисуют образ по-своему столь же целостный и обобщенный. Вместе с тем этот образ родствен лирическому герою творчества Каретникова в целом, от Третьей симфонии до «Тиля Уленшпигеля».
1
На премьере занавес поднимали 36 раз, публика кричала «Автора!», а автор находился в Москве и узнал об успехе из поздравительной телеграммы. Руководство Союза композиторов отказало Каретникову в поездке, нарушив неписаное международное правило, согласно которому композитор должен присутствовать на первом исполнении своей вещи. Потом почта принесла фотографии, вырезки из «Ганноверише альгемайнецай тунг» и других газет.
2
На премьерных спектаклях, проходивших уже после кончины Брежнева, сцену похорон не показывали, но вскоре ее восстановили.
3
С главной партией блестяще справилась миниатюрная Н. Шалашнова.
4
Здесь использован прием, описанный исследователем «Петрушки» Стравинского: элементы музыкального текста строятся по принципу «смехового дублера». В лейтмотиве Петрушки до мажорное трезвучие, как бы смотрится в кривое зеркало фа-диез мажорного секстаккорда (95: 41).
5
К сожалению, издатель («Peters») посчитал нужным оставить от авторского обозначения лишь последнее слово.
6
В частности, по фактуре и технике композиции, вторая пьеса перекликается с оркестровой партией одной их последних сцен «Тиля», сплошь построенной на трелях и тремоло и изображающей разруху и запустение во дворе отчего дома; в психологическом плане — это музыка «крушения надежд».
7
Сонатная форма с зеркальнойрепризой. ГП — от начала до ц. 5, ПП — от ц. 5; разработка — от ц. 8; реприза: ПП ~ от ц. 14, ГП — от т. 1 после ц. 15.
8
Роидальная композиция: эпизоды от ц. 20 до 22. от 24 до 28.
9
Трехчастная форма: середина от ц. 32 до 37.
10
Схема формы такова: А— В — A1 — B1 — А2 — В2 — К. Материал «В» ц. 39-41, 42 -44, 45 -48.
11
Из рабочей серийной таблицы композитора явствует, что ряд этот следует счи-тать не серией, а ракоходом инверсии (транспонированным).
12
С точки зрения музыкальной формы этот раздел представляет собой совмещение функций разработки и репризы — в традициях Бетховена, Чайковского, Шостаковича.
Константа творческой биографии
Подытожим сказанное. Линия камерного инструментального творчества, становящаяся в иные периоды пунктирной, — одна из констант композиторской биографии Каретникова.
Вместе с тем, число сочинений сравнительно невелико. Дабы не задеть ненароком достоинства композиторов, пишущих много и хорошо, не станем относить каретниковскую малоопусность на счет тщательной отделки каждого произведения, хотя она заметна в любом такте его музыки. Ни в коем случае не объяснить этот феномен недостатком мастерства, когда композитор может месяцами раздумывать, флейте или гобою поручить мелодическую фразу, — Каретников был профессионалом высочайшей пробы.
Вероятно, замедленность творческого процесса усугублялась тем, что каждое сочинение — единственное в своем роде. Каретникову не было свойственно желание закрепить и развить достигнутое, повторно эксплуатировать найденное однажды. В трактовке жанра, формы, в выборе «инструментальной идеи» и художественной концепции он ни разу не повторился. Тем более индивидуальна каждый раз комбинация этих параметров.
Однако в подавляющем большинстве случаев индивидуальные решения найдены на базе широко понимаемой классической традиции. Сложившиеся в эпоху «Старой Вены» жанры-составы в его творчестве нерасторжимо слились с додекафонией. Нормативные составы никогда не воспринимались им как нечто устаревшее, пригодное, в основном, в качестве тренажного устройства для молодых композиторов. Додекафония, как было показано выше, также виделась ему естественным продолжением классических традиций. То и другое было для Каретникова живой современностью.
Но сказанное, повторим, касается жанров, составов, отчасти форм. Во всем остальном — языке, образности, драматургии — Каретников никого не копировал. В частности, плотность ткани и масштабы произведений не веберновские, а, скорее, шенберговские, но без эмоциональной «перегретости» последнего. За редкими исключениями, камерные опусы Каретникова можно отнести к роду инструментальных драм. При этом драматизм — не оперно-театрального толка. Здесь, скорее, следует говорить о «вторичной театральности», где на передний план выходит не прямой показ действия, а драматургия размышления, драматургия повествования о неком действии.
Очевидно, что сочинения, рассчитанные на ненормативные исполнительские составы, у Каретникова в явном меньшинстве. Связанная с киномузыкой Сюита вообще стоит особняком среди сочинений композитора, не только камерных. А инструментальный состав Серенады, строго говоря, следует считать не столько ненормативным, сколько неклассическим. И все же произведения эти тяготеют к устоявшемуся жанру, классическому типу драматургии и формы. В этой связи стоит обратить внимание на чрезвычайно показательное для Каретникова отсутствие в его творческом багаже сочинений с экзотическими «одноразовыми» заголовками, весьма распространенными в европейской музыке последних десятилетий, — загадочно звучащими латинскими афоризмами или отдельными словами, которых зачастую не сыскать даже в толстых словарях («Фис-дуленция в трех всхлипах», — иронизировал в их адрес Каретников). Мастер и здесь оставался всю жизнь приверженцем классических традиций. В этом он также гораздо последовательнее, чем лидеры советского авангарда.
ГЛАВА 6. МЕЖДУ КАМЕРНОСТЬЮ И СИМФОНИЗМОМ. ОРКЕСТРОВЫЕ КОНЦЕРТЫ И КАМЕРНАЯ СИМФОНИЯ
Жанровый статус
Если на воображаемой жанровой шкале расположить инструментальные произведения Каретникова 60—90-х годов, получим следующую картину. На одном краю расположится Четвертая симфония, внушительная по продолжительности звучания и составу исполнителей, на противоположном — группа сугубо камерных произведений. Сохраняя внутреннюю сущность, полюса тянутся навстречу друг другу. Большой оркестр трактуется Каретниковым так, что в его звучании нередко выделяются камерно-ансамблевые островки. Музыка для одного или нескольких инструментов наделяется свойствами симфонизма.
Выражением взаимного тяготения полюсов являются сочинения, условно говоря, промежуточных жанров, занимающих середину шкалы: Камерная симфония (1968), Концерты для духовых (1965) и струнных инструментов (1992).
Вспыхнувший в 60-е годы устойчивый интерес советских композиторов к камерно-оркестровой музыке привел к культивированию таких жанров как камерная симфония, концерт для оркестра (как полного, так и неполного) или ансамбля нестабильного состава — нередко под названием «Музыка для...». Тенденция эта, не иссякшая и поныне, неоднократно освещалась в специальной литературе (7; 113; 141; 146; 197; 206; 208). Напомним вкратце выводы исследователей.
Одна из причин широкого распространения таких жанров связана со второй неоклассицистской волной, своего рода «нео-неоклассицизмом», с несколько запоздалым (по вполне понятным обстоятельствам) освоением опыта Стравинского, его последователей и близких эстетико-стилевых явлений. Термин «неоклассицизм» неточен, за ним скрывается возрождение доклассических, а именно барочных, моделей, которые оказались как нельзя более кстати для реализации антироман-тических устремлений. В поисках альтернативы «большой» симфонии, к концу XIX века гипертрофировавшей программно-изобразительное, колористическое начало, с одной стороны, и культ лирико-субъективного высказывания — с другой, композиторы обращали свой взор к рационализму позапрошлого столетия, когда в искусстве господствовало внеличное начало, а инструментальная музыка тяготела к концертированию как типу мышления.
Отсюда широкое обращение к принципу концертирования коллективного ~ жанрообразующему принципу concerto grosso. Ряд сочинений советских композиторов носят это название, в других случаях обозначение отсутствует, но ориентация на жанровую модель старинного концерта заявлена вполне отчетливо. Отсюда же и стилистическая окрашенность значительной части партитур. По-видимому, провозвестником названной тенденции в отечественной музыке второй половины века стал совсем молодой тогда А. Волконский, и тут сыгравший роль впередсмотрящего: еще в 1953 году он написал неоклассический по жанру и стилю Концерт для оркестра. В начале 60-х в этом жанре выступили Э. Денисов (Концерт для флейты, гобоя, фортепиано и ударных, 1963), С. Слонимский (Концерт-буфф для камерного оркестра, 1964), позднее Ю. Фалик, Б. Тищенко, С. Губайдулина. Последовательным адептом жанра является А. Шнитке, Первый concerto grosso которого появился в 1977 году (а к 1995 году их было у него уже шесть).
Стилизаторские веяния коснулись и камерного варианта симфонии: Симфония для струнных и литавр Э. Мирзояна (1962), Седьмая симфония для струнных и клавесина М. Вайнберга (1964), Камерная симфония Б. Чайковского (1967).
Наряду с концертами необарочным и полистилистическим, развивается также концерт фольклорный, яркие образцы которого создали Р. Щедрин, Н. Сидельников, Ю. Фалик.
Говоря о другой причине увлечения камерно-концертными жанрами, необходимо вновь указать на происходившее в то же время знакомство с новыми для нашей страны системами композиторской техники, новыми принципами организации звуковой ткани, прежде всего додекафонией. Громоздкий исполнительский аппарат очень часто оказывался попросту ненужным. Сжималась- и форма, вмещая, так сказать, больше музыкальных событий на единицу времени, о чем уже говорилось в главе, посвященной камерной музыке. В частности, из трех анализируемых произведений Каретникова два, созданные в 60-е годы, звучат примерно по 12 минут.
В качестве третьей причины упомянем универсальную тягу к интеллектуализму, свойственную веку научно-технических революций, но только упомянем: ее подробное освещение увело бы нас далеко в сторону.
Все это, вместе взятое, стимулировало активное вторжение черт камерности на «территорию» симфонизма. Названные общие предпосылки получали у разных композиторов, разумеется, неодинаковое воплощение, имели разный вес и значение. Так, для Каретникова более существенными были вторая и третья из названных выше причин.
Но почему концертностъ и камерность стоят рядом, ведь за этими понятиями — жанры более чем несходные? Что общего между камерно-ансамблевым музицированием, этим искусством малых помещений, апеллирующим к малой же аудитории, искусством, тяготеющим к самоуглублению, к воплощению тонких градаций мысли и чувства, — и разворачивающимся в ярком блеске большого зала концертном действе, с непременно присущим ему духом состязания и игры, бравуры и лицедейства, долженствующими продемонстрировать доблесть инструменталистов («виртуоз», как известно, и означает «доблестный»), преодолевающих — всегда напоказ — технические трудности, что, в свою очередь, предполагает броскую манеру высказывания?
Отличия налицо. Но есть по меньшей мере два пункта, в которых эстетические системы этих жанров сходятся. Во-первых, самостоятельное и практически равноправное значение инструментальных партий в камерном ансамбле имеет своим следствием активизацию виртуозного начала в каждой из них, а отсюда до принципа концертирования, как говорится, рукой подать. Во-вторых, очень близкими могут оказаться инструментальные составы — разумеется, если речь идет не о традиционном сольном концерте для какого-либо инструмента с оркестром, а о других его разновидностях, возродившихся в XX веке. Таков, в частности, концерт для оркестра неполного или ненормативного состава, вплотную приближающийся к концерту для ансамбля.
В Камерной симфонии Каретникова 29 участников: 2 флейты и 2 валторны, остальные духовые — по одному: гобой, кларнет, бас-кларнет, фагот, труба, бас-тромбон плюс две группы ударных, клавесин и 15 струнников. Таким образом, данный состав репрезентирует все группы и практически все инструменты большого симфонического оркестра.
Состав Концерта для духовых немногим больше — 32 музыканта: 5 флейт (2 большие, 2 малые, альтовая), 3 гобоя, 4 кларнета (в том числе, in Es и басовый), 3 саксофона (сопрано, альт, тенор), 3 фагота (включая контрафагот), по 4 — валторны, трубы, тромбоны, 2 тубы. Инструменты распределены ровно по всему диапазону: саксофоны укрепляют регистр, слабый у деревянных, — малую октаву ~ и связывают их с медью; в известной мере компенсируется отсутствие ударных. Духовой оркестр словно выступает в роли симфонического.
В обоих произведениях, даже если инструмент одного вида представлен двумя и более исполнителями, у них сравнительно мало унисонов и, напротив, много сольных высказываний, по сути, концертного плана. Сами же составы, хотя и лишены поражающей воображение исключительности, достаточно ненормативны.
В Концерте для струнных иное: состав сверхнормативен, но — не для большинства современников Каретникова, предпочитающих использовать семейство смычковых вместе с ударными и (или) роялем. Минимальный состав оркестра — 21 исполнитель, и трактуется он, в основном, именно как оркестр, а не ансамбль. Однако и тут, и в двух других сочинениях нельзя не услышать индивидуализации тембров (не только разных инструментов, но и разных приемов игры и звукоподачи в однородном семействе струнных), их состязательности.

М.А. Дейша-Сионицкая — Ярославна (опера Бородина «Князь Игорь»). Вероятно, 1890-е годы. «После г-жи Дейши-Сионицкой Петербург не видел настоящей Ярославны» («Российская музыкальная газета», 8.12. 1902 г.)
Группа солистов Большого театра. На переднем плане М.Дейша-Сионицкая и Ф.Шаляпин. Между 1899 и 1908 гг. «Однажды Шаляпин в сцене Галицкого с Ярославной, видимо, для сценической достоверности, начал хватать ее «за грудки». Она, видимо, для еще большей достоверности и в соответствии с драматургией «Князя Игоря», прогнала его со сцены серией звонких пощечин. Публика ликовала. После спектакля он пришел извиняться» (Н.Каретников. Новелла «Как я стал «Почетным планеристом»).


Н.Г.Каретников. Крым, 1920 г. Красноармеец, замкомполка, приемный сын бывшей солистки императорских театров, будущий отец будущего композитора.
Артист Сионицкий в роли маркиза Аньи де Корневиль 1920-е г.
Своим сценическим псевдонимом Николай Георгиевич Каретников избрал девичью фамилию приемной матери.


М.П.Сухова и Н.Г. Каретников — родители композитора за год до его появления на свет. 1929 г.
Они познакомились в Московской консерватории, в классе профессора Дейши-Сионицкой.

Коля Каретников, ученик Центральной музыкальной школы, с В.Я. Шебалиным в директорском кабинете Московской консерватории. 1944 г.
«Виссарион Яковлевич был суровым педагогом... Я его обожал, боготворил...»
В.Я.Шебалин, Коля Каретников и Аля (Александра) Пахмутова. 1944 г. Одноклассников ждут разные судьбы...


К.Ф. Исаев. Фото из журнала «Искусство кино» (1957, №3).
Предположительно середина 1950-х гг.
«Он появился в моей жизни как раз тогда, когда мне было мучительно необходимо какое-то мужское руководство».
Н.Каретников — студент консерватории. 1949 г. «Преобразующую роль в моей жизни сыграли, помимо Шебалина, четыре человека...»


А.Г.Габричевский. 1966 г.
Десятилетнее общение с ним Н.Каретников называл «эпохой Габричевского».

М.Л. Старокадомский. Фото из архива Государственного центрального музея музыкальной культуры им. М.И.Глинки. Предположительно начало 1950-х гг. «После него Гомера на древнегреческом мне никто и никогда более не читал...»

Отец Александр (протоиерей А.Мень). Эта фотография и сейчас стоит на рабочем столе в квартире Н.Каретникова. Предположительно 1980-е гг. «С первой встречи я отдал ему свое сердце... Он спас меня от греха отчаяния... Он весь искрился добротой и высоким умом»

Н.Касаткина, В.Василёв и Н.Каретников после премьеры балета «Ванина Ванини». Большой театр, 1962 г.
«Он открыл для нас мир современной музыки, научил понимаю музыкальной формы»

А.Алов (справа) и В.Наумов. Фото из домашнего архива В.Наумова.
Предположительно 1970-е гг.
«Писать музыку для кино я научился, работал с Аловым и Наумовым»

Н.Каретников и С.Лунгин во дворе дома о.Александра (Меня). Новая Деревня, 1970 г. «Лунгин работал три месяца и написал, по-моему, совершенно потрясающее либретто «Мистерии»

А.Г.Габричевский и Г.Г.Нейгауз. Крым, Планерское (Коктебель), 1963 г. Этим летом Генрих Густавович знакомился с музыкой Веберна...
М.В.Юдина слушает музыку Хиндемита. Рисунок В.Дувидова. 1969 г.
«Движущей силой всех ее дел и стремлений были огромная доброта и высочайшая нравственность... Первой ее заботой в те годы была так называемая «новая» музыка...»


Сцена из балета «Ванина Ванини». Большой театр, 1962 г.
«Спектакль встречен с горячим одобрение одними и непримиримо — другими» («Известия», 9 июня 1962 г.)
Сцена из балета «Геологи». Большой театр, 1964 г.
Балет «прозвучал очень своевременно, окрыляюще, вызывающе хорошо» (И.Моисеев). Сказанное относилось к хореографии. О музыке пресса отзывалась крайне скупо и в целом отрицательно.


Сцена из балета «Крошка Цахес». Ганновер, Опернхаус, 1971 г. В СССР премьера состоялась только в 1983 году, после смерти Брежнева...
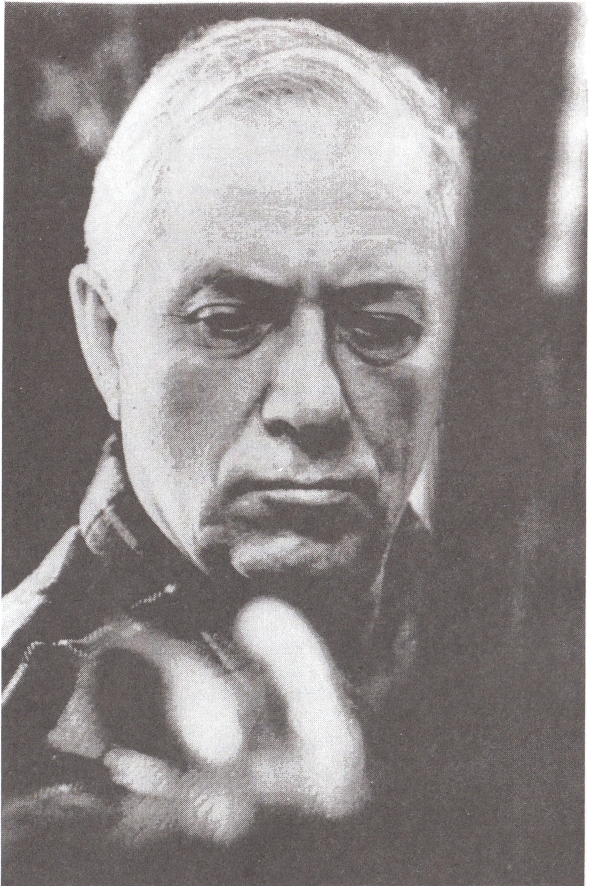
1992 г.

1992 г.


Словом, четко разграничить жанры камерной симфонии и оркестрового концерта весьма затруднительно. И не только по исполнительскому составу, но и по другим, сугубо содержательным параметрам — типу драматургии, идейно-смысловой направленности.
Концерт для духовых инструментов
Концепция произведения ярко трагедийна. Единственной параллелью ему в творчестве Каретникова может служить, пожалуй, лишь Квартет. Среди дневниковых записей М. Юдиной есть следующая, сделанная по прочтении книги Ф. Кафки: «Возьмите «Замок». Это как хождение по аду. Почему я должна оставаться в нем? Данте же выводит нас из ада к свету...» (265: 305). Немало сочинений Каретникова, написанных как до, так и после Концерта и Квартета, «прочитываются» как познание ада и путь из него. Здесь же противостояние воли человека и подавляющих ее обстоятельств заканчивается безусловной победой последних. Такова драматургическая направленность рондальной композиции �[В схематическом выражении: А— В— A1— С— А2 — D — АЗ. Эпизоды: цц. 5-11, 14-20, 28-38.], в которой моменты рефлексии, погружения в себя — рефрены — чередуются с прорывами действенного начала (в трактовке А. Соколова, рефрены представляют собой конструктивную линию, а эпизоды — деструктивную. Там же приводится автокомментарий композитора: «Жизнь есть сопротивление энтропии, и в музыке это можно довести до логического конца». — 195: 200).
Звуковой колорит первого рефрена — тянущиеся ноны и септимы, наслоение томительно длящихся педалей, мгновенные уколы. Первые поручены высоким деревянным, последние всегда образуют тембровый микст (пример 36). Порой один и тот же звук берут одновременно три инструмента, но, скажем, у фагота это шестнадцатая с острым стаккато, у валторны — четверть с точкой, а у тромбона он тянется несколько тактов. Длящийся тон меняет тембровую окраску, переливается разными цветами. Прием этот родствен Klangfarben-melodie, идея (и термин) которой принадлежит Шенбергу, но была предвосхищена Малером, а фактически реализована Веберном. Суть идеи — в передаче отдельных участков мелодической линии от одного инструмента к другому, как правило, несходного тембра. В музыке раннего Шенберга есть пример последовательной переоркестровки одного аккорда («Пять пьес для оркестра»). Каретников же решительно предпочитает «перекрашивать» отдельный тон. В такой модификации композитор использует прием в других инструментальных сочинениях, в «Мистерии». Впервые он был широко применен им в Четвертой симфонии и анализируемом Концерте.
Если воспринимать образное содержание рефрена через картинно-изобразительные ассоциации, воображение нарисует нечто подобное нефигуративной живописи: стылое пространство, космос, повисшие в нем светящиеся точки, вспыхивающие и угасающие, собирающиеся в пучки. Статика, чреватая взрывом, скрытое напряжение, накопление энергии. Думается, однако, что это внешний, поверхностный слой содержания. Скорее всего, перед нами разворачивается не большой Космос мироздания, а микрокосм человеческого духа. И если так, то возникающая из мрака, тишины и холода, из «ничего» музыка рисует образ, окрашенный сдержанным, интеллектуализированным психологизмом. Прислушивание к себе, к внутренним импульсам, собирание сил. Что-то «пробуется», нащупывается.
«Точки» не сразу, с трудом, складываются в «линии» — сначала в сумеречную фразу, начатую фаготом и продолженную тубой, бас-кларнетом и кларнетом, и затем — в вопросительную ариозно-декламационную реплику тенор-саксофона.
Эпизод (В) тоже можно описать в пространственных категориях: роятся, вращаются маленькие спирали, то приближаясь и цепляясь друг за друга, то разлетаясь в стороны. Звуковое поле заполнено довольно плотно, но движение в нем хаотично, лишено цели. Внешне контрастируют этому «броунову движению» внезапные остановки — тяжелые восьмизвучные аккорды — другая ипостась образа контр действия.
Во втором рефрене, если сравнивать его с начальным, фактура плотнее, тембры гуще, тесситура ниже. Прибавились ритмические фигуры тромбонов и труб:
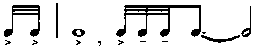
В музыке больше уверенности, но больше и драматизма. Раздел сжат, он почти вдвое короче первого.
Эпизод (С) основан на нескольких конструктивных элементах: стремительно мелькающие «микрочастицы» (предельно краткие, из двух, максимум четырех звуков мотивы деревянных и саксофонов); сигнального типа выкрики, непререкаемые, как воинские команды; сухие выстрелы (тромбоны и трубы с ремаркой «наподобие ударных» — одна из центральных «инструментальных идей» произведения) (пример 37).
Третий рефрен самый продолжительный. Ткань разрежается, ритмическое напряжение падает. Снова уход в себя, не нарушаемый ни притихшими уколами, ни хриплыми фруллато засурдиненных тромбонов и тубы. Протянутые ноны и септимы соседствуют с мотивами никнущими или вопросительными.
Последний эпизод выдержан в духе «цахесовского» марша, глумливо-наглого, отвратительно разнузданного и жесткого. Образ таков, что впору цитировать знаменитую статью «Сумбур вместо музыки»: «Все это грубо, примитивно, вульгарно. Музыка крякает, ухает, пыхтит...» (199). Более гибкие, «человечные» интонации тонут, задыхаются в этой ядовитой атмосфере. Фактура приближена к туттийной.
Заключительное проведение рефрена является одновременно и кодой Концерта, итогом драматургического процесса. В нем как бы зеркально отражается дервый рефрен. Полная статика, погружение в небытие. Из музыки, капля за каплей, вытекает жизнь. В основном, каждый инструмент берет и тянет один тон. Особую окраску всей конструкции придают педали двух туб с сурдинами, издающих таинственный, потусторонний, какой-то погасший звук. Лишь дважды, как воспоминание, саксофоны интонируют восходящую септиму, чтобы вновь воцарилось оцепенение. Ритмическая пульсация практически не ощущается, время словно остановилось. Наслаиваясь друг на друга, выдержанные звуки образуют к последним тактам 12-тоновую вертикаль, ассоциирующуюся тут с воздвижением могильного холма.
Художественную концепцию Концерта соблазнительно истолковать как трагедию гибели таланта. Не физической смерти художника, не «казни», не краха творческих планов под гнетом запретов и притеснений. Думается, тут запечатлелось кошмарное видение, возникающее, наверное, перед каждым художником, — призрак угасания творческого дара.
Первый рефрен удивительно схож с тем, как описывает Каретников рождение музыкальной мысли (см. с. 138). Следует лишь подчеркнуть: здесь — никак не сладостная готовность «предаться неге творческой мечты», а вызревание острой душевной дисгармонии, предощущение страдания, тенью следующего за художническим озарением. Эпизод: искушение покориться житейской суете, губительной для художника. Второй рефрен: уже не проба сил — обретенная сила. Эпизод: образ властного подавления и принуждения. Третий рефрен: разочарование, упадок сил, тягостные сомнения. Эпизод: еще один натиск взбесившейся пошлости. Заключительный рефрен: пустота, уже не способная породить внутренних импульсов.
Трудно отделаться от мысли, что концепция Концерта носит печать исповедальности. По признанию композитора, сочинение родилось в период «черного, мрачного ощущения жизни».
Концерт для струнных инструментов
Появившийся через двадцать семь лет Концерт для струнных инструментов охарактеризуем кратко, отметив лишь то новое, что внес он в трактовку жанра и в стилистику Каретникова. Написанный, как и первый концерт, в форме рондо, он содержит не семь разделов, а пять; контрасты между ними менее резки, а общая продолжительность звучания вдвое больше (около 25 минут; столько же длится, напомним, Четвертая симфония).
Преобладание медленного темпа, лирико-повествовательная интонация рефренов, реминисценции романтической танцевальности в эпизодах (вплоть до аллюзий с исторической линией лирического вальса от Вебера и Глинки до Прокофьева!) мало характерны как для концертного жанра, так и для инструментального творчества Каретникова в целом. В тембро-фактурном плане из всех разделов формы ближе всего к идеалам концертности второй, вальсовый эпизод, где из общей оркестровой массы выделяются три солирующих инструмента (скрипка, альт, виолончель) и общее число партий доводится до восьми.
Своей лирико-жанровой направленностью Концерт напоминает Серенаду, но без юмористических эскапад последней. Отдельные фрагменты (не слишком продолжительные, но все же обращающие на себя внимание) выделяются своим мягким, гармоничным благозвучием, что продолжает оставаться большой редкостью в додекафонных композициях. Это позволяет предположить, что в последние годы Каретников стоял на пороге следующего этапа творчества, обещавшего новые шаги в неизведанные образно-художественные дали 12-тоновой техники.
Камерная симфония
Камерная симфония относится к тому роду композиций, тщательно отшлифованных, выверенных во всех деталях, блестяще сделанных, которые гораздо легче подвергнуть технологическому анализу, чем проникнуть в их образный мир. Кстати сказать, первая из названных задач в немалой степени выполнена в кратком, но емком разборе В. Холоповой (227: 192-195, 199-203).
В симфонии две части — своего рода сонатное allegretto и скерцо, тоже не слишком быстрое; медленная кода замещает отсутствующее Adagio и служит репризой всей формы1.
Драматургическая основа первой части — контраст двух образных начал. Экспрессионистская взвинченность, напряженность главной партии (несколько сглаженная умеренным темпом) рельефно оттеняется спокойствием и статуарностью побочной. Несколько начальных тактов главной темы вмещают множество микросостояний, воссозданных не только мельчайшими интонациями, но и отдельными тонами. Здесь все имеет значение: тесситура, сила звука, тембр, прием игры на инструменте, чередование (в струнной группе) совместного и сольного звучания (пример 38). «Инструментальная идея» состоит, видимо, в чередовании октавных дублировок (все время разных тембровых «гибридов»: гобой и кларнет, высокие струнные и клавесин, скрипки и труба, клавесин и тромбон) и чистых тембров. Кстати говоря, такую тембровую индивидуализацию можно расценить как признак концертного жанра.
И симфония в целом, и, в особенности, первая часть воспринимаются как поиски выхода из лабиринта доведенных до крайней степени тревоги и беспокойства. Все образные альтернативы, по сути дела, так или иначе связаны с тематизмом побочной партии. В экспозиции — это тихое мерцание 12-тонового «многоярусного» комплекса, гармоническую схему которого мы приводим (пример 39; ср. пример 10). В двух его «ярусах» — у клавесина и струнных — обрисовывается ре мажоро-минорное трезвучие. Оно появится в зеркальной репризе и коде первой части, становясь с каждым разом все заметнее в окружении других тонов. Противоборство двух гармонических образований, жесткого и мягкого, напоминает о Третьей симфонии, но с одним существенным отличием: здесь к звучанию струнных все время примешиваются отрывистые щипки клавесина. Покой? Да, но далекий от идилличности (тут мы расходимся во мнении с В. Холоповой). Кроме того, более жесткий отрезок вертикали лишен давящей тяжести. Контраст, таким образом, приглушен.
На оригинальном, нечасто встречающемся драматургическом приеме построена разработка, дающая многочисленные мелодические «побеги», более развитые, нежели в экспозиции. Благодаря этому, исходный образ не дробится, не «анализируется», как то бывает в большинстве сонатно-симфонических разработок, а, напротив, собирается, приобретает большую целостность (пример 40). Такова еще одна, принципиально иная, не связанная с образностью побочной, попытка преодолеть кризис. Особенность концепционно-драматургического решения симфонии, однако, в том, что ни эта, ни иные тенденции развития не получают исчерпывающе полного выражения. Каждая лишь намечена, дана намеком, как возможная, но не реализуемая до конца перспектива. Отсюда идет впечатление загадочности, еще более усиливающееся во второй части.
В. Холопова пишет о ней как об усугубляющей тревожность первой части, как о замкнутой в круге мрачных эмоций. Содержание ее, думается, шире и сложнее. Прежде всего, в ней довольно ясно (для такого стиля) выявлено жанрово-танцевальное начало. Танцу этому не откажешь в своеобразной грациозности и изяществе, женской кокетливости. Все это освещено не сильным, но различимым светом иронии и сарказма. Изящество под его лучами оборачивается кукольностью, грациозность — заученностью, веселье — безразличием (разумеется, в подобной двойственности скрыта некая коллизия, которую нетрудно принять за драматизм). Перед нами — музыкальный двойник Кандиды, недостойной возлюбленной поэта Бальтазара из «Крошки Цахеса». Аналогию с музыкой балета довершает прямое сходство одного из сквозных мотивов части с тематизмом финальной сцены общего веселья (пример 41).
Есть во второй части и другая образная сфера, представленная всего несколькими штрихами. Это рассыпанные по оркестровой фактуре, показывающиеся на короткое время и вновь пропадающие интонации «бальтазаровского» плана (пример 42). Впечатление такое, будто фигура лирического героя, попавшего на чужой бал, бал манекенов, на мгновение оказывается в поле зрения, чтобы снова затеряться в толпе. Его можно и вовсе не распознать среди приветливо-равнодушного окружения, поэтому трудно согласиться с тем, что кода симфонии — «неожиданно светлый выход» (В. Холопова). На грани разделов в самом деле происходит сдвиг всех средств выразительности: устанавливается мало свойственная додекафонной манере фигурационная фактура, удерживаемая на протяжении десяти больших тактов. На ее фоне возникает трезвучие от ре с двумя терциями — кода построена на материале побочной партии первой части.
С этим, освященным давней традицией композиционным приемом мы встретимся в симфонических произведениях Каретникова, но здесь нет ни «утвердительности» образа, ни ощущения света. В звенящих переливах клавесина, в мерно покачивающихся фигурациях струнных sul ponticello, в плывущем, «неземном» звучании вибрафона слышится что-то таинственное, может быть, мистическое, — недаром темброво-интонационный материал весьма близок последним тактам «Мистерии апостола Павла». Финал симфонии можно истолковать и как образ вечности, равнодушно текущего времени, и как растерянность человека перед лицом неразрешимости жизненных конфликтов, перед открывшейся истиной, что зло многолико, способно к мимикрии и нередко с циничной улыбкой уклоняется от честного, открытого поединка. Или о том, что со многим придется просто смириться...
Индивидуальность жанровых решений. Художественное открытие Каретникова
Анализ показывает, что оркестровые концерты Каретникова не вписываются в существующую типологию жанра, то есть не принадлежат ни к классицистской, ни к полистиллис-тической, ни к фольклорной его разновидности. Сравнение их с оркестровыми концертами современников хотя бы по двум важным параметрам — исполнительскому составу и стилю — с очевидностью свидетельствует об этом. «Неконцертность» обоих сочинений сказывается уже в самой манере высказывания, которой совершенно не свойственны праздничная приподнятость и броскость. Не случайно в наследии Каретникова отсутствует концерт для солирующего инструмента с оркестром, который органически тяготеет к демонстрации эстрадной доблести. Показателен в этом отношении и открыто трагический характер Концерта для духовых, и мягкий лиризм Концерта для струнных, и даже такая частность, как их тихие, истаивающие коды (кстати, так же оканчивается Камерная симфония). Не менее симптоматично пренебрежение установкой на игровое начало, импровизационность изложения, также прочно ассоциирующиеся с духом концертности как таковой. А в том, что музыка подобного склада вовсе не чужда Каретникову, легко убедиться, вспомнив общую атмосферу оперы «Тиль Уленшпигель», многие работы в театре и кино. В сферу же инструментальных жанров дух лицедейства практически не был допущен композитором.
Весьма слабо выявлен и такой неотъемлемый признак жанра (в любых разновидностях — Concerto grosso, сольный, оркестровый) как контраст туттийных и сольно-ансамблевых звучаний. В частности, в Концерте для духовых рефрены более прозрачны, в эпизодах фактура массивнее, но если тут и уместно понятие виртуозности, то применительно именно к последним, тогда как законы жанра диктуют обратное соотношение. Не найти в рассмотренных партитурах и столь характерного для необарочного стиля типов тематизма — моторно-пассажного, основанного на общих формах движения. Следовательно, не найти и соответствующей образности (Т. Левая верно пишет о предрасположенности жанра оркестрового концерта к выражению «огромного запаса жизненной энергии и оптимизма». - 113: 165).
Наконец, концерты Каретникова нисколько не тяготеют к специфическому для жанра типу драматургии, метко названному исследователем «драматургией игры» — в противовес «драматургии конечной цели» (термины М. Арановского — 7: 120). Можно было бы утверждать, что принадлежность концертов Каретникова к указанному жанру удостоверяется повышенным вниманием к звуковому колориту, его выразительности и характерности, но этим свойством отмечены все без исключения опусы композитора независимо от жанра.
Словом, в произведениях, рассмотренных в этой главе (как и в произведениях подобного жанрового облика других авторов), черты камерности, концертности и симфонизма сосуществуют на паритетных началах. Камерная симфония вполне могла бы быть названа Концертом для малого оркестра, а оба концерта — камерными симфониями.
Есть лишь два фактора, которые все же дают основание причислить концерты Каретникова к тому жанру, к которому их отнес сам автор (речь ведется именно о каретниковском понимании оркестрового концерта, а не об общей теоретико-эстетической закономерности). Первым из них назовем, рискуя быть обвиненными в непоследовательности, исполнительский состав, точнее говоря, его неполноту (сравнительно с большим симфоническим оркестром), обращение в каждой партитуре к одной из оркестровых групп. Зная о любви Каретникова к ударным, о том, с каким мастерством и изобретательностью он пользовался ими в операх и симфониях, можно допустить, что в будущем мог бы быть создан, в дополнение к концертам для струнных и духовых, Концерт для ударных инструментов.
Второй фактор — из области формы. Оба одночастных концерта рондалъны, а эта композиционная структура естественно рождается в условиях свойственной жанру оппозиции «более прозрачное звучание — плотное тутти», Не слишком строго придерживаясь, как уже отмечено, самого этого принципа, Каретников взял на вооружение в качестве типологического признака жанра его следствие. В этой связи достаточно красноречивым представляется тот факт, что в произведениях других жанров рондо как форма целого не использована ни разу.
При всей ослабленной и несколько размытой жанровой специфике, Каретников создал свой тип оркестрового концерта, который все-таки не сливается полностью с его камерными ансамблями — с одной стороны, и симфониями — с Другой.
Пытаясь определить жанровое своеобразие Камерной симфонии, следует иметь в виду, что жанр этот не наделен достаточно определенным статусом. Его отличительная особенность — органическая нестабильность признаков. Возникшая на пересечении двух тенденций (проникновении черт камерности в симфонию и симфонизации камерных сочинений) она может тяготеть также и к старинной сюите, и к разным видам оркестрового концерта. Недаром авторы ряда камерных симфоний не выделяют их из своего симфонического творчества в целом, присваивают им очередной порядковый номер и не снабжают определением «камерная», давая тем самым понять, что они считают эти сочинения прежде всего симфониями. С другой стороны, знаменательно, что некоторые исследователи предпочитают рассматривать камерные симфонии вместе с камерной, а не симфонической музыкой (206).
Каретникова и тут не привлекли разного рода игры со стилями. Присутствие в оркестре клавесина ни в малейшей степени не связано с необарочными поползновениями.
Он сжимает масштабы произведения (Четвертая симфония вдвое продолжительнее Камерной), но все же не до веберновского сверхлаконизма. Сокращает оркестровый состав, но это все-таки оркестр, а не ансамбль, что отчетливо видно по трактовке струнной группы, где каждая из партий представлена несколькими музыкантами.
Иными словами, Каретников точно «попал» в «промежуток» между симфонией и камерным ансамблем и создал произведение, о котором можно сказать: симфония, написанная камерными средствами. Или, если воспользоваться термином М. Арановского, — камерный вариант симфонии.
Анализируя именно это сочинение, В. Холопова пришла к важному выводу о соединении в нем «поступательности симфонического развития с детализированной экспрессивностью веберновского типа... Музыкальному материалу в стиле Веберна [композитор] сообщил симфоническое движение с «разомкнутой» драматургией» (227: 192 —193). Та же мысль, применительно к целому ряду произведений Каретникова, высказана в книге В. и Ю. Холоповых о Веберне (229: 122). Подобный синтез следует считать художественным открытием Каретникова.
ГЛАВА 7. «ОДИН НА ОДИН С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ». ЗРЕЛЫЕ СИМФОНИИ
Притяжение жанра
Вот уже двести лет, как симфония, зародившаяся в толще домашней, развлекательной музыки, стала самым представительным, содержательно емким из инструментальных жанров. Обращение к симфонии (если не сводить понятие к «большому произведению для симфонического оркестра») ко многому обязывает композитора. Профессиональная оснащенность — свободное владение оркестровыми ресурсами, умение длить музыкальную мысль, лепить крупную форму — условия необходимые, но недостаточные. Нужна еще сейсмографическая чуткость к социально-духовной атмосфере эпохи, острота видения жизни.Необходима способность воссоздать обобщенную и законченную картину бытия, целостный образ Человека.
«Композитор, принимаясь за симфонию, — писал Б. Асафьев, — знает, что встретится одни на один с действительностью, отображая свое к ней отношение и тем самым обнаруживая себя» (8: 66). Две симфонии Каретникова конца 50-х ~ начала 60-х годов, которые будут рассмотрены в этой главе, — два ответа на вызов эпохи, властно требовавшей осмысления.
Каретникова определенно влекла большая симфония. На консерваторской скамье симфонии пишут едва ли не все студенты-композиторы — такова учебная программа. Таково и естественное желание молодости поскорее «взять высоту», выше которой, кажется, нет ничего. Некоторые потом надолго, а то и навсегда, забывают об этом жанре. К моменту получения диплома Каретников был автором двух симфоний, затем с равными интервалами появились еще две. Его манил мир оркестровых звучаний. В симфоническом оркестре, естественно сложившемся в ходе исторически длительной селекции, он видел живой организм с неисчерпаемыми возможностями. Именно за счастливую возможность «не отрываться от оркестра» был он прежде всего благодарен кинематографу: когда собственно симфонические партитуры не исполнялись, только тут композитор мог слышать написанное. Правда, после 1963 года он не создал больше ни одного произведения в этом жанре. Знаменательный факт: первое произведение, которое Каретников «оставил», отрекшись от ранних работ, было симфонией.
Третья симфония
О рубежном, переходном характере Третьей симфонии (1958 —1959) не раз говорилось в предыдущих главах. Пора сказать, что те годы оказались периодом, переходным для всего русского симфонизма. Происходившее тогда в этой сфере иначе, как симфоническим бумом, не назовешь. Находившаяся долгое время под подозрением, осужденная постановлением 1948 года по статьям «формализм» и «антинародность», симфония в середине 50-х вышла из заключения. Официальной реабилитации не последовало, еще раздавались по инерции негодующие восклицания. Кое-кто и в 1958-м продолжал «сигнализировать»: интерес молодых к непрограммным произведениям «свидетельствует о наблюдающемся среди нашей молодежи тяготении к абстрактным задачам, лишенным непосредственной связи с жизнью» (29: 5). Но лед тронулся, и симфония принялась стремительно наверстывать упущенное, беря реванш за годы небытия. Число симфоний, созданных за пятилетие 1953—1958 годов, приблизилось к рекордной цифре 100 (146: 303). Лишь единицы из них прошли проверку временем, но они утрамбовали стартовую площадку для того подлинного взлета жанра, который начался на рубеже 60-х годов.
Выход симфонии на свободу совпал со сменой композиторских поколений, что, в свою очередь, открывало перспективы качественного обновления жанра. В 1950 году умер Мясковский, в 1953 — Прокофьев. (Шостакович после Десятой направил свое творчество в русло программного и вокального симфонизма.) Заявляли о себе молодые: появились первые симфонии А. Эшпая, Р. Щедрина (впрочем, не столь заметные, как их фортепианные концерты), С. Слонимского, Б. Тищенко. Здесь многое было еще вполне традиционно, в духе русского эпического симфонизма, Мясковского. Новое рождалось с трудом, а родившись, нередко чувствовало себя нелюбимым дитятею.
Опять вспыхнула «дискуссия» о трагедийности в советской музыке (поводом для нее послужили симфонии, которые мало кто упоминает сегодня). Речь шла все о том же «праве на трагедию», вернее, об отсутствии такового у советского, особенно молодого, художника. Стержневой, двадцатилетней давности аргумент гласил: социалистическая действительность материала для трагедии не дает. Праведный пафос обличения «трагиков» хорошо уживался с развязными шуточками, барски-пренебрежительным тоном. «Жизнь нашей страны, могучие свершения советского народа, его оптимизм, за редким исключением, не находят отражения ни в тематике, ни во внутреннем строе произведений молодежи» (Т. Хренников — 231: 8). «Случается, что молодой композитор, — веселый, хороший юноша, у которого, казалось бы, вся жизнь впереди, — когда вспоминает о своей профессии композитора, вдруг становится почему-то хмурым, принимает позу дряхлого философа, изнемогающего под бременем мировой скорби, и даже немножко скрежещет зубами» (Д. Кабалевский — 79: 17 — 18). В таких пассажах фигурируют и «ложнотрагедийная мода», и «напускная многозначительность», и «доморощенная трагедийность», и тому подобные перлы.
Был в «контртрагедийной кампании» еще один нюанс, не выносившийся на страницы печати по причине своего беспримерного цинизма. Каретников вспоминает, как на обсуждении в Союзе композиторов «Драматической поэмы» он захотел всерьез ответить на сакраментальный вопрос «откуда такой трагизм?» и стал говорить, что мы живем в трагическое время, ведь после XX съезда мы узнали... «Оставьте это другим», — подвел черту М. Чулаки. То есть: вам — нельзя, а НАМ — можно. Секретариат сам себе вручил «лицензию на трагедию»! Четвертая симфония Кабалевского не подвергалась проработке, хотя, будь она написана композитором без имени и должности, это непременно произошло бы.
Как это случилось с Каретниковым, чья Третья симфония после ее показа в фортепианном изложении была немедля уличена в «мистической полетности», в том, что «имеет, мягко говоря, несколько странное содержание и написана подозрительным языком» (новелла «Глас избранных»). Но критика, сколь грубой и несправедливой она ни была, все же не самое страшное для композитора. Куда страшнее неисполнение — вот уж истинно трагический лейтмотив творческой судьбы Каретникова! «Недавно слушал по УКВ Третью симфонию Николая Каретникова, — уже в конце 60-х говорил Шостакович. — Очень хорошая симфония, а в концертах ее не услышишь. Не играют» (257: 84).
Высокую оценку признанного лидера советского симфонизма не объяснить только тем, что в музыке двадцатидевятилетнего композитора он услышал собственное отражение, хотя влияние Шостаковича в симфонии ощутимо, что неудивительно для конца 50-х годов, когда избежать его было почти невозможно. Но проявилось оно, главным образом, не в лексике, не в характерно шостаковических интонациях и даже не в драматургическом построении, а в самом обращении к философскому лирико-трагедийному симфонизму. Тому самому, где художник рискует остаться «один на один с действительностью».
...В романе А. Бека «Новое назначение», одном из первых «перестроечных» бестселлеров, сын главного героя, Онисимова, переписывает тронувшее его стихотворение:
Ты обо мне не думай плохо,
Моя жестокая эпоха.
Я от тебя приму твой голод,
Из-за тебя останусь голой...
На все иду.
На все согласна.
Я все отмерю полной мерой.
Но только ты верни мне ясность
И трижды отнятую веру.
Я так немного запросила
За жизнь свою —
Лишь откровенность.
А ты молчишь, — глаза скосила,
Всевидящая современность.
(Стихи И. Лиснянской)
Дело происходит в 1956 году. Онисимов-младший — на пороге шестнадцатилетия. В тот год Каретникову было двадцать шесть, но испытывал он, в сущности, то же самое. Стихи могли бы послужить эпиграфом к Третьей симфонии. Ее образы настолько ярки и выпуклы, расстановка драматургических сил настолько определенна, а их взаимодействие и видоизменения в ходе развития выстраиваются в «интонационную фабулу» столь последовательную, что внемузыкальные ассоциации приходят сами собой.
Внешне симфония выглядит достаточно традиционно: трехчастный цикл, полный состав оркестра, в музыкальном языке, помимо шостаковических, узнаваемы влияния Прокофьева, Брамса, Малера. Но, похожая в частностях на то и на другое, симфония в целом — это уже «настоящий» Каретников. Ибо и в обращении с оркестром, и в постройке формы частей, и в понимании цикла, и в высокотемпературной переплавке стилевых воздействий композитор вполне самостоятелен.
Первая часть — сонатное allegro, как бы замаскированное под несонатную композицию, — представляется подлинно новаторской по форме. Начальные такты могут быть восприняты как вступление, содержащее не менее пяти элементов, остро характерных ритмически, интонационно, тембро-фактурно и, следовательно, семантически. Стремительный гаммообразный взлет-тирата дерева и струнных, аккордовая «лесенка» меди, вновь деревянные и струнная группа, но теперь с причудливо изломанными «остроугольными» свистящими сексто-лями, настойчивое, как нетерпеливый стук в дверь, соло малого барабана. Последний элемент — почти зримый музыкальный символ: из протянутого тяжелого, густого аккорда (валторны, рояль, контрабасы divisi, тарелка) возникает, пытается выплыть и вновь в него погружается прозрачное фа мажорное трезвучие солирующих скрипок.
Но это не вступление. Это и есть главная партия, в которой композитор отказался от темы в традиционном понимании, от целостной структуры. Каждый из элементов получит самостоятельное развитие, видоизменяясь в довольно широких пределах, но оставаясь узнаваемым благодаря удержанию какого-либо инвариантного признака. Элементы будут свободно менять последовательность, «перетасовываться», складываясь во всё новые и новые построения, — подобно тому, как это происходит в калейдоскопе: исходный материал задан и строго ограничен, число возможных комбинаций практически беспредельно. Или подобно тому, как это делается в серийной додекафонии с сегментами серии и отдельными тонами.
Пожалуй, единственное, что сплачивает воедино эти элементы (за исключением последнего) — общий смысловой знаменатель: катастрофичность, напор, императив.
Побочная партия представлена именно темой, единственной в первой части темой в строгом смысле слова. Если главная предопределяет динамизм и импульсивность развития, незамкнутость разделов, их перетекание друг в друга, то побочная — сфера экспрессивной медитации. Темп немного сдержаннее, она идет в более крупных длительностях, что сообщает первому allegro не слишком скорый характер и даже, можно сказать, признаки медленной, лирической части цикла. В главной партии господствовала диссонантная гармоническая вертикаль, здесь царит монодия (пример 43). Весьма характерная для Каретникова тема-монолог, песенно-декламационная по природе, в сочетании с чертами чисто инструментального тематизма, она продолжает традицию подобных монологов в симфониях Малера и Шостаковича. Исходящее от таких тем Каретникова ощущение мужественной силы возникает еще и потому, что в них, благодаря специфическим возможностям струнных (и духовых) инструментов, как бы преодолевается естественное для всякого звучащего тела угасание звука. Нередко в долго длящихся тонах громкость даже нарастает. «Протяжная, напрягшаяся, сосредоточившаяся на единой мысли и воле», — сказано о теме побочной в давнем газетном «портрете» композитора (68). Неуловимыми штрихами мелодии придан русский колорит, которому ничуть не противоречат любимые Каретниковым «баховские» обороты (например, нисходящий скачок на уменьшенную септиму к вводному тону).
Главная и побочная партии противостоят друг другу — и взаимопритягиваются. В развертывание монолога органично вписываются сначала тирата, а затем и другие элементы первого раздела экспозиции. Но, в основном, характер их отношений определяется принципом резких вторжений. Прием, хорошо известный по классико-романтической сонатной форме, усилен Каретниковым. Течение побочной темы нарушается дважды, переход к разработке содержит еще два таких прорыва. Температура конфликта стремительно возрастает.
Побочная партия постоянно видоизменяется, получая разные обличья, она словно «ищет себя», не закрепляясь ни в одном из испытанных состояний. Уже в экспозиции одноголосие начало ветвиться, из индивидуально-личностной сферы тема перешла в коллективно-хоровую. Далее внутриобразная дифференциация углубляется: мольба, сумеречное раздумье, мощное волеизъявление. В разработке (от ц. И) тема проходит путь от «тихой героики» (когда проводится флейтой) до большого накала страсти, звучит ликующе, мажорно, исступленно и угрожающе, бесплотно и отрешенно. И какой бы вид она ни принимала, везде ее подстерегают уже ожидаемые, но всякий раз оказывающиеся внезапными вторжения извне.
Реприза (ц. 25) сильно сокращена и являет собой, как то свойственно остроконфликтным сонатным allegro, не возвращение к началу, а следующий акт драмы. Раздел главной партии, в силу его калейдоскопичности и структурной незавершенности, примыкает к разработке как ее прямое продолжение, хотя существенных изменений в материал не вносится. Побочная партия приобретает «прощальный» характер и тем самым напоминает коду. Происходит то, что Л. Мазель, анализируя первую часть Шестой симфонии Чайковского, назвал «расколом» репризы (120: 20). Сама же аналогия в данном случае весьма условна. Во-первых, репризное проведение главной партии тут не «захлестывается» разработкой, как у Чайковского, и не противостоит ей, как в некоторых симфониях Шостаковича. Во-вторых, последняя трансформация побочной партии сугубо индивидуальна по своей образной направленности. Проникновенное негромкое пение скрипок и альтов на фоне мягкого pizzicato виолончелей соединяются в поразительной красоты теплом звучании. Его мажорность с преобладанием диатоники светла и печальна, наполнена скрытым трагизмом. В последних тактах фактура вплотную приближается к камерно-ансамблевому, квартетному письму2.
Еще одно нетривиальное решение связано с тональным планом. Как известно, в классической сонатной форме тональный контраст основных тем экспозиции сменяется их сближением в репризе. Редко, но встречается обратный случай, когда реприза усугубляет тональный контраст (Седьмая симфония Шостаковича). Бывает, что побочная партия репризы идет в тональности, типичной для экспозиции и как бы избегнутой там уходом в тональность более далекую («Ромео и Джульетта» Чайковского). У Каретникова тональный устой побочной партии в экспозиции и репризе один и тот же - ля. Но нарушение основ сонатной драматургии — только кажущееся. С одной стороны, значимость тонального фактора отступает перед лицом ладового и — шире “ образного переосмысления темы. С другой стороны, смещение устоя оказывается излишним, ибо «не работает» такой важный рычаг, как тональные соотношения главной и побочной партий, ведь главная, как в экспозиции, так и в репризе, внетональна. Это не контраст тональностей, а оппозиция тональной неустойчивости, неопределенности и ясно очерченной тональности. Кроме побочной партии, в экспозиции больше «некому» было представить основную тональность. А необходимость тональной арки предопределила ля мажор соответствующего раздела репризы.
Свою судьбу имеет и глубоко символическая лейтгармония: вязкий диссонантный политембровый аккорд плюс мажорное трезвучие скрипок. Среди шести его проведений, а все они явственно выделены, нет двух одинаковых, несмотря на то что оба созвучия практически не меняют своего состава. Но раз от разу, неуклонно и целенаправленно меняется их соотношение: длительностей, расположения громкостных кульминаций (оба разгораются и затухают по разным амплитудам). Слабый голос трех скрипок не подавляется ничем. Фа мажорное трезвучие на протяжении всей части напоминает о себе, светит в вышине путеводной звездой, звучит подобно пеленгу, по которому прокладывают верный курс заблудившиеся в ночи. В заключительных тактах трезвучие вступает раньше диссонирующего аккорда, сам же последний смягчен темброфактурно, и после того, как звучание его сходит на нет, трезвучие, взятое флейтами, возникает вновь. Развитие отношений двух созвучий представляет собой по сути дела рассредоточенную микро-сонатную форму, встроенную в большое сонатное allegro.
Вторая часть, вихреобразное скерцо, — иная ипостась образов Allegro. Безостановочное кружение темы-фона в характере колючей тарантеллы имеет в своей основе секстоли главной партии. Темы, более рельефные интонационно, связаны с побочной. Одна из возможных аллюзий — сцена побега из «Ванины Ванини»: отчаянный героический порыв, азарт и риск, смертельная опасность, неотступно следующая по пятам. Есть здесь и завывание ветра, разбойничьи посвисты, уколы космического холода. Шабаш злых сил? «Упоение в бою»? Сочетание открытой действенности, картинности и двойственного психологического состояния вызывают еще одну, более далекую аналогию — блистательный комментарий М. Цветаевой к пушкинским «Бесам»: «Странное стихотворение (состояние), где сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луной, ездоком, шарахающимся конем и — о, сладостное обмирание — ими! Ибо нет читателя, который одновременно не сидел в санях и не пролетал над санями, там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл и там, в санях, от этого воя не обмирал» (234: 326).
Центральный конфликт симфонии получает прямое продолжение в среднем разделе сложной трехчастной формы. Лейт-гармонический комплекс усложняется: теперь в нем два трезвучия, ре мажорное у скрипок и фа мажорное у флейт, и все это — под негромкий, но внятный рокот триольных мотивов виолончелей и контрабасов.
Следующий эпизод — тоже конфликт в одновременности. Тема побочной партии первой части (деревянные, потом со скрипками) выдерживает очередное испытание — все теми же триолями, маркированными репликами низкого рояля и контрабасов, резкими «тычками» медных и барабана. Но, несмотря ни на что, она живет, атмосфера опасности лишь придает ей уверенности. И хотя в сжатой репризе бушует «бесовское наваждение», уже ясно, что оно не представляет угрозы для позитивных сил конфликта.
Заключение цикла сугубо нетрадиционно. Третья часть совмещает признаки лирического центра и финала (функции медленной части, таким образом, поделены между Allegro и Финалом). Медленные финалы изредка встречались в симфонической литературе прошлого. Но, скажем, в «Прощальной» Гайдна, последней части, пятой по счету, предшествует вполне нормативный финал. Лирико-исповедальная концепция «Неоконченной» Шуберта в принципе исключала жанровую, «объективную» часть. В Шестой Чайковского финал носит открыто трагедийный характер. Каретников же начинает Lento как ожидаемую лирико-созерцательную часть: развернутые, структурно оформленные построения, пластичная кантилена, сродни балетному адажио. И только в ходе развертывания, благодаря привнесению разработочных моментов, усиленно процессуального начала, реминисценциями Allegro, сообщающим части резюмирующее значение, Lento приобретает черты финала.
Между двумя темами последней части нет резкого контраста, разве что лирика первой более уравновешена и «застенчива», в духе «девичьих» тем Прокофьева (но с отдель-ними брамсовскими штрихами — мы уже встречали у Каретникова такой нетривиальный симбиоз), а второй — торжественно величава, тоже напоминающая о Прокофьеве, но уже в темах типа побочной партии из первой части Седьмой симфонии. Отзвуки первой части слышны уже в связующем разделе. Но главное «событие» финала (и всей симфонии) — слом формы, обозначенный вторжением главной партии Allegro. Образ словно вырос в масштабах, каждая деталь укрупнена. Звучание поистине устрашает, грозному натиску нет альтернативы: лейтсимволу, мажорному трезвучию тут не находится места.
Вступает побочная тема первой части, и, таким образом, эпизод вторжения в целом превращается во «вторую репризу» Allegro, вынесенную за его пределы, и одновременно общую репризу цикла3. Здесь тема предстает в облике того жанра, к которому, как отмечалось, определенно тяготеет Каретников, — жанра скорбного шествия. Сдавленные рыдания скрипок и альтов (с сурдинами, но на форте), мерная поступь низких струнных pizzicato, педали валторн, негромкая дробь барабанов... Такова реакция на разразившуюся катастрофу. Новое нарастание приводит к гимнически-приподнятому проведению второй темы финала, что так характерно для драматургии русского симфонизма конца XIX — начала XX века и что уже встречалось в Первой симфонии Каретникова. В последний раз обрушивается грозный аккорд из главной партии первой части (ц. 90), сквозь него просвечивает фа мажорное трезвучие, впервые порученное трубам, и ля мажорное — у струнной труппы, в том числе у трех скрипок соло. С точки зрения формы, это как бы «возврат долга» — элемента, «пропущенного» в большой реминисценции Allegro. С точки зрения драматургии, это развязка конфликта. Вскоре остается только трезвучие скрипок, долго замирающее в вышине...
Третья симфония — очень «малеровское» произведение. Помимо общестилевых влияний, отмечавшихся в связи с «Драматической поэмой», тут возможны и конкретные параллели, в частности, с Шестой симфонией. Третья Каретникова написана в той же тональности ля минор, от Малера идет впечатляющее сопоставление сверхмощных tutti и камерно-ансамблевых эпизодов. Тема побочной партии первой части сближается с главными темами крайних частей малеровского полотна. Напомним и о «лейтмотиве» Шестой — последовательности мажорного и минорного трезвучий, неоднократно вторгающемся в интонационное развитие (подобную роль играют мажорное и минорное трезвучия от до-диез в Симфонии Веберна). Только у Малера последовательность эта выступала трагическим символом; трагически-безысходна и концепция симфонии в целом, чего не скажешь о Третьей Каретникова.
Симфония воспринимается сегодня как художественный документ ранней «оттепели», запечатлевший духовные искания автора и целого поколения российской интеллигенции.
Главная партия первой части может быть истолкована как образ расколотого мира, который еще только предстоит заново «сложить», собрать по частям. Сквозь растерянность, душевную смуту пробивается слабый луч света, луч надежды на обретение жизненных ориентиров. Мажорное трезвучие — лейтмотив истины. Истина общезначима, вечна и проста, но путь к ней долог и тернист. Побочная партия — явление героя. Тема родственна музыкальной характеристике поэта Бальтазара в балете «Крошка Цахес» и воспринимается как образ художника, одержимого жаждой познания и творчества, наделенного даром «самостояния», не поддающегося гипнозу «крошек цахесов». Важный этап сквозного развития «сюжета» — средний раздел скерцо, где создается ощущение, что идеал затуманивается, двоится. Вечные истины лишь выглядят простыми, а при ближайшем рассмотрении за каждой из них встают новые бесконечные вопросы. В финале конфликт достигает наивысшей точки, в какой-то момент кажется, будто духовные ориентиры навсегда утрачены, но в коде они возвращаются вновь. Потрясения, потери — все преодолимо, если не терять из виду мерцающий свет истины.
Четвертая симфония
Четвертая симфония (1963), одно из центральных сочинений Каретникова, отделена от Третьей всего четырьмя годами, но годами весьма насыщенными в творческой жизни композитора и поворотными для советской симфонии. Каретников написал за это время балет, ряд камерных инструментальных произведений. Додекафония вошла в плоть и кровь; новый язык, говоря метафорически, стал родным, теперь он на этом языке думал. Для симфонии как жанра кончился переходный период, период накопления сил. Количественный рост продукции, о чем говорилось в первом разделе главы, привел к качественному скачку. Началось активное и решительное обновление жанра. Атаки на твердыни классико-романтического понимания симфонии следовали одна за другой: с 1963 по 1966 годы родились Третья симфония В. Салманова, Первая и Вторая А. Пярта, Вторая Р. Щедрина, Третьи — К. Караева и В. Сильвестрова.
А. Пярт в Первой симфонии использует 12-тоновую технику, отказывается от сонатной формы (первая часть — Каноны, вторая — Прелюдия и фуга), во Второй применяет алеаторику, сонористику, элементы коллажа, сериальность и также избегает традиционных для симфонии структур, в результате чего рождается «не симфония в подлинном значении слова, а пьеса для оркестра в трех частях» (7: 93).
Р. Щедрин дает своему произведению подзаголовок «25 прелюдий для большого симфонического оркестра», что также наглядно свидетельствует об отходе от привычных композиционных норм и чревато дробностью формы, которую (дробность) не везде удалось преодолеть; обновляются и языковые средства.
К. Караев соблюдает классическую конструкцию (и верность национальным традициям в сфере средств выразительности), но тоже обращается к серийной технике (как и В. Салманов — на основе тонального мышления).
В те годы в центре общественного внимания оказались симфонии Р. Щедрина и К. Караева: почти сразу же исполненные, они обсуждались в печати, изучались и критиковались. Одним словом, жили, в то время как партитура Каретникова лежала «в столе», прозвучав сначала в Чехословакии, затем в Швеции и только через 22 года предстала слуху соотечественников (да и то, по слову автора, в изуродованном виде)4. Не став вовремя фактом концертной жизни, симфония не попала в критико-аналитические обзоры (написанная М. Таракановым в начале 70-х годов статья «О творчестве Н. Каретникова» была отвергнута журналом «Советская музыка»), не заняла в музыкально-историческом процессе подобающего ей места.
Между тем место это вырисовывается достаточно ясно, если окинуть беглым взглядом симфоническое творчество тех лет, когда, как пишет исследователь, «появились признаки усталости жанра и возникла первые пессимистические прогнозы относительно возможности его дальнейшего развития» (7: 7).
То было время, когда целый ряд видных, талантливых композиторов либо уходили в своем творчестве от чистого симфонизма (к взаимодействию с вокалом, камерностью, концертностью), либо вообще игнорировали этот жанр. К примеру, Первая симфония Б. Тищенко (1961) написана еще в консерватории, Вторая (1964) — вокальная, Третья (1965) — камерная; Четвертая (1974) — для двух симфонических оркестров и чтеца — появляется после большого перерыва. Г. Уствольская после Первой симфонии (1955) «молчит» в этом жанре почти 25 лет, а между 1979 и 1990 годами создает симфонии со Второй по Пятую. Разительно похожа хроника обращения к симфонии С. Слонимского: Первая (1958) — период становления стиля, завершения учебы, Вторая — через 20 лет; в 80-е годы менее чем за пятилетие — симфонии с Третьей по Восьмую, а к середине 90-х — еще две.
Перелом наметился примерно со второй половины 70-х годов, когда со значительными, вызвавшими широкий отклик симфониями выступили А. Эшпай, Б. Чайковский, А. Тертерян, Г. Канчели.
В 1972 году завершил Первую симфонию А. Шнитке. Со времен ученичества около 30 лет не обращалась к этому жанру С. Губайдулина (Первая — 1958; следующая, «Слышу... Умолкло...» — 1986), объясняя это боязнью попасть во власть традиции (225: 53). Только в 1987 году пришел к симфонии Э. Денисов...
Напомним: Четвертая симфония Каретникова создавалась как музыка балета «Геологи»5. Характерно, однако, что после того, как фортуна «развела» симфонию с сюжетом, Каретников не счел нужным упомянуть об этом ни в изданной партитуре, ни в аннотациях к концертным исполнениям. Не потому ли, что с сюжетом «Геологов» в его сознании срослась «Драматическая поэма»? Вряд ли: и эта партитура опубликована без программных комментариев. Думается, и не потому, что сюжет сам по себе не слишком богат и тонок. Причина, надо полагать, в другом: событийная канва с самого начала была для композитора не содержательной основой, а лишь поводом для сочинения. А затем отпала за ненадобностью. Драматургия Четвертой, конечно, совпадает с основными фабульными вехами сценария (и ниже мы прибегнем к сопоставлениям), но для адекватного восприятия этой философской трагедии, а именно так определяется жанр симфонии, программные параллели вовсе не обязательны. Идейная концепция ясно прослеживается и без них.
После того как Г. Рождественский включил в 1985 году Четвертую в цикл «Симфонии Гайдна и симфонии, посвященные памяти Шостаковича»6, в концертном обозрении «Советской музыки» отмечалось: «Композиция партитуры своеобразна. Слитые воедино пять частей цикла — разросшееся сонатное аллегро, в котором первая часть выполняет функцию главной партии, вторая — побочной, третья ~ разработки, четвертая — эпизода перед репризой, пятая — репризы. Одновременно симфония предстает перед нами как цикл из 11 вариаций, великолепно разрабатывающих лишь эскизно намеченные поначалу главную и побочную партии. При этом сочинение имеет довольно жесткую конструкцию, продиктованную канонами додекафонного письма без транспозиций» (135:48—49). Несмотря на некоторые неточности, что неудивительно после одного прослушивания (главная и побочная партии экспонированы достаточно развернуто, отнюдь не эскизно, кроме того, сама побочная является одной из вариаций на главную), здесь верно схвачено то главное, на что обращаешь внимание в первую очередь.
Особый философский подтекст приобретают в симфонии очертания вариационной формы, закономерности которой всегда присутствуют в додекафонных композициях и пристрастие к каковой Каретников выказал с юности (кстати сказать, сочетание ее с сонатностью весьма характерно для русской музыки). Все этапы драматургического развертывания суть преобразования начального тезиса, все происходящее имеет единый исток. Композитор Г. Фрид высказал глубокую мысль: «Жизненный путь человека — те же вариации. Лишь в самом конце становится ясным, логичной ли была их последовательность, верно ли избран темп, достаточно ли раскрыта основная тема, какой смысл и значение приобрела она в своем развитии» (220: 120).
Ведущие образные сферы симфонии заявлены уже в первых семи тактах. Как и в главной партии Третьей, здесь несколько элементов, но, в отличие от предшественницы, спаянных в единую тему: рельефно прочерченная, словно высеченная из гранита, фраза валторн, экспрессивный возглас высоких деревянных и струнных, сигнального типа реплика труб, могучий туттийный аккорд, как бы обрушивающийся и после подскока тяжело приземляющийся, тихое соло тубы в характере сосредоточенного размышления (пример 447).
На примере данной темы удобно показать, как решается Каретниковым одна из ключевых проблем, возникающих при создании большой композиции на основе додекафонного метода. Структурная единица додекафонной музыки — мельчайший мотив, иногда отдельный тон или аккорд. Для построения крупной формы необходима прочная «соединительная ткань» между «микро-» и «макроуровнем». В музыке нескольких веков этот «средний» уровень представлял тематизм. Музыкальное мышление Каретникова — убедительный аргумент в пользу того, что 12-тоновая техника отнюдь не исключает возможности образования инструментального тематизма. Главных факторов внутреннего единства приведенной темы — два. Первый — синтаксическая слитность, то есть цепляемость элементов, при которой один является непосредственным продолжением другого или заключен внутри него. Второй - их ритмо-интонационное родство. Так, в первом мотиве содержится синкопированный повтор звука, который затем будет воспроизведен в таком же повторе аккорда; большинство элементов включает ход от более низкого и краткого звука к более высокому и длительному. Структурную целостность темы подчеркивает ее явственная отграниченность от последующих построений, которые воспринимаются как развитие исходной мысли.
В приведенной теме заключен не только весь «строительный материал», но смоделированы ключевые драматургические ситуации симфонии. Среди множества тематических элементов выделяется главная образная антитеза. По одну сторону — энергичное, деятельное волеизъявление, своего рода «Я есмь!» (все мелодические построения), по другую — не уступающее по силе торможение (туттийный аккорд). Толкуя в неопубликованной статье центральный конфликт, М. Тараканов писал о присущем симфонии в целом «духе непокорности, вызове силам, мертвой хваткой давящим свободную волю человека».
Развивается главная партия волнообразно, диалектические принципы развития трактованы вполне по-бетховенски. Внутри «тезиса» вызревает «антитезис», он разрастается и трансформируется, выходит на первый план, затем следует «синтез», утверждающий «тезис» в новом качестве: его противоречивость сглажена, ведущее начало господствует практически безраздельно. Живая, трепещущая музыкальная ткань образована краткими, но выразительными мотивами (с преобладанием септим и нон, ритма  ); холодком веет от пресекающих движение созвучии.
); холодком веет от пресекающих движение созвучии.
К исходу первой волны (цц. 2—4) сфера гармонической вертикали усиливается; в свою очередь во второй и третьей горизонтальные построения приобретают еще большую лирическую экспрессию. В ходе развития образы движения принимают совершенно новые формы, например, легчайших, невесомых звуковых паутинок (высокие струнные и деревянные), сквозь которые четко проступают басовые линии. Но то и дело они натыкаются на решительные, приказные окрики аккордов (цц. 8—10). Непрерывное движение шестнадцатыми становится подобным уже не паутинкам, а налитым силой, скручивающимся в спираль стальным нитям (ц. 11). Силы торможения теперь представляют репетиционные фигуры в ритме 
Возникает парадоксальный драматургический эффект, также знакомый по произведениям Бетховена: «антитезис», активизируясь, вынужден поступиться своей абсолютной статичностью и начинает отчасти походить на «тезис». Ритм формы учащается, «волны» укорачиваются, и за каждым поворотом — новая грань исходной образной антиномии.
Следующая волна (ц. 14) приносит передышку, но она чревата утратой динамической устремленности, за которой кроется поражение. Мелодические фразы сворачиваются, как будто жухнут. К силам контрдействия присоединяется теперь тихое, отрешенное non vibrato струнных. Крошечный скерцозный эпизод приводит к одной из вершин части: на фоне то разгорающегося, то гаснущего звукового пятна шесть валторн с развернутыми кверху раструбами провозглашают вариант (инверсию) начальной темы. Здесь ее звучание еще собраннее за счет более однородного характера движения (ц. 16). Эпизод в характере скерцо-марша (цц. 17—20) вносит еще одну образно-эмоциональную краску — радостное воодушевление, юношескую приподнятость чувств. (Видимо, в сюжете «Геологов» он соответствовал сцене находки ценного минерала.)
Кода (ц. 20) внутренне неоднозначна. Материал, производный от основного, поначалу целиком принадлежит сфере «тезиса»: тема подана без ритмических перебоев, размашисто, уверенно. Чуть позже обнаруживает себя и «антитезис», но лейтаккорд лишился глыбистой тяжести и не столько останавливает движение, сколько вовлекается в него. Преобразуется и фанфарный ход (третий элемент главной темы): сперва у валторн, альтов и виолончелей, потом у труб, явственно обнажая родовые признаки победных кличей, мелодия движется по звукам мажорных трезвучий, символизируя горделивую мужественность и готовность к дальнейшим испытаниям. Их предвещает раскачивание плотных вертикалей, которые в последних аккордах суммируются в два шестизвучия, охватывающие весь 12-тоновый ряд.
Вторая часть, лирическое Adagio, вдвое короче первой (она длится около 4 минут) и вся выдержана в одном настроении: покой, вслушивание в тишину, теплота и трепетность, «потаенная нежность» (Гарсиа Лорка). Музыка по-настоящему красива и — для додекафонии — удивительно благозвучна. Как это нередко бывает у Каретникова в подобные моменты, из гигантского оркестрового состава выделяется ансамбль солирующих инструментов (пример 45). Далее над полифонизированной тканью со все увеличивающимся числом голосов воспаряет мелодия флейт, во втором проведении удвоенная арфами. Благодаря широкой интервалике и мерному ритму; она приближается к инструментальному ариозо, а повторность построений придает ей черты песенности. Звучание уплотняется и ширится, захватывая и низкий регистр, и эмоционально более насыщенный тембр струнной группы, чтобы в последних тактах вновь раствориться в ансамбле деревянных инструментов и первых скрипок с сурдинами и истаять в вышине.
Если Adagio концентрировало в себе выразительность кантиленно-лирических эпизодов первой части, то третья часть вырастает из ее скерцозных разделов. Только скерцозность тут иная. Здесь, если вспомнить о первоначальном сюжетном замысле, пылает пожар, бушуют адские вихри. А если истолковывать эту музыку в контексте чисто инструментальной концепции, господствует всесокрушающая, слепая и жестокая стихия. Краткие, разорванные паузами, тихие и колкие мотивы вспыхивают у разных инструментов, подобные искоркам, тонким язычкам пламени, а звучание многочисленных ударных, роль которых в этой части весьма значительна, напоминает сухое потрескивание горящих сучьев. Педаль валторн не дает прерваться этим мотивам-всполохам, связывает их воедино, и вот уже, раздуваемая свистящими порывами ветра (глиссандо, восходящие и нисходящие тираты струнных и деревянных), на слушателя надвигается сплошная стена огня. Вступает новый вариант темы, открывавшей симфонию. Его первое проведение поручено контрафаготу, тубе, роялю и контрабасам (ц. 33). Кажется, гудит раскаленная земля, донося огненное дыхание бездны. Но прямых фабульных ~ «пожарных» — аналогий недостаточно. Это сложный образ, воплощающий и чудовищный натиск мирового зла, и противостоящую ему неколебимую волю человека. Собственно кульминация (цц. 48—51) поистине устрашает. В зародившихся ранее тиратах скрипок и деревянных слышится душераздирающий скрежет; линии тяжелых медных изломаны ритмически; неистовствуют литавры, поддерживаемые роялем и контрабасом; валторны с саксофоном и альтами, как заведенные, повторяют один звук в ритмоформуле 
Возникает апокалиптическая картина, напоминающая современные фантастические романы-антиутопии: бунт роботов, беснование чудовищной машины, пожирающей все живое.
Как видим, скерцо приносит своеобразную семантическую рокировку: образы движения приобрели негативный смысл, и потому моменты торможения воспринимаются как благо.
Четвертая часть посвящена осмыслению свершившегося. Музыка в характере трагедийного шествия (линия подобных шествий в европейском симфонизме идет от Бетховена к Вагнеру и Малеру) полна скорби и боли, но и внутренней силы. Три плана фактуры вступают, наслаиваясь, поочередно, снизу вверх: остинатная формула литавр и рояля (пример 46), затактовая фигура валторн в ритме  как бы начало некой маршевой темы, которой на самом деле не последует, наконец, полифонизированный ансамбль деревянных.
как бы начало некой маршевой темы, которой на самом деле не последует, наконец, полифонизированный ансамбль деревянных.
В основе финальной пассакальи лежит тема, которая наследует присущие четвертой части признаки маршеобразности, но переводит их в другую плоскость. Движение лишено мерности, затруднено паузами и синкопами (пример 47). Основной принцип формообразования — прогрессирующее сжатие масштабов при каждом последующем проведении темы (таким образом, при колоссальном прогрессе в области музыкального языка, здесь развиваются принципы «каретниковской» маршевости, найденные во Второй симфонии и «Драматической поэме»). Преобладающий характер свободных голосов родствен первому провозглашению темы валторнами и порывистому восклицанию деревянных и струнных в начале произведения. Многим перекликаясь с первой частью, пятая отличается от нее существенной чертой: неуклонное движение долго не встречает препятствий. Неполное восьмое проведение темы прерывается оглушительным аккордовым ударом, за которым следует довольно внушительная кода, являющаяся в то же время как бы отложенным завершением репризы сочинения в целом (ц. 79).
Звучит «побочная тема» симфонии, то есть тема Adagio, звучит в ослепительном унисоне валторн, высоких струнных и деревянных — величаво, торжественно, победно [Как отмечалось в связи с более ранними симфониями Каретникова, подобная трансформация в коде финала лирической темы одной из предшествующей частей — в традициях русского симфонизма конца XIX — начала XX века.]. Эт�о и есть главное событие, которое происходит на последних минутах драмы. Оно придает новые силы для последнего рывка в борьбе за самоутверждение. Буйство ударных и сверхнапряженные 12-тоновые аккорды, которыми заканчивается сочинение, звучат тут как символ мужественности и решимости идти до конца по избранному пути.
Обобщенность и масштабность идейной концепции Четвертой симфонии, конечно, переросла сюжетное содержание балета «Геологи» и вызывает более высокие аналогии. Например, с евангельским «Встань и иди!». Или с одним из самых близких Каретникову образов мировой литературы, царем Эдипом, который пошел наперекор обстоятельствам, бросил вызов роковой предопределенности. Отсюда характерная для композитора драматургическая последовательность (в общих чертах знакомая нам по «Драматической поэме»): некая исходная картина бытия, изменчивого, противоречивого — оазис тишины и покоя —борьба и катастрофа — мужественное переживание трагедии — преодоление отчаяния. Вспоминается и древнее латинское изречение, за которым стоит целая жизненная философия: amor fati — любовь к (своей) судьбе. В комментарии к роману Г. Гессе «Игра в бисер» С. Аверинцев расшифровывает его следующим образом: «Мужественная воля к тому, чтобы сполна пережить свою жизнь, не только не требуя от нее никаких обещаний и гарантий, но будучи с самого начала готовым к самому страшному» (2: 536).
Подобное мировосприятие и, одновременно, эстетическая программа запечатлены в чеканных строках стихотворения Н. Гумилева «Мои читатели»: «Я не оскорбляю их неврастенией, /Не унижаю душевной теплотой.../ Но когда вокруг свищут пули, / Когда волны вздымают борта, / Я учу их не боятся и делать что надо... / А когда придет их последний час... / Я научу их сразу припомнить / Всю жестокую милую жизнь, / Всю родную, страшную землю, / И, представ перед ликом Бога / С простыми и мудрыми словами, / Ждать спокойно его суда».
1
Такова, напомним, и композиция Скрипичной сонаты. Подобную форму любил Веберн (Трио, соч. 20; Симфония, соч. 21; Квартет, соч. 22). Ее симметрично-несимметричная структура отражает в крупном масштабе закономерности, на которых строятся многие серии Каретникова.
2
Аналогично завершается картина «Пьетро в бреду» в балете «Ванина Ванини», где смычковый квартет умиротворенно пел серенаду-колыбельную выздоравливающему, избавившемуся от кошмарных наваждении герою.
3
Аналогично построен трехчастный цикл Первого квартета А. Шнитке (1966): первая часть содержит экспозицию и разработку сонатной формы, реприза же оказывается в третьей части и выполняет функцию коды-финала.
4
Уже в 1992 году вышел документальный телефильм «Профессия — композитор». Николай Каретников («Экран», режиссер В. Зобин), большая часть которого — репетиция и исполнение Четвертой симфонии (ГАСО, дирижер Р. Матсов).
5
Состав оркестра: флейт, труб и тромбонов — по 4, кларнетов и фаготов — по 3, валторн — 6, 2 гобоя, саксофон, туба, 2 арфы, рояль, более 10 ударных, усиленная (около 70 человек) струнная группа.
6
Формально включение это было сделано с натяжкой: симфония не содержит какого бы то ни было посвящения, и написана она задолго до кончины Шостаковича.
7
Пример дан в слегка упрощенной записи.
Каретников и симфонические искания 60-х годов
В книге М. Арановского «Симфонические искания», посвященной судьбам жанра в советской музыке 1960—1970-х годов, показано, что новаторские устремления композиторов осуществлялись либо в рамках канона, когда поиски атипических решений не затрагивали структурных основ цикла и касались, главным образом, соотношения частей и (или) музыкального языка, либо как альтернатива канону, что подразумевало пересмотр многих параметров — языка, драматургии целого, методов изложения и развития материала. Очевидно, что Третья симфония Каретникова должна быть отнесена к первой категории, а Четвертая — ко второй. Здесь обновлению подвергнуты все только что названные стороны симфонического мышления. Это предопределило кардинальный характер преобразований. Этим же во многом объясняется убедительность художественного результата, достижение новой органичности в видении симфонии как жанра, что стало возможным только благодаря разностороннему, системному переосмыслению, при котором видоизменение, скажем, в сфере тематизма требует новых приемов развития, те, в свою очередь, — иных принципов формообразования и построения цикла.
Хорошо известно, что именно в области формы большой симфонии позиции канона были особенно прочными. Прочными настолько, что он-то и казался долгое время хранителем и гарантом специфики жанра, тогда как выход за его рамки ассоциировался чуть ли не с «гибелью» симфонии. Но нет: каноническая структура сонатно-симфонического цикла расшатывалась и даже отвергалась вовсе, симфония же как жанр продолжала жить.
Не менее важна и другая сторона проблемы — обновление композиторской техники и музыкального языка. Применительно к додекафонии вопрос стоял еще острее: совместима ли она в принципе с жанром и формой большой симфонии? Жанр сонаты-симфонии, сонатная форма — детище тонального мышления, гомофонно-гармонического стиля. Обращение к додекафонии, казалось, автоматически подрывает фундамент, на котором они возведены. Действительно, специфические особенности додекафонной техники нередко подталкивают композитора к малой форме и малым исполнительским составам. Это естественный, однако не единственно возможный путь. Симфония Каретникова неопровержимо свидетельствует: возможности додекафонии шире, 12-тоновость не препятствие для создания крупной, подлинно симфонической формы и для обращения к внушительным оркестровым массивам.
Таким образом, Каретников создал большую, «чистую» симфонию (то есть не выходя в сопредельные области творчества) в ту пору, когда позиции жанра сильно пошатнулись. На прошедшем в Союзе композиторов обсуждении (1967) А. Шнитке говорил: «Это симфония крупного масштаба, которая заставляет поверить, что симфонии еще можно писать, — а это сейчас стоит под сомнением» (230: 41). Четвертая симфония — одна из самых первых и весьма радикальных попыток реформировать жанр, преобразовав его структурные основы и технико-стилевые средства.
...В аннотации, подготовленной к авторскому вечеру Каретникова в Малом зале Московской консерватории, Четвертая симфония аттестована как этапная «не только для композитора, но и для советской симфонической школы». Рецензент концерта, процитировав эту фразу и снабдив ее ироническим «sig?!», далее приписал: «Что же касается «этапности» того или иного опуса для всей советской композиторской школы, то, право, не стоит подобными сентенциями ставить композиторов в неловкое положение» (116: 37).
По нашему глубокому убеждению, правота на стороне автора аннотации. Того же мнения придерживается М. Тараканов, считающий, что у Четвертой симфонии Каретникова «есть шансы войта в золотой фонд творений русской музыки XX века» (200: 8).
ГЛАВА 8. «ДРУГАЯ ПРОФЕССИЯ». МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО
Специфика жанра и его место в творчестве Каретникова
Рассказывая о глухих для себя годах, когда он был отлучен от исполнителей и слушателей, Каретников добавлял: «И меня забыли: нет такого композитора — есть только кинокомпозитор». Это было до боли несправедливо и обидно.
Но мастером прикладной музыки он был превосходным. Сделанное им в кино и драматическом театре — останется. Каретников фигурирует среди создателей сотни спектаклей и кинофильмов — игровых, мультипликационных, документальных. В театре он сотрудничал с Ю. Любимовым и А. Гончаровым, Л. Хейфецем и И. Унгуряну, в кино — с И. Авербахом и Л. Пчелкиным, А. Смирновым и К. Худяковым. Музыка Каретникова звучит в шести фильмах А. Алова и В. Наумова. В течение двадцати лет он был их единственным композитором (уже после кончины Алова Наумов осуществил их давний совместный замысел — картину «Закон», и вновь с Каретниковым). Были и фильмы, пусть не вызвавшие особого зрительского ажиотажа, но запомнившиеся камерной, интеллигентной интонацией, сделанные стильно и точно: «Сестра моя Люся» Е. Шинарбаева, «Прощай, шпана замоскворецкая» А. Панкратова, «Брод» А. Добровольского и Г. Дульцева.
Природа киномузыки как жанра такова, что она обретает популярность, лишь... переставая быть киномузыкой, то есть «сойдя с экрана». Наибольшим спросом пользуются, конечно, песни, тиражируемые аудиозаписью, радио и ТВ, концертными выступлениями эстрадных звезд и поющих актеров. Следом за песней, хотя и с большим отрывом, идут законченные, относительно развернутые оркестровые пьесы, также способные существовать в автономном режиме. Но те и другие, присутствуя едва ли не в девяти фильмах из десяти (во всяком случае, в советском кинематографе 30—80-х годов), не являются специфической принадлежностью киномузыки. Они пришли извне и именно поэтому легко расстаются с экраном. Для них расставание — скорее, возвращение «домой» — на концертную эстраду. А если музыкальный ряд ленты — мелодия, или одна короткая фраза, или музыкальный шум, или несколько аккордов, как об этом пишет Каретников (90: 148)?
Нередко приходится специально доказывать, что способность отделяться от изображения — не главное достоинство киномузыки. Когда она выполняет свое истинное предназначение — быть элементом художественного целого, — она часто становится элементом в буквальном смысле слова неотъемлемым. Неизымаемым. И тогда ее пропускают мимо ушей, не осознают ее роли, пусть не решающей, но часто исключительно важной в картине. Не осознают, но поддаются ее воздействию. Давно уже стало общим местом в разговорах о музыке в зрелищных искусствах: театральные и кинокритики редко упоминают о ней в рецензиях и обзорах. Парадокс? Отметим его как своего рода вступительный парадокс к череде последующих.
Собственно, все эстетические функции и свойства киномузыки можно описать как систему парадоксов, что мы и намерены сделать. Одни присущи этой сфере музыки в целом, другие в большей степени отмечены печатью творческой личности Каретникова.
В драматический театр и кинематограф он пришел во второй половине 50-х годов, в нелегкий и благодатный для него период мировоззренческой ломки и формирования нового стиля. И если на протяжении творческого пути жанровые приоритеты у него смещались, то работа в кино и драматическом театре (как и в области камерной инструментальной музыки) оставалась неизменной точкой приложения сил до конца дней, то есть без малого сорок лет.
Каретников хорошо знал и любил мир кино и театра. Бесспорно, его увлекал сам процесс работы — не только своей, композиторской. В театре — тем, что спектакль все время «дышит», видоизменяясь и набирая высоту от репетиции к репетиции, от одной встречи со зрителем к другой. В кино — иное. Тут творческий результат фиксируется раз навсегда, но до того, как это произойдет, есть два рубежа, два магически преображающих рывка. Первый — чистовой монтаж: выверяется масштаб кусков, их стыки, ритм, и все вдруг волшебным образом становится на место. Второй — так называемая перезапись: под уже смонтированную ленту «подкладывается» весь комплекс звучаний — диалоги, реплики второго плана, и массовки, шумы и музыка. Записанные вначале отдельно, на разных пленках, они сводятся воедино, и здесь творится таинство окончательного рождения картины. В ней, словно сбрызнутой живою водой, начинает биться пульс, появляется воздух, возникает поэтика, существовавшая дотоле лишь в воображении ее создателей. Кстати сказать, в одном из кинофильмов с музыкой Каретникова, «Голос», этот процесс становится атмосферой и фоном действия.
Не раз и не два он включался в процесс создания постановки на самой ранней стадии. Иногда, в зависимости от того, что предлагал композитор, режиссер менял монтаж, само построение эпизодов, — так Каретников и его соавтор М. Крутоярская работали над «Властью Соловецкой» с М. Голдовской (63: 13).
Да, он хорошо знал и любил мир кулис и съемочной площадки, что впрочем, не мешало ему видеть изнанку этого мира, несовершенного, как и мир вообще. В том легко удостовериться, прочитав новеллы «Дым кинематографа» или «Об искусстве кинорежиссуры». Но, смеем думать, и дым кинематографа был ему и сладок и приятен.
За десятилетия труда у него сложились ясные творческие принципы, можно сказать, выработалась собственная эстетика театральной и киномузыки. Его статья «Немного о музыке в кинофильме», читается как своеобразный манифест кинокомпозитора. Понятно, Каретников — не теоретик, а практик, взгляды его — это именно его взгляды. В них немало субъективного, но тем они и интересны. Скажем, он скептически относится к плоской иллюстративности музыкального сопровождения, и это отношение разделяют многие его коллеги. Но он так же не приемлет песню в фильме (делая исключение лишь для Высоцкого и Окуджавы): «По моему убеждению, песни в фильме носят, так сказать, «упрощающий» характер и часто, к сожалению, выглядят как вставные номера, дожевывая уже вполне очевидную авторскую мысль и покрывая ленту коммерческим глянцем» (90: 153). А с этим утверждением согласятся уже далеко не все кинокомпозиторы. Пожалуй, большинство не согласится.
Столь же небесспорна его точка зрения на то, чем отличается музыка спектакля от музыки фильма. В театре «полномочия» музыки уже, полагает он. Причина кроется в неодинаковых технических возможностях этих искусств. В кино, благодаря усилительным системам, можно так сбалансировать голоса актеров и музыку, что они будут звучать параллельно, не заглушая друг друга. Поэтому можно связать единым музыкальным построением целую сцену и даже несколько сцен, решая при этом какую-нибудь значительную драматургическую задачу. На театральной сцене, за редчайшими исключениями, музыка находит себе применение только в паузах — внутри сцен или между ними, краткой прелюдией, вводящей в эмоциональное состояние эпизода, или сжатым резюме. Таково, повторим, мнение Каретникова, но на этот счет существуют и мнения прямо противоположные (96: 30).
Впрочем, спорить по этому поводу мы здесь не будем и в последующих рассуждениях позволим себе пренебречь различиями кино- и театральной музыки, ибо для нас сейчас куда важнее то, что, с одной стороны, их объединяет, а с другой — то, что их, вместе взятых, отличает от иных сфер композиторского творчества, от так называемой незаказной музыки. Отметим лишь одно отличие, да и то небезусловное, о котором сам композитор умалчивает, отметим не как теоретическое положение, а как частное наблюдение над творчеством Каретникова.
Шумо-музыкальные опыты
Порою то, что он делал в театре, точнее было бы назвать не просто сочинением музыки, а созданием звукового образа спектакля. Иногда по желанию режиссера, а чаще сам, он придумывал и осуществлял поразительные акустические «фокусы». Предлагалась своего рода шумо-музыка, изображавшая более чем непривычные для традиционной звукописи явления и объекты. В пьесе «Пятнадцатая весна» (ЦАТСА) воспроизводилась «фонограмма» хирургической операции: работа дыхательного аппарата, звон бросаемых в таз инструментов, голоса врачей, глухо доносящиеся сквозь марлевые повязки. Здесь же взрывалась граната, скрежетала отдираемая от забора доска, причем два последних звуковых феномена создавались исключительно при помощи музыкальных инструментов. В комедии «Человек на своем месте» (Театр им. Маяковского) ревело, блеяло и хрюкало голодное стадо, раздавались благостные звуки образцового коровника, доносилась разноголосица большой стройки. За коров, как некормленых, так и сытых, «работал» симфонический оркестр, а в основе второго эпизода лежала мелодия шубертовской «Ave Maria».
Наиболее последовательно подобные принципы проведены были в спектакле «Поющие пески» (Театр им. Моссовета). В пьесе, написанной А. Штейном по рассказу Б. Лавренева «Сорок первый», были выведены и герои писателя, и он сам. Одна половина сцены представляла собой кабинет Писателя, другая — остров, где вспыхнула обреченная любовь Марютки и Говорухи-Отрока (роли исполняли Р. Плятт, И. Саввина и Г. Бортников). Открытая условность драматургического приема подчеркивалась взаимодействием происходящего на обеих половинах сцены: сочиняя пьесу, Писатель приостанавливал события, когда не знал, как дальше идти сюжету, пробовал разные варианты. Спектакль как бы создавался на глазах зрителей.
Ни образ Писателя, ни портреты его персонажей, ни зарождение любви, ничто из этого, как ни странно, не отозвалось в музыке. Мир звуков спектакля нес в себе звуки мира — необъятного, как космос, хотя и сжатого до масштабов острова в Аральском море. Музыка дышала степными ароматами южной ночи с ее шорохами, стрекотом цикад и кузнечиков, рисовала картины бурного и спокойного моря. Поющие пески... В музыке изображался птичий базар (перешедший потом в партитуру «Тиля»): струнные, поделенные на двенадцать групп, играли за подставкой — каждая в своем ритмическом рисунке, кларнетам и флейтам поручалось додекафонное «курлыканье», а засурдиненные трубы тихо вплетали в гомон чаек тему смерти. В эпизоде «Старинный велосипед» первый ударник водил палочкой по ободу малого барабана, второй постукивал палочками одной о другую, трещотка имитировала потрескивание цепи, пианист прохаживался по струнам рояля карандашом (в спицы велосипеда, видимо, попала соломинка). И через весь спектакль проходил лейтмотив — предвестник трагического исхода: сигнал трубы и четырехкратное клацанье настоящего винтовочного затвора в строго выписанном ритме. В финале к нему добавлялся роковой выстрел: несколько скрипок брали кластер на струне «ми», который нисходящим глиссандированием «въезжал» в удар ладонью по литавре.
Звукоподражания, мастерские, невероятно изощренные по технике сочинения, требовали величайшего профессионализма, совершенного владения оркестровыми ресурсами. Но не проще ли было записать реальные шумы на магнитофон? Проще, конечно. Но тогда не возник бы особый «сверхреалистический» эффект, при котором все звучания приобретают более сильную, укрупненную выразительность. Музыка добровольно превращалась в драматургически нагруженный шум, но и шумы становились музыкой. Натурализм оборачивался поэзией. Звуки связывали героев с окружающим миром — природой, гармонией, вечностью - и друг с другом. Прием идеально соответствовал эстетике постановки, привнося эффект отстранения, ибо у слушателя неизбежно возникал вопрос: как это делается? каким образом извлекаются звуки? Эффект, не разрушающий «четвертую стену» и не воздвигающий ее, а как бы делающий ее прозрачной.
Думается, такие эффекты в большей мере отвечают природе театра, нежели кино, искусства совершенно иного уровня жизнеподобия, где, в частности, другой подход и к шумам. Там их на самом деле или прямо заимствуют из жизни, или имитируют с предельной степенью достоверности. В специальной комнате сидят два-три человека, смотрят на экран и творят звуковую реальность фильма: льют воду, звякают ложками о стакан, хлопают дверью, скрипят мешочками с крахмалом («шаги на снегу»)...
Кинематографу шумо-музыка тоже не заказана, хотя там с ней можно встретиться много реже. Один из таких редких случаев Каретников описал в названной статье. «В работе над фильмом «Первороссияне» — он снят в 1966 году и до сих пор не разрешен к показу (писано в 1983 году, но картины так, кажется, никто и не видел, — А. С.) — я встретился с режиссером Евгением Шифферсом, который предложил мне выполнить совершенно оригинальные задачи, некую особую игру. Ради нее убирались реплики, убирались шумы. Каждому звуковому компоненту уделялось особое внимание — если это, к примеру, шум, то только самый характерный, имеющий драматургическое значение и как будто ранее нами не слышанный (остальные, обычные шумы вообще опускались). Такой шум невероятно усиливался; и скрип двери, к примеру, звучал так, как будто открывались огромные крепостные ворота (следует помнить, что лента делалась за пятнадцать лет до «Мой друг Иван Лапшин» А. Германа). В подобной звуковой системе музыка должна была взять на себя совершенно особые функции. К примеру: едет всадник, нужно передать настороженность, напряжение, его готовность к действию, но еще и изобразить скок лошади, так как стук копыт сознательно не подкладывается. И такие задания по всей ленте» (90: 149).
Парадоксы жанра
Как уже ясно из сказанного выше, киномузыка для Каретникова — не просто один из жанров творчества. И даже не просто «игра на чужом поле», то есть работа в другом виде искусства. Принципиально важно: к киномузыке обращается композитор, лишенный возможности слышать свою другую музыку, которую считает главным делом жизни. Неудивительно поэтому, что его отношение к киномузыке вообще, и к своей в частности, было двойственным. Между Каретниковым и кинематографом, как нам кажется, всегда стояла преграда — внутренняя, психологическая: чувство сильнейшего душевного дискомфорта от того, что «не главное» вынужденно сделалось единственным. Не единственным, что сочинялось, но единственным, что доводилось до исполнения, до реального звучания. Потому-то через многие его высказывания настойчивым лейтмотивом проходит повторенная на разные лады мысль: «Это работа принципиально отличается от работы над «серьезной» музыкой, я как бы приобрел другую специальность» (90: 147); «Это как бы другая профессия. Категорически необходимо, чтобы между ними была проведена разделительная черта» (194: 7). Разделение на «композиторов» и «кинокомпозиторов» в самом деле существует и за рубежом, и у нас, хотя в чистом виде встречается нечасто. Но применительно к Каретникову — может ли оно быть принято? Его аргумент: «Композитор в кино — лицо подчиненное, таковы, увы, правила игры» (90: 154).
Налицо, таким образом, парадокс первый и главный: Каретников, художник весьма своевольный, бескомпромиссный, всю жизнь оберегавший, как зеницу ока, свою свободу, многим ради нее пожертвовавший, владеет искусством подчиняться. Рискнем утверждать: его творческий инстинкт активизируется, оказываясь перед каким-нибудь препятствием. В этом смысле он буквально нуждается в подчинении! Властный диктат традиции в церковных хорах... Суровые законы додекафонии... Балет, где — почти как в кино — надо всем и всеми господствует воля постановщика... Если все это тоже «другая профессия», тогда что — «не другая»?
Выше нам уже приходилось высказывать убеждение в том, что не существует такой области творчества, где творец был бы свободен безгранично. Может быть, дело в том, что объективные законы киномузыки еще и персонифицированы в субъективных требованиях режиссера, и синдром профессиональной и моральной ущемленности возникает от необходимости следовать порой некомпетентным директивам?1 Случалось у Каретникова и такое, но все же, по его собственному признанию, многие постановщики доверяли его вкусу. С особой благодарностью вспоминает он фильмы и спектакли, где ему не мешали писать «настоящую» музыку, не толкали к шаблонным решениям. Одной из лучших своих картин он считает «Конец и начало», совершенно неизвестную широкому зрителю, а самым музыкальным режиссером из всех, с кем сводила судьба, — ее постановщика Маноса Захариаса, человека необычной биографии, закончившего музыкальную школу в Афинах, воевавшего в годы войны в армии греческого Сопротивления, учившегося затем в Париже у Р. Клера и работавшего в Советском Союзе. Наконец, справедливости ради, упомянем и о тех случаях, когда высокий результат достигался вопреки первоначальным намерениям композитора, под нажимом того, кто по праву считается главной фигурой в создании фильма.
Работа композитора в прикладных жанрах — вряд ли «другая профессия» еще и потому, что разделительная черта, на которой настаивает Каретников, если она и есть, — проницаема, в чем мы еще убедимся на конкретных примерах. И потому, что истинный художник, мастер всюду узнаваем.
Таким образом, вырисовывается второй парадокс, «тактико-стратегический»: Каретников обладает способностью оставаться самим собой в самых тесных рамках заданных обстоятельств, будь то требования жанра или капризы режиссера.
И сразу же — парадокс третий, из области психологии творчества. Композитор пишет тот или иной номер, нередко «заведомо соглашаясь на то, что его музыка войдет в картину фрагментарно, а не целиком, что ее будут резать» (63: 14). Плюс к этому, композитору нужно заранее смириться с тем, что, хотя слышать его музыку, конечно, будут, но слушать — вряд ли. «Мы приходим в кино, — писал, имея в виду зрителей, французский киновед М. Мартен, — не для того, чтобы слушать музыку» (125: 140). Она должна верно служить художественному целому, не претендуя на специальное внимание сидящих в зале.
Отсюда непосредственно вытекает четвертый парадокс, эстетический: работая на главную мысль спектакля или фильма, музыка — по Каретникову — должна блюсти художественный суверенитет, обладать собственной ценностью (не путать с возможностью автономного, концертного бытования!). Ее амплуа — служанка-госпожа. Иначе говоря, кино- или театральная партитура может (по Каретникову, опять-таки, — должна) нести целостную музыкальную концепцию, со всеми присущими ей атрибутами, не исключая порой такие специфические, как единство тонального плана.
Следующий, пятый парадокс — композиционно-драматургический. Целостность реализуется в условиях прерывности музыкальной формы. Подобно тому, как сплошной ток музыки еще не гарантирует собственно музыкального единства (например, в опере или симфонии), речевые и иные «безмузыкальные» сцены не в состоянии разрубить те нити, которые перебрасывают через их голову эпизоды музыкальные, если развитие музыки следует своей внутренней логике. На этот счет Каретников высказался совершенно недвусмысленно, когда заявил в интервью, коснувшись незыблемых для себя принципов композиции — экономии средств, единства целого: «Считаю их для себя совершенно обязательными и даже стараюсь протащить, настолько, насколько это возможно, работая* в кино» (85). Бесспорно, это признание ближе к истине, чем утверждение о «второй специальности» и «другой профессии».
Много значит в этом смысле его понимание феномена музыкальной драматургии фильма: «Это нахождение единой сквозной музыкальной темы, объединяющей всю музыку и все пластические видоизменения характера этой темы». Эпизоды монотематической композиции оттеняются другими — чаще всего это музыка жанровая, внутрикадровая, «цитата из жизни» (209: 23), иногда цитата буквальная. Для иллюстрации этого положения остановимся на двух примерах.
Картина «Мир входящему» (снятая А. Аловым и В. Наумовым в 1961 году, бойкотированная Главкинопрокатом, широко шедшая на экранах мира, получившая несколько международных премий и показанная по телевидению только в 1988 году) рассказывала о последних сутках войны. Случайно оказавшиеся рядом свежеиспеченный младший лейтенант, контуженный, потерявший речь солдат и балагур-шофер едут вместе с беременной немкой в госпиталь. Путь лежит в тыл, но война есть война: дымятся развалины, летят пули, льется кровь. Немка ежеминутно ожидает насилия, по ее вине гибнет шофер. Весь фильм, от символического первого кадра (кладбищенский крест с зеленым побегом) до символического последнего (новорожденный пускает струйку на сваленное в кучу оружие), раскрывал ключевую фразу из вступительного авторского текста: «Начиналось рожденное в крови и муках новое время».
Главная музыкальная тема, видоизменяясь интонационно, фактурно, темброво, жанрово, была одновременно и темой дороги, и, шире, темой Пути. Она воплощала ту «симфоническую» по сути идею, которой авторы пронизали свою ленту. Что-то начинает понимать немка; мальчишка, вчерашний курсант, становится воином; свой путь проходит и «главный герой» картины — Добро, которое, по тонкому наблюдению Л. Аннинского, «вынуждено прокладывать себе дорогу сквозь непонимание» (5: 65).
В каком-то смысле близкая ситуация взята в фильме «Конец и начало», для Захариаса, видимо, автобиографическом. Война, Греция, бегство национальной армии. Уже подписан акт о капитуляции. Тоже грузовик и его пассажиры. В обстановке хаоса и безвластия каждый сам выбирает судьбу. Коммунист вместе с другими патриотами уходит в горы к партизанам, офицер-военврач бежит в Египет. Для всех кончается одна жизнь и начинается другая. Композитору было важно обозначить сам момент перелома судьбы. Здесь сквозную музыкальную тему можно назвать темой выбора.
В обоих фильмах рядом с музыкально-драматургической магистралью вились тропинки «реальной» музыки: в ленте Алова и Наумова — военные марши, под которые немцы шли сдаваться в плен, звучащая с граммофонной пластинки популярная песня «Если любишь, скажи». У Захариаса — сентиментальный немецкий лендлер, доносящийся из взятого у убитого гитлеровца радиоприемника.
Шестой парадокс — стилевой. Театральная и особенно киномузыка адресуется массовой аудитории и поэтому так или иначе стремится к доступности — за счет образной выпуклости, яркой характерности, жанровой определенности. С другой стороны, в силу того, что ее восприятие облегчается диалогами и видеорядом, в ней возможны самые смелые, радикальные композиторские средства. В додекафонной технике написана музыка (закадровая) к картине «Конец и начало» и многим другим, в том числе к упоминавшимся «Первороссиянам». Приводим фрагмент, который рисует пожарище, один из излюбленных образов композитора от «Геологов» до «Мистерии» (пример 48).
Стилевой парадокс выступает с максимальной силой и очевидностью там, где оба вектора, обиходно-традиционный и «авангардный», накладываются друг на друга. Яркий пример — кошмар Хлудова в «Беге»: додекафонные всплески символизируют ирреальность сновидений, муки совести, а звучащая одновременно с ними полечка, тоже болезненно деформированная — как бы некстати подсказанный памятью где-то когда-то слышанный мотив.
Парадокс седьмой стоило бы назвать «парадоксом Каретникова». Суть его состоит в том, что музыка, казалось бы, безраздельно принадлежащая если и не данному кадру или эпизоду, то уж во всяком случае данной ленте в целом, сплошь и рядом оказывается мигрантом, пересекшим не просто междуопусные, но и межжанровые рубежи. Взаимообменом и взаимовлиянием жанров никого не удивишь. Многосторонние и многообразные контакты между ними практически во все эпохи и у всех композиторов есть такой же бесспорный факт, как и самое существование жанровых границ. Столь же привычен и освящен давними традициями перенос («трансплантация») музыки из одного жанра в другой. В частности, в век кинематографа у многих композиторов из музыки к фильму рождается сочинение для концертного зала.
Но у Каретникова подобные случаи единичны (из партитуры фильма «Ветер» родилась «Драматическая поэма» для оркестра, четыре хора из «Бега» вошли в «Восемь духовных песнопений»). И масса случаев обратных, чрезвычайно редких, если не уникальных в композиторской практике: фрагменты «незаказного» сочинения вводятся в кинопартитуру. Хроническая неисполняемость «основных» произведений привела к тому, что, приступая к работе над фильмом или спектаклем, он первым делом думал: что можно сюда включить из лежащего в столе мертвым грузом? И потому, когда Каретников говорил: «Кино спасает меня», он имел в виду не только заработок, но и возможность проверить в реальном звучании то, что есть лишь в голове и на нотных листах. Отчасти то же происхождение имеют шумомузыкальные эксперименты — своеобразная гимнастика тембро-фактурного слуха, род оркестровой практики. Именно оркестровой! К услугам электроники не прибегал («там подозрительно просто достигается результат»), синтезатор презрительно величал пузырефоном («что на нем ни делай, все мертвое»).
Такой проверке подвергались Третья и Четвертая симфонии, «Тиль Уленшпигель» и «Мистерия апостола Павла», проверке тем более интенсивной и более желанной, чем меньше надежд было у автора на исполнение того или иного опуса. Какая уж тут «другая профессия»... Здесь-то и возникает серьезная эстетическая проблема совместимости (возникает перед исследователем — сам композитор не сознавал ее как таковую). Проблема эта давно известна истории музыки, вспомним хотя бы многочисленные «пародии» у Баха или — призер совсем другого рода — хореографические интерпретации небалетных произведений. Не нова она и для драматического театра — в связи с широко распространенной практикой музыки «на подборе», причем среди таких спектаклей были ведь великие произведения искусства (в частности, у Станиславского). Даже у Мусорского, чья музыка представляется верхом сценической конкретности, ряд эпизодов из ранней оперы «Саламбо» использован в «Борисе», совершенно в других ситуациях, национальной атмосфере, исторической обстановке.
Наверное, многое в этом вопросе прояснил Каретникову случай, описанный в новелле «Jedem das Seine». В четырнадцать лет он увидел выпуск кинохроники союзников, запечатлевшей их высадку в Нормандии. Блеск победоносной боевой операции казался еще ослепительней, сила англо-американского оружия — еще сокрушительней от звучащих за кадром «Прелюдов» Листа. Много лет спустя, работая над «Миром входящему», он вместе с режиссерами смотрел материалы, снятые немецкими фронтовыми операторами. Среди прочих попался -ролик о том же событии, увиденном, разумеется, «с другого берега». Сопровождали сюжет... «Прелюды» Листа, призванные помочь тем, кому адресовалась лента, осознать и прочувствовать героизм и мужество отбивающих атаки войск вермахта.
Для зрителя сочетание музыкального и зрительного рядов должно обладать качеством единственности. На самом деле это иллюзия. Музыка, в силу своей природы, никогда не умещается в отведенную ей предметно-понятийную нишу целиком. Заключенная в программе, сценической ситуации или драматургическом замысле идея воплощается всегда с запасом незапланированных образно-смысловых ассоциаций. Способность музыки менять свой идейный смысл в зависимости от контекста Каретников блестяще использовал в своем творчестве и за пределами прикладных жанров — в оперной дилогии, где ряд фрагментов содержится в обоих произведениях и наделен в них диаметрально противоположным содержанием.
Итак, с экрана — на концертную эстраду, из камерносимфонического или оперного сочинения — в кинопартитуру... Творчество Каретникова дает пример еще одной формы контакта. Фильм «Скверный анекдот» создавался одновременно с балетом «Крошка Цахес». Музыкальный материал, благодаря многочисленным точкам соприкосновения между поэтическими мирами Гофмана и Достоевского, а также благодаря единству авторской позиции, свободно и непринужденно переливался из одного опуса в другой и наоборот. Но фильм примечателен не только этим.
Только внутрикадровая
Это была четвертая совместная работа Каретникова с Аловым и Наумовым. К тому времени кинорежиссеры и композитор были многим обязаны друг другу. «Писать музыку для кино я научился, работая с Аловым и Наумовым, пройдя огромную школу, особенно на первых двух картинах — «Ветер» и «Мир входящему», — признавался композитор. — Это, безусловно, их заслуга, что я стал профессионально заниматься киномузыкой... Работать с ними было труднее, чем с другими режиссерами... Со всеми ними у меня было полное взаимопонимание... В работе же с Аловым и Наумовым все складывалось очень странно: они почему-то всегда считали, что я могу написать лучше» (47: 19).
Что бесспорно роднило кинорежиссеров и композитора, так это обилие шрамов от ранений, полученных в неравных битвах с инстанциями. Каретников, ища в кино спасения от запретительства и писания «в стол», нередко натыкался там на то же самое. И тут все трое могли пожать друг другу руки. Три самые первые картины Алова и Наумова были закрыты до начала съемок, и острые на язык коллеги прозвали их «мастерами подготовительного периода». Ситуация неоднократно повторялась и в 60-е годы. Чуть ли не над всеми их лентами висели суровые, как строка приговора, политические обвинения: пацифизм, сочувствие классовому врагу, клевета на русский народ. Последнее относилось как раз к «Скверному анекдоту», снятому в 1965 году, после многочисленных обсуждений и жарких дискуссий положенного «на полку» и вышедшего на экран только в 1987-м.
Между тем, после закрытого просмотра на «Мосфильме» эмоциональный Е. Евтушенко написал авторам: «Лучшие фильмы всех времен и народов «Огни большого города» и «Скверный анекдот» (5: 263); отнюдь не склонный к захваливанию М. Тараканов назвал картину лучшей у этого содружества режиссеров, а музыку к ней — «самым крупным достижением в этом жанре после Прокофьева. ...Нет другого отечественного игрового фильма, — развивает он свою мысль, — где именно музыка управляет синтезом искусств, расставляет акценты, делает концепцию наглядной, удобовоспринимаемой» (200: 9). От себя добавим: более того — специфически музыкальными средствами выражает концепцию и даже говорит в рамках этой концепции то, что может сказать только она.
Обвинители фильма были по-своему правы, не находя в нем сострадания к униженным и оскорбленным, якобы неизменно свойственного взгляду Достоевского. Ни писатель в одноименном рассказе, ни авторы ленты никому не сострадают. Ни моложавому генералу, слывущему отчаянным либералом, любителю порассуждать о гуманности, «о вопросах, о реформах, о величии России», явившемуся в порыве фальшиво-демократического восторга на свадьбу к своему подчиненному, мелкому чиновнику (в главных ролях Е. Евстигнеев и В. Сергачев), ни самому чиновнику, ни его родственникам и гостям — омерзительному паноптикуму уродов, в которых холуйство, угодничество и трусость уживаются с жестоким деспотизмом и звериной злобой по отношению к «благодетелю».
Фильм принадлежит к редкому у нас в те годы гротескно-сатирическому жанру (как и балет «Крошка Цахес»), в нем много злости и горечи, что неудивительно для картины, созданной тогда, когда «оттепель» закончилась, в воздухе запахло холодом «застоя», а стрелка барометра общественных умонастроений повернула к отметке «скепсис и безверие». Для композитора «Скверный анекдот», подобно последнему бале-тy, — его «личная война с обывательщиной». Но в выборе оружия в этой войне он был не волен.
«В работе над «Скверным анекдотом», — говорил Каретников, — у меня были свои трудности. Дело в том, что повесть эту я знал почти наизусть и хотел делать из нее оперу в свое время. Естественно, поэтому у меня был свой, собственный взгляд на это произведение. У Алова и Наумова — свой, и им надо было переломить меня на свой лад. И они меня «довели» до музыки, какую я при других обстоятельствах ни за что не согласился бы писать вообще, до музыки «крайней духовной нищеты», которая им требовалась по концепции... Они, слава Богу, проявили настойчивость, а я, слава Богу, уступил» (47: 19).
В результате благополучно разрешившегося творческого конфликта родилось музыкальное решение, отличающееся двумя принципиальными особенностями. Первая: в фильме практически нет закадровой музыки2. Почти все, что мы слышим, это сюита танцев, звучащих на свадьбе Пселдонимова. Достоевский указывает даже состав ансамбля: две скрипки, флейта, контрабас. Именно такой квартет мы видим в кадре, хотя в реальное звучание включены и другие инструменты. Каретникову, с «подачи» режиссеров, удалось сочинить музыку, которая, будучи фоном, то есть документируя время и социальную среду, вместе с тем выражала идею ленты. Сюжетные и условные функции музыки слились, совместились!
Вторая особенность: вся музыка построена на модификациях одной темы, что более пристало музыке закадровой, причем наиболее органично — в психологическом жанре. Однако здесь монотематическая композиция выросла на почве отнюдь не психологической драмы. Что касается Пселдонимова, то Достоевский и авторы фильма намеренно лишили его какого бы то ни было внутреннего мира. В рассказе так и говорится: «Не знаю положительно: мыслил ли он, созидал ли планы и системы, мечтал о чем-нибудь?». Применительно к генералу Пралинскому, хотя у него есть «планы и системы», говорить о подлинном психологизме тоже не приходится. Сквозное музыкально-тематическое единство призвано подчеркнуть одну из подспудных мыслей картины, мысль о скрытом, глубинном родстве чиновника и генерала, холуя и господина. Они, убеждены режиссеры, «как будто две стороны сложного социального явления... две стороны медали» (5: 127). И в том, что идея эта была ясно прочитана критиками, безусловно, заслуга композитора.
Главная музыкальная тема — тема духовного убожества, тема рабства. В увертюре она появляется в облике шарманочного наигрыша. Звучание шарманки имитируют четыре флейты, четыре кларнета, при помощи нехитрых механических манипуляций приведенные к намеренно нечистому строю, и бас-кларнет. В такой нестройности слышится и второй, «авторский» смысл: это наигрыш из неслаженной жизни, из сдвинутого со своих опор мира (пример 49). Дальше будут галоп и кадриль, которая, в свою очередь, прозвучит в разных вариантах, менуэт. В каждом жанровом повороте — новый сатирический мазок, новая грань разоблачительной музыкальной концепции. Причем «уровень» концепционности здесь ничуть не ниже, чем, к примеру, в других музыкально-сценических жанрах, к которым обращается Каретников3.
...Вот генерал перед тем как войти в дом Пселдонимова воображает свой приход на свадьбу: ему видятся чинность и торжественность великосветского бала, очаровательная невеста, жених, который не в силах сдержать слезы умиления и благодарности, скользящие в полонезе пары. Что же музыка? Все жанровые параметры полонеза «на месте», но мелодия-то та же самая, унылая и убогая (пример 50). Еще одно видение, теперь уже Пселдонимова. Ему снится, что в пустой комнате они с генералом играют в жмурки. Звучит вальсок, какой-то заикающийся, косноязычный и тоже нищенский, как будто от него остались только контуры (мелодия и бас), а плоть то ли умерла, то ли и не было ее никогда (пример 51).
Есть в фильме персонаж, отсутствующий у Достоевского, — странная девушка, жалкая нищенка, горбатенькая,похожая на юродивую. Ее нелепые поступки продиктованы добротой и жалостью (по сценарию, она носит имя Жалейка). Ее «сольный» эпизод многозначителен: одинокая, всеми забытая, она танцует вальс. Но и этот вальс, по чуткому описанию И. Шиловой, «звучит грустно и меланхолично», в мелодии появляется «своего рода притягательность, в ней концентрируется все то истинно гуманное, что умышленно оставлено за рамками фильма. Но вслушаемся внимательнее, — предлагает критик. — И вот мы уже за покровом благозвучия начинаем ощущать примитивность... мелодии, ее духовную скудость, ограниченность, банальность. И именно эта банальность постепенно проясняет смысл меланхолической примиренности звучащей музыки, совершает своеобразный суд над ней» (5: 140) (пример 52).
«Лоскутное одеяло»
Когда в заметках кинокомпозитора Каретников упоминал о случающихся разностильных построениях («лоскутных одеялах»), о дополнительных трудностях, на которые неизбежно наталкивается в таких случаях стремление добиться собственно музыкального единства, он имел в виду, скорее всего, следующую свою с Аловым и Наумовым картину — «Бег». Во всяком случае, фраза: «Заведомая эклектичность может быть предопределена жанром или драматургией целого, заложена в самом генеральном плане постановки» (83: 148) — как будто прямо относится к первой отечественной экранизации Булгакова.
Действительно, Алов и Наумов смело, рискованно столкнули здесь историческую хронику и фарс, психологическую трагедию и фантасмагорию, высокую патетику и гиньоль. В фильме органично соподчинены различные изобразительные и технические операторские приемы, разные актерские манеры (в главных ролях снимались М. Ульянов, Е. Евстигнеев, Л. Савельева, А. Баталов, блистательно дебютировавший в кино В. Дворжецкий).
В картине много внутрикадровой музыки: играет марш утопающий в холодной соленой грязи «оркестр» из четырех трубачей и барабанщика в эпизоде форсирования Сиваша; другой оркестр сверкает медью, встречая главнокомандующего белой армией Врангеля; дребезжит граммофон в штабном вагоне генерала Хлудова; величественно движется траурное шествие на похоронах красного командира; звучит цирковой галоп; поет в ресторане русский шансонье, в облике и стилизованном репертуаре которого угадывается Вертинский. Редкий случай: рецензенты, обычно не слишком восприимчивые к музыке фильма, отводили ей в своих откликах заметное место, а М. Блейман заявил в «Искусство кино», что Каретников «создал не «музыкальное сопровождение», которое столь распространено, а музыку» (5: 167).
Скажем прямо, композитору не везде удалось избежать иллюстративности, но печать ее лежит лишь на сценах, сомнительных и с точки зрения драматургии фильма в целом, связанных с «положительными образами» Фрунзе и его окружения, отсутствующими у Булгакова и, видимо, для «баланса сил» введенными сценаристами. В большинстве же остальных «сюжетных» номеров музыка скачет, несется, приплясывает, то есть воплощает идею бега, «бесконечного, безостановочного... до издыхания, бега в пустоту» (Ан. Макаров - 5: 155), бега, в который, волею Судьбы и Истории, вовлечены главные персонажи.
На противоположном полюсе возникают образы того, от чего они бегут. В музыке это тема Родины и тема Любви. И если образ России получает зрительный эквивалент — заснеженный лес, стылое голубое небо, покрытые инеем деревья, — то Любовь, именно Любовь с большой буквы, остается, по сути дела, принадлежностью только музыки. Обе темы — темы-состояния, они проникнуты глубоким покоем и неизбывной печалью, небесной чистотой и сострадательной мудростью (примеры 53, 54). И поэтому в «мечущемся мире фильма» (А. Свободин — 5: 147) главные музыкальные темы почти все время контрапунктируют изображению. Припомним сцену, где на улице, среди бегущих в панике людей, не слыша надсадных криков, конского храпа и скрипа тележных колес, мальчик играет с кем-то брошенной пишущей машинкой. Здесь тема Родины приобретает характер колыбельной. Или сцену боя, где впервые звучит тема Любви.
Звуко-зрительные контрапункты определяют вхождение в ткань картины и других музыкальных эпизодов. Без них было не обойтись в трагикомической, парадоксальной поэтике фильма, где абсурдно логичен стоящий на истоптанном, в пятнах крови снегу золоченый дворцовый стул (автоцитата из «Мира входящему»), где возможен шествующий по Парижу в кальсонах русский генерал. Музыка появляется часто как бы некстати, в самые неподходящие моменты. Вальс, которому надо было бы звучать на провинциальном гимназическом балу в исполнении местного полкового оркестра, реет над покидаемой белыми железнодорожной станцией, над трупами повешенных, над всеобщим хаосом. Под веселенький мотивчик граммофона мучают палача ночные кошмары.
Сквозная идея не позволяет распасться на отдельные «лоскуты» действительно пестрому, действительно разностильному конгломерату. «Сюжетные» музыкальные эпизоды связываются друг с другом и с главными темами фильма. Разве не слышится обреченность в залихватских минорных (!) галопах, цирковом и на тараканьих бегах (приводим второй из них — пример 55), где музыка внутрикадровая освещается еще и комментирующим смыслом, вбирает в себя авторскую оценку (здесь, бесспорно, пригодился опыт «Скверного анекдота»)? И разве не тема Родины почудится Корзухину в бое часов в его роскошном эмигрантском жилище? И разве не из реального, «внутрикадрового» перезвона вырастает эта тема-символ в начальной монастырской сцене? Так происходит в музыке своеобразная «игра функций», их «подмена» и совмещение, когда музыка закадровая словно гримируется под сюжетную и наоборот. Да, они разведены на полюса образно, смыслово, разведены они и темброво: духовой оркестр, контрабас с флейтой, баян в музыке бега; струнные, струнные с вибрафоном — в темах Родины и Любви. Но и внутренне едины, что так свойственно симфоническому мышлению, неизменному для Каретникова.
Фантом коллизии
Театральная и киномузыка Каретникова, целиком сообразуясь с «правилами игры», многим, а в определенном смысле — главным, обязана своим именитым родственникам — симфонии, камерным жанрам, музыкально-сценическим произведениям. Но она не только берет, но и отдает. Уже после самых первых своих работ в кинематографе, сочиняя балет «Ванина Ванини», Каретников почувствовал, как помогают ему приобретенные там навыки писать «музыку, которая подходила бы к сценическому действию». В дальнейшей работе эти навыки сослужили просто неоценимую службу. «Тиль» задумывался как киноопера, «Крошка Цахес» — как фильм-балет. Их сближает с кино и дискретность музыкальной фор-
мы, и подчеркнутая полистилистичность, к которой Каретников совершенно не расположен в камерных и симфонических жанрах. Кинематографу чем-то обязана и такая важная для композитора область творчества, как духовные хоры.
...Другая профессия?
Коллизия «композитор или кинокомпозитор?» — мрачный фантом, существовавший больше в сознании Каретникова, чем объективно, и отравивший жизнь художника. Коллизия эта попросту не возникла бы, сложись судьба мастера и его «главных» сочинений по-другому. К таким сочинениям, бесспорно относятся два цикла духовных песнопений, к рассмотрению которых мы переходим.
ГЛАВА 9. ДУХОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ
Отложенная встреча
Два хоровых цикла — «Восемь духовных песнопений» (1969 —1989) и «Шесть духовных песнопений» (1992)— занимают внешне скромное место в творчестве Каретникова. Они могли бы легко затеряться среди его симфонических и камерных сочинений, пяти музыкально-театральных партитур, не завоюй они известность большую, чем почти все остальное наследие композитора. На самом деле их значение исключительно важно. Верующий христианин, Каретников не мог не написать их. Но путь его к этому жанру не был прямым и близким, а обращение к православной певческой традиции убежденного додекафониста породило непростую музыкально-стилевую коллизию. И не только стилевую.
Мы уже рассказывали (во второй главе) о пробуждении религиозного чувства у молодого Каретникова. Теперь — существенное дополнение: далеко не последнюю роль в этом сыграла музыка. «Вся великая музыка написана в диалоге с Богом», — говорил он, уже будучи автором первого цикла (44: 17). Но убеждение это пришло не сразу. «Впервые я читал великую Книгу в семнадцать лет (в 1947 году! — А. С.). Тогда я отнесся к Новому завету так, как рекомендует Анатоль Франс: “Корявая арамейская литература, полная противоречий”» (новелла «Отец Александр»). Когда в 50-е годы в стране появились пластинки «Страстей по Матфею» Баха, он вновь раскрыл Евангелие. Хотелось разобраться в проблеме сугубо профессиональной: в каком соотношении находятся текст и музыка. «Мне стало ясно, что его музыка соответствует не слову, а ДУХУ слова. Потом, после многих прослушиваний с Евангелием в руках, слово отделилось от музыки и я начал воспринимать его так, будто оно специально для меня и написано» (там же).
Но сам он писать духовную музыку долго не решался. Можно нисколько не сомневаться в том, что причины нерешительности были чисто внутреннего свойства и носили этико-эстетический характер. Вряд ли сюда примешивались конъюнктурные соображения, связанные с невозможностью исполнить подобный опус. Композитора, привыкшего большую часть жизни писать «в стол», вряд ли можно в этом заподозрить. И все же, когда появилась возможность услышать собственное духовное сочинение, Каретников, работающий обычно медленно и трудно, создал его с невероятной, фантастической быстротой — за полтора дня.
В 1969 году, когда вся страна отсчитывала «ударные недели» (или «декады»), оставшиеся до 100-летия со дня рождения Ленина, такую возможность, да и то небезусловную, мог предоставить только кинематограф: для характеристики «старого мира» дозволялись и церковные хоры, и «белогвардейский» романс, и «буржуазные» танцы. Чуть раньше аналогичной возможностью воспользовался А. Шнитке, работая над фильмом «Дневные звезды» (1966), из музыки к которому (эпизод воображаемого отпевания в церкви царевича Димитрия) родился потом один из Гимнов (1975). Каретников написал четыре хора для кинофильма «Бег». Их восторженно приняли все, кто был причастен к созданию ленты: режиссеры, музыкальный редактор, дирижер, переписчики нот, хористы — «шестьдесят грубых мужчин» и даже... парторг капеллы. Сольную партию дьячка, неожиданно для себя, спел на записи сам композитор (новелла «Ностальгия»).
Однако хорам в картине не повезло. Лишь один из них прозвучал почти целиком, от других остались фрагменты, и прошли они в фонограмме вторым — третьим планом, «закрытые» шумами и диалогами. В музыкальной драматургии фильма они, по-видимому, должны были, вместе с темами Родины и Любви, воплощать позитивные силы конфликта. К тому же они резонировали библейским образам в зрительном и словесном рядах ленты: ветхозаветный агнец на поле боя, чтение Хлудовым Библии («Оставьте их: они — слепые вожди слепых...»). Именно его, Хлудова, отпевает погребальный хорал, когда тот живым мертвецом стоит на приморском холме в Константинополе, лицом к невидимому русскому берегу. Библейские ассоциации усиливались и тем, что в творчестве Булгакова этот персонаж явился как бы ступенью к вершине — образу Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите»: и там, и тут казнь невинного правдоискателя, муки «исколотой» совести, страшные сны, в которых палач вымаливает у жертвы прощение...
Кстати, музыка только что упомянутого хора «На погребение» — почти точное заимствование из оратории «Юлиус Фучик», написанной в начале 50-х годов, когда студент консерватории, комсорг курса и не помышлял о духовных сочинениях. Так что биография произведения началась гораздо раньше работы над музыкой к «Бегу». И с выходом картины на экран она не закончилась. В 1970 году к четырем песнопениям прибавилось пятое, написанное по заказу регента храма на Ордынке, «церковного» консультанта фильма. В таком виде, как «Пять духовных песнопений», сочинение было в том же году опубликовано «Universal Edition» в Вене. Спустя еще двадцать лет Каретников дописал три части, цикл обрел посвящение памяти Б. Пастернака и эпиграф: «Всю ночь читал я Твой Завет и как от обморока ожил».
Родилось фактически новое произведение. «Путь Пастернака к Богу», — так лаконично комментирует свою идею композитор. Правомерность посвящения и комментария оправдываются многим. Например, воспоминаниями А. Синявского. Он заговорил с Борисом Леонидовичем о религиозных стихах из «Доктора Живаго»: не были ли они литературной стилизацией, как казалось иным почитателям поэта, которые не могли допустить, что Пастернак думает и пишет о Боге, о Христе вполне серьезно. «”Это — пройдет! Это — пройдет!” — повторял, смеясь, Пастернак, будто речь шла о какой-нибудь вздорной детской болезни» (187: 85). Оправдываются фразой А. Вознесенского: «Я всегда воспринимал встречи с ним как встречи с отсветом Бога, присутствующим в нем» (28). Оправдываются тем пиететом, которым проникнуты новеллы Каретникова, посвященные гению русской поэзии: «Обида», «Какими бывают похороны». А в радиоинтервью корреспонденту «Би-Би-Си» композитор так объяснил посвящение: «Когда надо было делать выбор судьбы — как раз тогда, когда произошла трагедия с «Доктором Живаго», я очень внимательно следил за тем, как Борис Леонидович ведет партию своей жизни. Во многом он был для меня примером» (85).
Но имеются факты, противоречащие авторскому пояснению или, по крайней мере, существенно его дополняющие. Даже если опираться только на стихотворение «Рассвет», из которого взяты строки эпиграфа, и то будет ясно, что лирические герои и психологические фабулы у Пастернака и Каретникова — разные. В «Рассвете» рассказано не просто о приходе к Богу, а о том, как человек вначале отошел от Бога, и только «через много-много лет» опять, заново к нему вернулся. Для понимания замысла цикла не менее значительно и другое замечание, вскользь оброненное композитором: «Это — сочинение о современности». Остается лишь продолжить мысль в указанном направлении, напомнив, что «сюжет» о приходе человека к Истине лично пережит и выстрадан композитором, и поэтому в звучании художественной идеи песнопений можно расслышать и автобиографические «обертоны».
Цикл получил высокую оценку критики. Пресса отмечала большой успех сочинения у публики (161: 99). Среди откликов на концерты «Московской осени — 89» встречаем, например, такие: «Пожалуй, наиболее сильное впечатление на меня произвела музыка Н. Каретникова» (245: 3); «Одна из вершин фестиваля» (211: 5). Через три года были закончены «Шесть духовных песнопений», исполнение которых также не прошло незамеченным: «Много стало музыки, называемой духовной, — писал С. Беринский по следам «Московской осени» 1993 года. — К сожалению, большей частью она пишется пером, еще не просохшим от ультрасоветских ораторий, поэтому, естественно, истинных достижений не так много. Хочу непременно назвать «Шесть духовных песнопений» Николая Каретникова. Здесь и перо чистое, и мастерство высшей пробы» (17: 170).
Глядя на даты, проставленные в рукописях (1969—1989, 1992), нетрудно заметить, что они совпадают с двумя волнами интереса к духовной православной музыке в отечественной послеоктябрьской культуре. Здесь снова следует воздать должное А. Волконскому, создавшему в 1964 году ансамбль «Мадригал», а также вспомнить имя А. Юрлова, первого советского хормейстера, который познакомил со старинными культовыми напевами зарубежную аудиторию. Процесс этот был далеко не повсеместным, и протекал он с большими трудностями. Официальные власти, как черт ладана, боявшиеся «религиозной пропаганды», как говорится, левой рукой что-то разрешали, а правой налагали ограничения. И все-таки тысячи слушателей, ни разу в жизни не переступавшие порога Храма, смогли приобщиться к сокровищам старинного хорового искусства.
Через двадцать лет духовная атмосфера была уже иной. На пике горбачевской «перестройки» вошел в обиход тезис о приоритете общечеловеческих ценностей, фактически (вслух об этом не упоминалось) — ценностей христианских, над любыми другими. Заговорили о необходимости нравственного возрождения народа. Из одного публицистического выступления в другое переходили восставшие из небытия категории милосердия, покаяния. Мощной культурной доминантой времени стала подготовка к торжествам по случаю тысячелетия христианства на Руси и связанное с празднованием: передача храмовых сооружений церкви и возобновление в них богослужения, реставрация памятников старины.
Кое-какие долги возвращались музыке. В одном только 1989 году и только в одной Москве были организованы Первый московский фестиваль русской духовной музыки, Первый фестиваль современной духовной музыки и концерт современной духовной музыки в рамках «Московской осени» — впервые за ее одиннадцатилетнюю историю (здесь и состоялась премьера «Восьми духовных песнопений» под управлением автора). К перечисленному можно добавить выпуск грампластинок и компакт-дисков, радио- и телепередач, появление все новых хоровых коллективов, в репертуар которых входит духовная музыка прошлого и настоящего, выход на концертную эстраду церковных хоров и выступление в храмах хоров светских.
Необычайно активизировалось и композиторское творчество в этой области. Список сочинений на религиозные темы, в той или иной мере опирающихся на древнерусские стилевые пласты, пополнялся стремительно: «Неизреченное чудо», «Песнопения и молитвы» Г. Свиридова, Стихира и «Запечатленный ангел» Р. Щедрина, «Стихи покаянные» А. Шнитке, «Первое послание к коринфянам святого апостола Павла» и Шестая («Литургическая») симфония А. Эшпая, «Литургия святого Иоанна Златоуста» Н. Сидельникова, сочинения С. Беринского, Ю. Буцко, К. Волкова, В. Генина, Е. Голубева, Г. Дмитриева, Ш. Каллоша, В. Кикты, В. Мартынова, В. Рябова... Попутно выяснилось: абсолютного забвения не было и раньше. Ручеек традиции, пусть тоненький, пусть ушедший под почву, не пересыхал ни в 20—30-е, ни в последующие годы.
С начала следующего десятилетия, точнее, после 1991 года, когда стало «все можно», создание такого рода партитур сделалось чуть ли не модой. Тем более ценно, что каретниковские опусы не затерялись на столь широком и представительном фоне.
Итак, «Musica nova sacra обретает черты одного из направлений современного искусства», как справедливо отметила Н. Гуляницкая в заключении двух развернутых обобщающих статей, посвященных стилевым тенденциям духовной музыки наших дней (53: 25). Перед композитором, пожелавшим обратиться к этому жанру, открыт необозримо широкий спектр возможностей, эстетико-стилевых и композиционных решений. Понятие традиции здесь куда шире исторически и многообразнее внутренне, чем в опере или симфонии, концерте или балете. Возраст музыки христианской церкви исчисляется тысячелетиями, а самым ранним из сохранившихся напевов — восемь — девять веков. Локальных историко-стилевых традиций множество. Что выберет современный автор и как распорядится избранным — вот в чем вопрос. К примеру, у А. Шнитке вообще нет аллюзий древнерусской музыки, Н. Сидельников расцвечивает архаичные попевки (в духе знаменных мелодий) пышно-красочной гармонией, А. Эшпай не избегает романсовых оборотов, а В. Рябов ориентируется на позднеромантический (предэкспрессионистский) тип выразительности.
XX век богат на возрожденные жанры и стили. Если иметь в виду музыкальное искусство, то наше столетие обладает едва ли не большими правами на титул «Возрождение», чем та эпоха, которая под этим названием вошла в историю. Но, пожалуй, возрождение ни одного другого жанра не сопровождалось таким разнообразием подходов, а, главное, такой напряженной полемикой о том, что есть истинная духовная музыка, что может, а чего не может позволить себе композитор в этой области творчества.
К современным спорам о духовной музыке
Собственно говоря, бурные дебаты о пределах допустимого кипят на Руси вокруг духовной музыки около четырех веков, если не дольше. Они вспыхивали и тогда, когда утверждался партесный стиль, и в начале XX века. Так что в нынешнюю пору возрождение жанра вызвало и возрождение дискуссии — в новых историко-социальных и музыкально-стилевых условиях.
Температура спора и прежде, и сейчас, объясняется тем, что в круг обсуждения вслед за внутримузыкальными, цеховыми проблемами неизбежно вовлекаются проблемы собственно религиозные, богословские. Не автору этих строк, мирянину, быть арбитром в таком споре. Но и пройти мимо него, словно не замечая, не позволяет профессиональный интерес, профессиональные обязательства и, в конце концов, профессиональное право судить о музыке, к какому бы стилю и жанру она ни принадлежала. Поэтому, в полной мере сознавая всю деликатность ситуации, начнем хотя бы с изложения существующих точек зрения.
О своих «Восьми духовных песнопениях» Каретников высказался так: «Это традиционная церковная музыка, и хотя там есть некоторые, как бы это сказать, технические непривычности, я не нарушил канонов православной церкви. Так мне, во всяком случае, говорили церковные музыканты» (44: 17). Но что такое традиционная церковная музыка, что считать канонами православной церкви, относительно чего некоторые вещи воспринимаются как непривычности, — на эти и многие другие вопросы по-прежнему невозможно дать определенные ответы. Нет их и в современной теории и эстетике жанра, которые только складываются.
Ю. Паисов выделяет в музыке духовной традиции три линии. К первой из них он относит «произведения, создаваемые в рамках традиции церковно-православной музыки и вполне соответствующие понятию “строгий церковный стиль”». Ко второй линии — «сочинения, не связанные с церковно-певческой традицией столь же тесно и непосредственно», не имеющие «явных стилевых предтеч в прошлом». Наконец, третья «занимает как бы промежуточное положение между первыми двумя» (148: 33). Соответствующие произведения предназначены для исполнения: первые — в церкви, вторые — в концертном зале, третьи — как в церкви, так и в концертном зале. Песнопения Каретникова, вместе с сочинениями Г. Дмитриева и Н. Сидельникова, исследователь причисляет к третьей группе.
На наш взгляд, классификация не вполне отвечает своему назначению из-за нечеткости критериев. Остаются неясными границы второй группы: если относящиеся к ней произведения все же связаны с традицией, хоть и «не тесно», то могут ли они не иметь предтеч в этом жанре? Далек от решения и более общий вопрос. Не соглашаясь с расширительным толкованием понятия «духовная музыка», Ю. Паисов склонен объединить им «только сочинения, созданные на церковно-канонические тексты, а также на тексты литературных произведений, трактующих тему веры в Творца, мотивы христианской любви и божественных заповедей». Однако из сформулированной таким образом дефиниции явствует, что к духовной музыке следует отнести и «Четыре строгих напева» Брамса, и ряд романсов Рахманинова («Из Евангелия от Иоанна», «Перед иконой», «Воскрешение Лазаря», «Христос воскрес»), и оперу С. Слонимского «Мастер и Маргарита».
Проблемы типологии рассматривает также Е. Орлова в статье, которая так и называется: «Церковное, религиозное, духовное...» Духовная музыка, утверждается в ней, пишется на темы (тексты) религиозные (курсив мой, — Л.С.). Религиозным искусство становится «при осуществлении связи с тем, что люди мистически одаренные называют высшей реальностью». К церковной музыке, по мнению автора, можно причислить «все, что служит единству верующих не только в храме, но и вне его». Музыка храмовая — это музыка богослужебная. Понятия, поясняет Е. Орлова, расположены от широких к более узким: духовное включает в себя религиозное, в которое входят церковное и храмовое (147: 20).
Данная классификация, как нам представляется, порождает вопросов больше, чем дает ответов. Можно ли одно понятие определять через другое (духовное — религиозное), если, начиная с заглавия, они заявлены как рядоположные? В чем разница между ними? Трудно принять и невозможно оспорить принцип научной классификации, в основе которого лежит «мистическая одаренность» и «высшая реальность».
Далее автор пересказывает соображения на этот счет протоиерея Николая Ведерникова — композитора, автора духовных и светских произведений. «Стилистически индивидуализированная религиозная музыка концертного плана, как правило, не подходит для богослужения, — настаивает отец Николай, — так как она предполагает аффектированное восприятие, отвлекая верующих от общей молитвы, нередко мешая ей».
Очевидно, что и здесь критерии субъективны, носят вкусовой характер. Во-первых, отвлекается ли верующий от молитвы, нелегко установить. Во-вторых, тут многое зависит не от одной молитвы и даже не столько от самого верующего, сколько от того, кто рассуждает на эти темы, — от его эстетических предпочтений, художественной образованности, от идейно-религиозных установок. Как ни парадоксально это прозвучит, церковные песнопения суть массовая музыка, музыка для всех. Нельзя не учитывать, что право признавать или не признавать ее «своей», давать ей оценку небезосновательно числит за собой каждый человек. Проблемы стиля неизбежно оказываются связанными с проблемами Веры настолько тесно, что размышляя о первых, следует все время иметь в виду вторые. Вопрос о стиле духовной музыки — не что иное как вопрос о том, какими «словами» говорить с Богом.
Думается, что суть крайней охранительно-ортодоксальной позиции — боязнь художественности, от которой якобы и исходит угроза. Если довести сказанное сторонниками этой точки зрения до конца, то получится, что они ратуют за изгнание из музыки выразительности и ее (музыки) воздействия на молящегося. Цель музыки, наставляет отец Николай Ведерников, «не экстаз или пребывание в какой-либо мистической отрешенности... Наоборот, музыка отличается особой строгостью. Она очень сухо и сдержанно поддерживает текст». Как тут не напомнить о том, что художественно выразительны, по-своему экспрессивны сами канонические тексты — Символ веры, молитвы Ефрема Сирина и Иоанна Дамаскина. Иначе не могло быть: молитва, не затрагивающая внутренний мир человека, просто не выполнила бы своего назначения. Почему же в праве оказывать определенное воздействие на человека отказано музыке? Иногда создается впечатление, что на музыку смотрят так, будто она пришла в церковь извне и поэтому каждый раз должна выдержать проверку «на соответствие».
У особо рьяных ревнителей старины такую проверку способен пройти более чем ограниченный круг явлений. Так, например, В. Мартынов убежден, что с середины XVII века подлинное богослужебное пение на Руси разрушено и вытеснено пришедшими с Запада линейной нотацией, контрапунктической техникой и тонально-гармонической системой. Эта, как он выражается, «инфекционная болезнь» привнесла в церковные песнопения чувственные душевные переживания, так что слушатель ощущает себя попавшим не то в оперный театр, не то в концертный зал (126).
Подобные суждения, в сущности, не новы. Они были распространены еще в начале века. Активным противником нового выступал, в частности, М. Кузмин. Известный поэт, прозаик, переводчик, знаток древнерусского искусства и певческих традиций называл утвердившийся в XVIII столетии стиль «жеманным», категорически не принимал в церковной музыке оперно-романсовой выразительности («Истинно, себе славу поют, а не Богу»), призывал не искать в службе «эстетических забав» и ратовал за возвращение «к пению в унисон старинных напевов» (110: 38).
Ни в коей мере не оспаривая права «архаистов» веровать в Господа так, а не иначе, заметим все же, что с точки зрения искусства их позиция весьма уязвима. Что же делать в этом жанре современному композитору? Не выходить за рамки стилизаторства и - в пределе — забыть о том, что он композитор, художник? Более естественным и продуктивным видится иной подход, демонстрируемый, к примеру, авторитетным специалистом в области русской православной культуры, автором книги «Музыкальная эстетика России XI—XVIII веков» (М., 1973) А. Роговым. Воззрения В. Мартынова он считает антиисторичными, «разрушительно-археологическими» и не соглашается с тем, чтобы церковь стала «мертвым музеем, в котором будут воспроизводиться старые формы и петь будут только по книгам со знаменными нотами» (166: 43—44).
Сегодня не стоит пренебрежительно относиться и к произведениям откровенно стилизаторским, ни на шаг не выходящим за пределы старинных установлений. Кстати сказать, выдержанные в такой манере композиции самого В. Мартынова талантливы и по-своему очень впечатляющи. Но нелепо было бы предавать анафеме и музыку эмоционально яркую, лирико-экспрессивную, с высокими драматическими кульминациями, опирающуюся на индивидуально-личностную интонацию, — а таковы сочинения А. Шнитке, Н. Сидельникова, В. Рябова.
Для Каретникова, однако, и тот, и другой пути были неприемлемы. Сделанное композитором с большим трудом поддается жанрово-стилистической атрибуции и не укладывается ни на одну из «полочек» существующих классификаций. Видимо, неоднозначностью решения, а также неразработанностью теории объясняется та разноголосица мнений, вплоть до диаметрально противоположных, которая звучала в высказываниях о каретниковских песнопениях.
Ю. Корев: «Вот уж поистине музыка «черного монастырства»! Сурово-аскетичная, лишенная мирских побуждений, забот и красок...» (105: 40).
Н. Гуляницкая:«”Идиолексика” автора оказывается превалирующей, определяющей в итоге звуковой облик... произведений» (53: 18).
М. Рахманова: Музыка «выдает руку очень искусного стилиста» (161: 99).
Ю. Паисов, напомним, называет «Песнопения» в числе сочинений, которые могли бы звучать как в храме, так и в концертном зале (148: 33), а Н. Ведерников слышит в них «замечательную религиозную музыку, радующую нас своей красотой» (147: 20).
Этическое и эстетическое
Ища название пути, по которому пошел Каретников, невольно обращаешься к удивительной по глубине и гуманистическому пафосу мысли А. Меня. В последней публичной лекции, прочитанной накануне трагической гибели от рук убийцы, он цитировал слова Христа: «Кто хочет за мной идти, тот пусть отвергнется себя» и так толковал их: «Не своей личности, отнюдь, личность — святое, а своего ложного самоутверждения, самости» (132).
Решение Каретникова представляет собой динамическое равновесие этического и эстетического: в какой-то мере — смирение «композиторской гордыни», отказ от «ложного самоутверждения», то есть от ничем не сдерживаемой стилистической индивидуализации, и в то же время сохранение собственной личности, ибо «личность — святое». Иными словами, он сообразует свои намерения с каноном, но не следует ему слепо, оставаясь самим собой. Верность же канону, о которой говорит композитор, надо понимать как верность духу церковной музыки, ее неповторимому колориту, где главное — особое миросозерцание, ощущение Бога в себе. Если не сходить с позиций историзма, то следует признать: в разные эпохи колорит этот может создаваться разными музыкально-выразительными средствами. Поэтому, условно говоря, допустимость либо недопустимость тех или иных гармонических последовательностей все же вторична.
Сказав об ощущении в себе Бога, мы имели в виду именно Бога-человека, родившегося и выросшего, как напоминает отец Александр (Мень), в простой деревне, пришедшего в мир уничиженным, испытавшим боль и страдание, зовущего к себе тех, кто не боится опасностей и терний. Вот почему такой музыке не заказаны ни беспокойство, ни терзания, ни страх, ни радость, ни трепет, ни иные мирские отголоски, — было бы в ней стремление постичь Истину, немыслимую без благоговения, то стремление слиться с Ним, когда раны Христовы ощущаются на теле как свои собственные.
На то, как формировалась у Каретникова такая творческая и одновременно духовно-нравственная позиция, проливает свет новелла «Ответ». Еще в 1970 году, приступая к «Мистерии апостола Павла», он столкнулся с проблемой, которую описал через аналогию. На картинах Грюневальда или Гольбейна, изображающих Иисуса на кресте или во гробе, агония, разлагающееся тело показаны чересчур натуралистично. Русские, особенно новгородские, иконы — лишь знак распятия, далекий от жестокой реальности. Перед первыми молиться невозможно, вблизи вторых молитва рождается слишком легко, как бы сама собой. Далее Каретников рассказывает о явившемся ему видении Христа, который принес ответ на мучивший композитора вопрос: «Было очень страшно и очень больно...» Таков и образный строй музыки: в нем избегаются как чрезмерная, экспрессивность, так и сладкая благостность.
Отбор и расположение текстов
Из общего замысла проистекают нетрадиционный отбор и расположение традиционных текстов (в отдельных случаях композитор допускает купюры, незначительные отклонения от оригинала). На «либретто» обоих циклов необходимо задержаться.
В «Восьми духовных песнопениях» слова первой части, «На постриг», взяты из монашеского обряда (перед пострижением монаха отпевают, как умершего) и перекликаются отчасти с притчей о блудном сыне (Лк 15, 11 —31). Здесь впервые звучит идейный мотив покаяния.
Вторая часть, «Из Пророка Софонии», основана на фрагменте Ветхого завета «День гнева» (Соф 1, 15 —17), послужившем поэтическим источником для «Dies irae» в католической мессе, и рисует картину Божьего суда над живыми и мертвыми, кары за грехи.
Текст № 3, «Моление о спасении», поется на празднике «Всем святым»: это так называемая Ектения, обращение к святым, как бы посредникам между Господом и людьми, со смиренной просьбой молить Бога о прощении грехов.
Слова четвертого хора, «Соборование», — часть (называемая также Елеосвящение) погребального обряда, одного из семи христианских таинств. Оно совершается у постели умирающего для его благословения и отпущения грехов. Замысел композитора состоял, вероятно, в том, чтобы обозначить здесь некую точку духовного перелома, завершив этим номером первый круг развития.
И если в свете эпиграфа «Соборование» символизирует «обморок», то № 5, «С нами Бог», написанный на слова, распеваемые в Великое повечерье перед Рождеством и возвещающие о рождении Господа, приобретают и другой смысл: обновление, второе рождение человека («ожил»), очистившегося от скверны и принятого в объятия Всевышнего, — недаром в редакции 1970 года хор назывался «Благодарение за спасение».
В основу шестой части, «От Матфея» (Мф 15, 14), положено изречение Христа о фарисеях, о пагубе лжи и заблуждения: «Оставьте их: они — слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Введение этого хора, написанного в 1989 году (вместе с №№ 2 и 8), было словно предопределено упоминавшейся сценой из кинофильма «Бег», где Хлудов читает именно этот евангельский текст. Напомним также, что в «Легенде о Тиле» А. Алова и В. Наумова (с музыкой Каретникова) слепцы, снятые в брей-гелевской изобразительной манере, — один из лейтобразов ленты. Стих этот родствен по содержанию также большой обличительной проповеди Иисуса, направленной против фарисеев (Мф 23, 16—26), лейтмотив которой — духовная слепота («вожди слепые», «безумные и слепые», «фарисей слепой»). Расшифровывать современный, болезненно актуальный смысл притчи, думается, нет необходимости. Внутри цикла она резонирует второй части («Стеснятся люди и будут ходить аки слепы...») и части пятой («Людие, ходящи во мгле, видиша свет велий...»).
Седьмой хор, «Хвалите имя Господне!», — свободная комбинация строк из ветхозаветных псалмов (134 и 135), принятая во Всенощном бдении, во второй ее части, Утрене.
Наконец, заключительный № 8, который выступает не столько финалом, сколько эпилогом, — «Отче наш», одна из самых употребительных молитв (Мф 6, 9 —13; Лк И, 2 —4), включенная в Литургию Иоанна Златоуста. Здесь утверждается самый способ общения с Богом, общения немногословного, даже интимного. Неслучайно в Евангелии от Матфея учению Христа о молитве предшествует своего рода «вводная часть», где сказано: «А молясь, не говорите лишнего... ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него».
«Шесть духовных песнопений» открываются «Молитвой святого Ефрема Сирина». По канону христианского богослужения, она включается в каждую из основных частей великопостного чина. Молитва эта, как отмечал А. Мень, «как бы суммирует весь внутренний мир христианина» (131: 81) и в контексте каретниковского цикла носит характер обобщающего вступления. Стихи жившего в IV веке одного из величайших христианских поэтов спустя полторы тысячи лет вдохновили Пушкина:
Владыка дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не даждь душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Второй номер — «Просительная ектения» (по-гречески «ектения» и означает прошение, усердное моление), текст которой входит в эзотерическую часть Литургии — Литургию верных, а также во Всенощную, и содержит мольбу об избавлении от скорбей, гнева, нужды, о милости Божьей: прощении грехов, покаянии, «христианской кончине» и добром ответе на Страшном Суде, о предании своей жизни Господу. Ектения воспринимается как непосредственное продолжение первой части.
Часть третья, «Молитва Симеона Богоприимца» («Ныне отпущаеши...»), написана на текст, взятый из Евангелия от Луки (2, 29 —32). Это слова праведного старца Симеона, сказанные, когда он взял на руки младенца Иисуса, принесенного в храм для посвящения Богу. «Ныне отпущаеши...» был гимном иерусалимских первохристиан, а потом занял место во Всенощном бдении, в заключение Вечерни. Евангелист повествует: старцу «было предсказано, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Своей молитвой он воздает благодарение Господу за то, что увидел наконец, Того, Кого ждал, в приход Кого свято верил, за то, что теперь мир («все народы») будет спасен, и на язычников снизойдет свет просвещения. В гимне сплетаются хвала грядущему Спасителю и просветленная печаль ухода.
Следующий номер, антифон «Блаженны», основан на начальных стихах знаменитой Нагорной проповеди (Мф 5, 3 — 12), которая обещает вход в Царство Божие тем, кто жаждет духовности, чист сердцем, гоним за правду... Христос называет их блаженными, ибо они обрели высшую радость, высшее счастье. Текст этот входит во вторую часть Литургии, так называемую Литургию оглашенных, то есть тех, кто только готовится принять крещение. Собравшиеся повторяют за священником или дьяконом слова Спасителя. Каретников возвращает понятию антифона его изначальный смысл — пение на два хора (тенора и басы), как это было принято еще во времена Иерусалимского Храма, а не солистом и хором, как утвердилось в Обедне позднее. Для исполнения «Блаженны» в церковной службе композитором предусмотрена вступительная фраза — воззвание благоразумного разбойника, распятого вместе с Иисусом: «Помяни меня (в Литургии — «нас»), Господи, когда приидешь в Царствие Твое» (Лк 23, 43).
Если «Блаженны» — абсолютное воплощение идеального начала, то в пятой части, «Из Пророка Исайи» (Ис 5, 20 — 24), речь ведется о носителях порока, которые зло называют добром и, наоборот, которые за мзду оправдывают виновного, а правого лишают законного. Отвергшие закон Господа будут покараны.
В заключительном хоре, «Из речений Христовых» (Мф И, 28—30), использовано обращение Иисуса ко всем «труждающимся и обремененным». Функция финала — дать ответ на два первых номера. В них содержалась мольба о благодати, здесь же говорится о том, как ее обрести: пребывать в кротости и смирении.
Рассуждая о «старом и новом» в песнопениях, следует отметить, что подобная организация скрытого сюжета, основанного на подтексте, метафоре, втором смысле, — конечно же, признак современного вокально-циклического произведения. Этому «сюжету» подчинена стройная архитектоника обоих композиций. Она обходится без таких сильнодействующих средств, как единство конфликта, сквозное развитие, мощные интонационные «скрепы» и т.п.
«Восьми песнопениям» внутреннюю цельность придает прологовый и эпилоговый характер крайних частей, подобие двух половин цикла и вытекающее из него сходство драматургических функций и общего склада музыки №№ 2 и 6, 3 и 7, «вопросо-ответное» соотношение частей 3 и 5, наличие генеральной кульминации, приходящейся на точку «золотого сечения» формы — шестой хор. Вместе с тем каждое песнопение закончено и может звучать отдельно, а все произведение — с изъятиями.
«Шесть песнопений» «досказывают» идеи первого цикла и опираются на очень близкие композиционно-драматургические принципы. В обоих есть по одному номеру с участием солиста; «вопросо-ответное» соотношение частей воспроизводится во втором цикле (№ № 2 и 3); картина Божьей кары рисуется во втором хоре «Восьми песнопений» и в предпоследнем — «Шести»; в обоих циклах по две части на тексты из Евангелия от Матфея (того самого, с которого Каретников начал подробно знакомиться со Священным писанием, слушая Баха!); оба завершаются распеванием слов Иисуса. Два произведения складываются в диптих, своего рода сверхцикл, подобно тому как оперы Каретникова образуютдилогию.
1
«Сколь же многое зависит от того, насколько режиссер подготовлен к своей деятельности! — восклицает Каретников. — Мне помнится, что в 1965 году в музыкальный отдел «Мосфильма» явился молодой, но уже не начинающий режиссер и потребовал для написания музыки к своему будущему фильму... С.С. Прокофьева» (83: 154).
2
На это обратила внимание И. Шилова в статье, специально посвященной художническому союзу Алова, Наумова и Каретникова (5: 137).
3
В связи с этим нельзя не воздать должного проницательности журналистов, которые в газетной рецензии на фильм, вслед за «острохарактерной пластикой» отметили «необычайно выразительную музыку Каретникова» и предположили: «Последняя, на наш взгляд, может стать основой для самостоятельного фильма-балета» (4).
Музыкальная стилистика
Столь же органично сосуществуют традиционное и нетрадиционное — или, лучше сказать, привычное и непривычное — в музыкальной стилистике сочинений. В самом общем виде кредо Каретникова — автора духовной музыки можно сформулировать как обновление в рамках канона. Возвращаясь к утверждению композитора: «Это традиционная церковная музыка», необходимо уточнить: здесь живут традиции четырех — пяти веков, то есть всей истории русского хорового многоголосия и более ранней эпохи. Но не все, рожденное историей, одинаково близко Каретникову. А признаваемые им «непривычности», действительно принадлежащие XX столетию, как раз уходят корнями в далекое прошлое. Самое современное взращено на почве самого древнего. И, подчеркиваем специально, исконно русского. «Блуждания русской певческой мысли по иноземным путям», о чем с сожалением говорил С. Смоленский и что на самом деле имело место в XVIII —XIX веках, Каретникову хотелось всячески избежать.
Отсюда прежде всего общий колорит музыки, строгий и аскетичный, рождающий ощущение архаики, колорит, традиционно сравниваемый с храмовой архитектурой и живописью, — без малейшего намека на ариозно-романсовую «задушевность», чувствительность и слащавость. В XIX веке, пожалуй, только Мусоргский смог воспроизвести его, не впадая в стилизацию, в раскольничьих молитвах «Хованщины». Отсюда и возвышенный строй чувств, по которому безошибочно узнаются древние песнопения. Вместе с тем музыка Каретникова отнюдь не безжизненна. Суровая и «бедная» в одном, она щедра и разнообразна в другом, что также вызывает соответствующие архитектурно-изобразительные аналогии: говоря о храмах византийской традиции, А. Мень отмечает «художественное богатство интерьера при весьма скромном, даже суровом внешнем облике» (131: 14). Имеют значение и обращение к мужскому составу, и характерная фонетика церковнославянской речи, чья «величавая лаконичность и выразительность как нельзя более соответствуют духу молитвы и священнодействия» (131:19).
В движении голосов преобладает поступенность, идущая еще от знаменного пения, но свойственные ему широкие, до нескольких десятков звуков, распевы одного слога отсутствуют, что приближает музыку к современной хоровой традиции. Встречаются попевки, непосредственно напоминающие старинную монодию («8»: 1, 4; «6»: 3, 41). К примеру, мелодия хора «Хвалите имя Господне!» («8»: 7) местами очень близка тому лаврскому напеву, в котором И. Яссер усматривал прототип первой темы Третьего концерта Рахманинова (268: 341) (примеры 56, 57).
Декламационность, забота о слове, связанные с этим «прозаические» структуры, неповторяемость оборотов — все это также унаследовано от древнерусской монодиии. В то же время явственно ощутимо присутствие метра, хотя и свободного. Исключение составляют номера с солистами, воззвания которых выписаны вообще вне тактового членения («8»: 3; «6»: 2). Сглаживающие метрическую пульсацию частые смены размера наблюдаются в большинстве песнопений. За указанными исключениями, ритм преимущественно спокойный, без мелких длительностей, но вместе с тем, в силу асимметричности и нерегулярности, достаточно раскованный, как бы импровизационный. Мягкое синкопирование, «запаздывающие» или «опережающие» начала построений — выдержанный принцип (пример 58).
В этом можно усмотреть зафиксированные в нотной записи свойства специфической манеры исполнения, и тогда хоровое многоголосие воспринимается как «утолщение» монодического напева. Любопытно, что те же качества обнаруживает ритмика камерных и симфонических произведений Каретникова, с православной певческой традицией никоим образом не связанных, но ориентированных на логику речевого начала, что характерно для атональной, додекафонной музыки.
Фактура почти везде представляет собой сплошное (по терминологии В. Протопопова, постоянное) четырехголосие (274: 217), практически без элементов полифонии, как имитационной, так и подголосочной. Такая хоральность, особенно в той ее форме, которая не основывалась на подлинном старинном напеве, помещаемом в одном из средних голосов, более типична для партесного стиля второй половины XVII — начала XVIII веков, а также XIX столетия, но смелость голосоведения и вертикальных сочетаний восходит, скорее всего, к допартесному многоголосию, возможно, к демественным партитурам, бывшим, правда, большей частью трехголосными. Достаточно выразительны и эпизодические отступления от хорального четырехголосия, о которых будет сказано ниже.
Склад изложения вкупе с исполнительским составом — одно из очевидных проявлений самоограничения, явленного Каретниковым в духовных песнопениях. Разумеется, существует традиция еще более скупой фактуры: трехголосие, пение «с исоном», монодия. Но известны, не говоря уж о 24-голосных партесных концертах Бортнянского, 6—7-голосие в композициях П. Чеснокова и других представителей Новой московской школы. Большинство современных авторов духовной музыки предпочитают чувствовать себя менее стесненными в темброфактурном плане, обращаясь к смешанным составам, доводя количество голосов до восьми (Хоровой концерт А. Шнитке), опираясь на выдержанный 5-голосный склад с удвоенным сопрано, классический для западноевропейской музыки XVII века (Литургия Н. Сидельникова) и т.д. и т.п.
Еще одна сфера, где Каретников решительно пошел на самоограничение — формообразование и композиция. Здесь ему пришлось смирить врожденное чувство формы как динамического процесса. Внутри частей превалируют вариантнострофические закономерности — общие, как известно, для церковного и фольклорного искусства. Членят форму одинаковые или подобные начала построений, получающих затем различные продолжения и завершения («каденции»). Непериодичность, упомянутая выше как свойство метро-ритма, является и важным фактором вариантного развертывания строф. На уровне композиционного целого неизменно проведен номерной принцип: как указывалось, все части замкнуты и отграничены друг от друга. Таким образом, текучесть, непредсказуемость развития сочетаются с четкой расчлененностью формы отдельных номеров и циклов в целом.
Пожалуй, ярче всего (и парадоксальней) взаимодействие старого и нового сказалось в области ладогармонической. При несомненном единстве духовно-хорового стиля Каретникова, в нем есть внутренние градации. Условно выделяемые нами три группы песнопений представлены уже в первом цикле. Первую, самую малочисленную из них, составляют третья и пятая части, в которых русская натурально-ладовая гармония мирно соседствует с классическими европейскими кадансовыми формулами типа S —К64 — D ~Т, как то было принято в отечественной музыке (не только церковной) XVIII —XIX веков (пример 59). Во второй группе песнопений — №№ 1, 4, 7 — также ощутима опора на трезвучия и их обращения, но без классицистской «позолоты». Ладогармоническая архаика — переменность устоев и ладовых наклонений, ненормативные для «немецкой» хоральности удвоения и параллелизмы, септ- и нонаккорды побочных ступеней — предстает во всей своей величавости (пример 60; см. также пример 56). В третью группу входят хоры, гармония которых основывается на более смелых, радикальных средствах: это части 2 и 6, а также практически весь второй цикл. Финальный номер «Восьми песнопений» может рассматриваться как промежуточный между второй и третьей группами.
Вспомнив, что хоры, образующие две первые группы, созданы в 1969—1970 годах, остальные части первого цикла — в 1989-м, а «Шесть песнопений» завершены в 1992 году, нетрудно заключить: к мысли о том, что стилевое обновление духовных жанров возможно, Каретников пришел постепенно. Подчеркнем: речь идет о допустимости новаторства именно в данной области творчества. Хоры раннехристиан для «Мистерии апостола Павла», первые из которых появились в том же 1970 году, ближе по стилю к поздним песнопениям.
Впрочем, уж очень резкой разницы между песнопениями не наблюдается. В хорах первой группы нет благостности и умиротворения. Постоянное ладогармоническое варьирование сходных фраз избавляет звучание от пресности, нарушает инерционные ожидания слушательского восприятия. К примеру, в «Молении о спасении» («8»: 3) среди десяти хоровых «подхватов-припевов» нет двух одинаковых: меняются тональности, функции аккордов, некоторые — структурно расширены (см. пример 59). Кроме того, в хорах первой группы встречаются, пусть эпизодически, довольно терпкие созвучия и их последования, колоритные ладотональные сдвиги. Но даже там, где гармония относительно «спокойна», воцарению безмятежности препятствует энергичный темп и минорный лад, как в хоре «С нами Бог!» («8»: 5).
В песнопениях второй и третьей групп напряженность вертикали возрастает и сгущается, к диатоническим диссонансам, порой весьма острым (пример 61), прибавляются хроматические и альтерационные. Переходя к их описанию, следует еще раз напомнить, что консонантность не является родовым признаком церковной музыки. Самые ранние формы русского профессионального многоголосия, по поводу дешифровки которых, кстати говоря, до сих пор ведутся дискуссии, отличались гармонической жесткостью. В некоторых случаях звучание сливалось в беспрерывный поток диссонансов, что было нормой, в частности, для демественных партитур, где координация по вертикали по сути дела отсутствовала, блокированная линеарной энергией голосов.
Современному человеку, если его слуховой опыт ограничен музыкой XVIII —XIX столетий, иные произведения XVI века могут показаться более «левыми», нежели образцы последующих эпох. В ставших доступными ныне звукозаписях, в новых расшифровках древнерусских певческих книг встречаем много такого, что даже для музыканта, воспитанного на европейской или «европеизированной» гармонии, прозвучит более чем непривычно. В порядке вещей параллельные октавы и квинты, а также трезвучия и их обращения, септаккорды, длительные секундовые параллелизмы, чего не найдешь у западноевропейских современников мастеров демественного пения — Палестрины, Лассо, Букстехуде. (На память приходят лишь дерзкие новации Джезуальдо, который в хоральной фактуре, но воздвигнутой на совершенно иной интонационной базе, уделял большое внимание горизонтали, соединял различные ладообразования в одновременности или чередовал на близком расстоянии, широко использовал остродиссонантные вертикали, переченья, вводнотоновую аккордику. Все это, вместе взятое, вело к разрастанию зоны неустойчивости, нередко простиравшейся от начала до конца произведения или его части.)
Часты секунды, кварты, септимы, ноны, взятые и разрешаемые вне строгих правил. Композиция может завершиться обращением трезвучия и даже сочетанием двух секунд. Все эти и многие другие «непривычности» пришли в профессиональную музыку из народно-песенного многоголосия. Дополнительный колоритный мазок — преобладание низкого регистра мужского хора и тесного расположения аккордов. В таких условиях даже консонантные вертикали звучат с некоторым напряжением.
Каретников, во-первых, сгущает, усугубляет все то, что в оригиналах смотрит в XX век. В численно преобладающих хорах третьей группы почти отсутствует терцовость — трезвучность, терцово-секстовые удвоения и т.п. Господствуют аккорды нетерцового строения. Логика формул типа Т— S—D—Т, другие «школьные» обороты с «прозрачной» функциональностью избегаются или маскируются неаккордовыми звуками, элементами бифункциональности. Ни разу (!) не встречается оборот, «дежурный» в русской церковной музыке полутора предреволюционных столетий: I—VII—III в натуральном миноре. Нет и намека на автентичность — гармонических доминант, отклонений через побочные доминанты, нет аккордов двойной доминанты. Суб доминантовая функция представлена не II , в изобилии присутствующим в сочинениях Кастальского, Чеснокова, Гречанинова, а другими аккордами.
Во-вторых, Каретников, конечно, идет дальше того, что могла предложить русская старина, — особенно по части хроматики, эллиптических последовательностей (см. пример 58).
По приведенному фрагменту «Из пророка Софонии» хорошо видно, как энергично и в то же время легко совершается модулирование. Гораздо больше примеров того, что правильнее было бы назвать не модуляцией, а незакрепленностью и свободной сменой опор, характерной чертой модальной диатоники, свойственной и средневековой монодии, и хоровому искусству, как русскому, так и зарубежному, XIV —XVI веков. Такие сдвиги, «переливы» происходят на основе линеарных связей и чаще всего — в суб доминантовую («бемольную») сферу, что было распространено в русском церковном пении на рубеже XVII —XVIII веков, но идет от еще более ранних форм (пример 62). Особо показательно «Соборование» («8»: 4), начинающееся в ля, а заканчивающееся в ре миноре, но не тоникой, а трезвучием VI ступени. Вообще, нетонические начала, окончания в другой тональности — явления, отнюдь не исключительные в обиходе, — нередки в обоих циклах Каретникова («8»: 2, 5; «6»: 1, 2, 3, 6).
Ладотональные процессы порой настолько активны, что композитор отказывается от ключевых знаков, как это принято в атональной музыке («8»: 8; «6»: 1, 6). В ряде хоров есть участки, на которых тональные опоры вовсе не обнаруживаются. В песнопении «От Матфея» («8»: 6) эпизод внетонального развертывания ярко семантизирован, звучит со словами о слепых, падающих в яму (пример 63).
На фоне подобной неустойчивости, которая, как отмечалось выше, в «Шести песнопениях» господствует, важное драматургическое значение приобретают более мягкие гармонические краски финальной части, «Из речений Христовых», в масштабе цикла символизирующие разрешение — не только в тесном смысле слова (переход к ладовой устойчивости), но и в более широком, метафорическом его понимании — как очищения души и обретения духовно-нравственной цели.
В свете проделанного анализа, упомянутая в начале главы коллизия, порожденная обращением «додекафониста» Каретникова к жанру духовных песнопений, оказывается в известной степени мнимой. Хотя в песнопениях нет, как выразился композитор, «ни одной додекафонной ноты», эта музыка написана мастером, вольно чувствующим себя в условиях равноправия всех 12 ступеней хроматической гаммы. Автор и сам отмечал эту лишь внешне парадоксальную связь, когда говорил, что только благодаря тонально-гармонической свободе, пришедшей к нему с опытом додекафонного письма, в духовных циклах удалось создать ощущение архаики (89: 12). Произошла встреча двух систем звуковысотного мышления — дотональной и посттональной. Выше мы обращали внимание на еще один «мостик», соединяющий стили далеких эпох, — нерегулярную, речевой природы ритмику, к которой тяготеют и древние культовые напевы, и двенадцатитоновая музыка.
В обоих стилях с особой остротой встает проблема единства формы. Во многом близкими являются и способы ее решения. В условиях, когда формообразующие функции гармонии выявлены не так ярко, как в классико-романтической музыке, большая нагрузка падает на разного рода лейтобразования. В циклах Каретникова, особенно во втором, форму целого и отдельных частей «держат» следующие элементы (некоторые из них упоминались ранее):
— частые органные пункты, педали в средних и верхних голосах (пример 64; см. также другие примеры);
— колоритно звучащие квартовые и кварто-тритоновые сочетания (см. примеры 58, 62);
— выделяющийся светлой окраской мажорный секстаккорд с удвоенной в «сопрано» терцией — ьII или VI ступени в миноре (см. примеры 60, 62, 63);
— схождение голосов в унисон или расщепление унисона (использовавшиеся Кастальским и другими «новомосквичами», но в условиях иной гармонии и смешанного хорового состава) — с почти обязательным одновременным звучанием центрального и обоих прилегающих тонов (пример 65);
— в случае, когда двухголосие применяется как фактурный прием, — характерное голосоведение, пришедшее из древнейших форм многоголосия: ход к чистой квинте или от нее противодвижением голосов (пример 66).
Перечисленные скрепляющие элементы выступают и приметами духовно-хорового стиля Каретникова.
В числе лейтобразований упомянем обороты, наделенные в европейской музыке нескольких веков устойчивым выразительным смыслом. Прежде всего, это риторические фигуры катабасис и анабасис. Первая представляет собой мелодическое нисхождение и имеет семантику «низа» — греховного мира, тьмы, могилы, ада. Ее находим в песнопениях «От Матфея» («упадут в яму»), «Из Пророка Исайи» («корень их яко перст будет, и цвет их яко прах взидет»). Анабасис — фигура восхождения — символизирует «верх»: небеса, просветление, покой. Она встречается в «Соборовании» («Мы с упованием подъемлем взор свой к небеси»), «Молитве Симеона Богоприимца» («...свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля»), «Из речений Христовых» («...и бремя мое легко есть»). Используется и тема-символ — мотив В—А-С-Н, трактованная Каретниковым не как олицетворение вечных духовных ценностей, высокого искусства, творческого вдохновения, связанных с именем Баха, а как барочная эмблема «креста», означающего страдания и скорбь. Этим мотивом, помещенным в верхнем голосе, открывается песнопение «Из пророка Софонии». Показательно, что в «Мистерии» мотив В— А—С—Н на той же высоте открывает хор (в целом другой по музыке) на тот же текст. Еще один афористический оборот, соль-диез —ля —си —си-бемоль, близкий мотиву В—А—С— Н структурно (как его транспонированный и частично обращенный вариант) также звучит в хоре ярко трагического характера — «От Матфея». Оба раза он приходится на слово «слепые».
Как известно, в музыке самого Баха в круг хроматических интонационных образований, родственных и фамильной анаграмме, и только что указанному мотиву, входит лаконичная начальная тема фуги до-диез минор из первого тома «Хорошо темперированного клавира», также представляющая собой символическую фигуру креста. Вряд ли можно отнести к случайным совпадениям точное проведение этой темы партией первого баса в последних тактах «От Матфея». Сходство воспринимается как абсолютное, если принять во внимание идентичность тональности, четыре ключевых диеза которой тоже очерчивают контуры креста.
Нельзя не признать, что все эти европейские символы органично входят в музыкальную ткань таких русских сочинений, какими являются духовные песнопения Каретникова, и вписывают их не в одну только национальную, но в мировую традицию.
Вера и творчество
Суровым, а подчас и драматическим духом веет от этих произведений. Для композитора они были, конечно, гораздо большим, чем музыкой на религиозные тексты. Песнопения — взгляд на мир и человека с точки зрения верующего христианина. Древние тексты, вечные идеи согреты собственной мыслью, наполнены личным чувством. Что же удивляться диссонансам, коль рисуется устрашающая картина Божьего суда? Разве не мучительно блуждание впотьмах под водительством не видящих света? Не требует ли таинство покаяния духовного и душевного усилия, чтобы осознать свою вину, свое соучастие в грехах, творящихся рядом с тобой? Ведь, по слову Достоевского, «все виноваты во всем»...
Совместима ли вера с творчеством? В православной литературе распространен взгляд на талант как на искушение. Осмелимся возразить: на наш взгляд, подлинная вера немыслима без глубокого внутреннего переживания Евангельской истории, без осознания трудности пути к Богу. Переживания же всегда были и будут предметом искусства. Каретников никогда не усматривал тут противоречия. По крайней мере, в его высказываниях не проскользнул даже намек на это. Иное, к примеру, у А. Шнитке. Он полагает, что творчество — всегда самоутверждение, выдвижение на первый план личностного начала, а это, по его мнению, не согласуется с религиозными принципами. «Работая, надо быть уверенным в том, что делаешь. Сама работа навязывает эту гордыню... Было время, когда религия уводила меня от музыки (Каретникова, как мы помним, напротив, музыка приблизила к религии, — А. С,). Но я вернулся к этой более греховной и менее священной сущности, потому что не мог не быть музыкантом» (244: 17).
Каретникову, как нам кажется, удалось создать высокохудожественную религиозную музыку. Удалось обогатить и творчески развить древние традиции, не преступая их границ. Он и в других обстоятельствах доказывал свою способность выполнять определенные условия, оставаясь творцом.
Ему, несомненно, были хорошо известны воззрения на этот предмет отца Александра, который высоко ценил дар творчества, вдохновенно говорил о нем, неизменно подчеркивая, что дар Господень, то есть талант, художническая индивидуальность, не противоречат вере, а верой приумножаются. «Лишить человека творчества, — полагал он, — значит лишить его важнейшей черты богоподобия... Творчество — священно» (130: 57, 64). Что же касается греховности, соблазна, гордыни, то, по его убеждению, они таятся не в искусстве, не в науке, а в нас, в человеке. Корень культуры — в духовности, в вере, а религии и искусства суть порождения культуры. В этом вопросе духовный наставник композитора также шел по пути, проложенному С. Булгаковым, Н. Бердяевым, И. Ильиным, В. Соловьевым, Г. Федотовым.
К счастью, и в наши дни далеко не все религиозные мыслители усматривают между верой и творчеством фатальное противоречие. Среди тех, кто смотрит на вещи по-другому, — отец Борис (Нечипоров), настоятель одной из сельских церквей Тверской епархии, ученый-психолог, который считает: «Вера — залог свободы духа». Вспоминая в этой связи евангельскую притчу о талантах, он утверждает: «Талант — богатство, достояние, просто мера денег... Его нельзя закопать, оставить втуне. Это дар Божий, который нужно приумножить и вернуть Богу» (140: 82).
«Божество» и «вдохновенье» ставил рядом Пушкин...
«Без божества, без вдохновенья» не воплотилась бы особенно дорогая Каретникову в духовных песнопениях, лично выстраданная им тема покаяния. Этот идейно-образный мотив роднит хоровые циклы с самой значительной работой композитора — оперной дилогией.
ГЛАВА 10. ОПЕРА-МЕНИППЕЯ И ОПЕРА-МИСТЕРИЯ. «ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ» И «МИСТЕРИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА»
«Пять часов музыки...»
«Если в течение долгих лет в сфере моего внимания были исключительно камерно-симфонические жанры, то в последние годы я переключился на оперно-ораториальную область творчества. Правда, всегда интенсивно работал в кино и драматическом театре, что, вероятно, как-то стимулировало интерес к опере. Работа в так называемых прикладных жанрах уточнила мои желания относительно того, что я вообще хотел бы видеть на музыкальной сцене» (82: 120).
Спустя некоторое время после того, как были произнесены эти слова, Каретников завершил «Тиля Уленшпигеля» (1985) и «Мистерию апостола Павла» (1987). Работа над ними шла параллельно на протяжении почти двадцати лет, что дало композитору основание сказать: на эти пять часов музыки «я, похоже, потратил всю жизнь» (44: 17). Реально в сфере идей двух оперных партитур — идей в широком смысле слова и собственно музыкальных — он жил более трех десятилетий. 12-тоновый ряд, который стал потом «серией Нерона», проверялся на прочность уже в музыке к кинофильму «Конец и начало» (1963). Некоторые звуковые построения «Мистерии» предвосхищены в Камерной симфонии, затем откликнулись в последних инструментальных опусах — Квинтете (1990) и Концерте для струнных (1992). В ней берет исток хоровая линия творчества, в частности, тот «суровый дух первохристи-анства», который особенно ощутим во втором цикле песнопений (1992), а также в кинопартитуре «Власть Соловецкая». Первые темы «Тиля» также родились еще в начале 1960-х годов. Опера связана с двумя фортепианными пьесами, сюитой «Из Шолом-Алейхема», музыкой к фильмам «Голос» и, естественно, «Легенда о Тиле».
Перекликаются оперы и друг с другом: являясь совершенно самостоятельными произведениями, они в то же время могут восприниматься, в соответствии с авторским замыслом, как грандиозная дилогия. Сейчас, когда творческий путь Каретникова завершен, отчетливо вырисовывается ее место в композиторской биографии как сочинения во многом итогового, а также ее весьма значительная роль в современном оперном процессе. Впрочем, последняя все еще остается «вещью в себе» и формулируется лишь в сослагательном наклонении: какое значение возымела бы дилогия, будь она поставлена на российской сцене. Готовившийся в 80-е годы на ЦТ спектакль по «Тилю» не состоялся в связи со смертью режиссера А. Эфроса. Замысел осуществился частично — в фонограмме оперы, блестящей по исполнительскому классу и качеству записи (по ней в России выпущены грампластинки, во Франции — компактдиски). В 1993 году «Тиль» увидел свет рампы в немецком городе Билефельде. Концертные исполнения «Мистерии» состоялись в немецком городе Локкуме (1995) и Петербурге (1996).
Правда, афиши российских оперных театров давно уже дают, как осторожно выразилась М. Сабинина, весьма неточное представление о реальной картине творчества. «В репертуар попадает (и удерживается в нем) сравнительно немногое из того, что пишется и содержится в композиторских портфелях» (174: 79). Для тех, кто смог познакомиться с «Тилем» и «Мистерией», очевидно: они существенно расширяют и меняют наши представления о современных оперных исканиях. Тематика каретниковских опер, стилистические решения, представляемые ими жанровые разновидности в чем-то созвучны тенденциям времени, но в ряде отношений вполне оригинальны, отмечены знаком подлинного новаторства.
«Тиль Уленшпигель»
Роман Шарля де Костера и опера. Роман Костера был для Каретникова одной из любимых книг детства. «Я читал эту книгу много раз, — рассказывал композитор, — и довольно рано задумался над тем, чтобы написать что-нибудь на ее основе» (82: 120).
Пиетет перед романом не помешал его решительному переосмыслению (либретто П. Лунгина и композитора). Рискнем утверждать, что либретто, опера в целом по своим художественным достоинствам, по силе воздействия выше книги. Да простят нам непочтение к роману, считающемуся у нас классическим (одно из его переизданий вышло в серии «Классики и современники»), но оценка Р. Ролана — «Великое произведение всечеловеческого искусства» — кажется ныне сильным преувеличением. Костер не был большим писателем. Перечитывая его сегодня, замечаешь и тяжеловесную назидательность, и перегруженность «познавательным элементом», и рыхлость композиции, многословие, повторы, и вялость диалога.
Другое дело, что материал, тему для вариаций костеровская «Легенда об Уленшпигеле» дает великолепный. Даже если оставить за скобками Р. Штрауса, художника другой страны и другой эпохи, и обратиться к творчеству наших соотечественников, мы обнаружим целую галерею «Тилей»: в балетах Ю. Фалика и Е. Глебова, в рок-опере Р. Гринблата, в театральной пьесе Г. Горина.
Либреттисты не ограничились сокращениями: перекроены сюжетные линии, изменены судьбы персонажей. События тесно сдвинуты, порой «вдвинуты» друг в друга. Действие приобрело стремительность и динамизм. Ритм диалогов приближен к нашим дням, к стилю современной прозы, театральной и кинодраматургии (напомним, что П. Лунгин — сценарист-постановщик фильмов «Такси-блюз», «Луна-парк»). Острее стала лексика, не избегающая «соленых» словечек, рискованных двусмысленностей, пассажей на грани непристойности. Многие сцены поданы совершенно по-другому, и в сравнении с ними соответствующие главы романа кажутся не более чем их бледной тенью.
В книге множество песен. В опере их тоже немало, но Каретников не воспользовался ни одной из костеровских, все тексты написал сам.
«Лунгин обладает парадоксальным мышлением, — рассказывал композитор, — ни одну сцену он не решал впрямую; всякий раз придумывал какой-нибудь хитрый ход, придающий особый смысл происходящему. Так, сцена отречения Карла от престола не представляет собой заседание королевских кортесов, а решена как заранее запротоколированная, произносимая «по бумажке» репетиция отречения» (82: 121).
Многоплановость повествования, присущая и роману, выявлена резче, при этом разные образно-драматургические пласты взаимодействуют теснее, а целое обладает тем уровнем органичности и единства, до которого Костер подняться, увы, не смог.
Но главное — в опере иные идейные акценты и эстетические приоритеты. Сошлемся только на один пример:
— Господи, я много грешил, я жил, как мог, — темно и нечисто, не зная ни истины, ни милости. Вот я пред Тобой... Что делать мне?
В этих словах слышатся растерянность, рефлексия, ощущение распутья, шаг к покаянию. И это — Тиль?! Неистощимый балагур и дерзкий проказник, лицедей и бродяга, бесстрашный воин, мститель? Да, у Тиля, каким его создали Каретников и Лунгин, бывают и такие минуты. Подобной сцены — а в опере она одна из ключевых — нет и не могло быть в романе. Ни один литературный сюжет, с которым прежде приходилось работать композитору, не требовал такого активного вмешательства. Может быть, поэтому Каретников очень долго подбирал ключ к книге, искал либреттиста, который разделил бы его воззрения.
Но в первую очередь композитора привлекли в образе Тиля мощная жизненная сила, замечательная способность «сбрасывать иронией или шуткой трагичность ситуации». Манили и «поразительные возможности для создания исторического фона, яркость сценического колорита» (82: 121). «Тиль» Каретникова — не историческая драма, но история тут — нечто большее, чем фон. Вся художественная ткань оперы проникнута точным ощущением эпохи, ее атмосферы, ее красок и аромата. Опера дышит поздним средневековьем и — что еще важнее, особенно применительно к главному герою, — ранним Ренессансом.
...Фландрия, одна из семнадцати провинций Нидерландов, XVI век. Кажется, будто горожане сошли с «Группового портрета» Д. Якобса, в сценах «Рынок» и «Карнавал» словно оживают картины И. Бекеларса, Л. ван Фалькенборха или П. Брейгеля, чья «Ярмарка с театральным представлением» послужила для оформления коробки и буклета грамзаписи. Восстание против испанской короны и официальной католической церкви. Дворянская оппозиция колониальной власти и партизанская война «гёзов», фламандских простолюдинов. Реальные исторические фигуры, действующие или упоминаемые в опере: король Карл V и его сын Филипп II, кровавый наместник последнего герцог Альба, нидерландские штатгальтеры или, говоря сегодняшним языком, главы исполнительной власти принц Оранский, графы Горн и Эгмонт. Эпоха, запечатленная Шиллером и Верди, Гете и Бетховеном...
Но исторические реалии трактуются в соответствии с известной нам максимой А. Габричевского: «История человечества есть прежде всего история культуры». Дыша историей, опера дышит культурой. Каретникову и Лунгину в полной мере удалось воплотить в образной системе тезис, который на языке ученых звучит так: в любую эпоху, но в ту, о которой идет речь, по ряду причин — особенно, все стороны практической деятельности людей «культурно окрашены» (54: 27). Сказанное относится не только к категориям философии или искусства, но и к морали, праву, хозяйственным отношениям, социальному поведению, взглядам на собственность и многое, многое другое.
К примеру, оперный Тиль, в отличие от Тиля книжного, нигде не рассуждает о религии, не «читает лекций», не излагает своего кредо. Но из поступков и беглых замечаний, действий и высказываний других персонажей, множества нисколько не педалированных ситуаций слушателю-зрителю становится внятной острейшая конфессиональная коллизия: формирование оппозиционной по отношению к католицизму новой разновидности христианства — протестантизма.
«Эклектика, возведенная в художественный принцип». Музыкальная стилистика «Тиля» кричаще разношерстна. В опере много музыки, как бы документирующей время, музыки, по театрально-кинематографическим понятиям, сюжетной, «внутрикадровой»: полтора десятка песен, танцы, моменты инструментального музицирования. Едва ли не каждая из песен имеет образно-содержательный и (реже) музыкальный прототип. Скажем, второй дуэт Тиля и Ламме («Герцог Альба — смрадный пес»), хор фламандцев в сцене боя восходит к жанру, который так и именуется: песни гёзов. Песни Неле похожи на «женские песни» миннезингеров, в свою очередь опирающиеся на древнейшие фольклорные традиции (пример 67). Песни Ламме — на поэзию вагантов, воспевающих Бахуса, гастрономические и любовные утехи. В них отразился популярный в средние века цикл легенд об утопической стране обжорства и безделья, где возвышаются горы из масла и муки, текут реки из молока, а горячие пирожки растут из земли, как грибы (пример 68).
Мы слышим построения в форме органума, самого раннего типа полифонического двухголосия, мелодии в стиле григорианского хорала (пример 69), волыночные наигрыши, танцы, напоминающие старофранцузский бранль (близкий родич гавота), гальярду, словно «изукрашенную» на лютне или клавесине, турниджер, пастурель, эстампиду (пример 702). И если эти названия ныне можно найти разве что в трудах по истории музыки и танца, то само звучание такой музыки, ее ритмомелодические обороты, гармонии и тембры уже несколько десятилетий как вошли в слуховое сознание современников благодаря многочисленным ансамблям старинной музыки, начиная с «Мадригала» А. Волконского.
Но даже здесь, в сфере «документирующей» музыки, нас ни на миг не покидает чувство, что мы слушаем оперу конца XX века. Даже здесь, не говоря о «бросающихся в уши» анахронизмах, возникающих из-за музыкальных тем, ориентированных на стиль не средних веков и не Ренессанса, а баховской эпохи, и уж тем более не говоря о двух других стилевых пластах партитуры — додекафонном и условно обозначенном Каретниковым как область «традиционной европейской гармонии». Дело в том, что под наложенной композитором тонкой ретушью — интонационной, гармонической, тембровой или иной — вся «старинная музыка» предстает как бы в двойном освещении. Стилизуя, автор, как точно выразился М. Тараканов, не столько стремился к музейно-археологической точности, сколько воссоздавал дух сегодняшнего ощущения музыки той поры (200: 11).
Историческая достоверность и недвусмысленная апелляция к современности идут рука об руку и в литературном тексте. Сквозь духовно-культурные реалии далекой эпохи проглядывают современные представления, современная ментальность. Образчики их активного и резкого вторжения рассыпаны буквально по всей опере.
Жанрово-драматургические прототипы. Аналогично, но, пожалуй, еще сложнее взаимодействует старое и новое в жанре оперы. Каретников назвал «Тиля Уленшпигеля» зингшпилем. Основания для этого были: значительный удельный вес песенно-строфических эпизодов, принцип чередования разговорных диалогов с музыкальными номерами и сценами. Но многое, и прежде всего театральная эстетика и художественная концепция, никак не согласуется с законами зингшпиля — будь то наивные бытовые комедии австро-немецкого музыкального театра или такой шедевр, как «Волшебная флейта» Моцарта. Немецкая критика обнаружила в «Тиле» черты пассивное: «Сцены из «Страстей по Матфею» вспоминаются в эпизодах казней и пыток... Абсолютно сознательно, не стесняясь, Каретников строит по этим моделям» (154: 14).
Говоря о жанровых и драматургических прообразах, нельзя не упомянуть оперный театр Прокофьева. Воздействие прокофьевской оперной эстетики сказывается в максимальной музыкально-драматической конкретности образов, ситуаций, обстановки действия; в выпуклой характеристичности мельчайших ячеек музыкальной ткани, их исключительной образной концентрированности. Вероятно, от Прокофьева идут и некоторые решения массовых сцен, пристрастие к музыкально-сценическим контрапунктам, кое-что в технике лейтмотивов, отточенность индивидульно-характерного, психологически насыщенного речитатива. Подобно Прокофьеву, Каретников ~ оперный драматург широко опирается на собственный опыт балетного и кинокомпозитора, опыта, который дарит возможность в вокальной ли интонации, оркестровой реплике или тембро-гармоническом пятне передать внешнюю, пластическую сторону облика персонажа, шире — через слышимое передать видимое (см. с. 49).
Однако известное родство эстетических установок маскируется несходством стилистическим. Типы музыкального мышления глубоко различны. И даже, говоря о кинематографичности оперы, следует иметь в виду поэтику не Эйзенштейна, а, скорее, Алова и Наумова (хотя по поводу именно этого сюжета — при совместной работе над картиной «Легенда о Тиле» — позиции режиссеров и композитора кардинально разошлись).
Можно назвать в ряду истоков некоторые находки нововенцев, а именно открытые ими новые способы вокализации текста, можно вспомнить «еще что-нибудь», но это будут не более чем аналогии, проливающие свет на те или иные стороны, элементы идейно-художественного и стилевого целого, каковым является «Тиль Уленшпигель», но никак не объясняющие самое целое. Целое, в котором соседствуют и переплетаются несоединимые вещи: традиции старинной оперы, Шенберга и Прокофьева; комедия в раблезианском роде и высокая трагедия; симфонизированное развитие и номерной принцип; три стилевых пласта: условно говоря, барочный, классико-романтический, додекафонный. В чем секрет цельности, ощущаемой слухом еще до всякого анализа?
Система музыкальных образов. Напрашивающийся ответ: в единой системе музыкальных образов, в органичности интонационно-тематического развития. Действительно, это развитие охватывает оперу целиком, идет поверх стилевых барьеров, пронизывает стилистические пласты насквозь. Один и тот же интонационный материал кочует по разным пластам, накрепко их соединяя. Важность этого фактора трудно переоценить, ведь чем более дробно и мозаично целое, тем многочисленнее должны быть связи между составляющими его элементами.
Весь музыкальный материал собран вокруг нескольких центральных лейтгем и образует две основные драматургические сферы. В сжатой оркестровой интродукции через «лобовой» стык тем смерти и Тиля заявлен ведущий конфликт оперы и предвосхищен его исход: из-под тяжелых, словно могильные плиты, аккордов, взмывает вверх торжествующий клич (примеры 71, 72). Бесчисленными модификациями мотива Тиля пронизана вся музыка оперы. Он вплетается в его песни и речитативные реплики (примеры 73—77), в свирельный наигрыш и насвистываемую им мелодию. На нем основаны инструментальные резюме сцен сожжения Клааса, допроса и смерти Сооткин (примеры 78, 79), оркестровая партия «Боя». Он проникает в партии других действующих лиц — трудно не поддаться обаянию Тиля! (пример 89). Он звучит даже в тех редких эпизодах, где Тиль не появляется, например, в «Карнавале».
В «сферу Тиля» также входят родственные стержневому лейтмотиву тема Родины и тема шутовства. Первая из них, чисто инструментальная, впервые появляется в «Крещении» (пример 81), а затем звучит в сценах «Уход из Дамме», «На дороге», «Дом Катлины» — всегда возвышенно и строго. Вторая, передаваемая от инструментальных голосов к вокальным, сопровождает откровенно «карнавальные» ситуации: скачущий задом наперед Тиль («Уход из Дамме»), ссора Тиля и Ламме перед гентскими воротами, Ламме и «веселые» девицы («Харчевня»). Даже вздернутый на дыбу, Тиль находит в себе силы для буффонных выходок. На теме шутовства построен и заключительный танец, по характеру тематизма и тембровым сочетаниям близкий некоторым страницам сюиты «Из Шолом-Алейхема» (пример 83).
Сфера контрдействия тоже складывается из нескольких интонационных образований, которые, в зависимости от контекста и внутренних видоизменений, воспринимаются то в качестве темы Испании или королевской власти (пример 83-а, б), то — в наиболее лапидарном и обобщенном виде — темы смерти (как в интродукции). В таком варианте, напоминающем вступление к бетховенскому «Кориолану», начало сцены в кабаке из «Воццека» Берга (крещендирующие тоны, «тянущиеся» к туттийным аккордам), она возникает в ситуациях смертельной опасности и насилия: арест Тиля, арест Клааса, победа гёзов над испанцами, которая сейчас же обернется вероломным попранием обязательства сохранить жизнь пленным, и ряде других. Звуковысотный инвариант лейткомплекса — «мотив креста». Интервалика, порядок следования звуков могут меняться, общий рисунок неизменно сохраняется. Так, тема Испании построена на свободном применении приема «интерверсии» (термин О. Мессиана) — расхождении от центрального звука по тонам хроматической гаммы. Содержащиеся в нем «додекафонные предпосылки» реализуются в методах развития темы, на основе которых вырастают серийные построения (примеры 84-а, б).
Контуры темы смерти проступают и в интонационности ряда хоровых эпизодов на традиционныетексты католического реквиема. Тот же оборот развивается в диатоническую пе-сенно-танцевальную мелодию, включающую также мотив Dies irae (пример 85).
Наряду с лейтмотивами-символами в опере широко использованы лейтмотивы более частного значения. Это может быть «мотив ситуации», один из которых, «мотив опасности и насилия», мы только что назвали; мотив, составляющий ядро характеристики персонажа, в основном, второго плана, — таковы сцепленные нисходящие кварты Ламме, часто со словами: «Где ты, жена моя!», или глиссандирующее «Вижу... вижу...» Катлины; наконец, лейтмотив, сохраняющий свое значение в рамках одной сцены.
Вокально-речевое интонирование. Оркестр. На редкость многосоставна вокально-речевая часть «Тиля». Способов произнесения текста множество: от разговорной речи до песенной кантилены, с широчайшим спектром промежуточных форм. Их тщательная разработанность позволяет детализировать ситуации, смены настроения, индивидуализировать психологические портреты персонажей. Каждому типу интонирования соответствует свой способ записи. Нота с перечеркнутым штилем — «несколько разговорно», с крестиком на штиле - «полупение», с крестиком вместо головки — Sprechstimme, с ромбиком на штиле — неполное смыкание связок (с характерным «сипом», напоминающим звучание струнных инструментов sul ponticello), стрелки между нотами — скольжение от звука к звуку по четвертьтонам, ноты без головки — высота звука обозначена приблизительно связующей колодкой.
И здесь соседствуют явления, пришедшие из несоприкасающихся форм и жанров: песни, которые сочинялись для кинофильма «Легенда о Тиле» и предназначались, по всей видимости, для непрофессиональных певцов, — и требующая тренированного слуха и развитой исполнительской техники вокальная декламация, интонационно как бы независимая от оркестра, не опирающаяся на аккордовые звуки. Разные типы интонирования не просто сосуществуют, они постоянно переходят друг в друга — то плавно, то резко. Так, посреди разговорной сцены какая-нибудь фраза пропевается, или, наоборот, песня может прерываться либо накладываться на речевые реплики.
Композиционная целостность отдельных сцен достигается, главным образом, благодаря оркестру. В то время как вокальная часть партитуры, за исключением песен, складывается из множества мелких, неповторяющихся ячеек (краткие реплики набегают и подгоняют друг друга, число персонажей порой весьма внушительно), оркестр «живет» в ином драматургическом темпо-ритме, связывая непрерывным развитием крупные построения. Вообще, оркестр «Тиля», в котором, помимо традиционного симфонического состава, клавесина и органа, есть народные инструменты (свирели, волынки, бубны) и даже предметы бытового обихода, использованные не по прямому назначению (горшки, кастрюли с крышками, блюдо), заслуживает специального разговора — о принципе монтажного столкновения камерно-ансамблевых звучаний с массивными тутти, о роли лейттембров и многом другом...
Контрастирование оркестровой и вокальной партий нередко достигает уровня смыслового контрапункта, что по-своему тоже способствует объединению разнородных компонентов в целое. Рассказывая об опере, сам Каретников в качестве примера называет «Заговор дворян»: действующие лица ведут ее «в бешеном ритме, едва не вцепившись в горло друг другу. В это время в оркестре звучит несколько церемонная павана (таким образом сопоставляются поверхностный, внешний слой и внутренняя суть сцены)». Подобный контрапункт дополняется в иных сценах приемами развитой сценической полифонии, которые так любили Мусоргский и Прокофьев и которые во второй половине нашего века необычайно дифференцировались и активизировались. Они особенно наглядны в массовых сценах — «Рынок», «Харчевня», «Карнавал», «Несостоявшаяся свадьба». Вероятно, самая многоплановая из них — «Бой», где сливаются команды Адмирала, препирательства Тиля и Ламме, боевые выкрики гёзов, воинственные ругательства и фанатические заклинания — на испанском языке! ~ их противников (два мужских хора), — и все это на фоне самостоятельной оркестровой партии с парящей над тремоло струнных мелодией трубы — приподнято-героическим вариантом темы Тиля.
Как видно, целое, образованное разнородными драматургическими и стилевыми компонентами, цементируется их переплетением. И все же одними только музыкально-драматургическими приемами не объяснить парадоксальной цельности «Тиля Уленшпигеля».
Опера-мениппея. Но многое встанет на свои места, если перенести рассуждения в общеэстетическую плоскость и сопоставить оперу Каретникова с мениппеей и другими литературно-театральными жанрами, пронизанными карнавализованным мироощущением.
Термин «мениппея»3 и разработка этого понятия, как и теория карнавализации, принадлежит М. Бахтину (13; 14). Его работы, особенно книга о Рабле, изданная в 1965 году, широко читалась даже далекой от филологии российской интеллигенцией. Концепция карнавального смеха, принципиально и неистребимо неофициального, противостоящего авторитарной серьезности государственной культуры, наполнялась для шестидесятников актуальным, животрепещущим содержанием. Впоследствие в построениях Бахтина обнаружились некоторые натяжки, кое-что было подвергнуто критике и уточнено (см., например, 251: 291 —196), но яркая талантливость, интеллектуальный блеск и заразительность мысли оказали на читателей воздействие поистине громадное. Теория вошла в обиход научный и научно-популярный, ссылками на Бахтина пестрят и музыковедческие работы последних десятилетий.
Если, по слову Бахтина, «жанр живет настоящим, но всегда помнит свое прошлое», то опера Каретникова, произведение новаторское, остросовременное, помнит «мениппову сатиру», жанр, зародившийся двадцать два века назад, прошедший сквозь все эпохи и доживший до наших дней, жанр, к традиции которого подключались Эразм и Шекспир, Сервантес и немецкая «литература дураков», Гофман и Достоевский, Феллини и Булгаков.
«Тиль Уленшпигель» — опера-мениппея. Партитура оперы представляет собой проекцию свойств и признаков этого жанра как системы. Специально подчеркнем: черты литературного жанра определяют в ней не только круг идей и способ сюжетосложения, но и принципы драматургии, и музыкальностилистический облик. Охарактеризуем их, опираясь на формулировки Бахтина.
Здесь смех носит карнавальный характер — он направлен на всё и на всех, в том числе и на самое высшее. Он не знает запретов, карнавал разрешает всё. Это вольный смех. Тиль — человек карнавальный. «Где карнавал, там сына моего ищи», — произносит Сооткин в опере фразу, которой нет у Костера. Тиль смеется, потому что он внутренне свободен — от страха, ложного пиетета, от догматов веры, от косных норм поведения, от слепого следования «идеалам движения». Тиль свободен, потому что он смеется. Серьезность, возведенная в абсолют, чревата насилием и устрашением. Такой смех — всегда преодоление страха, победа над страхом. Во взгляде Тиля на мир страха нет совершенно (но нет и нигилизма), он живет по законам карнавала и тогда, когда общество, среда, власть, обстоятельства требуют совсем иного. Его смех амбивалентен — отрицающе-гневный и утверждающе-ликующий одновременно. Тут — мировоззренческая доминанта центрального образа и концептуальное ядро оперы в целом. Оно, кроме всего прочего, — еще и главный цементирующий фактор.
Мениппея проникнута духом свободы и в другом смысле: это исключительная свобода сюжетного и философского вымысла, позволяющая сочетать авантюру и фантастику, высокую символику, философский диалог и мистико-религиозный элемент с грубым натурализмом. Пестрый конгломерат составляющих призван создавать ситуации для испытания и провоцирования философской идеи — идеи правды, воплощенной в образе носителя и искателя правды. Правда Тиля и есть свобода, свобода как идея, как цель, как способ существования. Тиль Каретникова — не только отважный борец за свободу, но и философ свободы.
Этот идейный мотив — один из самых дорогих Каретникову в произведении Костера. «’’Уленшпигель” для советского человека особая книга, — размышлял он. — Почему? Наверное, читая ее, мы удовлетворяли «инстинкт свободы», которой были лишены» (85). (Показательно, что режиссер М. Захаров, высказываясь, в связи с пьесой Г. Горина, на ту же тему и в том же ключе, акцентирует другое: в образе Тиля, полагает он, «материализовалась мечта об истинном герое целого поколения, человеке острого интеллекта и редкостной социальной отваги» — 71: 376). Приключения Тиля — это и приключения его правды, которые происходят (абсолютно по Бахтину!) на больших дорогах, в тавернах, на базарных площадях, в тюрьмах, на палубах кораблей. В собственно музыкальном плане с такими «приключениями» хочется сравнить неисчислимые, в широчайшем жанровом диапазоне, метаморфозы главной лейттемы — темы Тиля, которую в ее исходном варианте можно считать и темой свободы.
Мениппея — жанр «последних вопросов» с этико-практическим уклоном. Получив ответ Господа на вопрос «что делать мне?», услышав Христово «открой глаза и иди!», Тиль, вероятно, не сразу принимает его, не сразу переводит в «практическую» плоскость. Но во втором действии он уже не тот, что в первом. Он встречается с врагом в открытом бою, но вступается за жизнь пленных, едва не поплатившись за это своей собственной; покидает друзей-гёзов, не остановившихся перед жестокостью и мародерством; щадит обезумевшего, постаревшего Рыбника, виновника гибели отца и матери.
Мениппея тяготеет к тому, что Бахтин называет моральнопсихологическим экспериментированием: к изображению необычных состояний человека — безумия, раздвоения личности, снов-видений и т.п. В «Тиле» целая образно-драматургическая линия возникает как видения Катлины. Именно здесь сосредоточен весь исторический план оперы, связанный с королями и дворянами. Как видение измученного пыткой Тиля решена встреча с Господом. Перед финалом погружаются в вещий сон, выпив зелья Катлины, Неле и Тиль (композитором предусмотрена здесь «Пантомима прожитой жизни»).
Яркий пример мениппейного диалогического отношения к самому себе — начало второго акта, где, словно оспаривая и перебивая друг друга, чередуются два варианта темы Тиля — дерзко-насмешливый, шутовской и медитативно-лирический (пример 86). Типично карнавальную пару, подобно неразлучным Дон-Кихоту и Санчо Пансе, Дон-Жуану и Лепорелло, образуют Тиль и Ламме, хотя Тилю, «духу Фландрии» отнюдь не чуждо материально-телесное начало, а Ламме, ее «брюхо», вовсе не лишен привлекательных духовных качеств.
Мениппея традиционно изобилует сценами скандалов, эксцентрического поведения, неуместных речей и т.п., то есть всего того, что освобождает человека от предрешающих норм. Здесь часты профанирующие разоблачения священного, циническая откровенность, резкое нарушение этикета, вплоть до кощунственных пародий на сакральные тексты и обряды. Все важнейшие события в жизни средневековых людей, как отмечает специалист по культуре того времени, «подчинялись ритуалу, сопровождались особыми процедурами» ~~ то была «эпоха всеобъемлющего формализма» (54: 185). Мы видим всю бесчеловечность таких ритуалов в сценах судов и казней, их гротескно-карнавальную сущность в драке богомольцев, видим ритуалы, превратившиеся в пародию на самое себя («Крещение Тиля», «Отречение Карла V»), омертвелость ритуала, взорванного самой жизнью, в эпизоде несостоявшегося погребения героя. «Меа culpa!» («Моя вина!»), — повторяет Тиль, изгнанный из родного города «за злые шутки над слугою церкви», нормативную формулу католического покаяния, повторяет, дурачась и скача задом наперед (тоже карнавальный трюк!) и, разумеется, нисколько не раскаиваясь в содеянном.
Логика «обратности», переворачивания мира с ног на голову обнаруживается в травестиях, снижениях разного рода. В «Тиле» это карнавальные войны и побоища, как, например, упоминавшаяся драка богомольцев, организованная (за плату!) дядей Тиля Иостом якобы для возрождения в них мужской силы, или сцена «карнавального растерзания» в харчевне, где «веселые» девицы силой добиваются благосклонности Ламме4. Подчиняясь карнавальной логике, в музыку финального танца (после воскрешения Тиля) вплетается тема Dies irae (см. пример 82): это не «пляска смерти», излюбленный образ средневековых и ренессансных живописцев и композиторов-романтиков, а пляска победы над смертью. И побеждена она — смехом. Развенчание высокого зеркально отражается в возвеличивании низкого — такова ярко карнавальная по идее песня Тиля «О дураках», в связи с которой вспоминается и поэма Себастьяна Бранта «Корабль дураков», и «Похвала глупости» Эразма Роттердамского, и вообще мощная европейская традиция сатирических жанров.
Мениппее свойственны резкие переходы и смены, игра «верхом и низом», подъемами и падениями, мезальянсами разного рода. В этой системе фактор несовместамости отсутствует начисто, всё со всем совместимо, чем «несовместимее», тем «карнавальней». На таких принципах строятся как сценическая и музыкальная драматургия оперы в целом (быстрое чередование кратких сцен имеет, как видим, не только кинематографическую природу), так и характерные частности. Напомним о сугубо «смеховом» символическом жесте Тиля — замене лица задом («Рынок в Дамме») или об употреблении посуды вместо головных уборов, домашней утвари — вместо оружия («Бой»). Чрезвычайно показательно, что эти, как и многие другие эпизоды, своим появлением в опере Костеру обязаны куда меньше, чем Бахтину!
Как карнавальное совмещение несовместимого истолковывается последовательно выдержанная на всем протяжении оперы оппозиция двух языков, народного и латинского. Первый — язык труда и быта, язык смеховых жанров, волной площадной речи, язык гнева и любви — язык жизни. Второй — язык официального средневековья, уже тогда воспринимавшийся часто как мертвый, — язык смерти. Когда в финале один из персонажей начинает читать над Тилем отходную, второй бросает: «Опять латынь, Уленшпигель терпеть ее не мог. Давай по-нашему!».
Неотъемлемая особенность мениппеи — злободневная публицистичность. Мениппея полна открытой и скрытой полемики с различными философскими, религиозными, идеологическими течениями современности, полна аллюзий на большие и маленькие события эпохи. В «Тиле» иные из них имеют бытовую подоплеку: «Обмыть бы не мешало», «Люди совсем рехнулись. Все лечатся... Скажи человеку, что вылечишь его, и он твой раб». Иные читаются как прозрачные политические намеки: «Счастливые фламандцы добровольно, все как один...», «Слава королю! Покровителю наук!», «Никакого уважения к личности!» и т.д.5 По сути дела остро полемична идейная концепция «Тиля» в целом — по отношению к устоявшимся в нашем искусстве нормам решения «темы национально-освободительной борьбы», о чем убедительно писал М. Тараканов (200).
Всем сказанным обусловлено жанрообразующее свойство «Тиля» как оперы-мениппеи — нарочитая многостильность. Оно определяет не только смешение «разных музык», о чем уже достаточно сказано, но абсолютно все уровни художественного целого: густонаселенность (в опере около пятидесяти персонажей6), сюжетную пестроту и подвижность сценической драматургии, идейно-смысловые повороты и т.д.
Это же свойство управляет сосуществованием различных театральных эстетик. Многие сцены решены в жизнеподобной манере (насколько может быть жизнеподобной опера), в духе психологического или жанрового реализма. Серьезно, с глубокой и сильной экспрессией подано все, что связано с Верой (не путать с церковью), Любовью, Страданием. Это «театр переживания». Но в любую секунду он готов «соскользнуть» в «эстетику представления», где зрелище обнажает, выставляя напоказ, свою условную природу. Таков прежде всего сам Тиль — он родом из балагана. Но не только он.
В опере есть три обобщенных персонажа, которые в списке действующих лиц обозначены просто как Тенор, Баритон, Бас. На протяжении спектакля они играют самые разные роли, причем там, где они изображают (именно изображают, представляют) исторических лиц, перед нами условный театр в чистом виде, заставляющий вспомнить тот же балаган, актерский «капустник» или эпический театр Брехта одновременно: обязательно ощутима дистанция между актером и его «героем».
...Сцена «Рождения Филиппа». Ее предваряет ремарка: «На отдельной площадке появляется сидящий на стуле Тенор, на нем корона, жабо и перчатки. У него на коленях лежит Баритон в слюнявчике, во рту соска. Около стола стоит Бас в короне и с орденом Золотого Руна на шее». Тенор — Королева, Баритон — Филипп, Бас — Карл. Они «обмывают» событие, скандалят, «младенец» ворует у «родителей» деньги. На заключительной фразе они окончательно «сбрасывают маски», берутся за руки и поют, обращаясь к залу: «Его высочество прославится сожжением еретиков».
В других сценах «трио» участвует в «основном действии» и разыгрывает свои роли в иной стилистике — Судьи и Палача в «Допросе», горожан в «Карнавале» и «Смерти Катлины», Адмирала, Поста, Монаха. В глазах Тиля и его близких сцены с королевской семьей и дворянами — это «другая» жизнь, не вполне понятная и всерьез не воспринимаемая. И сделаны эти сцены так, будто «ставил» их сам Тиль — со всякими сценическими недоразумениями, вплоть до того, что в Прологе Филиппа поет Баритон, а в двух других сценах — Тенор.
Что «трио» — актеры, окончательно становится ясным в финале, когда они, одетые в городское платье, появляются с повозкой, нагруженной, по авторской ремарке, «реквизитом, который они использовали в предыдущих сценах».
Итак, подчеркнутая, вызывающая разностильностъ оперы есть форма существования неразделимого единства. Единства, осмелимся утверждать, уникального, означающего, быть может, создание небывалой оперной разновидности — оперы-мениппеи.
Полистилистика: вариант Каретникова. Стилистическая разношерстность — не редкость в современной опере. Э. Денисов в «Пене дней» (1981) сталкивает древнейший интонационный пласт в духе григорианского хорала с коллажем из песен Дюка Эллингтона и аллюзиями французской шансон. А. Шнитке в «Жизни с идиотом» (1991) — интонационные намеки на российский революционный фольклор, пионерские песни — с музыкой, восходящей к традициям Берга и молодого Шостаковича.
Вероятно, Каретникову ближе всего оперные искания С. Слонимского. В «Мастере и Маргарите» (1982) переплетаются уже отмеченные черты пассионов, лирико-психологической оперы и эпической оратории (а также рок-оперы и «инструментального театра», к которым Каретников равнодушен). Стилевой спектр простирается от додекафонии до архаично-гетерофонных хоров. Исключительно многообразны градации видов пения. Подобная всеядность ныне никого не шокирует, но в начале 1970-х годов, когда уже сочинялись обе оперы Каретникова, она была неслыханным новшеством. «Мария Стюарт» (1980) воспроизводит звуковой колорит англо-шотландского музицирования, включает законченные песенные номера (жанр произведения, по авторскому определению, — опера-баллада). Два Скальда, Грустный и Веселый, ассоциируются с тремя актерами в «Тиле». Роднит сочинения двух авторов политико-религиозная подоплека драматургических конфликтов.
Капитальное свойство оперной полистилистики Каретникова — незакрепленность стилевых пластов за определенными группами образов. Стилистический плюрализм не связан с логикой драматургического конфликта и потому не выступает в форме стилистической конфронтации. Во-первых, как указывалось ранее, один и тот же тематический материал кочует по разным пластам, накрепко их соединяя. Во-вторых, музыкальная характеристика одного и того же образа, прежде всего Тиля, вбирает в себя весьма разнородные стилевые модели. Это придает музыкальному действию и большую непредсказуемость, и большую цельность.
«Мистерия Апостола Павла»
Пока что «Мистерия», как уже говорилось, прозвучала только в концертном исполнении. До постановки на сцене разговор о ней неизбежно будет носить предварительный характер. Но о многом можно с определенностью судить уже сейчас: о месте сочинения в творчестве автора и современном оперном процессе, об основных концепционных и жанрово-стилевых параметрах.
В напрашивающемся сравнении с «Тилем», подчеркнуто, кричаще разностильным, разностильным до эклектики, «Мистерия» — по первому, суммарному впечатлению — предстает олицетворением сдержанности и стилевого самоограничения, свойственных работам зрелого Каретникова в инструментальных жанрах: партитура почти целиком выдержана в додекафонной манере. Взгляд более пристальный, аналитический обнаруживает сложное сочетание многих и разных составляющих буквально на всех уровнях художественной структуры, будь то сюжет, жанр, драматургия или стиль, а также этих уровней — друг с другом.
Сюжет — сценарий — либретто. В различных плоскостях не просто стиля — культуры — лежат прежде всего источники, на основе которых родился литературный текст «Мистерии». Замысел крупного ораториального или оперного сочинения на сюжет из раннехристианских времен обрел конкретные очертания с предложением отца Александра Меня обратиться к событиям, связанным с пребыванием апостола Павла в Риме, которое пришлось на последние годы правления Нерона. Для этого требовалось свести вместе, «организовать встречу» апостола и императора. Единого литературного первоисточника, на который можно было бы опереться, не существовало: Павел - персонаж Библии, Нерон — исторических трактатов.
...I век нашей эры. Рим, к ногам которого брошен едва ли не весь тогдашний цивилизованный мир. Языческое идолопоклонство, обожествление, отнюдь не метафорическое, императоров. Расцвет искусств, градостроительства, победоносные захватнические войны и карательные полицейские акции. Варварские, кровавые развлечения. Беспардонное политическое лицемерие: официальная пропаганда столь последовательно и цинично называет черное белым, что в эти постулаты если и не верят, то принимают их как данность.
Первые десятилетия христианства. Еще не записаны Евангелия. Еще ходят по земле многие из тех, кто видел живого Иисуса...
Таков фон.
Авторы либретто (композитор и С. Лунгин) ограничились тремя действующими лицами, роль одного из них второстепенна. Все трое — мужчины. Исключительно важное место в опере отведено хору, точнее, двум хорам — язычников и христиан. Нет, таким образом, не только любовной интриги, нет ни одной женской сольной партии — явление для большой оперы крайне редкое, если не уникальное. Вместе с тем подобная идея давно витает над сценическим искусством. Таков был первоначальный замысел пушкинского «Бориса Годунова», во французском предисловии к которому поэт писал: «Меня прельщала мысль о трагедии без любовной интриги» (156: 732). Такова была и никогда не шедшая на театре первая редакция оперы Мусоргского.
Но вернемся к произведению Каретникова. Нерон в «Мистерии» — олицетворение Рима. Ему 27 лет, и уже десять лет он император. Красив, умен, артистичен; впрочем его увлечение актерством носит несколько скандальный характер. Он самовлюблен, распущен, жесток. Он убийца жены и матери, своего воспитателя, он гений уголовно-политической интриги. В 68 году, после начавшихся в войсках бунтов и самопровоз-глашения императором Гальбы, сенат объявляет Нерона врагом. Преданный всеми, на кого мог рассчитывать, он бежит из Рима и кончает с собой.
Второе «я» Нерона — Тигеллин, лицо исторически засвидетельствованное. Светоний характеризует его как одного из самых зловредных клевретов Нерона (176: 234); упоминается он и Тацитом. Должность — начальник преторианцев, привилегированного войскового подразделения при императоре (Каретников называет его «министром внутренних дел». — 89: 9), и его любимец. Призвание — беззастенчивый льстец, лжец, доносчик и провокатор. С началом смуты изменил своему патрону с таким же самозабвением, с каким только что лобзал его пальцы.
Павел — проповедник христианства в греко-римском мире, в Малой Азии, «апостол язычников». Неутомимый миссионер, пренебрегающий опасностями подвижник. Реальность его как исторического лица признают даже сторонники так называемой мифологической теории, утверждающей, подобно булгаковскому Берлиозу, что Иисуса Христа «как личности вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем — простые выдумки, самый обыкновенный миф» (20: 49). Многие считают Павла второй по значению фигурой в христианстве после Иисуса: он автор около половины Нового Завета, его Послания — одни из самых ранних письменных памятников христианского учения.
По Деяниям и апостольским Посланиям жизнь Павла можно представить себе достаточно полно, но... лишь до прибытия его в Рим, чем и заканчивает свой рассказ автор Деяний. Здесь, пишет Э. Ренан, мы уже «перестаем опираться на почву неоспоримых текстов; приходится... витать во мраке легенд и апокрифических документов» (164: XXVIII).
«Мистерия» начинается там, где кончились Деяния.
На протяжении веков образы Нерона и Павла привлекают художников, воссоздаются на театральных подмостках. Нерон — действующее лицо нескольких опер, начиная с «Коронации Поппеи» Монтеверди, первой исторической оперы; оперы под названием «Нерон» есть у Генделя и А. Рубинштейна. Еще в средние века ставилась мистерия «Деяния апостольские»; в конце XV века Лоренцо Медичи написал пьесу «Святые Иоанн и Павел»; одна из частей «Священных симфоний» Шютца — «Обращение (Послание) апостола Павла». Тексты Посланий использованы Брамсом («Четыре строгих напева»), а в наше время — А. Эшпаем (хоровой концерт «Из первого Послания святого апостола Павла коринфянам»).
Но, подчеркнем еще раз, нигде — ни в одном известном нам творении искусства, ни в одном историческом документе, ни в одном христианском писании — Павел и Нерон «не пересекаются». Скорее всего, не могли они повстречаться и в средневековой мистерии, хотя порознь их можно было увидеть на сцене. Как известно, мистерия в период своего расцвета знала несколько сюжетных циклов: ветхозаветный, евангельский, апостольский, реже языческий («Триумф Цезаря») или исторический («Иудейская война»). Однако при всем тяготении мистерии ко всякого рода «микстам», сюжетные циклы сохраняли определенную независимость.
Гениальность идеи А. Меня в том и заключалась, что предложенный им сюжет перекрещивал две прямые, казавшиеся параллельными. Вместе с тем, он не противоречит фактам, более или менее достоверным. Встреча апостола и императора могла состояться: арестованный в Иерусалиме, Павел, будучи свободным римским гражданином, потребовал суда у кесаря (Деян 26: 32), на который, по тогдашним законам, имел право. Из трудов же римских историков известно о массовых репрессиях, которым Нерон подверг христиан-иудеев в середине 60-х годов. Римские историки ни в малейшей степени не сочувствовали «приверженцам нового и зловредного суеверия» (210: 202) — тем ценнее такое, к примеру, свидетельство Тацита: жестокие казни пробуждали сострадание к христианам, «ибо казалось, что их истребление не в видах общественной пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона» (210: 258).
Сценарий оперы в десяти сценах (картинах) сложился следующим образом:
1. Вступление (оркестровое) и хор христиан о вере в воскресение души.
2. «Триумф». Нерон принимает традиционный парад по случаю очередной военной победы.
3. «Оргия». Продолжение праздника. Первая встреча Нерона и Павла, их словесный поединок.
4. «Павел один». Моносцена в тюрьме.
5. «Пожар». Вошедший в историю грандиозный пожар Рима, сгубивший большую часть города. По слухам, распространившимся сразу после бедствия, город был подожжен по распоряжению самого сумасбродного императора. Нерон обвиняет в поджоге христиан.
6. «Проповедь». Павел обращается к братьям по вере.
7. «Живые факелы». По приказу императора, христиане подвергаются казни через сожжение.
8. «Суд». Нерон осуждает Павла на смерть. Второй «поединок» главных персонажей.
9. «Смерть Нерона». Суд над императором — такой же скорый и неправый, какой вершил он сам. Приговор объявляют безымянные сородичи (солисты хора), живо напоминающие «тройки» сталинских времен. Приняв решение заколоться, Нерон медлит, юродствует. Ему «помогает» раб.
10. Финал. Мистическая сцена вознесения Павла.
Композиция симметрична. Осью симметрии является самая масштабная 5-я сцена. Смысловые «пары», перекликающиеся по сюжетным ситуациям, психологическому рисунку (и отмеченные музыкальной репризностью), образуют сцены 4 и 6, 2 и 9, 1 и 10. Из внутрипарных отношений вычитывается мысль, которую лучше всего выразить словами Евангелия: «Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижен будет, тот возвысится» (Мф 23: 12).
Но сценарий — только каркас либретто: очень важно, в какую словесную плоть он облачен. Христианско-апостольская линия далась либреттистам, по-видимому, легче: речи Павла почти целиком взяты из канонических текстов Посланий, тексты для хоров (о них подробнее говорится в специальном разделе) — из разных христианских источников. Но и тут потребовалась тонкая работ. Так, скажем, слова «Проповеди» — 12 строк либретто — «сложены», подобно мозаике, из четырех Посланий (Рим; I Кор; Еф; I Фес), да и те идут вперемежку по одному-два, максимум три стиха подряд. Кроме того, и в подобных случаях, и там, где Священное писание представлено целостным фрагментом, избранный текст вступает в активный драматургический контакт с предыдущим и последующим, приобретает дополнительные смысловые нюансы. Например, большой монолог Павла в 4-й сцене (Кор 13: 13, 1 — 8) воспринимается как продолжение спора с Нероном: Павел словно подыскивает и оттачивает аргументы.
Разработка линии Нерона и римлян была более трудным делом: от императора, по полушутливому замечанию Каретникова, «фактически осталось, кроме сожженного Рима, всего несколько очень язвительных и совершенно неглупых замечаний» (89: 9). Зато немало известно о его натуре, поступках, а также о римских нравах, обычаях и событиях той поры. Так что либретто и в этой части предельно достоверно в большом и малом. В этом нетрудно убедиться, внимательно перечитав Светония и Тацита - красочные картины триумфов и «ужинов», знаменитого пожара и массовых казней, с протокольными подробностями описанное самоубийство Нерона и многое другое, вплоть до колоритных деталей вроде целования руки императора или его предсмертной фразы: «Какой великий артист умирает!».
При этом тексты приправлены остро современной лексикой и фразеологией, порой приближающейся к уличному сленгу — развязностью, не знающей меры иронией, неуемным паясничаньем, обыкновенным «бытовым» хамством: «Богов у нас навалом! Куда ни плюнешь — в бога попадешь! Да сам я бог, но вот плевать в меня я не позволю...»; «Что он плетет?»; «Ребята, он мне надоел!»; «Бездарность!.. Дурак набитый, баба!» и прочее в таком духе. Трудно отделаться от мысли, что авторы давали возможность своим современникам и соотечественникам со стыдом узнать в Нероне — себя... Естественно, все это приходит в резкое несоответствие с высоко поэтическим слогом апостольских Посланий и христианских молитв, порождая напряженный лексика-стилистический конфликт.
Словом, то сравнительно немногое, что можно было почерпнуть в соответствующих источниках, использовано авторами не только с великолепным знанием «фактуры», но и со смелостью, развитым воображением, незаурядным драматургическим и литературным мастерством. Использовано талантливо: историческая правда без швов соединена с художественным домыслом, все вместе организовано в цепь событий и психологических мотивировок не вытекающими из первоисточников причинно-следственными связями. Создатели оперы добились того, что можно определить известной пушкинской формулой: «истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» (157: 213).
Для понимания концепции «Мистерии», как всегда в подобных случаях, не менее существенно и другое: какие сюжетные повороты, психологические оттенки, содержательные мотивы оказались не востребованными. Вынесен «за скобки» конфликт апостолов Павла и Петра (согласно одному из преданий, они казнены одновременно). Сняты противоречивые и малопривлекательные стороны личности Павла — его фарисейское прошлое, участие в гонениях на христиан. Сильно смягчено драматическое несоответствие между тем, что проповедовал Павел, и свойствами его натуры: «Он не был святым, — не голословно утверждает Э. Ренан. — Господствующей чертой его характера не была доброта. Он был горд, суров и резок.» (164: 241). Не привлекли внимания чудеса, которые Бог творил руками Павла при его жизни (Деян 19: И; 28: 8—9). На периферию сюжета отодвинуто многое из общественно-политической жизни Рима и т.д. На острие замысла — сугубо идейная, мировоззренческая, нравственно-религиозная проблематика.
Полижанровая, полистилистическая природа мистерии. Вот почему, при всей документальной точности, с которой воспроизведены «время, события, люди», «Мистерия» как и «Тиль» — не историческая драма, хотя черты этого жанра в ней присутствуют. Напомним, что с самого начала, когда сюжет еще только подыскивался, мысль Каретникова все время возвращалась к Евангелию. Обращение к главной книге христиан он счел для себя невозможным: «С Евангелием уже работал Бах, а там, где прошел Бах, простому смертному делать нечего» (новелла «Отец Александр»). Но самый образ пассионов, судя по всему, продолжал тревожить воображение композитора. Тень пассивное как жанра витает и над «Апостолом Павлом» — оперой, названной мистерией. Сдвинув сюжет по времени действия несколько «вперед», от Иисуса Христа к Павлу, по другой оси координат, истории жанров, Каретников отступил «назад», от страстей к их прародительнице мистерии. «Мистерия» вобрала в себя страсти, а сквозь фигуру Павла как бы просвечивает образ Иисуса. Об этом говорит и очевидное сходство сюжетов: проповеди — арест — суд — мученическая казнь — вознесение. Что Каретников писал Павла, но подсознательно имел в виду Христа7, следует и из его новеллы «Ответ», где рассказывается о том, как в период, когда композитор искал ключ к образно-эмоциональному решению «Мистерии», ему явилось видение Иисуса. О художническом интересе к образу Христа свидетельствует и введение его в число действующих лиц «Тиля».
Однако сказанное — не более чем аналогия, ибо слишком очевидны и отличия между евангельской историей и ее участниками — и действием, разворачивающемся в «Мистерии». В ходе разбирательства с Иисусом Пилат меняет отношение к нему, убеждается в его моральном превосходстве и даже предпринимает попытку спасти его от казни. Ничего подобного с Нероном не происходит. Совершенно по-другому ведет себя и Павел, больше похожий не на Христа, а на Ветхозаветного пророка, обличителя. Их общение в «Мистерии» — диалоги непонимания, позиции их на протяжении всего действия остаются неизменными.
Тем не менее сюжетная аналогия существует, и она естественно влечет за собой аналогию жанровую. Попутно отметим: в современном российском композиторском творчестве проникновение жанровых признаков пассионов в оперу и кантату ~ почти сложившаяся тенденция. В опере С. Слонимского «Мастер и Маргарита» соответствующие элементы жанра поддержаны сюжетом (образ Иешуа); кантата А. Шнитке «История доктора Иоганна Фауста», где родство со страстями подчеркнуто фигурой повестователя, — своего рода «негативный пассион»: по словам автора, здесь страдает «если не антихрист, то во всяком случае «плохой» христианин» (74:20). Между прочим, у Каретникова тоже страдает не только Павел, мучения выпадают и на долю антихриста Нерона — предательство, осуждение на смерть...
В историко-культурном плане жанр мистерии — своеобразный перекресток. Она сложилась из множества истоков и сохранила в своей художественной структуре «память» о них. Она послужила предтечей страстей и оперы. С рядом других жанров она развивалась параллельно, находясь в состоянии взаимообмена. К примеру, традиция эпико-повествовательного пролога идет еще от древнегреческого театра. В прологе античной трагедии излагался миф, на котором основывался сюжет спектакля, в мистериальном прологе священник обычно пересказывал соответствующее библейское или евангельское предание, а также читал проповедь или молитву. Каретников тоже начинает с молитвы, и в дальнейшем хор христиан, являясь коллективным сценическим образом, выступает также с комментариями - назиданиями.
Непосредственная предшественница мистерии — литургическая драма, которая поначалу разыгрывалась в церкви, а примерно в XI веке вышла на паперть, на площадь, что неудивительно, ибо литургия как таковая чревата театром изначально. Символические сюжеты «о борьбе Бога и сатаны, неба и ада... о воскресении и жизни, побеждающих смерть», унаследованы от пасхальных представлений, которые и получили впоследствии название resurrections mysterium — мистерия (тайна, таинство) воскрешения. Подобно пасхальной драме и «классической» мистерии, у Каретникова все действие «пропитано восхождением и стремлением снизу от земли вверх» (77: 36, 35). Миракль стоит упомянуть в связи с типичным для него сюжетным ходом: грешник, совершивший кровавое злодеяние, испытывает угрызения совести, молит небо о прощении. Мы еще убедимся в том, что такой поворот имеет некоторое отношение к произведению Каретникова. Фарс, сформировавшийся внутри «поздней» мистерии, прослоенной карнавальными интермедиями и, как пишет Г. Бояджиев, «бытовыми включениями, которые профанировали священные истории, иногда прямо их пародировали» (60: 53), невольно приходит на ум в связи с рядом эпизодов «Мистерии»: Нерон, глядя на катастрофический пожар Рима, горланит строки из «Энеиды», посвященные гибели Трои; на пороге смерти император кривляется, пародируя обращенное к нему погребальное песнопение христиан. Моралите — аллегорическая драма морализующего характера о борьбе жизни и смерти (на нерелигиозный сюжет) — также может быть поставлена в этот ряд, ибо сюжет «Мистерии» по-своему условно-аллегоричен: Нерон — воплощение Порока, Павел — Добродетели.
Если же говорить о впитанных сочинением Каретникова чертах мистерии в целом, то следует указать, во-первых, на масштабность, подлинную массовость представления; во-вторых, на его пышную зрелищность, предполагающую, в частности, балетные эпизоды (участие балета представляется весьма желательным в «Оргии»); в-третьих, на особую трактовку «сценического» пространства — в соответствии с его религиозной семантикой. Кавычки в предыдущей фразе объясняются тем, что в средние века мистерии разыгрывались под открытым небом, на гигантских подмостках, иногда на нескольких площадках, оборудованных под «рай» с играющими на музыкальных инструментах ангелами, где разворачивались финальные эпизоды, «адскую пасть», куда проваливались грешники, сам «ад». Подобным чудесам, кстати говоря, благополучно дожившим до оперы XVII века, придавалось огромное значение. Крупнейшие художники Ренессанса — Брунеллески, Леонардо — не гнушались изобретением для представлений специальных машин, действие которых, по словам Р. Ролана, «вызывали восторг и ужас у зрителей» (167:40). Наконец, в-четвертых (и, может быть, это главное), мистерия — явление полисюжетное, полижанровое и полистилистическое по самой своей природе: здесь соединялись религиозное и мирское начала, здесь встречались храм и площадь, здесь литургические песнопения соседствовали со светской песеннотанцевальной музыкой.
Исследуя каретниковского «Тиля Уленшпигеля», мы уже обращались к историко-эстетическим концепциям М. Бахтина. Открытия выдающегося ученого помогут уточнить представления и о жанровом облике «Мистерии апостола Павла». На этот раз вспомним бахтинское понимание идеологического романа Достоевского. То, что мы читаем по этому поводу у М. Бахтина, совпадает с «внутренним устройством» «Мистерии» до такой степени, что воспринимается порой как комментарий к произведению Каретникова8. Полный перечень таких совпадений слишком длинен, ограничимся лишь наиболее принципиальными.
Истоки идеологического романа Достоевского Бахтин усматривает в древнем жанре «сократического диалога», где главные события - события идеологические, герои — непременно идеологи, каковыми безусловно должны быть признаны Павел и Нерон, а сама идея «сталкивается с предельным выражением мирового зла, разврата, низости и пошлости». «В таких диалогах могут сходиться люди и идеи, которые в исторической действительности и не вступали никогда в реальный идеологический контакт (но могли бы вступить)» (13: 132, 128). Ведущие приемы «сократического диалога» — синкриза (сопоставление различных точек зрения на один предмет; в нашем случае — любовь, вера, свобода, бессмертие) и анакриза (способ вызывать высказывания собеседника, «провоцирование слова словом же»; персонажи «Мистерии» постоянно «провоцируют» друг друга, даже не находясь в состоянии реального диалога).
Типичные для «сократического диалога» сюжетные положения и философские мотивы: «предельно откровенные признания без единого грана раскаяния», «исповедь без покаяния», «тема последних моментов сознания... связанная... с темами смертной казни и самоубийства», «тема сладострастия, проникшая в высшие сферы сознания», «ситуация суда и ожидаемого смертного приговора» (13: 166, 167, 127, 128) — сами собой отыскиваются в произведении Каретникова. События носят обобщенно-аллегорический характер: «действие происходит не только«здесь» и «сейчас», а во всем мире и в вечности», «слово звучит перед небом и перед землею, т.е. перед всем миром» (13: 170, 178).
Достоевский, видимо, и сам сознавал, к каким истокам восходит его «идеологический роман». Иван предваряет легенду о Великом Инквизиторе — ярко мистериальную по мысли и по форме! — своего рода кратким историческим экскурсом о театральных представлениях XVI века, в которых «монахи... выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога» (61: 224). В описании Ивана легко угадывается мистерия. Встреча Великого Инквизитора с тайно явившимся в мир Иисусом решена в духе «сократического диалога», но диалога с молчащим собеседником. Финальный поцелуй Христа — его единственная «реплика» в споре, но мощь этого аргумента столь сокрушительна, что он безусловно перевешивает все жестокие софизмы оппонента.
Драматургия. Ведущий интонационный конфликт «Мистерии» персонифицирован в образах главных героев. И прежде всего в их вокальных характеристиках. Сольные партии решены на основе использования того широкого спектра типов вокального интонирования, который уже знаком нам по «Тилю Уленшпигелю» (за исключением песен-зонгов). Партии, заметим попутно, сложнейшие в техническом отношении, требующие от певцов навыков инструментального звуковедения и в то же время речевой осмысленности «произнесения», умения стремительно перемещаться из одной позиции в другую, свободно переходить с пения на микст и фальцет, попадать на звуки, которых нет в оркестровой или хоровой вертикали, и т.п. Сочиняя оперу в полной уверенности, что она никогда не будет поставлена, Каретников мог разрешить себе пофантазировать: в роли Нерона он воображал П. Пирса, Тигеллина — Д. Фишера-Дискау, Павла — Дж. Лондона.
С особой рельефностью различие вокальных характеристик вырисовывается, когда «ударные» реплики героев звучат а cappella или на фоне педалей (пример 87, 88). Не менее красноречиво сопоставление «выходных» соло центральных персонажей (пример 89; ср. пример 92).
В высказываниях Павла слышится гневный вскрик и отечески ласковое увещевание, ораторски укрупненные интонации и интонации сосредоточенного размышления наедине с собой, скупая речитация на одном звуке и кантилена. Образцы такой декламационной ариозной мелодики (додекафонной!) приводим (примеры 90, 91).
Каретникову удалось найти музыкальный эквивалент той непринужденности разговорной лексики, раскованности и нервной живости речи, которые чутко уловил в Посланиях С. Аверинцев (78: 513). Но если искать в партии апостола некие психологические доминанты, то ими будут достоинство и внутренняя сила — качества, которыми традиционно наделяется образ Павла, к примеру, в мировой живописи: горящий взор, оттененный темно-красным плащом на картине Эль Греко «Апостолы Петр и Павел», мощная фигура с мечом и книгой в руках — в «Четырех апостолах» Дюрера.
Не менее интересен композитору Нерон — идеолог зла и раб собственных пороков. Одни из эпиграфов к партитуре гласит: «Зло захватывает человека целиком, и он начинает творить зло именем зла, и в этом творении зла он доходит до такого предела, что самому злу становится не нужен, и тогда зло его уничтожает» (У. Фолкнер). Однако Каретников не идет здесь путями, проторенными музыкальным искусством последних полутора веков, немало преуспевшим в изображении безобразного и отталкивающего, что в принципе не близко автору «Мистерии». Интонации Нерона, развязные и «кривляющиеся», капризные и непристойно-чувственные, интонации, опирающиеся на соответствующую «жестовость» (размашистые восходящие броски в окончаниях фраз, за которыми так и видится вскинутый в пароксизме самолюбования подбородок), не лишены даже своеобразного отрицательного обаяния. Думается, композитор видел свою задачу в создании образа, лишенного определенной внутренней сути, духовной и душевной опоры. Потому-то Нерон так суетлив, потому-то слишком уж «хлопочет интонацией» (по аналогии с актерским жаргонным выражением «хлопочет лицом»).
Драматургия оперы строго биполярна, весь тематизм собран в две образные сферы — Павла (христиан) и Нерона (римлян). Побочные линии отсутствуют. Павла сопровождает сплоченное, густое, хорального склада звучание, преимущественно низких струнных и деревянных. Тяжелые, будто литые, и в то же время мягкие аккорды (часто встречается ритмическая фигура типа  лейтритм Четвертой симфонии) ассоциируются с идеей крепости веры (пример 92).
лейтритм Четвертой симфонии) ассоциируются с идеей крепости веры (пример 92).
Преобладающий фактурно-тематический рисунок сферы Нерона — разбросанные по регистрам и инструментам краткие «мотивчики», резко акцентные, иногда «дансантно» синкопированные. В главной теме «Оргии» узнаются ритмоформулы излюбленной каретниковской кадрили (пример 93). Обнаженно, «по-цахесовски» зазвучат они в парной по отношению к «Оргии» картине «Суд». Образно-тематическая идентичность другой пары картин, «Триумф» и «Смерть Нерона», говорит сама за себя: императора славят и свергают «под одну и ту же музыку». Полнозвучное tutti с характерными атрибутами величественно-блестящего шествия — сигналы-кличи медных, удары колокола — словно прикрывает собой зияющую пустоту. Земное величие призрачно и в любой момент может обернуться крахом (пример 94).
Особое место в характеристике Нерона занимают два открыто танцевальных эпизода — мазурка в сцене пожара и танго в сцене смерти. Принципиально важна их роль и как ярких жанрово-стилевых мазков в достаточно однородной стилистике произведения в целом. И в мазурке, и в танго Нерон предельно унижен, причем в первом случае — как бы помимо своей воли: ему кажется, что это ОН осмеивает «Энеиду» Вергилия, втискивая величественный гекзаметр в прокрустово ложе плясового ритма. Нерон тут трижды циничен. Во-первых, во время всеобщего бедствия в высшей степени неуместен разнузданный пляс. Во-вторых, кощунственна аналогия между двумя катастрофами: Троя пала от рук агрессоров-ахейцев. В-третьих, у Вергилия гибель родного города оплакивает Эней - олицетворение добродетели. Чудовищное святотатство оборачивается против самого Нерона. В танго унижение добровольно и совершенно осознанно, он глумится над собой, превращая в фарс таинство смерти.
Эпизоды эти взаимопритягиваются — а, следовательно, контрастируют остальной музыке «Мистерии», — в силу еще двух факторов: это тембр приготовленного рояля и тональность ля минор. В одном отношении они существенно разнятся: вокальная партия мазурки barbaro (ремарка композитора) организована строго серийно, в танго же мелодический голос почти не выходит из круга элементарных бытовых интонаций (снижение стиля происходит, таким образом, в два этапа) (пример 95).
Когда подобные шокирующие иностилевые «врезки» использует настоящий мастер, предметом его особой заботы должно стать сохранение единства целого на некоем более высоком стилевом уровне. Так, мазурку удерживает в стилевом поле произведения сквозная для всей партитуры серия Нерона. Танго интегрируется в это высшее единство благодаря связи с мазуркой, родству с партией Нерона в целом («забрасывание» вверх последнего звука фразы), а также приемом музыкально-сценической полифонии. Мазохистское и вульгарное «выступление» Нерона накладывается на молитвенно-скорбное звучание хора христиан «Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть...» — эти слова и подхватывает святотатствующий император. Типично оперный прием, хрестоматийные примеры которого — сочетание трех танцев в финале первого акта
Моцартова «Дон Жуана», кульминация сцены в избе Сусанина из глинкинской «Жизни за царя», где контрапунктируют русский напев и польская мазурка [В 80-е годы ошеломила слушателей и вызвала поток музыковедческих комментариев ария Мефистофеля в «Истории доктора Иоганна Фауста» А. Шнитке, написанная в ритме танго. Сам А. Шнитке неоднократно признавал, что сцена смерти Нерона, которую Каретников показывал ему еще около 1970 года, произвела на него сильное впечатление (169: 33; 230: 193). Танго было сочинено Каретниковым в самом начале работы над «Мистерией» и «опробовано» в кинофильме «Бег» (1970). Таким образом, Каретников намного опередил не только А. Шнитке, но и тот всеевропейский «ренессанс» танго, который пришелся на конец 70-х — 80-е годы.].
Итак, в сфере Павла и христиан господствует возвышенная хоральность, в сфере Нерона и римлян — пусто громыхающий марш, грубо размалеванная «ресторанная» танцевальность. В свете общехудожественной идеи «Мистерии» этот контраст читается как оппозиция преходящего, тленного — и вечного.
В дополнение к сказанному о тематической драматургии — несколько наблюдений над драматургией тембровой.
Оркестр «Мистерии» огромен. Помимо полного набора духовых с включением видовых инструментов и почти непременного у Каретникова саксофона, квинтета струнных, челесты и двух роялей, один из которых препарированный, партитура содержит большую группу ударных. В ней два десятка инструментов, в том числе большой фанерный ящик, по которому бьют длинными гибкими прутьями, и три рельса с железными молотками.
Лейттембры Павла и христиан — «хоровое» пение струнных, часто только виолончелей, дублирующих мужской хор, нежные зовы деревянных в сочетании с вибрафоном. В оркестровой характеристике «контрдействия» господствуют ударные. Вспомним тему «Триумфа»: колотят дробь военные барабаны, грохочет тяжелая медь, тоже приближаясь по функции к ударным (как в Концерте для духовых инструментов), и даже аккорды струнных звучат сухо и жестко. В ансамбле ударных выделяется звучность малой тарелки, яркая и блестящая в форте и фортиссимо, звенящая в пиано. Не хотел ли композитор материализовать в оркестровой плоти поэтическую метафору Павла: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий»? Кстати, одно из наименований тарелки — цимбалы — происходит от греческого кимвал.
Еще более важная роль принадлежит тамтаму. В оперно-симфонической литературе удары тамтама, как пишут в руководствах по оркестровке, знаменуют присутствие волшебных сил, проклятие, предвестие беды, катастрофу или смерть. В «Мистерии» он — постоянный «спутник» Павла, символ его мистического могущества. Удары и тремоло тамтама, соло или в сочетании с другими инструментами, обрамляют оркестровое вступление, ими отмечено явление Павла язычникам-римлянам, его реплика «Ложь!! Бог есть любовь, а не наоборот», концы фраз в «Проповеди». Громовыми раскатами тамтама обозначен переход Павла в иной мир. Но тамтам ставит последнюю точку и в земной жизни Нерона.
Среди чисто оркестровых лейтобразований упомянем еще два. Одно можно назвать «лейтмотивом огня» — это аккордовые трели с верхними и нижними вспомогательными звуками, всегда в смешанных тембрах (например: валторны, препарированный рояль, высокие струнные). На них построен большой эпизод в «Пожаре», заключение картины «Живые факелы»; уже как символ — разверзающейся под ногами тверди и бушующего под ней адского пламени — появляются они в сцене смерти Нерона. Второй оркестровый лейтмотив — близкий родственник первого. Он представляет собой репетицию многозвучного и тоже многотембрового аккорда в прогрессирующем ритмическом сжатии. Звучит он в тех же картинах и может быть назван «лейтмотивом (лейтритмом) смерти»9.
Напряженность и острота противостояния ведущих персонажей (и исповедуемых ими идей) с особой силой ощущается в узловых, переломных моментах драматургии. Первый в их ряду — явление Павла на оргии. В разгар веселья «стыдливо» смолкает хор римлян и оркестр, генеральная пауза сигнализирует о резкой смене выразительных средств, тихий гул ударных предвещает нечто исключительно важное... В сгустившейся тишине раздается произнесенное вполголоса, словно «про себя: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят...» (ритмизованная речитация; далее следует музыка, приведенная в примере 89).
В других случаях, связанных, в основном, с хорами, действие разворачивается параллельно в двух планах, представляя конфликт в одновременности. Так, большая часть «Триумфа Нерона» построена как полифоническое наложение собственно музыки триумфа (оркестровый марш, восторженные крики римлян, развернутое соло упивающегося победой императора) и хора христиан, молящих Бога уберечь от мирских соблазнов. К финальным тактам, когда празднество уже выдохлось и затихло, хор христиан, напротив, набирает силу и, удвоенный виолончелями, заполняет собой все звуковое пространство, утверждая свое моральное превосходство.
Хоры. Хоровая часть «Мистерии» заслуживает специального рассмотрения. Хоры были первым камнем, легшим в фундамент сочинения. По свидетельству композитора, все началось с текстов из Ветхого завета, «но главное было — неодолимое желание писать музыку на эти тексты» (89: 8). Ряд хоров написался еще до завершения либретто, как только обозначилась тема. Это обстоятельство, вероятно, во многом определило и жанр — опера-мистерия с чертами страстей. «”Мистерия”, — утверждал композитор, — несмотря на то, что в ней есть огромные, очень важные и трудные сольные партии, — сочинение абсолютно хоровое» (89: 9). Черты ораториальной драматургии ощущаются не только в собственно хоровых разделах. Они присущи сочинению в целом, разворачивающемся как последовательность состояний (что, впрочем, не является препятствием для его сценической реализации).
Как уже говорилось, в опере два хора — большой смешанный (римляне) и мужской (христиане). В их противопоставлении — текстовом, ситуационно-драматургическом, интонационно-жанровом, конструктивно-серийном (а при постановке, вероятно, пространственном) — отражается и укрупняется, переходя в обобщенно-эпический план, антагонизм центральных персонажей.
Хору принадлежит значительная роль в девяти картинах из десяти. Во многих сценах герои предстают в окружении людской массы (каждый — «своей»), апеллируют к ней. В ряде случаев они выступают «корифеями хора», как в «Оргии», главная музыкальная тема которой вначале «формулируется» Нероном, а затем перенимается римлянами, или в «Проповеди», где первохристиане вторят, словно эхо, речам Павла. «Линия первохристиан проходит через все сочинение как своеобразный внутренний стержень» (89: 10-11). В большинстве картин их песнопения, будучи органично включенными в действие, в то же время звучат как бы над ним, являясь комментарием, моральной оценкой происходящего, голосом «от автора». Отобранные, смонтированные, частично сочиненные тексты выстроены как своего рода «либретто в либретто».
Вступительный хор, «Во имя Бога распятого», написан на стилизованный текст, отдельные идиомы которого напоминают окончание Всенощной, молитву на восходе солнца («Мы в смирении Господа молим явить свет...») или Литургии («Слава Господу Христу и Богу в вышних»). Ключевые слова здесь - «воскресение души», смысловая арка от них перебрасывается к Финалу. Краткий текст хора из «Триумфа» частично также стилизован, а последняя строка — «и не введи нас во искушение» — взята из молитвы «Отче наш» (Мф 6: 9—13; Лк 11: 2—4), полностью использованной Каретниковым в «Восьми духовных песнопениях».
В хоре из пятой картины, «В день гнева» (Соф 1: 15—17), выражена реакция христиан на бушующий пожар Рима, воспринимающийся ими как Господня кара. (Каретников обратился к этим словам повторно — в названном цикле.) Лаконичный хоровой фрагмент «Веди, Господи, люди Твоя!» основан, вероятно, на Тропаре Кресту («Спаси, Господи, люди Твоя!»). В начальном разделе шестой картины, где христиане подавлены только что отгоревшим пожаром и напуганы ожидающими их репрессиями, распеваются всего два стиха, но взятых из разных ветхозаветных псалмов: «Страх и трепет» (Пс 54: 6), «Иссохло от горести око мое» (Пс 30: 10). Оттуда же — слова первого хора из «Смерти Нерона»: «Чужд стал я братьям моим, и ближние отреклись от меня...» (Пс 37, в свободном изложении). Песнопение обращено к свергнутому, всеми покинутому императору и звучит с подлинно христианским состраданием, как бы даруя Нерону сокрытую от него Истину.
В сцене сожжения использован сокращенный и слегка видоизмененный Символ веры, концентрированное изложение христианского вероучения. Его словами казнимые «свидетельствуют о своей вере перед миром, друг перед другом и перед Самим Господом» (131: 42). Одинаковым сочувствием проникнуты два хора на гибель центральных персонажей в восьмой и девятой сценах. Одинаковым, несмотря на то, что один из оплакиваемых — великий праведник, а другой — великий грешник. Внутренняя близость хоров подчеркнута тем, что слова обоих принадлежат одному автору — Иоанну Дамаскину; в Требнике они помещены рядом. В «Суде» это заупокойная стихира «Приидите, последнее целование дадим...», чин отпевания умершего, в Смерти Нерона — «Плачу и рыдаю...», чин погребения мирского человека.
Когда Каретников говорил, что хотел в «Мистерии» выразить мысль о «движении народов к христианству» (89: 10), слово «движение» относилось, конечно, к римлянам. Противостоящие христианам поначалу абсолютно во всем, они на протяжении оперы действительно движутся им навстречу. Процесс этот не строго поступательный и не слишком явный (стремительное «коллективное прозрение» было бы натяжкой), но тенденция вполне различима. Впервые две человеческие массы сплачиваются единым настроением в картине пожара. Сердцевина этой части сцены, ансамбль 18 солистов, не содержит ничего, кроме интонированных криков: «Дети! Отец! Спасайте стариков!». Но в основном — имена, только разные. Римляне зовут: «Регия! Филипп! Октавий!», а христиане — «Иосиф! Левий! Илиа!». Прекрасная находка! Пламя не различает римлянина и иудея. И реакция у них одинакова, ибо они — люди: ужас, страдание, тревога за близких.
Если в «Пожаре» говорить об идейном сближении преждевременно, то лаконичный эпизод в «Суде» уже дает для этого все основания. Нерону, вынесшему смертный приговор невиновному, имеющему очевидное алиби апостолу (он был заточен в темницу до пожара), адресована хоровая реплика «Глупец, ты осужден...» И произносят ее — в унисон — вторые басы (видимо, старики, наиболее умудренные жизненным опытом) обоих хоров!10
Наконец, в Финале хоры римлян и христиан сливаются в единое целое. Снова звучит лишь имя, но одно-единственное, и имя это, четырежды повторенное, сначала раздумчиво, благоговейно, потом истово, все громче и выше, имя это — «Павел».
В жанровом, фактурном, интонационном отношении хоры христиан различны: приближающиеся к хоралу и фугированные, с напряженно-хроматизированным мелосом в духе свободной 12-тоновости и предельно аскетичные, с поступенным диатоническим движением в объеме кварты, напоминающим старинный гимн, включенные в более широкий звуковой контекст и a capella — как в каретниковских циклах духовных песнопений (пример 96)
Но везде сохраняется связь с интонационной сферой Павла (за исключением, пожалуй, «хора имен» в «Пожаре», построенном на серии Нерона). Используются изредка риторические фигуры, темы-символы. Примером первых может служить восходящее движение голосов на словах «воскресение души», «слава... в вышних» в молитве из Вступления, примером второго — мотив В—А-С—Н в начале хора «В день гнева».
Как и в «Тиле», хоры «Мистерии» опираются практически на весь спектр способов вокализации текста, что накрепко связывает их с сольными партиями. Использованы и довольно редкие приемы звукоизвлечения. В «Оргии» после реплики Тигеллина «Лобзаю твои пальцы, император» солисты хора римлян шлют Нерону воздушный поцелуй: на отмеченной доле такта они «чмокают губами в ладонь»; одновременно тромбонистам предписано сделать то же самое в мундштук. В сцене пожара, в заключительном разделе хора римлян исполнителям приходится довольно продолжительное время петь свои партии... на звуке «Р—р—р», переходя постепенно на «С-с—с», на котором еще нужно сделать нисходящее глиссандо. В последнем такте к ним присоединяются трубачи и тромбонисты, которые «сипят» в мундштук. В такие моменты хор выполняет еще одну функцию — яркой тембровой краски. А сами эти экзотические приемы подсказаны композитору то ли находками польского авангарда, то ли собственными шумо-музыкальными «фокусами» в кино- и театральной музыке.
Идейная концепция. Тайна. Однако интонационный антагонизм — лишь одна из граней оперной драматургии. Если опера тяготеет к симфонизации, к сплошному току музыкального развития, к всевозрастающему в послебетховенские времена внутреннему единству, отношения сторон конфликта должны быть диалектическими. На существование такого единства и указывает второй эпиграф к произведению: «Дьявол — обезьяна Господа» (средневековое богословие). Не следует ли понимать его в том смысле, что Нерон — «обезьяна» Павла, его уродливое, искаженное отражение? На первый взгляд, предположение может показаться надуманным, но анализ его подтверждает.
Идея эта ни малейшим намеком не обозначена в либретто, Каретников не обмолвился о ней ни в одном интервью, обошел молчанием в новеллах, хотя вообще о «Мистерии» рассказывал много и охотно. Мысль о том, что ведущие персонажи не просто и не только непримиримые противники, реализована чисто музыкальными средствами, но и в музыкальной ткани не лежит на поверхности. Точнее сказать, она глубоко запрятана композитором.
Перейдем, наконец, к серийной структуре оперы, которая и содержит ключ к самому сокровенному слою содержания «Мистерии». Какая же мистерия без тайны! Сравним для начала серии Павла и Нерона, особенно их первые половины, которым Каретников всегда придавал большее значение (примеры 97-а, 6).
Композитор обращал внимание на то, что серия Павла построена по терциям, а серия Нерона — по полутонам (89: 11). С особой выпуклостью лейтинтервалы подаются в начальных интонациях вокальных фраз. «Павлова» нисходящая малая терция слышна и в возгласах финального хора, произносящего имя апостола. Множа отличия, добавим: в серии Нерона есть интервалы кварты и квинты (так необходимые в триумфальных, шествиях), отсутствующие в серии Павла. Но автокомментарий композитора столь же ведет к пониманию сути, сколь и уводит от него. Очевидно, что обе серии включают в себя и терции, и малые секунды. Обе имеют секвенцеобразное «ядро», обе начинаются звуком ре, совпадают и пятые звуки — соль-диез / ля-бемоль. Если же принять во внимание все четыре модуса обеих серий и их транспозиции, то обнаружатся общие целые последования тонов.
Все эти совпадения «на уровне голых конструкций» не случайны, они активно реализуются в живои музыкальной ткани. Иногда, там, где это смыслово оправданно, вокальный тематизм Павла «соскальзывает» на «чужую» серию — например, в «Оргии», на словах «И потому вы сами себе закон». Иногда происходит переключение с одной серии на другую — «серийные модуляции», - как в теме медных из примера 9211.
Главное «событие» в тайных отношениях двух образов происходит в Финале, когда Павла и Нерона уже нет в живых. Общий характер Финала предопределен традициями жанра: мистерии завершаются на небесах посмертным торжеством праведника. То, что известно о первоначальных предложениях А. Меня («очевидно, какой-то апофеоз Павла»), авторские пояснения («Финал — инкарнация апостола Павла») лишь укрепляют в подобных ожиданиях. Начало заключительной картины — двухорное четырехкратное «Павел...» — полностью их оправдывает. Воцаряется поразительной красоты и чистоты музыка: «хрустальные» аккорды колокольчиков, вибрафона, рояля в высоком регистре, «небесные» флажолеты струнных, волшебный перезвон челесты. Но конструктивная основа этих звучаний — серия Нерона (пример 12)!
Раскаявшийся Нерон? Нерон, каким бы он мог быть, не стань таким, каким стал? Бесспорно одно: музыка эта относится и к Нерону. Как и накладывающаяся на «музыку небес» Херувимская песнь, также адресованная обоим персонажам. В православной Литургии Херувимская занимает одно из важных мест и поется в момент, когда священные Дары переносятся с жертвенника на престол, и открываются Царские врата. В современном переводе текст ее таков: «Таинственно изображая херувимов и животворящей Троице трисвятую песнь воспевая, всякое ныне житейское отложим попечение, дабы вознести Царя всех, невидимо носимого ангельскими чинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Фигурирующее в церковнославянском оригинале слово «дориносима» означает «носимого на копьях».
Комментируя Херувимскую в своих «Размышлениях о Божественной Литургии», Гоголь сообщает о существовании у древних римлян обычая: выносить новоизбранного императора к народу на щите, поддерживаемом копьями легионеров. По преданию, «священную песнь эту сложил один из древних императоров, повергшийся в прах со всем своим земным величием перед величием Царя всех ( то есть повторивший участь Нерона! — А.С.), копьеносимого херувимами и легионами небесных сил» (43: 65). Зная это, начинаешь слышать в хоре хвалящих Господа ангелов словно растворенный в общем звучании голос Нерона.
Подобное преобразование звукового комплекса Нерона исподволь готовится на протяжении оперы. Некоторые из таких моментов отмечены выше: главных действующих лиц сближали удары тамтама и оркестровые лейтмотивы, равное сострадание первохристиан в хорах восьмой и девятой картин, косвенно — движение римлян к христианству. Есть и более прямые предвестия Финала. «Небесные звучания» формировались уже в картине «Павел один»; в шестой сцене заключительную фразу проповеди — «Верьте, братья! Плод наш есть святость, а конец — жизнь вечная» - свободно имитирует унисон флейты и вибрафона (тембровая краска из палитры Финала). Но самое важное: в моносцене Павла контрапунктом к вокальной партии (на словах «Любовь не бесчинствует...» и далее) солирующая скрипка ведет нежнейшую мелодию, основанную на серии Нерона.
1
Цифра в кавычках означает соответствующий цикл — «Восемь...» или «Шесть духовных песнопений», цифры после двоеточия — порядковые номера частей.
2
Примеры 70—6, в заимствованы из книги Т. Ливановой «История западноевропейской музыки до 1789 года» (115: 594, 595).
3
Он происходит от известного историкам литературы жанра «мениппова сатира», названного по имени Мениппа из Годара, древнегреческого философа III века до н.э.
4
В опере есть и настоящие сражения, но в них тоже привносится карнавальный элемент: и в «Драке богомольцев», и в сцене морского боя с испанцами Тиль подбадривает Ламме одним и тем же кличем: «Ламме — лев! Ламме — тигр!».
5
Они дали постановщику немецкого спектакля основание для спорного, но объяснимого решения: этнографические, географические и исторические реалии практически отсутствуют, в то же время нидерландские крестьяне читают газету «Правда». Справедливо и убеждение, высказанное Л. Гениной: «Такой «Тиль» мог появиться только в стране ГУЛАГа» (37: 16).
6
Исполнителей в несколько раз меньше: Л. Мкртчян спела пять партий, в том числе Катлину (контральто), Сооткин (сопрано), Хозяйку «Радуги» (меццо-сопрано); А. Мочалов — девять.
7
Истории музыки известен аналогичный случай. Вагнеровский «Парсифаль» — сам композитор назвал эту оперу мистерией, а музыковеды находят в ней иносказательно воспроизведенный церковный обряд причастия — ассимиллировал замысел так и не написанной оперы «Иисус из Назарета»: Парсифаль приносит человечеству, погрязшему в пороках, христианские законы любви и прощения (25: 199).
8
Характерная деталь: латинское слово «лупанарий» (дом терпимости), отсутствующее в трудах античных историков, но встречающееся у Бахтина, фигурирует в либретто (глядя на пожар, Нерон произносит: «Гори, мой Рим — вселенский лупанарий»!).
9
С той же семантикой — неотвратимости конца — подобные ритмические фигуры используются классиками XX века: В. Лютославским в «Траурной музыке», Д. Шостаковичем в Четырнадцатой симфонии.
10
Подача коллективного образа в развитии, дифференцированная трактовка хора прямо восходят к традициям Мусоргского.
11
Фраза трубы строится на инверсии от фа-диез серии Нерона, продолжающая ее фраза валторн — на инверсии от си серии Павла; си — «посредствующий» тон.
Пытаясь истолковать такое решение композитора, обратимся к проповедям о. Александра Меня. Вполне вероятно, что некоторые положения проповедей высказывались «духовным руководителем и одновременно редактором» в беседах с композитором, когда обсуждалось либретто «Мистерии».
Христиане верят в то, что Творец призовет всех смертных к преображению и бессмертию. Но что будет с теми, кто противился Богу? «Иные думают, что для них нет прощения, — говорил прихожанам о. Александр. — Но мы не можем проникнуть в тайны Божии, знаем лишь, что любовь Его беспредельна... Значит, у нас есть надежда, что во всем творении воцарятся Любовь, Правда и Красота Божия» (131: 121). О том же говорил и Достоевский: «Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо». И если человек бывает не в силах простить другого человека, — есть Бог, который «может все простить, всех, вся и за все» (61: 216, 224).
Апостолы же, напоминает о. Александр, — преемники Христовы, им была вручена власть прощать грехи от лица Самого Искупителя (131: 115). Таким образом, Финал — ответ небес на слова Павла, с которыми он вошел в оперное действие: «Прости им, Господи...». На небесах свершилось то, что не состоялось на земле: Павел проповедовал христианскую любовь, которая «не превозносится... не раздражается... все покрывает», призывал: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте!», но при этом отказал Нерону в милости и предрек ему «за гранью жизни — ничто». Оказавшись в Царстве Божьем, апостол прощает того, кто послал его на смерть. В музыкальном отношении их образы предельно сближаются, соединяются в новое качество. Происходит, наконец, то драматургическое взаимодействие, которого не было (и, видимо, не могло быть) в реальном общении персонажей.
Музыка, приведенная в последнем примере, и есть музыка преображения — преображения и Павла, что само собой разумеется и о чем Каретников упомянул в интервью, и Нерона. А преобразиться, пояснял о. Алекандр, значит, оживая, облечься в новую, совершенную плоть — как преобразился Господь, вышедший из гроба не таким, каким Он был прежде (131: 120).
...Последние минуты «Мистерии». Хор ангелов распевает «Аллилуйя»: трелеобразные мотивы складываются в единый вибрирующий кластер. В каждом голосе свои звуки, свой ритм — дуоли восьмых, триоли четвертей, квинтоли шестнадцатых. В нерасчлененном струящемся потоке можно, однако, усмотреть основу ~ ре-мажоро-минорное трезвучие (ре, фа, фа-диез, ля — начальные тоны серии Павла)1. Бесконечное повторение одной и той же краткой мелодико-ритмической формулы, как образ Вечности, беспредельных Пространства и Времени, Бессмертия — давняя традиция европейской музыки от Окегема до Вагнера и Брукнера, до музыки второй половины XX века, когда подобные приемы получили название репетитивной техники (25: 219—220).
Но кто из будущих слушателей «Мистерии» распознает в «музыке небес» преображенную серию Нерона? Аналогичный вопрос, применительно к другим додекафонным композициям Каретникова, уже вставал перед нами. «Мистерия» же — случай особый: неразличимые нормальным слухом тонкости 12-тоновой техники — едва ли не единственное, чем выражена самая суть концепции.
С уверенностью утверждаем: композитор не рассчитывал, что все, о чем сейчас шла речь, будет воспринято слушателем. Зримо и «слышимо» воплощен лишь тот пласт содержания, который, вне всякого сомнения, будет легче и без внутреннего сопротивления усвоен публикой: праведника ждет жизнь вечная, грешника — геенна огненная.
Но простить грешника, такого грешника (ведь Нерон — далеко не Герман, которому в финале «Пиковой дамы» хоровая молитва дарует милость Божию, и даже не Гришка Кутерьма из «Китежа», прощенный оболганной им ангельски сострадательной Февронией, — тоже, кстати сказать, после того, как она оказалась в преображенном граде)?.. Многие ли на это способны? Возможно, поэтому композитор и решил дорогую ему идею реализовать, но скрыто. В таком случае и название произведения следует понимать не только как указание на жанровый прообраз, но и буквально: «Тайна (таинство) апостола Павла».
И все же: кому (кроме дотошного аналитика, который не в счет) откроется сокровенное? Тому, Кому открыты сложнейше «зашифрованные» формы старых нидерландцев и позднего Баха, архитектурный принцип крестово-купольной композиции, по которому строили храмы в Византии и на Руси, числовые «ребусы» «Божественной комедии» Данте и многое, многое другое в европейском искусстве последних двадцати веков. Мы уже цитировали слова Каретникова: «Вся великая музыка написана в диалоге с Богом» (44: 17). Высказывание это перекликается с другим, относящимся к «Мистерии»: «Я писал это для Господа и для себя» (89: 10).
Давняя, как христианский мир, идея Любви и Прощения была наполнена для композитора актуальным и очень личным смыслом. Человек верующий, он не мог не замечать, до какой степени преданы забвению и грубо попраны христианские ценности в окружающем его социуме. По-видимому, в канун начала работы над «Мистерией» ощущение еще не было слишком острым, непереносимым — иначе не состоялся бы описанный в новелле «Твой современник» диалог с Шостаковичем. Каретников иронизировал по поводу только что вышедшего на экраны фильма: «Нравственные истины, утверждаемые в нем, не выходят за рамки тех, о которых нам всем мамы в детстве говорили: не воруй, не лги, уважай старших...» На что Д. Д. с жаром возразил в том смысле, что сейчас как раз настало то время, когда эти истины надо повторять. Вместе с тем, из новеллы следует, что тридцатисемилетний композитор уже был готов к восприятию сказанного, — иначе оно не запомнилось бы.
Мироощущение художника сказывается в его произведениях — это общепризнанная истина. Реже говорят о том, что творчество тоже накладывает отпечаток на восприятие жизни, строй мысли, нравственную позицию. Обдумывание «Мистерии», общение с А. Менем, безусловно, укрепляло в композиторе чувство брезгливости и неприятия социума. Вместе с этим чувством должно было прийти и другое: осознание собственного несовершенства — из-за неспособности прощать все и любить всех. О существовании этой глубоко интимной внутренней коллизии можно лишь догадываться по некоторым новеллам («Без названия», «М.В. Юдина»). И... по «Мистерии», общая концепция которой и в особенности Финал, — это еще и личное обращение к Богу, мольба о благодати.
Но рядом был образец совершенства. Вчитаемся, какими словами говорит Каретников об о. Александре: «Он служил Господу в одичавшей стране, которую даже языческой не назовешь. Возможно, св. Владимиру, крестившему Русь, было легче — он имел дело с язычниками, которые хоть во что-то верили и имели свои представления о нравственности. Отец Александр служил и проповедовал среди всеобщего озлобления и отчаяния не одно десятилетие... В том состояла его апостольская миссия... Страшно сказать, но смерть логически завершила его жизнь. Есть глубокая закономерность в том, что человек такой просветленности и веры, каким был отец Александр, окончил жизнь как мученик, как апостол» (новелла «Отец Александр». Курсив мой, — А.С.). Он подсказал сюжет «Мистерии», редактировал либретто. Но партитура «посвящается протоиерею А. Меню» не только поэтому...
Мистерия после мистерии. Итак, вторая опера Каретникова — опера-мистерия, едва ли не единственный образец данной разновидности в российском музыкальном театре наших дней.
После того, как средневековая мистерия прекратила свое существование (впрочем, не повсеместно: в некоторых странах Центральной Европы жизнь мистерии как формы народного театра никогда не прерывалась), ее жанровые свойства угадываются в опере не только XVII, но и трех последующих столетий. В этой связи часто называют «Волшебную флейту» Моцарта, уже упоминавшийся «Парсифаль» Вагнера, корсаковский «Китеж», музыку Дебюсси к пьесе д’Аннунцио «Мученичество святого Себастьяна». В нашем веке с мистерией соприкоснулись оперы Крженека «Карл V», повествующая о предсмертных часах жестокого тирана, и Шенберга — «Моисей и Аарон» на ветхозаветный сюжет (обе — в серийной технике), произведения Пендерецкого, Циммермана. Определенно тяготели к мистериальным формам в Германии — Орф («Мистерия воскресения Христа», «Чудо рождения младенца», «Мистерия о конце времени»), а во Франции — Оннеггер и Мийо, чьи оперы-оратории, созданные в содружестве с Клоделем («Жанна д’Арк на костре» и «Христофор Колумб»), содержат явные признаки этого жанра.
В искусстве советской эпохи ростки мистериальности прорастали больше в драматическом театре, чем в театре музыкальном. Отдельные черты мистерии присущи таким сочинениям, как «Опера на площади» М. Зариня, «Джордано Б^у-но» С. Кортеса, «Музыка для живых» Г. Канчели, операм-ораториям «Июльское воскресенье» В. Рубина, «Огненное кольцо» А. Тертеряна. Кажется, остались незамеченными критикой некоторые знаки старинного жанра в «Мертвых душах» Р. Щедрина. Имеем в виду два четко разграниченных стилевых плана партитуры, а, главное» их постановочный эквивалент: рассеченное надвое сценическое пространство, где «низ» — паноптикум мертвых душ, «верх» же — символический, идеализированный образ России.
Следы мистериальности, преломленные сквозь призму русских средневековых представлений и обогащенные театрально-эстетическими новациями Брехта и Стравинского, можно найти в творчестве Г. Седельникова, в частности в «Песне о Соколе» для оркестра, хора, чтеца, баса и сопрано с участием балета (1972). Жанр произведения обозначен автором как «вокально-хореографические действа». Фигуры главных героев символически обобщены, их нравственный поединок поднимается до высот мировоззренческого диспута, в котором явственно проглядывает оппозиция «небесного» и «земного», действенное и повествовательное начала уравновешены (подробнее см. 180).
Более прямое обращение советских композиторов к традициям средневековой драмы исключалось: государственная идеология не допускала использования религиозных сюжетов. Столь последовательного, «системного» воссоздания признаков мистерии, как у Каретникова, воссоздания, специально подчеркнутого тем, что определение жанра вошло в название сочинения, современная отечественная опера, пожалуй, не знала.
Воскрешение древних жанров на оперной сцене — новое, свежее слово, сказанное Каретниковым в сфере современного отечественного музыкального театра. Здесь будет уместной мысль Бахтина, адресованная Достоевскому: «Это, конечно, менее всего стилизация умершего жанра... Жанр продолжает жить своей полной жанровой жизнью. Ведь жизнь жанра и заключается в его постоянных возрождениях и обновлениях в оригинальных произведениях» (13: 164).
«Тиль» и «Мистерия» как дилогия.
Объединение столь разных произведений как «Тиль Уленшпигель» и «Мистерия апостола Павла» в дилогию могло осуществиться только на основе общих свойств и элементов. На уровне музыкального материала это интонационные связи. В частности, Каретников сам указывал на совпадение начального оборота серии Нерона с темой смерти в «Тиле» (89: 11). Но, главным образом, — это наличие общих для обеих опер эпизодов, о чем Каретников неоднократно писал и говорил в интервью. Оперы были для него как бы сообщающимися сосудами, разделенными по времени действия полутора тысячами лет. «Пять музыкальных фрагментов, пять хоров перешли почти донотно из одного сочинения в другое: в «Мистерии» они идут на текст Ветхого завета, а в опере поются на слова католического реквиема»2 (87: 157. Курсив мой, — А.С.).
Это ценнейшее свидетельство содержит, однако, некоторые неточности. Одну из них композитор отчасти исправил в позднейшем интервью, пояснив, что речь идет о четырех хорах первохристиан и «Херувимской», которую поет уже не христианская община, а «сонм ангелов» (89: И) и текст которой, прибавим от себя, взят не из Ветхого завета, а из православной Литургии, торжественного начала Литургии верных. Сведенные для наглядности в таблицу, данные о хорах, имеющих «двойное гражданство», выглядят так:
Мистерия апостола Павла | Тиль Уленшпигель |
1. В день гнева («Пожар») | Requiem («Казнь Клааса») |
2. Страх и трепет («Проповедь») | Dies irae («Допрос») |
3. Чужд стал я братьям моим («Смерть Нерона») | Et incamatus (Смерть Катлины) |
4. Плачу и рыдаю (там же) | Juste judex («Казнь Эгмонта и Горна») |
5. Иже херувимы (Финал) | Agnus Dei (Видение Христа Тилю) |
Но есть еще шестой фрагмент: музыка хора «Приидите, последнее целование дадим» из «Суда» лежит в основе органного прелюдирования в сцене «Видение Катлины», сопровождая слова: «Привидения косят людей, как траву...».
Как видим, перед нами не просто автоцитаты. Именно при сопоставлении смысла и назначения хоровых фрагментов вразных операх рождается мысль, не содержащаяся в этих партитурах, взятых порознь. Хоры ранних христиан превратились в хоры инквизиции. Из этого вытекает важный для Каретникова историко-философский вывод: «самые светлые идеи могут превращаться в свою противоположность» (87: 157).
Имеют точки соприкосновения и жанры, послужившие Каретникову прообразами его опер. Своеобразным жанром-посредником между мениппеей и мистерией выступают страсти. Но связаны они и напрямую. Л. Генина верно пишет о «Тиле» как о мистериальной трагедии (37: 16). М. Бахтин по этому поводу замечает: «Мистерия есть не что иное, как видоизмененный средневековый драматургический вариант мениппеи» (13: 170).
Кстати говоря, родство обеих каретниковских опер «через Бахтина», мыслителя ярко национального, у которого почерпнуты важнейшие идеи, весьма показательно. Кроме всего прочего, оно еще и служит доказательством их корневой принадлежности русской культуре.
Возрождая в себе «старшие» жанры — мениппеи, мистерии и близкие им, — произведения Каретникова, конечно же, являются современными операми. Они создавались в 70—80-е годы в атмосфере воскрешения интереса к «большому», многоактному спектаклю, с масштабной проблематикой, яркими, сильными личностями центральных героев (138; 139).
Стоит напомнить: в 60 —70-е годы зона композиторского поиска сместилась к «краям» оперного процесса — малой опере, с одной стороны, и опере ораториальной, с другой. Знаменательно, что Каретников безусловно предпочел тип полнометражной оперы «большого стиля», не исключив из поля зрения такой атрибут традиционной оперности, как мелодически броские, порой композиционно законченные номера. (Подобным же образом Каретников продемонстрировал верность большой симфонии в трудные для нее времена.) Показательно и другое: обновление большой оперы происходило у него с учетом творческих открытий, подаренных новыми жанрами музыкального театра, Ораториальность ощущается в обеих операх Каретникова, а от камерной и монооперы, возможно, идут обостренная чуткость вокально-речевой интонации, углубление психологических аспектов содержания (см. 185), обособление среди «сверхмассовых» картин «Мистерии» моносцены Павла на правах лирико-философского центра произведения.
Как и другие образцы современной большой оперы, «Тиль» и «Мистерия» отмечены сквозным развертыванием интонационного конфликта, насыщенной «полифонической» драматургией, развитыми формами сцен и стройно организованным целым.
В операх Каретникова проявляется еще одно, более общее свойство современного художественного мышления, проявляющееся и в сфере собственно музыкального творчества, и в сфере театра как такового, и, естественно, в сфере театра музыкального. Речь идет о тяге к универсальности, которая выражается в свободном оперировании «далековатыми» явлениями — эстетическими, историческими, жанровыми, стилевыми, в поиске нового их синтеза.
В этих условиях, как известно, остро встает проблема отбора, мотивированности комбинаций, в обнаружении скрытого единства, на которое может опереться художник. Каретников блестяще разрешил эту проблему.
Нет сомнения: когда «Мистерия» увидит свет рампы в каком-нибудь зарубежном театре, хлынет шквал восторженных оценок в европейской и американской прессе. Те же, кто смог познакомиться с рукописью или побывать на концертных исполнениях в Локкуме и Петербурге (среди них такой знаток современного музыкального театра как А. Парин), утверждают: «Партитура «Мистерии» не имеет себе равных в современной опере. По накалу духовного начала она напоминает «Страсти» Баха, а по прямому эмоциональному воздействию — оперы Мусоргского» (109). Одна из немецких газет отвела «Мистерии» место «первой и качественно непревзойденной вершины недели» - фестиваля русского искусства (271). Российская печать отметила «духовную значительность» произведения, давшего слушателям возможность ощутить «благодать душевного труда» (35), усмотрела в опере образчик «лаконичной классики середины XX века» (16).
«Тиль» уже собрал целый ряд восхищенных откликов. Немецкая критика, сообщавшая о триумфальном успехе оперы у публики, назвала произведение шедевром (154: 15). Л. Генина писала о партитуре: «Необычайная и по стилистике, и по драматургии, и по открыто демократичной театральности... дерзновенно смелая» (36: 4). Ю. Корев аттестовал сочинение как выдающееся, не имеющее себе равных в нашем искусстве последних десятилетий (134: 41). М. Тараканов уверен, что опера заняла ничем не заменимое место в движении отечественного музыкального театра (200: 10).
Оперы синтезировали и подытожили тридцатилетние искания Каретникова. В этих партитурах встретились принципы мышления, идущие от всех других областей творчества — камерно-симфонической, балетной, хоровой, музыки для театра и кино. Встретились и соединились в новое интегральное целое, дав жизнь произведениям ярким — без «вампуки», мастерским — без элитарности, демократичным — без заигрывания со слушателем. «Тиль Уленшпигель» и «Мистерия апостола Павла» — наивысшие творческие достижения Каретникова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Художественное мышление и стиль композитора определяются такими факторами как ведущая тема творчества и излюбленные сферы образов, тяга к определенным идейным концепциям, драматургическим и композиционным решениям, жанровые предпочтения, объем наследия и характер творческой эволюции, свойства музыкального языка. Бесспорно, что во всех указанных отношениях музыка Каретникова отличается очевидной оригинальностью — при всей характерности творческой фигуры для своего времени. О некоторых названных параметрах достаточно сказано выше, наблюдения над другими целесообразно кратко подытожить.
Каретников принадлежит к тому типу художников, творчество которых воспринимается как своего рода автопортрет, на фоне эпохи или, если поменять акценты, как картина эпохи, схваченная в остро индивидуальном ракурсе. Как яркая интерпретация действительности, характеризующая интерпретатора в не меньшей мере, нежели самое действительность.
Главная тема творчества Каретникова — тема преодоления. По-разному заявленная и разработанная в сочинениях разных жанров и разных лет, она сводится к поиску ответов (и ответы эти в разных случаях тоже неодинаковы) на вопрос: способен ли человек превозмочь то низкое, недостойное, что есть в жизни и в нем самом? Тема не новая, как не новы бытие и любовь, долг и смерть, вера и истина, питающие искусство на протяжении тысячелетий. Но каждое поколение, каждый человек сталкивается с вечными вопросами словно впервые, осмысливает их заново, и найденные в муках ответы обретают для него высокую цену откровения. Каретников решает тему преодоления, в основном, в двух взаимопересекаю-щихся аспектах — действенно-героическом (более традиционном для советской музыки) и религиозно-нравственном.
Проблема «художник и время» применительно к Каретникову получает особую остроту и особую «чистоту». С юности он категорически не мог принять искусство, в котором не ощущалось биение пульса эпохи. «Он пережил три войны, три революции, террор, но в его музыке я ничего этого не слышу», — недоумевал еще в школьные годы Каретников по поводу Глазунова (новелла «Всякая музыка нужна»). Ненормальной считал он и другую крайность: «Наша (советская, — А.С.) действительность всегда ставила художника в такие условия, когда он вынужден делать искусство орудием социальной, политической борьбы... Именно в результате такой борьбы мы и имеем великую трагическую музыку, великую трагическую литературу. Но не в ущерб ли самому искусству?» (44: 16). Тем не менее, в его творчестве социальная нота звучит весьма явственно.
Композитор социально чуткий, социально ориентированный, он был изолирован от времени как социальной жизни. История, судьба, свойства личности словно поставили на нем эксперимент: как в таких обстоятельствах воплотятся в искусстве художника духовные тенденции эпохи?
У Каретникова — свой взгляд на человека и мир. Если метафорически окрасить формулировки, то можно утверждать, что, к примеру, Э. Денисов — в первую голову живописец-лирик, импрессионист от авангарда, С. Губайдулина, с ее тягой к восточной культуре, спонтанности и иррационализму высказывания, воплощает мистическое, метафизическое начало бытия, для А. Шнитке главное — диалог с прошлым, размышления посредством музыки о судьбах искусства, романтическое видение жизненных коллизий. Каретников же — философ-моралист с обостренным ощущением «времени и места», то есть тех социальных потрясений, которые выпали на долю России во второй половине XX века. И с крепкой классицистской закваской.
У Каретникова, как и у его сверстников, не звучала прямо тема социального протеста (вероятно, на какое-то время она была «закрыта» Шостаковичем). В 50—80-е годы тема эта нашла выход в других сферах неофициального искусства — в бардовской песне, рок-музыке. В этом смысле дружба Каретникова с А. Галичем много значит. Уйдя от социальной повседневности, от социального быта, он не ушел от социальной действительности, от социального времени.
Разумеется, в творчестве Каретникова не стоит искать оперативного реагирования на явления политической практики общества. Симфония и квартет — не газетная публицистика, сама природа жанра предопределяет философски обобщенное и, вместе с тем, сокровенно личностное постижение реальности. В то же время было бы неосмотрительным пренебрегать объективно существующей между ними связью. В последнем балете, в обеих операх аллюзии ярки и совершенно недвусмысленны. В инструментальных сочинениях — иное. Наиболее абстрагированные, «чистые» формы музыки и в 60—70-е годы оставались той единственной сферой, где правда о современности могла получить законченное выражение, оставаясь при этом неподконтрольной вездесущей государственно-партийной цензуре.
Но здесь она могла быть и более прямой, и сколь угодно косвенной, сложно опосредованной, вплоть до связи «от противного». Примерами первого рода могут служить две киноленты М. Хуциева: снятую в 63-м «Заставу Ильича» называли картиной надежды, а вышедший в 67-м «Июльский дождь» — картиной горечи, что, в общем, соответствовало эволюции общественных умонастроений. У Каретникова т иные, внешне парадоксальные соотношения. Пик «оттепели», 1961-1963 годы, справедливо считающиеся важным, переломным периодом в жизни страны, когда, собственно, и сформировалось «поколение XX съезда», оказались самыми тяжелыми в биографии композитора. Горестная память о них тревожила его всю жизнь. Тогда и появился Квартет, тогда же, вероятно, сложился замысел Концерта для духовых инструментов.
Наоборот, вторая половина 60-х, годы оплакивания иллюзий и погружения общества в апатию и депрессию, принесли сочинения иного плана. Надо полагать, что на этом отрезке времени, примерно между 1965 и 1968 годами, у Каретникова совершился еще один поворот в мироощущении. Композитор обязан им Александру Меню, который, как рассказывалось, вытащил его из бездны отчаяния и укрепил в вере.
Уместно напомнить, что к середине десятилетия уже обдумывалась опера «Тиль Уленшпигель», важнейшая идея которой связана со способностью главного героя, несмотря на трагические испытания, сохранять жизненную энергию и юмор. Возможно даже, слово «поворот» не вполне точно отражает суть произошедшего. Точнее было бы сказать, что после кратковременного отступления позитивное мировосприятие восстановилось и окончательно откристаллизовалось. Для его описания, пожалуй, не найти слов лучше тех, в которые облек свои рассуждения С. Аверинцев (опиравшийся, в свою очередь, на Честертона): «Можно быть уверенным в себе и своем успехе, и это противно и глупо; можно быть завороженным опасностью неуспеха, и это трусливо; можно вибрировать между вожделением успеха и страхом провала, и это суетливо и низко; можно быть безразличным к будущему, и это — смерть. Благородство и радость — в выходе за пределы этих четырех возможностей, в том, чтобы весело идти в темноту, чтобы совершенно серьезно, «как хорошее дитя в игре», вкладывать свои силы и одновременно относиться к ее исходу легко, с полной готовностью быть побитым и смешным» (3:6).
Конечно, музыкально-художественные идеи, будучи выражены словами, теряют качество неповторимости, выглядят слишком общо. Но тут следует учесть, что они тесно связаны со стилем, и связь эта — двусторонняя. Жизненные идеи имеют для композитора стилеобразующее значение, но и стиль индивидуализирует содержательные концепции. И потому у Каретникова, скажем, пафос борьбы и преодоления воплощается иначе, чем у Бетховена, а социально-этические мотивы звучат не так, как у Шостаковича.
Представляется также, что на формировании стиля каким-то образом сказались факты биографии композитора. Неколебимость жизненной и творческой позиции, бескомпромиссность в отношениях с людьми и Системой как будто имеют свое отражение в свойствах музыкального высказывания. Нередко музыка Каретникова рождает ассоциации со скульптурными формами, высеченными из крепкого, неподатливого и ценного материала еще более твердым и острым резцом. Она излучает сильное мужское обаяние, за которым угадываются незаурядные воля, характер, судьба. Она привлекает значительностью всего, о чем говорит, а это может быть и вселенская трагедия, и глубоко интимные переживания. Нередко то и другое сливаются воедино, равно отмеченные врожденным инстинктом меры и благородней сдержанностью выражения.
Творческое наследие Каретникова сравнительно невелико — немногим более 30 опусов. Таков уж был склад дарования: замыслы, как правило, вызревали подолгу, и работа, за редчайшими исключениями, шла медленно и трудно. Но и тут дело не только в природных данных, но и в обстоятельствах жизни. Как принято выражаться, история не знает сослагательного наклонения, и мы не станем строить догадки относительно того, как развивалось бы творчество Каретникова, находись оно в сфере общественного внимания, ожидайся каждая его премьера с нетерпением, выполняй он конкретные заказы с жестко оговоренными сроками. Но то, что между невостребованностью основных сочинений и «малоопусностью» имелась прямая зависимость, — представляется бесспорным. Не рассчитывающий на гарантированное и скорое исполнение, не связанный обязательствами перед музыкантами и публикой, он писал каждое произведение так, как умел, и столько времени, сколько хотел.
Здесь следует искать и причины невозвращения Каретникова в музыкальную жизнь, когда государственно-идеологические запреты утратили свою силу. Сам композитор в качестве причин указывал на фатальное невезение и немногочисленность произведений, предназначенных для солиста, тем более именитого солиста, или небольшой ансамбль, произведений, которые могли бы легко экспортироваться за рубеж. Сказалось и отсутствие личных «пробивных качеств», способности стать собственным менеджером и продюсером.
Все это так. Но главная причина кроется, конечно, в качествах самой музыки. Абсолютное большинство инструментальных сочинений, выдержанных в додекафонной манере, вначале представлялись, как и подобные опусы его коллег, слишком непривычными для слуха, а затем, на фоне новых технических и стилевых веяний (алеаторика, сонорика, полистилистика, неоромантизм), могли показаться старомодными. Но Каретникову было незнакомо стремление понравиться, произвести впечатление.
Понятное желание уйти от «общих мест» (он не терпел их и в жизни, в чем можно убедиться, перечитав новеллы «Народная мудрость», «Заменитель мышления») имело и негативные последствия. Не находя в музыке опорных знаков — знакомых звучаний, слуху не за что было «зацепиться». Следует признать также, что те исполнения своих сочинений, которые Каретников смог осуществить в 60—70-е годы, — второпях, почти без репетиций, — дают о написанном довольно смутное представление. Оно и неудивительно: отечественная традиция исполнения подобной музыки как таковая отсутствует. В большинстве своем наши музыканты играют додекафонную музыку как додекафонию, а не как музыку, не чувствуя сами и не давая почувствовать слушателям ее пусть не всегда очевидную, но являющуюся объективным фактом укорененность в традиции композиторской (об этом не уставали повторять и классики додекафонии, и сам Каретников). То драгоценное качество его музыки, которое М. Тараканов определил как неброскую неординарность, остается пока скрытым от аудитории.
Парадоксально повлияло на популярность (вернее, непопулярность) произведений Каретникова его влечение к масштабным концепциям. С одной стороны, по своему назначению многие сочинения Каретникова обращены к слушательским массам, и в этом он также выступает наследником Бетховена. Идея мистерии угадывается не только в одноименном опусе. Ее можно расслышать и в «Тиле», и в Четвертой симфонии, и в музыке к «Бегу», и даже в некоторых инструментальных сочинениях, более скромных по внешним очертаниям, например, в Камерной симфонии. Кстати сказать, идея мистерии волновала воображение Каретникова не только как композитора, но и как мыслителя, как не реализовавшегося музыкально-общественного деятеля.
Таков был замысел несостоявшегося грандиозного предприятия, описанный им в статье «Концертный зал человечества». Речь шла о всемирном концерте — исполнении какого-либо классического произведения музыкантами, находящимися на всех пяти континентах Земли. Осуществляться эта акция должна была при помощи спутниковой связи, с использованием огромных телеэкранов и мониторов, «перед громадными аудиториями и с их непосредственным участием» (87: 155). Текст статьи изобилует такими понятиями, как планета, человечество, Вселенная, универсум.
Теми же категориями хочется оперировать, когда размышляешь о многих произведениях Каретникова, которые можно уподобить речи, обращенной, как говорили древние, urbi et orbi, или, если воспользоваться цитированными ранее выражениями Бахтина, — слову, звучащему «перед небом и землею, то есть перед всем миром». Отсюда и предпочтение, часто отдаваемое композитором большим, «неудобным» составам, примером каковых может служить хотя бы Концерт для духовых Инструментов, где заняты тридцать два музыканта (в каком симфоническом оркестре отыщется такое количество духовиков, притом высшей квалификации?).
Тут-то и вступает в силу пресловутое «с другой стороны»: на пути подобных сочинений к слушателю возникает множество почти Непреодолимых препятствий. К образцам такого рода относятся и произведения более эффектные, о которых уже не скажешь «неброские», произведения, не столь ригористичные по стилистике, — к примеру, обе оперы Каретникова. Они еще долго будут отпугивать уровнем исполнительских сложностей. «Труднейшая сверх меры», — так аттестовал А. Парии партитуру «Мистерии апостола Павла» (152: 51). Счастье и одновременно беда Каретникова состояли в том, что, сочиняя, он редко задумывался над тем, кто, когда, в каких условиях сможет это сыграть и спеть.
Резким своеобразием отмечен общий абрис творческого пути композитора. Охватывающий полвека, он распадается на несколько неравных этапов.
• 1930—1948: детство и отрочество (до окончания ЦМШ); начало занятий композицией, первые сочинения.
• 1948—1958: консерваторские годы и следующие за ними пять лет; сочинения, от которых автор потом отказался; творческий кризис.
•1959—1988: центральное тридцатилетие, открывшееся переходом к додекафонии; две зрелые симфонии, три балетные партитуры, группа камерно-ансамблевых и фортепианных произведений; внутренняя грань - около 1970 года: с началом работы над оперной дилогией обращение к иным жанрам практически прекратилось.
• 1989—1994: два цикла духовных песнопений, возвращение к чисто инструментальным формам, поиск новых образно-стилевых решений в рамках сложившейся системы средств.
Эволюционировало ли творчество Каретникова? Вопрос непростой. Путь композитора после 1959 года не был отмечен резкими поворотами, внезапными сменами курса, столь характерными для ряда мастеров второй половины века. Как художник он созрел не слишком рано, к тридцати годам, и обретенный стиль в дальнейшем уже не потребовал серьезных корректив. Большинство замыслов возникло (и в немалой части воплотилось) в 60-е годы, реализация же некоторых из них растянулась на десятилетия. В этом смысле творческая биография зрелого Каретникова напоминает «взрыв-первотолчок» (события конца 50-х годов) и последующее становление «расширяющейся вселенной».
Безусловно, с годами возрастало мастерство, мера творческой свободы, расширялась проблематика, наличествовала эволюция духовная. В высшей степени характерно, что последующие поветрия его почти не коснулись, хотя он был достаточно хорошо знаком с ними: сонористикой широко пользовался в прикладной музыке, алеаторикой — сугубо эпизодически, полистилистикой — избирательно в синтетических жанрах. Объясняется это, видимо, тем, что эти течения, воспринимающиеся едва ли не знаками современной музыки, возникли как своеобразная реакция на серийные принципы, но Каретникову, напомним, работа в додекафонной технике никаких неудобств не причиняла.
Ему была чужда и ностальгия по «утраченной гармонии», воплощаемая склонными к полистилистике композиторами в столкновениях острой новейшей музыкальной лексики с классическими цитатами и аллюзиями. Когда того требовал замысел, Каретников создавал образ идеала — красоты, гармонии, истины — собственными, а не заемными средствами. В духовном плане поиски идеала происходили у него не на «горизонтальной» — исторической — оси координат, не в прошлом, а на оси «вертикальной» — вневременной — нравственной. И вертикаль эта еще раз напоминает о мистериальной трактовке пространства, где сущность «верха» и «низа» не меняется с течением исторического времени.
Дабы не показалось, что сказанное противоречит изложенному ранее утверждению о том, что Каретников был наделен обостренным чувством времени, подчеркнем: его волновали вневременные — моральные, религиозно-нравственные — аспекты современных проблем. Возможно, соединение нововенских технических принципов с подобной проблематикой — одно из самых ярких проявлений художнической оригинальности Каретникова. «Вечное в настоящем — вот моя задача», — так, перефразируя Мусоргского, мог бы сказать о себе Каретников.
Неоромантизм, о чертах которого в отечественной музыке 70—80-х годов так много сказано, не мог привлечь Каретникова, ибо ему не были близки ни его идейные мотивы (утраченные иллюзии, внутренний разлад, недостижимость идеала), ни строй чувств (стихийность страстей, их роковая сила), ни «красоты» романтической стилистики. Вместе с тем романтическое в малеровском преломлении всегда было органической составляющей его художественного мышления, даже в самые «антиромантические» 60-е. Каретников унаследовал, пожалуй, лишь одно, зато коренное и наиболее общее свойство романтической поэтики — монологический тип высказывания. Оно пришло от того же Малера, а также от Шостаковича, и роднит его с композиторами, которых принято относить к «школе Шостаковича».
Равнодушными оставили Каретникова и другие течения последних десятилетий, названия которых начинаются приставкой «нео». Нет ничего удивительного в том, что его не увлек неоклассицизм. При всей условности понятия, оно подразумевает возвращение к неким давним традициям после ухода от них. Для Каретникова же, как указывалось, классические (в широком смысле слова) нормы мышления всегда сохраняли актуальность, а додекафонию он рассматривал в качестве их современной ипостаси.
Мимо неофольклоризма он прошел, видимо, не в последнюю очередь потому, что тот был слишком распространен и обласкан властями. Но главным образом, думается, потому, что его глубинное ощущение духа русской культуры не требовало внешних, наглядных форм проявления, которые, вероятно, казались ему нарочитыми, демонстративными. Однако, вслушиваясь в музыку Каретникова, не побывавшего ни в одной фольклорной экспедиции, не обращавшегося к народным текстам, понимаешь, что сделанные в юности песенные обработки не были случайностью и не прошли бесследно для позднейших этапов творчества. Достаточно сравнить лейттему Третьей симфонии (еще хранящей явную связь с эпико-дра-магической традицией русского симфонизма), инструментальные монологи Бальтазара из «Крошки Цахеса» и лирикопатетические мотивы в симфонических и камерных сочинениях, мотивы уже «додекафонно» спрессованные, чтобы воздействие фольклорной интонации, воздействие подспудное и сугубо опосредованное, предстало неопровержимым фактом. Яркое свидетельство постижения национального духа нефольклорными средствами — два цикла хоровых песнопений.
При всем своем демонстративном «западничестве», Каретников принадлежит русской культурной традиции. После премьеры «Тиля Уленшпигеля» немецкая газета писала: «Нечто типично русское... придает произведению непредсказаемую глубину, сообщает музыке особое измерение» (154: 15). «Этот музыкант был крупнейшим национальным художником», — справедливо утверждает Л. Генина в журнальной статье «Русский талант». — Его этический и эстетический мир нельзя постичь вне глубинных свойств отечественной философии, религии, культуры» (37: 15). Сам он свою «русскость» ощущал постоянно и мощно. На вопрос британского журналиста, считает ли он себя русским национальным композитором, Каретников ответил: «Безусловно, но не по этнографическим признакам. Считаю, что все мои музыкальные и немузыкальные рефлексы — русские интеллигентские рефлексы» (85).
Всю жизнь его тянуло к людям, от коих исходил свет русской интеллигентности. Он неоднократно говорил и писал о них, как об идеале, пытался даже определить ускользающую суть этого феномена, не существующего ни в одной стране мира и едва ли до конца понятного иностранцу: огромная, но не показная, естественная, «как у хорошего пианиста быстрая и точная игра гамм», эрудиция; синкретические возможности интеллекта, позволяющие «по малой части реконструировать целое... соединять понятия, которые в голове, этими способностями не обладающей, не соединяются»; гуманитарный склад ума; дар понимать другого человека; живость натуры, не исключавшей повышенного интереса к женскому полу, возлияниям, склонности к гусарству. Качества эти Каретников находил не только у тех своих кумиров, о которых говорилось выше (А. Габричевский, Г. Нейгауз, В. Шебалин), но и у более молодых современников: «Галич был одним из немногих, кто напоминал мне удивительных русских интеллигентов,
которые генерировали в начале столетия и относились к так называемому “серебряному веку”»; А. Мень «был человеком моего поколения, однако его можно с уверенностью отнести к плеяде блистательных представителей великой российской интеллигенции» (новеллы «Александр Галич», «Отец Александр»). Разумеется, замечания насчет «гусарства» и проч. отца Александра не касались...
Оценивая людей по столь высоким меркам, Каретников тяжело переживал свою «неполноценность», бескомпромиссно преувеличиваемую. «Я уже не такой, как мои учителя, — с горечью констатировал он. — Уже не такой. Я хотел бы, чтоб мои дети стали такими, как они. И для этого я обязан быть хотя бы промежуточным звеном между культурой ушедшей и той, что может родиться» (44: 17). Но в этом самоуничижении нам видится как раз свидетельство прямой причастности Каретникова к боготворимой им плеяде, ибо тут обнаруживается бесценное качество, гениально названное Пушкиным духовной жаждой.
Глубинная «русскость» «западника» — явление, удивительное лишь для поверхностного взгляда. Вся «большая тройка» современной отечественной музыки — С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Шнитке — воспринимаются на Западе как композиторы русские. Осмелимся настаивать: Каретников — самый «русский» из них.
* * *
Изучение творчества Каретникова только начинается. Перед исследователями открыты широкие перспективы научно-творческого поиска, манящего необозримостью горизонтов. И если настоящий труд в какой-то мере поможет в этом, автор посчитает свою задачу выполненной.

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОЧИНЕНИЙ Н. КАРЕТНИКОВА
1944 -1947 | Пять пьес для ф-но. Тетрадь 1. — М., 1957. Пять пьес для ф-но. Тетрадь 2. — М., 1957. |
1948 | * Вариации для ф-но. — М., 1953. |
1951 | *Три хора II Хоры молодых советских композиторов.- М., 1955. |
1952 | * Первая симфония. Для большого симф. орк. |
1953 | * Юлиус Фучик. Оратория. |
1955 | *Вторая симфония. Для большого симф. орк. *Две русские народные песни. В обр. для голоса и ф-но. — М., 1955. |
1956 | *Три детских романса для взрослых//Удивительное дело. Эстрада для детей. —М., 1967. |
1957 | *Скерцо для ф-но. — М., 1961. |
1958-1959 | Третья симфония. Для большого симф. орк. — М., 1974 (партитура) |
1960 | *Драматическая поэма. Для большого симф. орк. — М., 1969. Lento-вариации для ф-но. — Leipzig, 1978. |
1959 -1960 | Ванина Ванини. Балет в 2-х д. — М., 1973 (клавир). |
1961 | Соната для скрипки и ф-но. — М., 1983. |
1963 | Четвертая симфония. Для большого симф.орк. — М., 1982 (партитура). Струнный квартет. Для 2-х скрипок, альта и виолончели. — М., 1985. Также: Leipzig, 1985. |
1965 | Концерт для духовых инструментов. |
1967 | Крошка Цахес, по прозванию Циннобер. Балет в 2-х д. — М., 1988 (клавир). (Спектакль — под названием «Волшебный камзол»). |
1968 | Камерная симфония. — Leipzig, 1980 (партитура). |
1969 | Kleinenachtmusik (Квартет для флейты, кларнета, скрипки и виолончели)//Пьесы для камерных ансамблей (партитура). Вып. 3. — М., 1983. |
1970 | Большая концертная пьеса для ф-но. —Leipzig, 1978. |
1969-1989 | Восемь духовных песнопений памяти Б. Пастернака. Для мужского хора. |
1978 | Две пьесы для ф-но// Современная фортепианная миниатюра. Вып. 2. —М., 1975. Также: Leipzig, 1978. |
1965-1985 | Тиль Уленшпигель. Опера. |
1985 | Из Шолом-Алейхема (по страницам «Тевье-молочника»). Для чтеца и камерного ансамбля. — М., 1993 (партитура). |
1970-1987 | Мистерия апостола Павла. Опера. |
1990 | Квинтет. Для ф-но, 2-х скрипок, альта и виолончели. |
1992 | Концерт для струнных инструментов. Шесть духовных песнопений. Для мужского хора. |
1994 | Вторая камерная симфония (не окончена). |
ПРИМЕЧАНИЯ: 1.Сочинения, помеченные знаком *, композитор не упоминал в перечнях.
2.Определяя последовательность, в которой приводятся произведения, составитель учитывал авторскую нумерацию опусов.
КИНО- И ТЕЛЕФИЛЬМЫ (около 70)
1958 | Пастух. Мосфильм. И. Бабич. Ветер. Мосфильм. А. Алов и В. Наумов. |
1961 | Мир входящему. Мосфильм. А. Алов и В. Наумов. |
1962 | Лестница. Мосфильм. Э. Кеосаян. Бей, барабан! Мосфильм. А. Салтыков. |
1963 | Монета. Мосфильм. А. Алов и В. Наумов. Конец и начало. Мосфильм. М. Захариас. |
1964 | Дочь Стратиона. Одесская к/с. В. Левин. |
1965 | Наш дом. Ленфильм. В. Пронин. Скверный анекдот. Мосфильм. А. Алов и В. Наумов. Письма. Мосфильм. С. Кулиш. |
1966 | Завтраки сорок третьего года. Мосфильм. |
1967 | И. Туманян. Первороссияне. Ленфильм. Е.Шифферс. Штрихи к портрету Ленина. Экран (Центральное ТВ). |
1968 | Л. Пчелкин. Переходный возраст. К/с им. М. Горького. Р. Викторов. |
1970 | Бег (2 серии). Мосфильм. А. Алов и В. Наумов. |
1972 | Хозяева. Мосфильм. Л. Головня. Дети. Мосфильм. В. Кузнецов, О. Никич. Коней, Любавиных. Мосфильм. Л. Головня. |
1975 | Бесприданница. Центральное ТВ. К. Худяков. |
1976 | Легенда о Тиле (4 серии). |
1978 | Мосфильм. А. Алов и В. Наумов. Дорогие мои мальчишки! |
1982 | Экран (Центральное ТВ). 1978. Голос. Ленфильм. И. Авербах. |
1984 | Вина лейтенанта Некрасова. Узбекфильм. Р. Батыров. |
1985 | Сестра моя Люся. Казахфильм. Е. Шинарбаев. |
1987 | Брод. Мосфильм. А. Добровольский и Г. Дульцев. |
1988 | Прощай, шпана замоскворецкая! Мосфильм. А. Панкратов. На помощь, братцы! К/с им. Горького. И.Василёв. |
1990 | Власть Соловецкая (совместно с М. Крутоярской). Мосфильм. М. Голдовская. Закон. Мосфильм. В. Наумов. |
1991 | Бесконечность. Мосфильм. М. Хуциев. Завтра. К/с Квадрат. А. Панкратов. |
1994 | Мелкий бес (совместно с А. Беляевым). |
Мосфильм. Н. Досталь. |
МУЛЬТФИЛЬМЫ
Похождения Чичикова, Садко — богатый гость, Пер Гюнт, Крошка Цахес; Золотые слова; Синичкин календарь (4 части) и др.
1957 | Когда горит сердце (В. Гольдфельд по В. Кину). Малый театр. А. Гончаров. |
1959 | Карточный домик (О. Стукалов-Погодин). Малый театр. Д. Вурос. |
1964 | Атомная станция (X. Лакснесс). Театр им. Пушкина. |
1965 | Герой фатерлянда (Л. Кручковский). Малый театр. Д. Вурос. Десять дней, которые потрясли мир (по Д. Риду). Театр на Таганке. Ю. Любимов. |
1969 | Мореход (Е. Шанявский). Театр на Малой Бронной. К. Свинарский. |
1971 | Похождения солдата Швейка (О. Ремез по Я. Гашеку). Театр им. Пушкина. О. Ремез. l oom, другие и майор (И. Эркель). Современник. А. Алов и В. Наумов. |
1972 | Человек и джентльмен (Э. Де Филиппо). Театр им. Пушкина. О. Ремез. Поющие пески (А. Штейн по Б. Лавреневу). Театр им. Моссовета. Г1. Штейн. |
1973 | Человек на своем месте (В. Черных). Театр им. Маяковского. О. Ремез. Весенний день 30 апреля (А. Зак, И. Кузнецов). ЦАТСА. П. Штейн. |
1974 | Пятнадцатая весна (А. Зак, И. Кузнецов). ЦАТСА. П. Штейн. |
1977 | Заговор Фиеско в Генуе (Ф. Шиллер). Малый театр. Л. Хейфец. |
1979 | Король Аир. (В. Шекспир). Малый театр. Л. Хейфец. |
1980 | Нора (Г. Ибсен). Центральное ТВ. И. Унгуряну. Человек на все времена (Р. Болт). ЦАТСА. И. Унгуряну. |
1985 | Тевье-молочник (Шолом-Алейхем). Центральное ТВ. С. Евлахишвили. |
1986 | Макбет (В. Шекспир). ЦАТСА. И. Унгуряну. |

ЛИТЕРАТУРА
1. Аберт Г. В.А. Моцарт. — М., 1978. Ч. 1, кн. 1.
2. Аверинцев С.С. Комментарии (см. 41).
3. Аверинцев С.С. Попытка объясниться. — М., 1988.
4. Авцен В., Свенцицкий П. Сны и явь генерала Пралинского// Комсомолец Донбасса. 1988, 19 января.
5. Алов А.А., Наумов В.Н. Статьи, свидетельства, высказывания. — М., 1989.
6. Аносов Н. Предисловие переводчика (см. 212).
7. Арановский М. Симфонические искания. — Л., 1979.
8. Асафьев Б. Симфония // Очерки советского музыкального творчества. — М. —Л., 1947.
9. Асафьев Б. (Игорь Глебов) Видение мира в духе музыки (Поэзия А. Блока). // Блок и музыка. Сб-. статей. — М. — Л., 1972.
10. Бакши Л. Попытка прощания. Несколько тезисов о музыке тоталитарной эпохи // Муз. академия. 1992, № 1. И. Банионис Д. Приобщение к неведомому //О Тарковском. — М., 1989.
12. Баранкин Е. Похождения Крошки Цахеса / / Вечерняя Москва. 1983, 14 марта.
13. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1979. Изд. 4-е.
14. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М., 1965.
15. Белявский А. Ветер // Сов. экран. 1959, № 1.
16. Бедерова Ю. И у Люцифера были трубы // Сегодня. 1995, 25 августа.
17. Беринский С. «Московская осень»: за? против? воздержавшиеся?// Муз. академия. 1994, № 2.
18. Ближе к запросам народа! Из выступлений на IV пленуме правления СК СССР // Сов. музыка. 1959, № 7.
19. Большакова Ю. История становления хореографов, рассказанная Н. Касаткиной и В. Василёвым // Балет. 1995, № 4-5.
20. Булгаков МА. Мастер и Маргарита//Булгаков М.: Избранное. — М., 1980.
21. Булгаков С. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. — М., 1994.
22. Бэлза И. Сказочный мир Гофмана // Сов. балет. 1983, № 5.
23. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. — М., 1973.
24. Вересаев В.В. Собр. соч. В 4 т. — М., 1985. Т. 4.
25. Виеру Н. «Парсифаль» — итог творческого пути Вагнера // Рихард Вагнер. Сб. статей. — М., 1987.
26. Власов В. Балет «Ванина Ванини» // Муз. жизнь. 1962, № 14.
27. Власов В. Письмо в редакцию // Сов. музыка. 1963, № 5.
28. Вознесенский А. Благовещизм поэта // Литературная газ. 1990, 7 февраля.
29. Воспитание композиторской молодежи / / Сов. музыка. 1958, № 5.
30. Г.Н. Нотографические заметки // Сов. музыка. 1958, № 4.
31. Габович М. Молодость и талант / / Сов. культура. 1962, 31 мая.
32. Габричевский А.Г. Дмитрий Шостакович // Сов. музыка. 1989, № 6.
33. Габричевский А.Г. Дорический ордер // Архитектура СССР. 1989, № 4.
34. Габричевский А.Г. Портрет как проблема изображения / / Искусство портрета. Сб. статей под ред. А. Габричевского. — М., 1928.
35. Гаккель Л. Благодать душевного труда. Музыкальный фестиваль в Санкт-Петербурге // Первое сентября. 1996, 7 сентября.
36. Генина Л. Используя служебное, положение... // Сов. музыка. 1989, № 6.
37. Генина Л. Русский талант // Муз. академия. 1994, № 5.
38. Генина Л. «Темы с вариациями» // Правда. 1991, 2 января.
39. Гершкович Ф. О музыке. Статьи, заметки, письма, воспоминания. - М., 1991.
40. Гершкович Ф. Тональные истоки шенберговской додекафонии // Труды по знаковым системам. — Тарту, 1973. Вып. 6.
41. Гессе Г. Игра в бисер. — М., 1969.
42. Глинка М. Литературное наследие. — Л., 1953. Т. 2.
43. Гоголь Н. Размышления о Божественной Литургии. Репринт,изд. — М., 1990.
44. Голубева А. Освобождение от двоемыслия // Огонек. 1990, № 1.
45. Голубин В. Завидная широта // Театральная жизнь. 1972, № 8.
46. Голубин В. Шаг второй // Театр. 1964, № 5.
47. Городецкий А. Владимир Наумов. — М., 1987.
48. Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. - М., 1995.
49. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. — М., 1989.
50. Грошева Е. Большой театр Союза ССР. — М., 1978.
51. Губайдулина С. «Дано» и «задано» // Муз. академия. 1994, № 3.
52. Губайдулина С. «Есть музыка над нами...» // Огонек. 1989, № 9.
53. Гуляницкая Н. Заметки р стилистике современных духовно-музыкальных композиций. Ст. 2-я // Муз. академия. 1994, № 1.
54. Гуревич А. Категории средневековой культуры. — М., 1994. Изд. 2-е, испр. и доп.
55. Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Музыка и современность. — М., 1969. Вып. 6.
56. Денисов Э. Еще о воспитании молодежи // Сов. музыка. 1956, № 7.
57. Денисов Э. Не люблю формальное искусство... // Сов. музыка. 1989, № 12.
58. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. — М., 1986.
59. Денисов Э., Николаев А. Шебалин — учитель (см. 149).
60. Дживелегов А., Бояджиев Г. История западноевропейского театра. - М. - Л., 1941.
61. Достоевский Ф. Братья Карамазовы // Поли. собр. соч. В 30 т. — М., 1976. Т. 14.
62. Дьяконов А. Иди, геолог! // Труд. 1964, 18 февраля.
63. Егорова Т. Власть Соловецкая // Муз. жизнь. 1989, № 15.
64. Егорова Т. Он искрился добротой и умом // Муз. жизнь. 1991, № 17 -18.
65. Живов Л. Иллюстративность или продуманная драматургия? // Сов. музыка. 1959, № 5.
66. Житомирский Д. Возродится ли утраченное? // Сов. музыка. 1989, № 6.
67. Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. — М., 1989.
68. Журавлев Н. Открытие композитора / / Московский комсомолец. 1966, 7 сентября.
69. Журналист. По поводу одного интервью // Сов. Музыка. 1970, № 10.
70. Жутовский Б. Групповой портрет в казенном интерьере // Литературная газ. 1989, 5 июля.
71. Захаров М. Комическое послесловие к фантазиям Г. Горина // Горин Г.: Комические фантазии. — М., 1976.
72. Зеленая Р. Разрозненные страницы. — М., 1987.
73. И было утро... Воспоминания об о. А. Мене. — М., 1992.
74. Ивашкин А. Альфред Шнитке // Муз. жизнь. 1988, № 5.
75. Ивашкин А. Беседы с Альфредом Шнитке. — М., 1994.
76. Илупина А. Любовь и долг // Известия. 1962, 9 июня.
77. Иоффе И. Мистерия и опера. — Л., 1937.
78. История всемирной литературы. В 9 т. — М., 1983. Т. 1.
79. Кабалевский Д. Композитор — прежде всего гражданин / / Сов. музыка. 1959, № 2.
80. Кабалевский Д. Творчество молодых // Сов. музыка. 1958, № 12.
81. Кабалевский Д. Творчество молодых композиторов Москвы / / Сов. музыка. 1957, № 1.
82. Каретников Н. (Авторы рассказывают) // Сов. музыка. 1983, № 6.
83. Каретников Н. Готовность к бытию. — М., 1994.
84. Каретников Н. Два монолога // Новая юность. 1994, № 5 —6.
85. Каретников Н. Интервью Дж. Вуду («Би-Би-Си»). Машинописная расшифровка (из архива композитора). 1990, сентябрь.
86. Каретников Н. Как я участвовал в немецком спектакле // Муз. академия. 1994, № 5.
87. Каретников Н. Концертный зал человечества (см. 83).
88. Каретников Н. «Кто заказывает музыку, тот и...» // Сов. музыка. 1988, № 9.
89. Каретников Н. Мистерия апостола Павла (беседа с А. Тевосяном) // Муз. академия. 1994, № 5.
90. Каретников Н. Немного о музыке в кинофильме (см. 83).
91. Каретников Н. Оратория «Юлиус Фучик» // Сов. музыкант. 1953, 30 апреля.
92. Каретников Н. Темы с вариациями. — М., 1990. Высказывания Н. Каретникова также см.: 44, 47, 63, 64, 239.
93. Касаткина Н., Василёв В. Балетмейстер и исполнитель // Театр. 1968, № 3.
94. Касаткина Н., Василёв В. Сотворчество // Муз. жизнь. 1986, № 14.
95. Кац Б. О культурологических аспектах анализа // Сов. музыка. 1978, № 1.
96. Кац Б. Простые истины киномузыки. — Л., 1988.
97. Кац Б. Семь взглядов на одно сочинение // Сов. музыка. 1980, № 2.
98. Келдыш Ю. «Варшавская осень» 1958 года // Сов. музыка. 1959, № 1.
99. Ким А. Набросок в три штриха (см. 92).
100. Климовицкий А. К определению принципов немецкой традиции музыкального мышления / / Музыкальная классика и современность. - Л., 1983.
101. Кон Ю. А. Шенберг и «критика языка» // Муз. академия. 1994, № 1.
102. Кон Ю. Шенберг // Музыка XX века. — М., 1987. Ч. 2, кн. 4.
103. Корабельникова Л. Традиционный сбор //Муз. жизнь. 1981, № 14.
104. Корганов Т. Мудрый наставник (см. 149).
105. Корев Ю. Возрождая большие традиции // Сов. музыка. 1990, № 5.
106. Красовская В. В середине века (1950 —1960-е годы) // Советский балетный театр. 1917—1967. — М., 1976.
107. Красовская В. Героическая поэма // Сов. музыка. 1964, № 4.
108. Кригер В. «Героическая поэма» // Вечерняя Москва. 1964, 3 февраля.
109. Крутпоярская М., Парин А. Памяти Николая Каретникова // Мариинский театр. 1994, № 11—12.
110. Кузмин М. О церковном уставе и церковном пении // Муз. академия. 1992, № 3.
111. Курышева Т. Театральность и музыка. — М., 1984.
112. Левашева О. Балет // История музыки народов СССР. — М., 1974. Т. 5, ч. 1.
113. Левая Т. Возрождение традиции (Жанр Concerto grosso в современной советской музыке) // Музыка России. Сб. статей. — М., 1986. Вып. 6.
114. Леденев Р. О В.Я. Шебалине (см. 149).
115. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2 т. — М., 1983. Т. 1. Изд. 2-е, перераб. и доп.
116. Лихт В. На авторских вечерах... П. Васкса и Н. Каретникова / / Сов. музыка. 1985, № 8.
117. Луцкая Е. И фее пришлось раскаяться // Театральная жизнь. 1983, № 12.
118. Львов-Анохин Б. Новые одноактные балеты // Муз. жизнь. 1964, № 16.
119. Мазелъ Л. О путях развития языка современной музыки // Сов. музыка 1965, №№ 6—8.
120. Мазель А. Этюды о Шостаковиче. — М., 1986.
121. Мандельштам О. Слово и культура. — М., 1987.
122. Мандельштам О. Четвертая проза // Радуга (Таллин). 1988, № 3.
123. Манн Т. Доктор Фаустус. — М., 1963.
124. Маркова А. Победа молодых // Комсомольская правда. 1962, 1 июля.
125. Мартен М. Язык кино. — М., 1959.
126. Мартынов В. «Бог повелевает, чтобы твоя жизнь была псалом...» // Сов. музыка. 1991, № 6.
127. Масленикова 3. Жизнь отца Александра Меня. — М., 1995.
128. Медведев А., Светланов Е. Балет по Стендалю // Известия. 1962, 8 октября.
129. Медведев Р. Н.С. Хрущев // Дружба народов. 1989, № 9.
130. Мень А. Культура и духовное восхождение. — М., 1992.
131. Мень А. Православное богословие. Таинство, Слово и образ. — М., 1991.
132. Мень А. Познание добра и зла // Сов. культура. 1989, 21 октября.
133. Моисеев И. Сказать в искусстве новое // Известия. 1984, 30 марта.
134. «Московская осень»: между прошлым и будущим. Беседа за «круглым столом» в редакции // Муз. академия. 1993, № 2.
135. Музыкант. Концертное обозрение: 1985, апрель — июнь // Сов. музыка. 1985, № 10.
136. Мыслить гражданственно — в творчестве и теории // Сов. музыка. 1966, № 8.
137. Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избр. статьи, письма к родителям. — М., 1975.
138. Нестьева М. Оживающие традиции / / Музыкальный театр: надежды и действительность. — М., 1993.
139. Нестьева М. Советская опера 70—80-х годов (на примере некоторых образцов многоактной оперы) // Музыкальный театр. События, проблемы. — М., 1990.
140. Нечипоров Б. (о. Борис) Вера — залог свободы духа // Муз. академия. 1993, № 1.
141. Никитина А. Советская музыка. История и современность. — М., 1992.
142. Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца». Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года // Сов. музыка. 1958, № 7.
143. Об опере «Великая дружба» В. Мурадели. Постановление ЦК ВКП (6) от 10 февраля 1948 г. // Сов. музыка. 1948, № 1.
144. Обсуждение Четвертой декады советской музыки // Сов. музыка. 1941, № 2.
145. Оратория «Юлиус Фучик» // Московский комсомолец. 1954, 5 сентября.
146. Орлов Г. Русский советский симфонизм. — Л., 1966.
147. Орлова Е. Церковное, религиозное, духовное... // Сов. музыка. 1991, № 5.
148. Паисов Ю. Возрождение духовной традиции // Сов. музыка. 1989, № 12.
149. Памяти В.Я. Шебалина. Воспоминания, материалы. — М., 1984.
150. Памяти протоиерея Александра Меня. — М., 1991.
151. Паперно Д. Записки московского пианиста // Сов. музыка. 1989, № 5.
152. Парин А. Заметки с фестиваля русского сакро-арта в Германии // Art Prestige. 1996, № 2.
153. Помазкова Л. Рисунком танца // Комсомольская правда. 1983, 26 января.
154. Пресс-релиз // Муз. академия. 1994, № 5.
155. Прослушивание симфонии студента-дипломника / / Сов. музы-w кант. 1952, 12 декабря.
156. Пушкин А. Наброски предисловия к «Борису Годунову» // Поли, собр. соч. В 10 т. — М., 1964. Т. 7.
157. Пушкин А. О народной драме и драме «Марфа Посадница» (см. 156).
158. Пярт А. Правда очень проста // Сов. музыка. 1990, № 1.
159. Разоренов С. «Юлиус Фучик» (оратория Н. Каретникова) // Сов. музыка. 1954, № 8.
160. Рачу к И. Оратория о Юлиусе Фучике / / Московский комсомолец. 1953, 25 июня.
161. Рахманова М. Несколько дополнительных замечаний / / Сов. музыка. 1990, № 5.
162. Редакционные беседы. Говорят музыканты Москвы // Сов. музыка. 1987, №№ 11, 12.
163. Рейнгардт Л. Абстракционизм // Модернизм. Анализ и критика основных направлений. — М., 1980. Изд. 3-е доп.
164. Ренан Э. Апостол Павел. Репринт, изд. — СПб, 1907.
165. Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. — Л., 1982.
166. Рогов А. Через музыку только можно полную красоту мира познать // Сов. музыка. 1991, № 11.
167. Роллан Р. Музыканты прошлых дней // Роллан Р.: Музыкально-историческое наследие. В 8 вып. — М., 1988. Вып. 3.
168. Рубин И. Веберн и его последователи // Сов. музыка. 1959, № 4.
169. Рыжкин И. Музыкальная фаустиана XX века / / Сов. музыка. 1990, № 2.
170. Рыцарева М. Композитор Сергей Слонимский. — Л., 1991.
171. Рыцарева М. С непримиримостью к обывателю // Сов. музыка. 1984, № 10.
172. Рыцарева М. Судьба сочинения — судьба автора // Сов. балет. 1987, № 4.
173. С трибуны теоретической конференции // Сов. музыка. 1966, № 5.
174. Сабинина М. Заметки об опере (см. 192).
175. Сабинина М. Об оперном стиле Прокофьева // Сергей Прокофьев. Статьи и материалы. — М., 1965.
176. Светоний Г.Т. Жизнь двенадцати цезарей. — М., 1988.
177. Северцева О., Стукалов-Погодин Ф. А. Г. Габричевский // Архитектура и строительство Москвы. 1989, № 1.
178. Северцева О., Стукалов-Погодин Ф. А. Г. Габричевский // Архитектура СССР. 1989, № 1.
179. Селицкий А. Волшебники, не ошибайтесь! (Николай Каретников и его балет «Волшебный камзол») // Музыка и ты. Альманах для школьников. — М., 1990. Вып. 9.
180. Селицкий А. Глеб Седельников // Композиторы Москвы. Сб. статей. — М., 1994. Вып. 4.
181. Селицкий А. Камерный ансамбль: найти свою аудиторию // Муз. жизнь. 1988, № 2.
182. Селицкий А. Н. Каретников: художник и время // Традиционное и новаторское в исследовательской деятельности музыкального вуза. Тезисы докладов. — Ростов-на-Дону, 1990.
183. Селицкий А. Парадоксы «простой» музыки // Муз. академия. 1995, № 3.
184. Селицкий А. Свобода прежде всего! Этюды о судьбе и творчестве Николая Каретникова // Муз. академия. 1992, № 3.
185. Селицкий А. Советская моноопера: трансформация родовых признаков жанра // Музыкальный театр. События, проблемы. — М., 1990. Селицкий А. — см. также 235.
186. Сильвестров В. Сохранять достоинство // Сов. музыка. 1990, № 4.
187. Синявский А. Один день с Пастернаком // Юность. 1990, № 2.
188. Слонимский С. Незабываемые встречи (см. 149).
189. Слонимский С. О прошлом, настоящем и будущем... // Муз. обозрение. 1994, № 12.
190. Слуцкий Б. О других и о себе. — М., 1991.
191. Сегодня премьера балета «Ванина Ванини» // Сов. артист. 1962, 25 мая.
192. Советская музыка на современном этапе. Статьи, интервью. — М., 1981.
193. Советская музыка 70 —80-х годов. Стиль и стилевые диалоги. — М„ 1985.
194. Соколов А. Музыка, которая все еще ждет... // Муз. жизнь. 1990, № 12.
195. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. — М., 1992.
196. Соллертинский И. Музыкально-исторические этюды. — М., 1956.
197. Сохор А. Статьи о советской музыке. — Л., 1974.
198. Стравинский И. Диалоги. — Л., 1971.
199. Сумбур вместо музыки // Правда. 1936, 28 января.
200. Тараканов М. Апология непризнания // Сов. музыка. 1990, № 7.
201. Тараканов М. Драма непризнанного мастера / / Музыка из бывшего СССР. Сб. статей. — М., 1994. Вып. 1.
202. Тараканов М. Камерная инструментальная музыка // История музыки народов СССР. — М., 1974. Т. 5, ч. 1.
203. Тараканов М. Новая жизнь старой формы // Сов. музыка. 1968, № 6.
204. Тараканов М. Новое свидетельство таланта // Сов. музыка. 1968, № 10.
205. Тараканов М. Новые образы, новые средства // Сов. музыка. 1966, №№ 1, 2.
206. Тараканов М. Музыкальная культура РСФСР. — М., 1987.
207. Тараканов М. Музыкальная культура СССР в 20—30-е годы // История современной отечественной музыки. — М., 1995. Вып. 1.
208. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке (60 —70-е годы). — М., 1988.
209. Tapшиc Н. Музыка к спектаклю. — Л., 1978.
210. Тацит К. Анналы. Малые произведения // Соч. в 2 т. - Л., 1969. Т. 1.
211. Тевосян А. Мне отмщение и аз воздам. // Муз. академия. 1990, № 4. Тевосян А. — см. также 89.
212. Тильман И. О додекафонном методе композиции // Сов. музыка. 1958, № И.
213. Томсон В. Искусство суждения о музыке //О музыкальной критике. Из высказываний современных зарубежных музыкантов. — М., 1983.
214. Трифонов Ю. Воспоминания о муках немоты / / Воспоминания о Литинституте. — М., 1983.
215. Трифонов Ю. Загадка и провидение Достоевского // Новый мир. 1981, № И.
216. Уланова Г. Дебют молодых // Сов. артист. 1962, 15 июня.
217. Ухтомский А. Из неопубликованного наследия // Знамя. 1993, № 10.
218. Федорович В. Трое идут через тайгу // Театральная жизнь. 1964, № 9.
219. Финдейзен Н. М. А. Дейша-Сионицкая // Российская муз. газ. 1902, 8 декабря.
220. Фрид Г. Музыка — общение — судьбы. — М., 1987.
221. Холопов Ю. В поисках утраченной сущности музыки: Филипп Гершко вич //Музыка из бывшего СССР. Сб. статей. — М., 1994. Вып. 1.
222. Холопов Ю. Инициатор: о жизни и музыке Андрея Волконского // Музыка из бывшего СССР. Сб. статей. — М., 1994. Вып. 1.
223. Холопов Ю. Кто изобрел 12-тоновую технику? / / Проблемы истории австро-немецкой музыки. — М., 1983.
224. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. — М., 1993.
225. Холопова В. Н. Бердяев и С. Губайдулина: в той же части Вселенной. Опыт философского сопоставления //Сов. музыка. 1991, № 10.
226. Холопова В. Музыка спасет мир // Сов. музыка. 1990, № 9.
227. Холопова В. Типы новаторства в музыкальном языке русских советских композиторов среднего поколения / / Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. — М., 1982.
228. Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина. — М., 1996.
229. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн. — М., 1984.
230. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества. — М., 1990.
231. Хренников Т. Молодежь — будущее советской музыки // Сов. музыка.1959, № 2.
232. Царева Е. Иоганнес Брамс. — М., 1986.
233. Цареградская Т. Веберн и поствебернизм: проблема наследования // Муз. академия. 1994, № 1.
234. Цветаева М. Соч. в 2 т. — М., 1980. Т. 2.
235. Цукер А., Селицкий А. Григорий Фрид. Путь художника. — М.,; 1990.
236. Чайковский П. Музыкально ^критические статьи. — Л., 1986.
237. Чайковский П. Письма к близким. Избранное. — М., 1955.
238. Чайковский П. - Танеев С. Письма. — М.» 1951.
239. Чайковский и мы («круглый стол» в редакции журнала) // Сов. музыка. 1990, № 6.
240. Чар. Театр обозрений Московского Дома Печати // Вечерняя Москва. 1928, 8 августа.
241. Чернова Н. Балет молодых / / Московская правда. 1962, 21 июня.
242. Чернова Н. «Ванина Ванини» // Театр. 1962, № И.
243. Чернова Н. Два героя балетной сцены // Вопросы театра. — М., 1970.
244. Чигарева Е. «Ощущение бесконечно продолжающейся жизни» / / Сов. музыка. 1991, № 9.
245. Шахбагян А. Обновление и поиск // Муз. жизнь. 1990, № 4.
246. Шахназарова Н. Проблемы музыкальной эстетики в теоретических трудах Стравинского, Шенберга, Хиндемита. — М., 1975.
247. Шебалин В. Литературное наследие. — М., 1975.
248. Шенберг А. Моя эволюция // Зарубежная музыка XX века. Материалы и документы. — М., 1975.
249. Шереметьевская Н. Хореографическая новелла // Сов. музыка. 1962, № 9.
250. Шин А. Театр для обывателей // Вечерняя Москва. 1930, 5 декабря.
251. Шкловский В. Тетива. О несходстве сходного. — М., 1970.
252. Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке (см. 230).
253. Шнитке А. Развивать науку о гармонии // Сов. музыка. 1961, № 10.
254. Шнитке А. Реальность, которую ждал всю жизнь // Сов. музыка. 1988? № 10.
255. Шнитке А. С трибуны теоретической конференции // Сов. музыка. 1966, № 5.
256. Шнитке А., Слонимский С., Нестьева М. Взгляд из предыдущего десятилетия / / Муз. академия. 1992, № 1.
257. Шостакович Д. Приглашение к молодой музыке / / Юность. 1968, № 5.
258. Шохман Г. Параллели духа. Читая переписку А. Шенберга с В. Кандинским // Сов. музыка. 1990, № 7.
259. Шульгин Д. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. Беседы с композитором. ~ М., 1993.
260. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Собр. статей в 2 т. — М., 1975 -1979.
261. Шушарин Д. Возвращение в контекст // Новый мир. 1994, № 7.
262. Щедрин Р. Интервью (см. 192).
263. Щедрин Р. Комментарии к прошлому // Муз. жизнь. 1989, № 10.
264. Эренбург И. Собр. соч. в 9 т. — М., 1967. Т. 9.
265. Юдина М. Статьи, воспоминания, материалы. — М., 1978.
266. Южина К. Героическая поэма // Московский комсомолец. 1964, 25 февраля.
267. Я руоповский Б. Симфоническое творчество и инструментальный концерт // История музыки народов СССР. — М., 1973. Т. 4.
268. Яссер И. Мое общение с Рахманиновым / / Воспоминания о Рахманинове. В 2 т. — М., 1967. Т. 2.
269. Jelinek Н. Anleitung zur Zwolftonkomposition. — W., 1952 —1958. Bd. 1-2.
270. Kandinsky W. Punkt und Lime zu Floche. — Minchen, 1926.
271. Kohne U. Authentizitet des Gebotenen bestach / / Mindener Tageblett, 19.08.95.
272. Koenek E. Studies in counterpoint. — N. Y., 1940.
273. Mitchell D. The language of modem music. — London, 1966.
274. Протопопов В. Про хорову богатоголосову композщпо XVII — початку XVIII ст. та про Омеона Пекалицького // Украiнське музикознавство. — Кшв, 1971. Вип. 6.
275. Rufer f. Die Komposition mit zwolf Tonen. — Kassel-B., 1966.
276. Schaffer B. Klasycy dodekafonii. — Krakow. 1961 —1964. T. 1 —2.
277. Schonberg A. Style and idea. — N. Y., 1950.
278. Seuphor M. Dictionuaire de la peinture abstraite. — Paris, 1957.
НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ



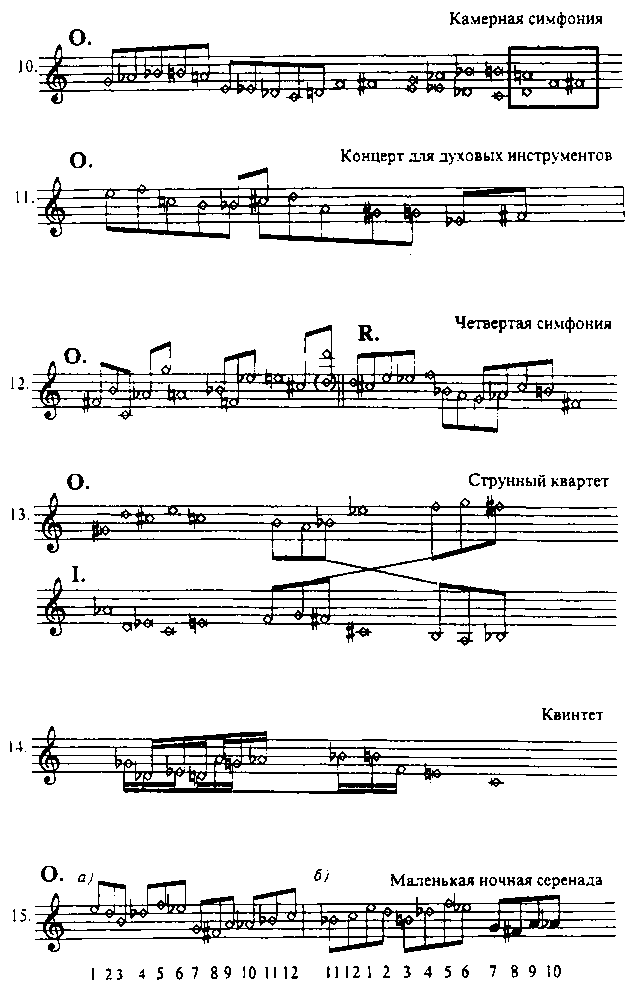





330


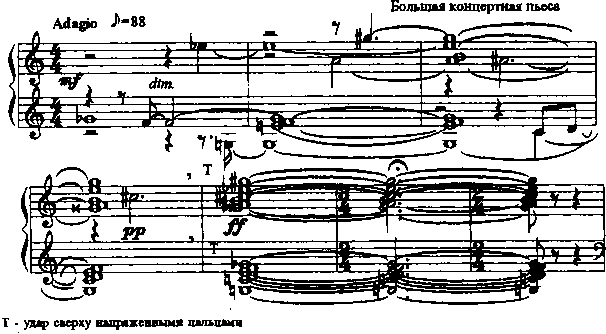
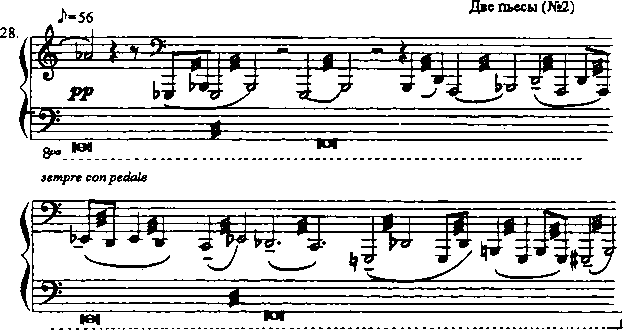
332


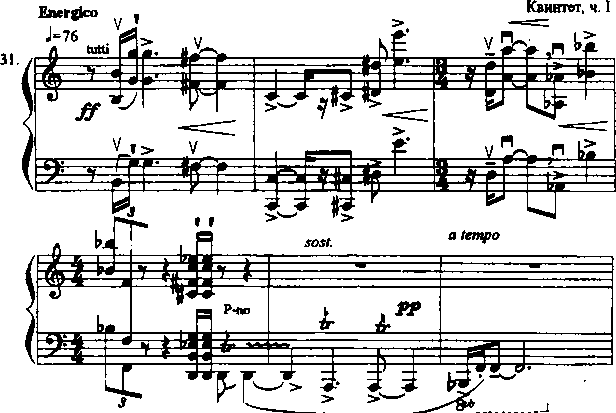
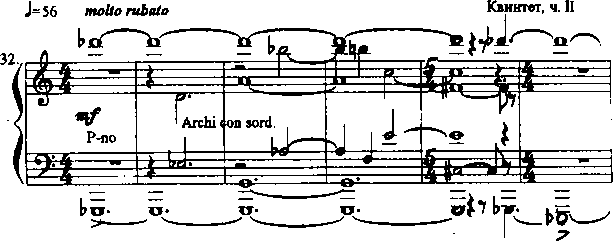


335
ИЗ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА


КОНЦЕРТ ДЛЯ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

2-й эпизод








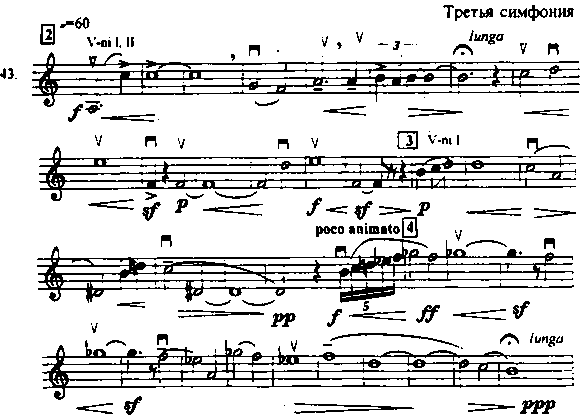
Четвертая симфония, ч. I


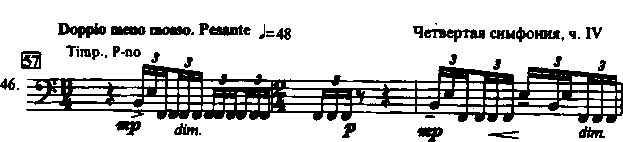
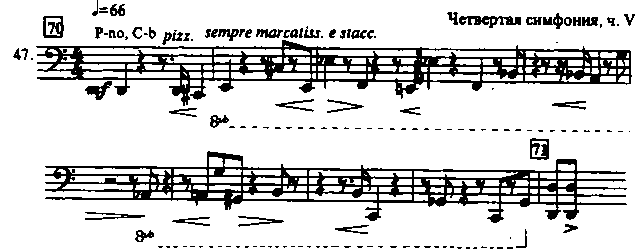

СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ



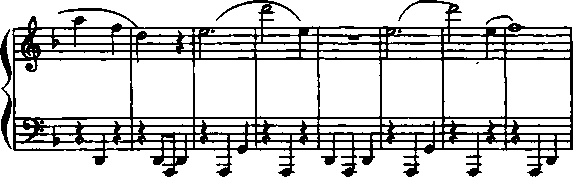


346.













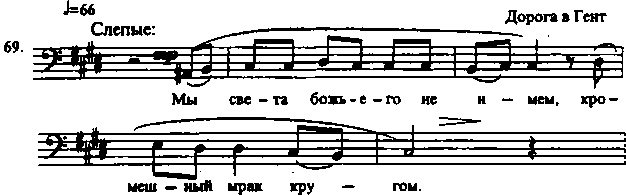
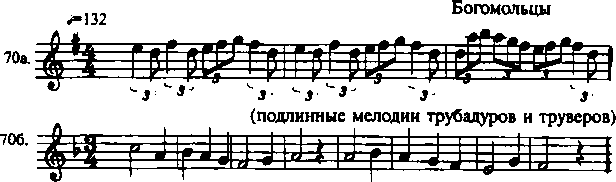

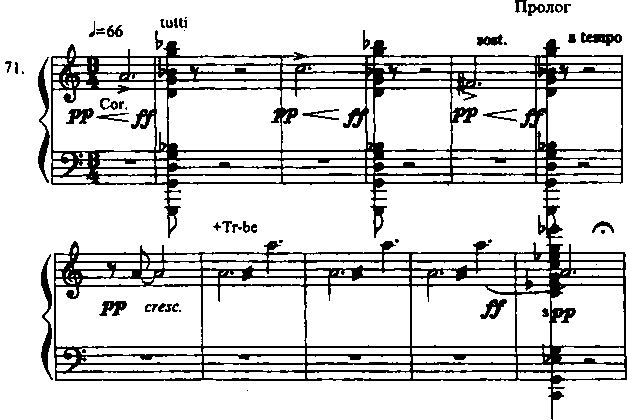
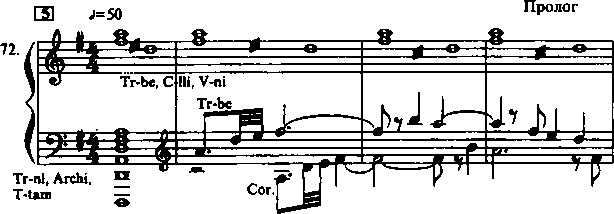
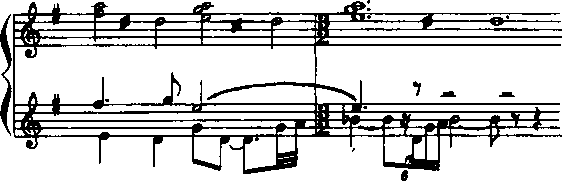



Сожжение Клааса
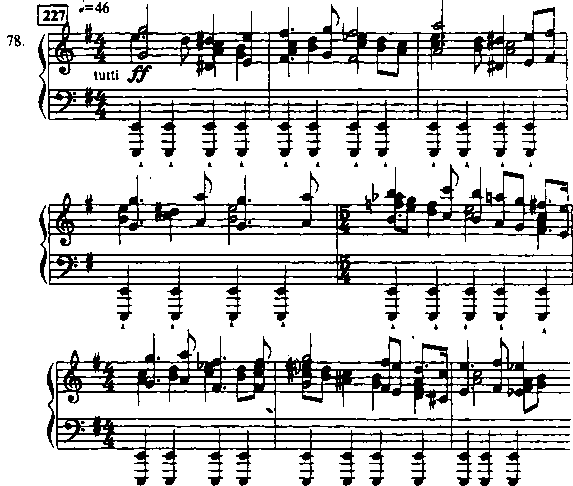
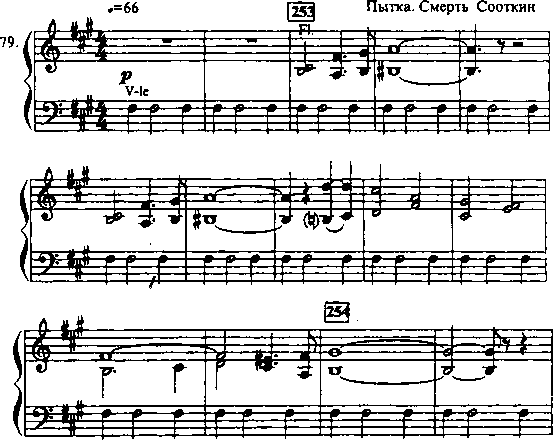


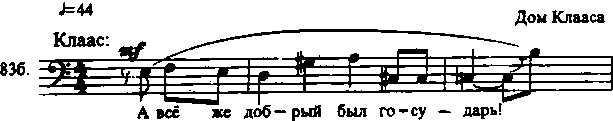







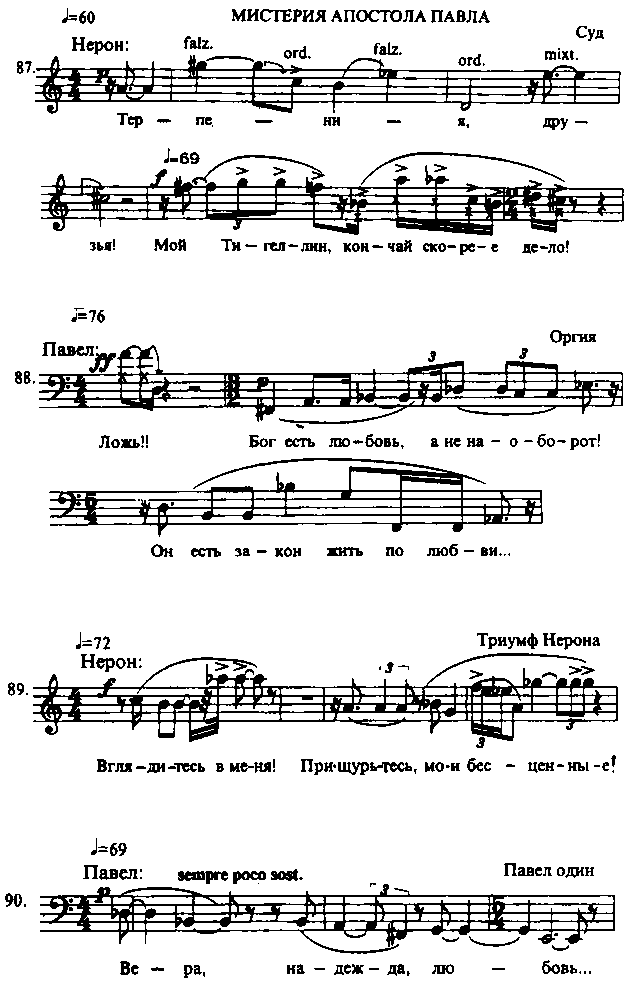


364
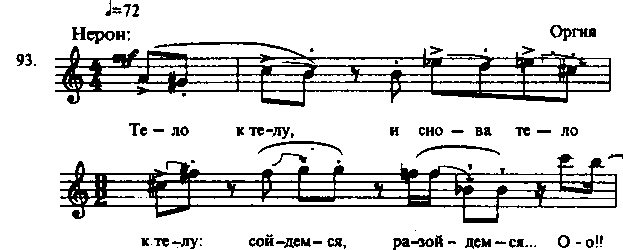
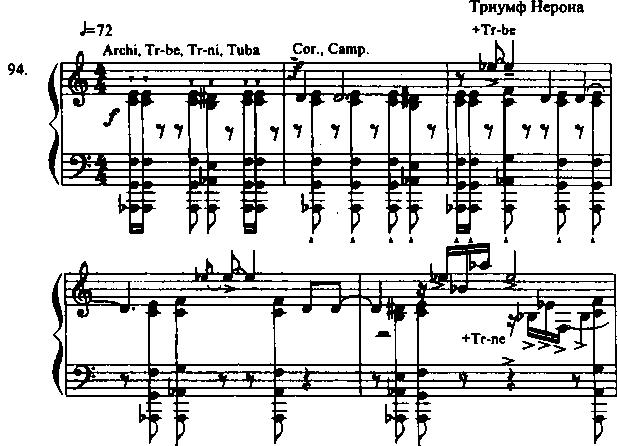

366

1
Тот же комплекс лежит в основе «загадочной» коды Камерной симфонии.
2
Соответственно, русский язык заменен латынью (примечание мое, — А. С.) «К моему изумлению, латинский текст лег совершенно идеально» (89:11).
Ответственный за выпуск В.В. Безбожный
Художественный редактор З.А. Лазаревич
Компьютерная верстка Н.В. Шляховой
Лицензия ЛР №061034 от 14 апреля 1992 г. Подписано в печать 10.10.97 г. Формат 84x108/».
Гарнитура Академическая. Усл. печ. л. 19,32.
Тираж 500 экз. Зак. № 288.
ЗАО «Кинга». 344019. Ростов-на-Дону, Советская, 57

Оглавление
- ВВЕДЕНИЕ
- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- ГЛАВА 1. ЮНЫЕ ГОДЫ
- Пролог
- Детство
- В. Шебалин
- Первые пробы пера
- Консерватория
- М. Старокадомский и К. Исаев
- «Выброшенные» сочинения
- ГЛАВА 2. ДУХОВНЫЙ ПЕРЕЛОМ
- 1956-й и другие годы
- Каретников и «шестидесятничество»
- А. Габричевский
- Приход к православию. А. Мень
- Новое искусство
- «Последний компромисс»
- На грани 60-х: второе рождение композитора
- ГЛАВА 3. ДОДЕКАФОНИЯ. ТЕХНИКА, СТАВШАЯ УБЕЖДЕНИЕМ
- Додекафония проникает в Советский Союз
- Стилевое размежевание, или Война на уничтожение
- Некоторые эстетические и исторические параллели
- Советские композиторы и додекафония: между временным увлечением и способом существования
- Образно-выразительные возможности
- Техника и обращение с ней
- Додекафония и музыкальная форма
- «Додекафония - это свобода»
- ГЛАВА 1. ЮНЫЕ ГОДЫ
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТВОРЧЕСТВО ЗРЕЛЫХ ЛЕТ. ЖАНРЫ В ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И ВЗАИМОВЛИЯНИИ. ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ
- ГЛАВА 4. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР ВРЕМЕН «ОТТЕПЕЛИ» И «ЗАСТОЯ»
- Балет в ряду других жанров творчества Каретникова
- Н.Касаткина и В.Василёв
- Лирико-героическая дуодрама о любви и революции («Ванина Ванини»)
- На пути к вершине («Геологи»)
- «Антисоветский» балет («Крошка Цахес»)
- На передовых рубежах хореографического театра
- ГЛАВА 5. ПОЛЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ИСКАНИЙ. КАМЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ
- Бестекстовые, непрограммные жанры в наследии Каретникова
- Для одного или немногих инструментов
- Произведения для фортепиано
- Ансамбли нормативного состава
- Ансамбли ненормативного состава
- Константа творческой биографии
- ГЛАВА 6. МЕЖДУ КАМЕРНОСТЬЮ И СИМФОНИЗМОМ. ОРКЕСТРОВЫЕ КОНЦЕРТЫ И КАМЕРНАЯ СИМФОНИЯ
- Жанровый статус
- Концерт для духовых инструментов
- Концерт для струнных инструментов
- Камерная симфония
- Индивидуальность жанровых решений. Художественное открытие Каретникова
- ГЛАВА 7. «ОДИН НА ОДИН С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ». ЗРЕЛЫЕ СИМФОНИИ
- Притяжение жанра
- Третья симфония
- Четвертая симфония
- Каретников и симфонические искания 60-х годов
- ГЛАВА 8. «ДРУГАЯ ПРОФЕССИЯ». МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО
- Специфика жанра и его место в творчестве Каретникова
- Шумо-музыкальные опыты
- Парадоксы жанра
- Только внутрикадровая
- «Лоскутное одеяло»
- Фантом коллизии
- ГЛАВА 9. ДУХОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ
- Отложенная встреча
- К современным спорам о духовной музыке
- Этическое и эстетическое
- Отбор и расположение текстов
- Музыкальная стилистика
- Вера и творчество
- ГЛАВА 10. ОПЕРА-МЕНИППЕЯ И ОПЕРА-МИСТЕРИЯ. «ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ» И «МИСТЕРИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА»
- «Пять часов музыки...»
- «Тиль Уленшпигель»
- «Мистерия Апостола Павла»
- «Тиль» и «Мистерия» как дилогия.
- ГЛАВА 4. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР ВРЕМЕН «ОТТЕПЕЛИ» И «ЗАСТОЯ»
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ОСНОВНЫХ СОЧИНЕНИЙ Н. КАРЕТНИКОВА
- ЛИТЕРАТУРА
- НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ
Пометки
- Обложка
Николай Каретников. Выбор судьбы: Исследование
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА 1. ЮНЫЕ ГОДЫ
Пролог
Детство
В. Шебалин
Первые пробы пера
Консерватория
М. Старокадомский и К. Исаев
«Выброшенные» сочинения
ГЛАВА 2. ДУХОВНЫЙ ПЕРЕЛОМ
1956-й и другие годы
Каретников и «шестидесятничество»
А. Габричевский
Приход к православию. А. Мень
Новое искусство
«Последний компромисс»
На грани 60-х: второе рождение композитора
ГЛАВА 3. ДОДЕКАФОНИЯ. ТЕХНИКА, СТАВШАЯ УБЕЖДЕНИЕМ
Додекафония проникает в Советский Союз
Стилевое размежевание, или Война на уничтожение
Некоторые эстетические и исторические параллели
Советские композиторы и додекафония: между временным увлечением и способом существования
Образно-выразительные возможности
Техника и обращение с ней
Додекафония и музыкальная форма
«Додекафония - это свобода»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТВОРЧЕСТВО ЗРЕЛЫХ ЛЕТ. ЖАНРЫ В ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И ВЗАИМОВЛИЯНИИ. ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ
ГЛАВА 4. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР ВРЕМЕН «ОТТЕПЕЛИ» И «ЗАСТОЯ»
Балет в ряду других жанров творчества Каретникова
Н.Касаткина и В.Василёв
Лирико-героическая дуодрама о любви и революции («Ванина Ванини»)
На пути к вершине («Геологи»)
«Антисоветский» балет («Крошка Цахес»)
На передовых рубежах хореографического театра
ГЛАВА 5. ПОЛЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ИСКАНИЙ. КАМЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ
Бестекстовые, непрограммные жанры в наследии Каретникова
Для одного или немногих инструментов
Произведения для фортепиано
Ансамбли нормативного состава
Ансамбли ненормативного состава
Константа творческой биографии
ГЛАВА 6. МЕЖДУ КАМЕРНОСТЬЮ И СИМФОНИЗМОМ. ОРКЕСТРОВЫЕ КОНЦЕРТЫ И КАМЕРНАЯ СИМФОНИЯ
Жанровый статус
Концерт для духовых инструментов
Концерт для струнных инструментов
Камерная симфония
Индивидуальность жанровых решений. Художественное открытие Каретникова
ГЛАВА 7. «ОДИН НА ОДИН С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ». ЗРЕЛЫЕ СИМФОНИИ
Притяжение жанра
Третья симфония
Четвертая симфония
Каретников и симфонические искания 60-х годов
ГЛАВА 8. «ДРУГАЯ ПРОФЕССИЯ». МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО
Специфика жанра и его место в творчестве Каретникова
Шумо-музыкальные опыты
Парадоксы жанра
Только внутрикадровая
«Лоскутное одеяло»
Фантом коллизии
ГЛАВА 9. ДУХОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ
Отложенная встреча
К современным спорам о духовной музыке
Этическое и эстетическое
Отбор и расположение текстов
Музыкальная стилистика
Вера и творчество
ГЛАВА 10. ОПЕРА-МЕНИППЕЯ И ОПЕРА-МИСТЕРИЯ. «ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ» И «МИСТЕРИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА»
«Пять часов музыки...»
«Тиль Уленшпигель»
«Мистерия Апостола Павла»
«Тиль» и «Мистерия» как дилогия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ОСНОВНЫХ СОЧИНЕНИЙ Н. КАРЕТНИКОВА
ЛИТЕРАТУРА
НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ

Последние комментарии
2 минут 3 секунд назад
2 часов 43 минут назад
10 часов 6 минут назад
15 часов 51 минут назад
16 часов 58 минут назад
17 часов 56 минут назад