Елена Генриховна Гуро Шарманка
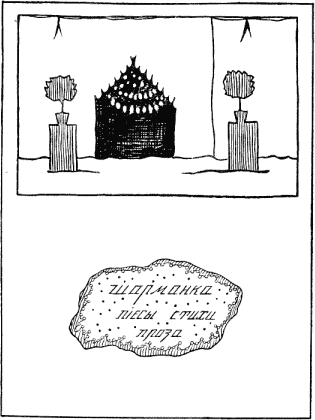
Перед весной
Я уже второй раз выхожу из комнаты и иду без цели в светлую, длинную, возбужденную улицу: я не могу сидеть дома, потому – что в комнате стало вдруг, слишком бело и светло и узко. Когда здесь был горячий, огненный круг лампы, хотелось опустить шторы, и не надоедало сидеть изо дня в день перед ворохом бумаг и видеть все один и тот же полированный пыльный край стола. Но теперь что то сюда вошло, и нельзя с этим вошедшим оставаться в неподвижности. Вперед, перед собой, большими шагами. Голова пустая: в ней колобродит солнечная, светлая пустота. По жилам истомно тянет. Сливаясь, гул поет в отдаленьи. Янтарный отсвет падает в улицу. В воздухе неожиданность встречи и исчезновенья. Идут офицер и дама, не торопясь, – он наклоняясь немного, – улыбаясь друг другу. Она немного слишком перегнулась назад. Водянистое золото дрожит на земле. В полированных лужах буквы вывесок и золотые полоски. Во всем теле истомно падает и поднимается, чуть-чуть ноя. Офицер и дама обогнули и скрываются за углом. В большом стеклянном «carreau» цветы. Белые прозрачно-фарфоровые цикломены, сморщенный бархат – темные виолетки. Ницца, fleurs de Nice… Что то нежное, как выразительные глаза… Ницца. Где нет грубого мороза, тонкие полулетние фигуры; встречи, взгляды, недомолвленные слова. Полувопрос в серых лужах. Больная; ноги укутаны тигровой шкурой. Господин в английском фетре. Цветная фотография, букеты. Дациаро, Италия. Соттиз в пестром галстухе переменяет пещи в витрине. Вокруг открытой головы скользит ветерок. Открытая воротом молодая шея. У широкой стеклянной двери кого-то ждут в блестящей черной пролетке. Стекла двери, золотые, дрожат от ожидания. Отзвуки в вечереющем отдалении. Легко, легко и быстро и нежно идти вперед. Маленькая девочка с локонами, с покупками в руках; у детей бывает весеннее настроение. Магазин. Зачем бы взойти в магазин? Я куплю какую нибудь мелочь на 10-5 коп. В темноте мерещится уголок таинственной, чужой жизни: белеют большие юношеские руки, прибирают на выручке. Хозяева, их мечты: торгуют, их лавка – любимая дойная корова, мечтают расторговаться; отдых вечера, загород, возвращенье, чай в нежных сумерках. Их будущее, мечты, – нежно, нежно струятся сквозь вещи на выручке. Полутемно. Я куплю красный деревянный грибок. Нищий. Мимо. Но красная деревянная шапочка в руке горит как ягодка, делает доброй и маленькой: я ему дам две копейки; пяти, – жаль, все равно пропьет, а две… Он все-таки добродушно старый и смущенный. Мимо беззвучно и мимолетно на бледном лице, под тенью меха, бездонные болезненно-черные глаза. Улицы изгибаются по городу без конца и начала. Окна. Капли. Подоконники. Кошки, голуби. Развертывается впереди, замыкается, открывается. Поворот за поворотом. Отблески, гулкие голоса. Тайны, обрывки незнакомых мыслей, цветов, разговоров. Возвращаюсь тихо домой. В глубине двора играет шарманка. Весенняя легкая пустота в комнате. Бродят улыбки, между редко стоящей мебелью. Прикосновение воздушных пальцев. Спинки стульев улыбаются. Проходит матовый час истомы. Со двора доносится мягкий гул. Улица просится в окно. Теперь в цветочном магазине млеют цветы. Тянет на улицу. Нет! Глупо выходить по нескольку раз и возвращаться… Я знаю, что меня сгонит с дивана и унесет в тихий шум далеких, чужих тайн и движений. Пройти только две улицы, чтобы посмотреть в окно цветочного магазина на углу. Окна голубеют. Выйти еще посмотреть город? Нет, я не останусь дома: улицы уже становятся прозрачно голубыми. Посмотреть их – такия! Какими стали вывески над знакомыми лавками. Выпиваю молока и иду. По улицам проходит что то серое, чуть-чуть дотрагивается до предметов. Это длинные предвесенния сумерки. Движение унеслось вперед. Серые лужи. Пустые, мокрые камни. Вдали потерялся конец улицы. А там? Дальше? Где скрещиваются улица и проспект? Можно еще и еще идти вперед; все равно, где повернуть. В ногах и спине истома. Еще немного! Только до блестящей галантерейной лавки. Ну! Только! – И немного посмотреть в окно. Гребенки, цепочки… Впереди, на углу белеет край молочной вывески: «Ферма». – Еще немного. Голубыми буквами – «Ферма»; это напоминает весну. Голубая, пустая, чистая по весеннему, чисто – умытая. Сыро. Ветерок… – И светлая. – Бумажная лавка. Еще можно разглядеть в окно пачки карандашей, – мелочь. – Сделать вид, что смотришь, и постоять немного. Стороной проходит старая девушка, одинокая, чистая, странно-оригинальная; такими бывают только независимо-одинокие. Легкие, чуть касающиеся до всего мысли. Вдоль стены молчаливо, четырехугольные, глухие ниши, за нишами, в каждую легла тень, – Это неважно; – по лицу красной казенной стены что-то льнет, и молчит, и думает… – А вот, это прошел, наверное, ученик консерватории, он будет у себя дома долго играть в сумерках, чистые, холодные, детские гаммы. Проходит спешной походкой учительница, ноги дергают короткую юбку. На стене брызги от экипажей. – Что-же? – И еще? Все идти без конца? Уже ноги болят. Я опять поворачиваю, иду теми же улицами, нигде не скашивая, аккуратно огибая все углы. Что-то чистое и возбужденное следует за мною до дверей моей комнаты. В комнате что-то голубоватое скользит по светлым, пустым стенам. Броситься скорей, одетой на кровать. Засыпая от усталости, чувствую: синеют окна. Сливается. Ноют приятно ноги. Где-то играет шарманка.Песни города
Было утро, из-за каменных стен
гаммы каплями падали в дождливый туман.
Тяжелые, петербургские, темнели растения
с улицы за пыльным стеклом.
Думай о звездах, думай!
И не бойся безумья лучистых ламп,
мечтай о лихорадке глаз и мозга,
о нервных пальцах музыканта перед концертом;
верь в одинокие окошки,
освещенные над городом ночью,
в их призванье…
В бденья, встревоженные электрической искрой!
Думай о возможности близкой явленья,
о лихорадке сцены.
. . . . . . . . . .
Зажигаться стали фонари,
освещаться столовые в квартирах…
Я шептал человеку в длинных космах;
он прижался к окну, замирая,
и услышал вдруг голос своих детских обещаний
и лихорадок начатых когда-то ночью.
И когда домой он возвращался бледный,
пробродив свой день, полуумный,
уж по городу трепетно театрами пахло –
торопились кареты с фонарями;
и во всех домах многоэтажных,
на горящих квадратах окон,
шли вечерние представленья:
корчились дьявольские листья,
кивали фантастические пальмы,
таинственные карикатуры –
волновались китайские тени.

В каменной табакерке города ежедневно играет музыка. Утро, восемь бьет. Зябнут свечи в темных квартирах. Просыпаются гимназисты. Повторяют зябко уроки. 12 бьет. Белые торжественные печи. Белые потолки лепные и удаленные. Высокие, торжественные лестницы. Холодные мысли городского мозга. В четыре часа пробегает с лестницей черненький фонарщик; заводит вечерний огненный вальс, высыпает блестки. Западают на стены еще темных комнат тревожные миганья уличных фонарей. Бьет шесть, поблескивает посуда: предвкусье вечерних, ламповых пиршеств. Изрешетились улицы, освещенными окнами, хоровод магазинов в городе. Бьет 7. Блестит позолота гостинных. Рамы картин таинственны; тихонько рояль заговорил. Полночь бьет. Глухие улицы скрипят засовами. Погружены детские в непробудность. В табакерке убирают музыку. – Какое страшное напряженье нервов! Вы слышали, что он два дня забыл Есть и пить!? «Да, но его свезли недавно в дом сумасшедших. Переутомленье, переутомленье!..» – Достроили консерваторию? «В нее записались ученики, раньше, чем она была достроена! Они жаждали….» . . . . . . . . . . Темный день сгорбился и совсем ушел в плечи. День не верит в город, в возможность городских огней вечером. О величьи говорят только оставшиеся на своих местах театральные подъезды, потухшие электрические шары, вчерашние афиши, хороводы колонн, возвышенные здания. За толстыми стенами спрятаны искусства, порывы, вера и мечты детские. Спрятаны вечерние игры. За толщей стен кто-то играет экзерсисы; может быть, маленький бог в матроске или с косичкой. Для него заготовлены где-то белые веселые шары, торжественная встреча; ошалевшие от рукоплесканий белые стены залы. Кто-то верит человеку в длинных космах. Чьи-то глаза гонятся за прохожими, – ловят знаки! Прошел «особенный», пронес папку. Кто-то надеется, что это художник, что вечером он зажигает лампу над белым листом бумаги, и вырастают формы, линии, нежность; что не даром горит его лампа. В какой-то комнате кто-то угловатый резко вскочил, подняв плечи; в темноте опрокинул стул в порыве мысли. Трясет косматой гривой. . . . . . . . . . . Ведь чудесно, если-бы некоторые, раскрывшиеся сегодня утром глаза, были глазами избранников! Им тогда было для чего проснуться, хотя бы и в такой темный день. Можно его и скоротать как нибудь, так легче переносить и темноту, и лужи на панели. Девушка несет мимо музыкальный портфель. «Вот девушка с густой свежей косой». «Сколько у нее впереди времени для достиженья». Масса времени! Пусть она будет заниматься только один час, каждый день! Это уже вполне возможно для нее, ведь это совсем не трудно, даже с ее избалованным, смешным ртом. И она достигнет славы… Славы! «Биография великой пианистки! Певицы!» А… Как чудно об этом мечтать. Иголочки колят в горле от счастья! Пусть она, даже, 1/2 часа будет заниматься. У нее столько лет впереди… Как молода ее коса… А в остальное время она может лежать на кушетке, читать глупости, наслаждаться, Есть битые сливки, прекрасные снежные сливки с ванилью, – и чувствовать себя на пути к свершенью. Она все таки дойдет, все таки дойдет с ее пушистой косой. . . . . . . . . . . Пробежал черный фонарщик, зажигая вечерние огни. Из под черной бархатной маски города сверкают освещенные шторки. Звезды. Китайские тени. Черные картонные домики. Яркие огненные номера. Звонки. Освещенные бока конок, точно горящие решетки. Электрические тюльпаны, газовые трезубцы. Мебелированные комнаты. Забегает в них улица. Мебелированные комнаты сняли консерваторки. Они все учатся, мечтают. Иногда в кого нибудь вечером, от городских огней попадает электрическая искра. Кто нибудь сидит в четырех стенах в грохочущем городе и думает свои фантазии, так что горит его мозг. И на него умные городские стены смотрят с сочувствием: он сидит так не-спроста! О каждой вещи он выдумывает что нибудь заманчивое, и не одной не оставляет без участия. Самый лучший день – когда начали, попробовали в первый раз. Вчера изо дня в день: от обеда до ужина, от ужина до обеда… Но дверь приотворяется, и рождается свет… Просто отворяется дверь. Сегодня началось. Это самый громадный и страшно короткий день. Невозможно красивыми кажутся подоконники и водосточные трубы. По дороге к искусству проходят мимо водосточных труб и железных подоконников – и они красивы, точно они часть музыкальной пьесы; точно все это на театральных подмостках. Проходят мимо кондитерских и нисколько не соблазняются пирожками; мимо лавок – и не стоит думать о выставленных гребеночках; ведь и в старых сломанных можно быть талантливой… Гений! Талант! И у нее беззубые гребешки в волосах. И пусть каждый думает: «Ей-бы цветы. Ей-бы цветы всего мира к ее ногам!» Смотри, город умиляется глядя на нее! Как он ее любит… Мимо вечерних огней, – и доходят до ручки двери профессорской квартиры. Пусть непременно двери будут красного дерева и золотая ручка. Это ручка необыкновенная: она улыбается. Ведь так блестит ручка и золотые гвоздики только около чьей нибудь славы. Отворяется дверь призванья. Торжественные растения на лестнице. Нигде нет такого горячего света в передней. Только около божества такой свет. А вечером от профессора возвращаются по дивным преображенным улицам; они уже все приподнялись, напряглись, как театральные подмостки. На эталажах меж галстухов веселятся лампы. Преувеличивают значенье выставленных вещей. – Делают торжественными белые рубашки, делают театральными лавки. Поднимают в глазах восхищенье. Преувеличивают носовые платки, торжественные мха и фрукты. Мха выступают вперед, блистательно, точно сейчас откроется бал. И вообще, ах! На улиц все такие окна, освщенья и выставки, точно ждут кого-то. И каждый вечер город загорается и Его ждут. Это ждут Его, – Короля! Вот он вошел, подняв тихо руку и остановился, знающий и принесший. Вот он явленное дитя звезд. Вот он неслышно, таинственно входит и выходит между людьми. Тихое торжество. Молчанье. Он входит. – «Я знаю что-то…» И с ним входит его власть. Он стоит тихонько пред дверью, там его Чаша, и он не скажет. – «Да – минует меня!» – Там тепло, там так тепло, что все краски льнут и ложатся глубоко на грудь. Глубоко. Почти гибельной лаской блаженства. Это – там, сейчас за дверью, и дверь раскроется. О! Думать только! Дверь раскроется!.. Пусть его спросят: «Отчего у тебя такие бледные, впалые щеки, и ты говоришь таким тихим, тихим голосом? Ты напоминаешь ласточку, прилетевшую слишком рано…» – «Это уже вечернее небо, – я счастлив… – Счастлив? Король! Король…» . . . . . . . . . . Сколько сегодня в городе написали стихов! В скольких квартирах для этого зажигали рабочие лампы Это кого-то беспокоит восторгом. Все полно белым золотым вином возбужденья; в этом вине города дрожжанье концертной скрипки, нервной напряженности и жгучего, упорного восторга. Или лампы безумные сегодня? Даже таинственные лампы квартир, открывающие в фокусе мгновенья значенье жизни. А шары и лампы поддельных ювелиров были всегда безумные. Потому столько сочинено стихов, столько выступлений и дебютов. Он бегает с удовольствием по улицам, заглядывает в освещенные уголки жизни и мечтает на всю пропалую, как безумный; шепчет: «Это не мое комнатное, это не я придумал. Это оно!» Увидит тень вечерней пальмы на шторах, чьи-то умные лобные кости. Желтый абажур над чужими бумагами или зеленый над конторкой обожжется восторгом. Восклицает тихонько: «Столько чьих-то мыслей. Такая великая жизнь!» Над тротуаром поднимаются тусклые половинки окон. Гераньки. Может быть здесь живут дети; из синей сахарной бумаги вырезают зайчиков. Дальше. Уголок алой скатерти мелькнул. Отчего такой теплый? Даже приподнялся на цыпочках от восторга. Верно дети прибегают сюда из детской играть. Засыпают в кроватках, мечтая об алом цвете. Может быть эти люди страстно любят искусство, просыпаются, болтая о театре. У них большие альбомы с застежками и они с волненьем раскрывают их и смотрят снимки картин и статуй. Приходят к ним на свиданье… Может быть говорят об искусстве! Там реют слова, полуоткрывают занавеси, нагревают воздух искрами восхищенья. Может быть, именно, в такой квартире живут такие люди. Это вполне возможно. Около искусства золотые гвоздики горят на двери…… . . . . . . . . . . Ребенок остановился и увидел край освещенного мольберта, а на занавеске зыбкие разветвленья пальмы. Он тихонько воскликнул: «Это Китайские тени!» И хотелось отдернуть край занавески, попасть в комнату, где ходят, переливаясь на свету, какие-то мысли о мольберте и радости. Но и не хотелось нарушить таинственность жуткорадостной маски, пройти хотелось мимо в серьезный и темный город. Гудел он колоколами вечерен…
Утренние торопливые шаги в белом тумане: «Куда ты бежишь?» Я бегу к искусству, я с каждым шагом приближаюсь, мне нипочем лужи, грязь и ветер… Как? Такой слабый и нежный? Но ведь тебя может раздавить первая попавшаяся телега! Как это будет ужасно! Город будет плакать. Как? Такой маленький и такой великий… И такой великий. . . . . . . . . . . На вывесках упоительно, изумительно вкусные хлебцы: толстые, румяные; из каждого можно сделать завтрак. Их хочется резать, резать сочными ломтями… ……Талант! У вас талант! Ощущение голубое от бесконечной нежности. «Вы научитесь!» Кто-то думает: «Я научусь фонарям и городскому рокоту, и городскому тревожному восторгу, и тому, что за освещенными шторами таинственно танцует и ветвится». Ему очень приятно, что у его перчаток продраны пальцы. Это такой контраст!.. И для какой цели приятно переносить продранные, озябшие пальцы.
Картофельные шарики в жареном соку! – На двери трактира нарисована, уже потемневшая от дождей и грязи рыба на тарелочке, в ожерелья шариков румяного, поджаренного в хрустящем сале, картофеля. Как вкусно! До чего вкусно! До чего невыносимо вкусно… Что чувствует господин магазинщик, имя которого аршинными буквами возносится над городом? Каждый вечер его имя освещается огнем. Или даже само горит огненными буквами. Это вероятно нужно, чтобы кто нибудь написал стихи, но для чего собственно живет сам господин магазинщик? Ужасно холодно в комнате. Человек в мансарде снял напульсники, и просунул себе под жилет. От окна дуло и на грудь ложился лед. . . . . . . . . . . О, как горит вечер, точно ужин на торжественном, накрытом столе. О, сколько жареных колбас, они горячи от жиру, от веселья ламп, они горят румяной, жареной бахромой… . . . . . . . . . . И одиночество звездное… Соскользнули с потолка тени, и легли к его ногам…. Рояль черный, торжественно-конвертный. Вот возбужденно-белые стены…. От них отскакивают и летают золотые от восторга звуки. Он оторвал глаза от бумаги. Огни уже загорались, уже загорались…. Для них огни. На них неловко сидит платье, они застенчиво сталкиваются с прохожими, у них плоские, некрасивые волосы. А вечером в театральном ящике города огни загораются для них!.. . . . . . . . . . . Может быть для меня? Для меня! Ты сегодня любимец города… «Как он меня любит!» Мчался, кутался меховой шапочкой и пушистым воротником шубы, – баловень и любимец. А на встречу ему город высыпал пригоршни фонарей, веселых, безумных белых шаров. И пели ему ошемляющие обещания жизни; точно бокалы шампанского на белом возбужденном столе: – «Через пол часа для тебя принесут прекрасные подарки!» «У меня немного озябли руки!» – Так закутайся мехом! Приласкай себя, такого талантливого, приласкай себя, – дитя. Санки мчатся по набережной, мимо княжеских фасадов; под искрами неба свернули на проспект. . . . . . . . . . . Или шла на встречу тихая, кроткая оттепель. Синее небо льнуло сверху к домам и обещало, и обещало; шелковый ветер торопливо рвал его на бездонные лоскутья. Магазины говорили: «Да взгляни-же на нас, мы блестим, и так хороши эти красные розы, ведь только для тебя; для тебя разостлали алые ткани и рассыпали хрустальные искры! Какой ты миленький! Такого маленького роста и такой великий!» Но он будет умирать в Ментоне, окруженный лаврами; бледные, прозрачные руки, протянутые на клетчатом пледе, и кругом будет тихий запах южных цветов. Шелковый воздух нежно щекочет щеки. «Отчего не пококетничаешь с ним?» Ты меня ласкаешь? Впалые глаза сияли, бледные щеки светились. Протекала ночь лихорадки и радости. Он кокетничал с темнотой, он нежно наклонялся к ночи, заигрывал с нею, вкрадчив, доверчив и властен, как дитя… Ты меня ласкаешь?…… Музыка светлых окон для «нашего» торжества! Такой маленький и такой великий! И такой великий! . . . . . . . . . . «Вы слышали, к сегодняшнему вечеру 3,000 корзин приготовлено, для жертвы богу… И подумать, что ему платили по копейке за строчку. О прекрасный, о, несравненный! О, избранный. О коленопреклоненные перед ним лампы»…
Утром город говорит: мои белая туманная маска тиха. Мои далекие крыши дымят в небо. Мои дымы неподвижны. С утра тихие водосточные трубы немо опущены к тротуару. Усталые кошки тихо лижут себе бока. Убраны в коробки китайские тени. Огоньки, слава, театры, вызовы и явленья, актеры и поэты с напряженными глазами, сложены в картонные коробки серые и длинные. На них лежит туман. Пахнет в городе хлебом, дымами. Смотали на невидимую катушку цепи огней, и спрятали. Считается не в игре то, что было вечером. Угадываются только: обои голубенькие, да серенькие в комнатах, по утреннему. Все остановилось и бело. И дома праздны, ничего не ждут, окна не прозрачны. Ничего не слышно сквозь толстые стены. И дома неподвижны – точно понедельник.
Так жизнь идет
Нелька ждет. Ей сказано здесь стоять и ждать его прихода. Улица прокатывается мимо. Рокочет вдали. Целый день сеяла золотая пыль в городе. Панель плоская, покорная тянулась бесконечно под ливнем солнца и ногами идущих. Нелька чуть-чуть мальчишески пожимается под перекрестными взглядами. Она ждет терпеливо. Раскаленный воздух вздыхает к вечеру. Город дышет горячим в прохладу. Вдали рокот страстно трещит и захлебывается. Город томится. Под ее ногами мостовая жесткая, жестокая, как боль. Она худощава, как девушка. – «Эй, ты мамзель, через два часа придет господин!» – Грубо захохотав, проходили поденщицы. Попятилась от прохожих, вглядываясь чутко. Господин на ходу пощекотал ей щеку наболдашником трости. Она немного отодвинулась; «все равно: мужчины – господа». Она привыкла проводить целый день на улице. Толпа проходит мимо покоряющей волной. «Эй, недурненькая! Ха, ха!» Проходят. Женщины. Мужчины, чей-то оставленный велосипед у стены: седло кажется горячим, сохраняет упругость недавнего прикосновения молодых ляшек. Горящие бусы увеселительного сада. Надорванный голос певицы. Мимо проходит красивый студент в короткой тужурке, пошевеливая свежими, упругими бедрами. Он перекинул с руки на руку легкую трость. – «Вот и этот мог бы владеть мной и бить меня своей изящной тростью». Опа застенчиво пожимается; у нее немного загорелые руки, чуть-чуть неловкие и беззащитные. Эх, Нелька! Воздух вздыхает бархатней и глубже. И ей кажется, что; она протягивает ладонь и что-то просит у проходящих мужчин. По она стоит, опустив руки, и ничего не просит и только смотрит. Назойливо жмется к ней и дышет горячим улица. Потом, ей кажется, что она робкая собака, которая не решается подойти к своему хозяину. Улица полна их воли и приказанья.Влажные пятна расплываются в серых стеклах. «Куда ты идешь?» – Я не знаю. – Кто-же знает? Знали тогда строгие дома с рядами четких строгих окон, строгие решетки, городские черные ряды фонарей, мутные пристыженные утра, городские вечера. Каждая вещь в городе что-то об этом всем знает. Это было раз. Едва еще таяло, капало, – капало. Она шла уже долго и ошалела весенней усталостью. Впереди прогуливался гимназист в ловком форменном пальто. С презрительным мальчишеством фатовато передернул плечами и положил руки в карманы. Он ей понравился. Она увязалась за ним. – Тоненький такой, гибкий, как хлыстик. Стриженный густенький затылок. Увязалась куда попало, следом. Смотрела на эту спину с безнадежной страстью. Скрылся за утлом. Опомнилась. Вернулась. Он был еще презрительно-самодовольный. Повелительный, должно-быть, с ничего не ценящим в женщинах мальчишеством. И до того все было их по праву; ей показалось, ниже ее уже никого не было. Странно, что если бы она вошла в магазин, ей продавали-бы. «Неужели приказчик, чистенький и солидный, имевший вид заграничного господина, услуживал-бы ей?» И можно было-бы войти и спросить, что хочешь. – Она-бы очень тихонько спросила, тихонько толкнула дверь, – у нее-бы стали застенчивые руки и ноги, так, что она бы нерешительно переступала. Может быть она показалась-бы им гибкой… И ей было приятно сесть отдыхать на чьи то ступени входа, нарочно на жесткий край, стирая пыль мостовой своим платьем. . . . . . . . . . . В одинокую белую ночь обрывались мысли и уплывали, обрывались и уплывали… . . . . . . . . . . «Странно подумать, что где-то давно, – давно слышался зелененький крик петуха и бывал отмокший дерн в городских садах весной, и что где-нибудь, сейчас, маленькие независимые человечки ждут отъезда на дачу и делают, пока, формочки из сырого песку, точно нет мужчин и женщин, только детское «папа» и «мама»…» …Все затянул дым сигар… . . . . . . . . . . «В своей мальчишеской курточке вывесилась за окно, опершись на локти. И ласково, так ласково было, потому что ветер щекотал, проходя в рукава, до самых локтей. И ощущалась нетерпеливая упругость от бедер до пальцев ног. Звало на улицу, вылететь в окошко, в беспредельность. Подоконник был трогательно грязненький, со следами прежнего, высохшего дождя. И большие пальцы ее рук были худощавы и трогали подоконник. Над угловатостями города прозрачность висла. Воздух был мокрый. Вечерели звуки». «Там была светлозеленая, как небо большая, городская тайна. Может быть, сегодня ее в первый раз можно было увидеть. Прозрачная влажная, предночная. Была большая мокрая свежесть. Ударяясь о стены, ропот улицы замирал на серых влажностях». «А запрещение отчима выходит было бумажненьким, придуманным, и сам отчим был бумажненький, хотя мужчина, как в книгах со шпорами и густым голосом. Смешно!»… «Вышла… В сером, что никло к стеклам, была воля города, жуткая воля города. Внятная». «В окнах ныряли, расплываясь, серые пятна… Это чьи то вопросы и ответы. Шла… Что то спрашивало: «Да?», и отвечало чуть слышно: «может быть». Гибкость движений пробегала стальная. Воздух, город расширялся пред ней, легкий. Хотелось бежать вслед быстро идущим фигурам». Точно кто то поддразнивал. – «А квартира осталась по заперта, не заперта!» За каждым углом расстилалось голубое пространство. Возвращалась немного усталая и тревожная, «Окна, как очи в городе, окна, как очи». «Крикнули вслед: «Девченка то шляется!» Не поняла. Хлопнула стеклянной дверью. Ах звонить не надо, к нам открыто: Дверь была открыта… Как то не по себе стало кругом. Точно из за двери караулил кто то нечистый. Отчим вернулся раньше. Наступал на нее, грозя нечистыми, кровяными белками. Точно поджидал. Почему то хлыст очутился у него в руках. Неожиданно плевал слюной. Нелепое начиналось, как сон. Перестала сознавать себя и что кругом происходит, не понимала. «А, ушла? Видно на свиданья ходишь!» – Что то облетело стены, безликое, слепое, и удержать Это было уже поздно. «Вот и так, так, – так; – на стене блистал, раскачиваясь, круглый маятник – «Вот и так, вот и так»… «Он стал бить ее хлыстом. Боль впивалась. – Облетала стены и впивалась. Отчаянье беспощадной боли. Два раза облетел кругом и рухнул потолок. Ошеломляло упоенье отчаянья. Хлестнуло»… «Эх! С треском развернулись огни в городе. Тройка сорвалась, залилась бубенцами, унося в мутную ночь. В безвольную ночь»… . . . . . . . . . . «Пресытилось. Очнулась. Но телу боль еще извивалась. Комнату наполнило самодовольство наказавшего. Самодовольно не глядел, равнодушничал. А мебель кругом рассиделась, расстоялась, осталась на тех же местах свидетельницей. Утвержденная мужской властью, утверждала, и смотрела удовлетворенно, точно сейчас получила то, чего давно дожидалась. Она всегда сторожила. Довела понемногу время до Этой минуты». «Ужасно стыдно было поднимать на нее глаза. Не смела уйти без позволенья. Униженно стояла пред ним. Набухала еще в горле истерика. Тогда, не торопясь, закуривая, и пуская нарочно ей дым в лицо, он подал ей деньги и послал ее за папиросами на улицу»… Изящно было на улице! Ах, изящно… Было очень много мужчин, очень много мужчин. И улица стала какая то беспокойно-горячая и недозволенная. Оглядывали. Точно она была раздета. Грубо толкали. «Из кондитерских выходили молодые люди с конфектными коробками и бонбоньерками в лентах изнеженных розовых, зеленых цветов». «Они все умели приказывать. Размах плеч был у них всех повелительный». «Лампы, окна были, что и вчера, но теперь они знали уже все, как мебель в кабинете отчима, – проглотили это и рассматривали ее. От любопытства они отяжелели. Сгоряча она не заметила, что идти ей больно. – Мужчины смотрели на нее как будто знали, что один из них сейчас побил ее. Мужчины обжигали ее толчками и заглядывали с уличным удовольствием ей в униженные глаза, красивые от боли и смущенья». «Горели, сверкали огни. Точно свалилось сразу». «Захотим приласкаем, захотим побьем». «Ей показалось, что все они могли ей приказать, и она должна была бы их слушаться. Белоподкладочники студенты прошли, заглянув ей в лицо и толкнули Друг друга. И эти наложили на нее тавро. И в теле это отдалось тупой тяжестью». – «Это так и надо, это все то-же, другого не будет». И вдруг показалось, что так ей и надо, и стыд и боль, и стыд. Она не смела поднять лицо; они были очень красивы. И была безграничность, и страсть была в Этом горячем потоке взглядов, полупинков развязно-гуляющих. Так и мчало куда то все оживленней и скорей: – огни хлестали ночь. От боли она принуждена была пойти еще тише. Все в пей опустилось. – А они раздували пьяные ноздри, и обливали ее горячими тяжелыми взглядами, потому, что приниженные глаза ее стали темнее и красивее. И нахлынула через голову, потянула горячая волна – падать в безграничное униженье без конца. И тогда ей показалось, что не было у нее дома, куда возвращаться, ни настоящего имени… Она про себя подумала: «женщина»… Что то стирала и уносила улица. Толпой сменившихся лиц стирала. Бесшабашно и беззаветно… И ей стало легко, уж не стыдно, и не едко. Мужчины бы крикнули: Нелька, Мюзетка, Жюльетка! «И что то оторвало ее от вчера и от дома… Никакой отдельности, как у серых покорных камней мостовой без прошлого, без мысли. Точно она жила постоянно на улице… И ей показалось трогательным смотреть в чужие красивые окна, уже стемневшие и холодные… И была это уже беспредельность, как серые переливные окна уходят рядами в улицу. Беспредельность… Ей стало не стыдно и беззаботно. В теле была тяжесть, внутри ныло, поднималось; и хотелось, чтоб сыпались унижения без конца… Одна табачная еще не была закрыта, потому что служила и для «ночного». Только окно было заставлено куском картона с улицы. Висели, клубясь, густые обшарканные портьеры. В этом месте, куда заходят мужчины, оглянули Нельку враждебным недоуменьем. Но потом, усмехнувшись, толкнули друг друга. И, покорно получив коробку, она поспешила выйти. А у мужчин были непорочно-чистые манжеты на светлых руках, и почти невинные, трогательно-чистые воротнички у розовой вымытой шеи. Сверкали провалами света рестораны и закусочные. По улице уже двигался шумок подавленных смешков, визгов увлеканья. Кто-то взял ее за талью, повернул за плечо. Обсмотрели. На стенах горели ночные тайны. И горячие взгляды к ней липли горячей болью и пригибали ее до земли. Плеть огней хлестала темноту. Хлестала ночь. Озаряла радость без света. – «Раздавите меня, избейте меня шпорами, унизьте меня…» . . . . . . . . . . «Вот качается висячий фонарь, где нибудь, у чьих то ворот, в ночной улице. Вот всю ночь качается фонарь. Его трогает ветер за плечо и вздыхает; и тихонько спрашивает кого-то стемневшая улица торопливыми шагами своих женщин…» «Вот ветер тронул за плечо, – он спросил что то и тронул за плечо. Синие бархатные глаза бога глядят в город. Бледнеют от безумства бледных огней. Бледнеют до рассвета». «Кто то бобровый, в темной улице властно подсадил в сани «свою», молодцевато застегнул полость и послал вперед, в ночь». «На панели студент тащил хихикающую проститутку». . . . . . . . . . . Стараясь не поднимать глаза выше его ног, протянула отчиму папиросы. Стараясь не видать стен. Бросилось в глаза его глянцевитое, смутное от разгоревшегося тела лицо, и нарочно на виду выложенный хлыст. Хотела не увидать также его заигрывающего, высматривающего взгляда. Но что-то пригнуло ее низко, и длинно посмотрела. Лежал хлыст с ручкой красивой кавказской чеканки. Он бил ее красивым хлыстом, таким красивым, что его хотелось взять и потрогать, и даже приложить к щеке. И нежные плечи ее точно надломились и поникли по бокам руки. Стены жадно смотрели, жаждали унизительного. Наслаждались. Он взял хлыст и хлестнул воздух. Свиснуло. Она вздрогнула – не могла, точно впилось в ее тело. И еще. «Наслаждался эффектом. Она собралась и закаменела, чтоб не отдать последнее. Но он уже наслаждался… Хлестнул ночь. Молчаливую черноглазую ночь. Эх, и еще! – Поживи повертись». «Точно с провизгом где то цыганки пели… «Опьянела, опьянела…» Наступило пьянство стыда. Заставил услуживать. И подчеркнуто унижалась, и уже была безграничность, точно этим отдавалась всем тем на улице. Вся строгая мебель мужского кабинета залоснилась каждой медяшкой, впилась глазами. . . . . . . . . . . И все таки пришло завтра. Слишком гулко доносились крики мальчишек с каменного двора, даже с парадной и черной лестниц было гулко. Отдавалось. Хлопали хлестко, властно двери. Точно стен не было в квартире, куда спрятаться. . . . . . . . . . . Ужасно противно было видеть, как соринки и бумажки крутились по мостовой. Так резко, обыкновенно, четко крутились с пылью. Дни ползли под окриками. Сжавшись, она проходила мимо казенных строгих домов с грозными решетками, копьями, дикторскими пучками, увенчанными веночком. Точно пахло от этого всего табаком кабинета отчима. Они припечатывали, придавливали, это называлось, «мерой строгости». По мостовой противно кружились сорные бумажки. Мучительно много подробностей виделось повсюду. Раздраженные мужчины брезгливо шли на службу, пыльные. Дни были знойные, городские, едкие. Не всегда была пьяная ночь; день тускло ежился, оглядывался стыдно. Крепкие мужские руки построили себе из камня и железа красивый город. Строгим расчетом вычертили. Гнули тяжелые камни. Пространство сдержали решетками. В этом городе они каждый день судили, карали и миловали… Крутилась пыль… Под вечер Господа прогуливались с тросточками. С утра вставала мутная. Ничего не могла ни работать, ни думать. Напротив окон дом установленный, как вся жизнь. Казенный, непреложный. Мимо шагали безучастно. Шагали в форменных погонах и кантах. Во всем этом было согласье и строгость. А по ночам улица бывала страстная. Перемиги огней и лиц испитых, побледневших от ночи. Они шли прямо перед собой, что-б не уронить свое самодовольство. Была маленькая среди них, с робкими чуткими ногами. Они распоряжались ею, оглядывали самодовольно, толкали, приказывали ей, приказывая своим женщинам; присвистывая свою собаку, подсвистывали ее, заставляли идти за собой. Они били ее, оставляя в ее теле боль смущенья. И при этом изящные, элегантные, даже не замечали ее, просто шли мимо, думали про нее мимоходом – «женщина» – и чувствовали себя Господами. И электричество подобострастно освещало ее для них… Они думают: «Вот чья то женщина. Ну, да этого добра много, пусть себе идет, конечно; отчасти моя… Пошла, пошла, не вздумай пристать!..» Равнодушным, выпуклым взглядом пропускали мимо ночь, и блеск, и женщин. По ним весна, гибкая и просящая, скользила, как по отлитой, упругой резине. И они шли неприкосновенно-самодовольные. Купали в ночном воздухе, прогуливали свои неприкосновенные плечи, несли упоенно свою остановившуюся мысль: «Все мое, это – я, я, иду – я». И это-же было в самовлюбленном нагибе их фуражек. Ночь льнула… Крепкие затылки были прямы и круглы… Охорашивали выпуклые обтянутые мускулы. У тополей были клейкие, жадные прутики. Этим часом Машки, Сашки, Мюзетки просыпались, начинали жизнь без «завтра». И забота, и воля и тяжкий выбор были не на них, не на них, – а на них были – хлыст, да вино, – смех и визг… «Как вам угодно хорошенький господин! Как вы желаете, как вы желаете…» И никакой заботы за потерянный день, и никакого угрызенья. Просто. Так просто… «Мужчина, проводите; проводите, мужчина…» У ночных тополей были жадные листочки, и теплый воздух приласкал Нельку… . . . . . . . . . . «На окнах магазина книги, – там ей не место: – технические – слово это какое нибудь значительное, глубокое слово, его и не поймешь никогда, пожалуй. Туда заходят мужчины с умными благородными лбами: они могут выучить все научное и знают всю тайну жизни, все что в этих книгах: и от того у них большие благородные лбы». «Эта жизнь, такая громадная, прекрасная, ученая, умная, непонятная своими розмахами и сложными оборотами. Громадные стены, дома, и дальше громадные дома. Эта жизнь, устроенная так культурно, изящно и красиво мужчинами». «Как прекрасно, должно быть, проводить линии чертежей, с их особенным важным значеньем, тонкие, серьезные, ясные, чистые. Или читать строчку за строчкой, узнавая из них что то чудесное, все дальше. И вот голова становится прекрасной, строже…» На эталажах продавали трости и чубуки с украшеньями из фигурок женского тела, в унизительных позах, стариковски подслащенных. Продавались изящные хлыстики с ручками из нежной слоновой кости, изжелта-зеленой, и моржевой, с розоватым отливом жизни. Нежные, слоново-гладкие, приятные для ладони. Изящные, жестокие игрушки для изнеженных властолюбивых рук. Ослабела: сразу покорилась, стала кроткой, и сейчас-же уличная беззаботность обняла ее… . . . . . . . . . . В ювелирной лавке две большие мужские руки, с твердыми холеными ногтями, переставляли на эталажах вещи точными твердыми движеньями. Нельке вообразилось, что весь город; изящные дворцы, возню на улицах и угодливые богатства – слегка, уверенно и спокойно давила выхоленная мужская рука с розовыми угловатыми ногтями и нежным голубым камешком на мизинце. Толпа ловко перехваченных в талью, студенческих и офицерских спин направлялась в кафе-ресторан, пересмеиваясь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В беззаветную ночь, отрываясь, падали ослабевшие мысли. Обрывались как звезды, и падали… За одинокими ночными извозчиками тени двигались жуткие. Было ей все равно, что бы с ней не сделали, – ударят, оскорбят гадкой лаской, – нечего беречь. И была для нее самой жутко захватывающая красота в отдававшейся безвозвратно покорности ее шагов… Потом из холодных мерзлых окон вынули душу, и со стен, и из тусклых впадин стекол глянула страшная жуткая пустота. . . . . . . . . . . Ее баловали, позволяли ей ставить на скатерть между цветочных ваз свои крошечные смешные туфельки. Мужчины смеялись, отнимали их у нее, прятали в жилетные карманы. Мило терпеливо слушали, когда говорила глупости. Для них на ней были нежащие кружева, блеск электричества. Виолетки. Она смеялась… Целовали жесткие усы маленькую бледную руку, которую не сжимают, – и так галантно, только держат, будто боясь сломать. За их широкими плечами синели окна. За синими окнами ширился прекрасный город, их город. О тайне города молчали… Под лампами сияли высокие лбы; красиво умные знали… . . . . . . . . . . Он с утра готовился к своим экзаменам, писал, читал. Еще важнее, недоступнее. На столе строгий письменный прибор, мужской настоящий. Темных цветов мрамора и коричневой бронзы; не допускающий возражений. Там у него все строго, порядочно, и нет места женщине. Между строгой бронзой веяла точная, щеголеватая, мужская мысль. За окном знойно рокотала, врываясь, улица. Рассеянный лекции отодвинул в сторону, осыпал пеплом, позабыв в твердых пальцах папироску. Не смела мешать. С улицы хляск кнутьев. Грохотало и жарило. На обоях меблировки, скучные цветочки. Надоели. Потом ушел. Потом опять пришел… Раскачивал грубо на коленях. Мял противно – насильно. Отстранял руку с папиросой. Галантно предупреждал, что-б остерегалась, не обожглась. . . . . . . . . . . Лежала отвернувшись к назойливо освещенной стене. Пересчитывала цветочки обоев. За тонкой стеной гулко дребезжала улица. Обои надоели, как бред. Старалась думать, утешалась: все квартиры, квартиры по городу, меблировки, в них кровати, и на кроватях все то-же». «Oh! revelle toi, ma mignonne!»… С презрительной нежностью. Не оглядываясь, на нее, садился за стол. Сразу сытый, с затупевшим затылком. Очистившись серьезностью недоступный опять. Она смотрела и видела: прядь на чистом лбу трогательно прилипла. Трогательно. Подойти не решилась… За окном рокотала улица. . . . . . . . . . . Целый день по городу сеяла золотая пыль. Были стены и старые вывески приласканы непреложной лаской приказанья, отнимающей волю. И без воли было привычно и тепло. Целый день они бродили зачем то, и она не знала, и он все заставлял поджидать себя на улице. Точно ничего нет кроме посвежевшей пустоты… Может быть сегодня днем по улице пронесли свежие темные фиалки. Мостовая вздохнула – и наклонился сверху кто то огромный. Нелька смотрит в небо, – кажется капнул дождик. И еще теплей сразу стало. И она смеется… «Чему ты улыбаешься?» – «Я с собой теперь не могла бы справиться. Меня бы следовало запирать и приказывать стоять часами и не двигаться – до боли». «И тебе весело? Да мне весело! Просто мне весело, и я шальная, потому, что капнул дождик. Я пойду сейчас за этими господами, потому что у них широкие плечи и цветные красивые нашивки на мундирах». «Нет ты этого не смеешь, ты просто и глядеть на них не смеешь, и ни на кого ты не должна глядеть: «Шальная уличная, низкая». Как мне весело, как мне весело!» Капнул дождик и обезумил теплый город, обезумил – и смолк… Иногда ветер пробежит по серой расплывшейся улице и кого-нибудь тронет за плечо. Что-то иногда возможно, чего не было никогда! И она думает: – «Вот идет он весь чуткий ночью»… Проходит какой то путеец, он стройный и молодой, останавливается, как очень доверчивый человек, который еще не решил. Прямо на нее плывет улыбка. Какой-то путеец. Свежесть дышет из сада и вздыхает. И вот теперь громко поет воздух. Проходя совсем близ Нельки он роняет свой пакет, перевязанный шнурочком, и не замечает. Она подняла, подбегает и говорит: «Господин, Вы потеряли Вашу вещь!» Студент смотрит на нее. Нет, она опускает ресницы – она не хочет, чтоб он заметил ее красивые глаза: он ей слишком нравится. Нет, ничего, ничего, я только хотела подать Вам Ваш пакет… И он уже не смотрит, и слегка покраснел. Он уже отходит в сторону, и ей безумно хочется крикнуть ему вслед: «Господин! Зовут меня Нелька»… Но она удерживается. И Нелька думает нежно: «город помолодел, трогательно помолодел – город стал совсем мальчишкой! И небо выцвело от зноя!..» «Что то уж прикоснулось ко всем предметам, и вот все – тревожнее и красивее; и это ее судьба…» «Нельзя поверить, что он не вернется сейчас из за толстого угла стены. Он так должен бы проходить взад и вперед до рассвета»… «…Что-же мешает побежать за ним вслед. Она могла бы пройти за ним до его подъезда, увидать, где он живет и спит, и какого вида парадная»… Но на нее нашла внезапная тишина и тревога… Дом был красивый, когда тот проходил мимо, но когда толстая стена заслонила его, дом перестал ей нравиться. А ведь она могла бы побежать за ним, и не потерять его так скоро… И ей немного жаль… Город помолодел, город стал совсем мальчишкой! Она осталась на месте и она встревожена. Улица горячая. Ночь глубже. Мужчины. Воздух становится пряным от духов проходящих женщин. Подзвякивают ближе шпоры. Прошли дваофицера тупой, тыкающей походкой кавалеристов. И один, закуривая папиросу: – «Моя Жюли, ха, ха!»… Ее толкнул самонадеянный звон их шпор, тупые чувственные слова, выброшенные в уличную пыль ночью. Сознанье их грубости, силы и близости. Вслед им вздохнула свежесть лиственных гущей. И опять горячее мутное потянуло. Вздрогнула, подтянулась, точно ожгло ее. Сразу занемевшее, соблазненное подчиненьем тело тянуло падать в униженье без конца. Поднимает глаза. Громадные стены, опять. Это – жизнь такая громадная… «Совладали и с камнем, и с хорошенькой блестящей медью», – быстро думает она, падая в темноту… Что то она еще хотела вспомнить? «Поют дома – каменную песнь»… Нет, ничего нельзя сообразить… Она теперь не могла бы совершенно собрать мыслей… Только тело ныло. Впереди уже колыхнулись его широкие плечи. «Пора идти!.. Слегка свиснул»: Ну, – что же, Нелька, «ici», идем. И не оглядываясь, идет вперед. И она уходит за ним машинально, по привычке, без воли, сквозь пряную горячую волну проспекта.

Да будет
Скрипят сосны. И со всех морей, и со всех лесов поднимается вековечный шум. Тихое, печальное животное лежит в берлоге; вобралось в кучу тепла. На крышу сыплется дождь. Сверху кроет шум. Скрипят сосны. Проходит время. Они говорят, духи земли, от края и до края, – да будет. Они знают. Тихо гнутся оголенные березы, стуча сучьями. Да будет! И еще придут события, и переживутся. Не гадают вершины, только переговариваются об уклонах и возвратах судьбы и о пределах, куда мчатся темные осенние и весенние ночи. И так пребудет веки веков. Вот в ледяную стужу их тело разрывается и они страдают; и творят они иглистые брони, иглистую силу. И еще поднимется сила с лесов, сосен и с моря, и еще поднимется скрипом осин: «Да – будет!..» Так пребудет во веки веков. Как же так, думает с печальным недоумением покинутый зверь: Мы бродили вместе и рассказывали друг другу свое детство, но ты теперь оставил меня. Мы вместе собирали хворост для очага, и ты оставил. Куда ты ушел? И во многое не верится, и никаких нет вестей… Может, еще могли быть вести?.. Стынет пепел и в нем уже не зажигают огня. Скрипит крыша: Да будет! Как же так меня оставили? Он посмотрит кругом в пустоту умными, предсмертными глазами – и молчит. Далеко, до самой тундры, до ледяного моря легла цепью сила зимних жилищ, очагов людских, и берлог, зимовьев звериных. Борются, бьются, делят, жадничают, любят – ревнуют, и каждый старается захватить себе побольше веселья, еды – жизни. И до самого ледяного моря жадно гадают о судьбе, о таинственном будущем, для чего рождают, умирают, истекая кровью, спят, лакомятся и едят друг-друга. Много на земле богатства. Много сухих, песочных пригорков; ими завладели кто посильнее. Много на богатые холмы за день поспевает пролиться солнца. Там высоко вздымаются стропила гордых домов. Там всегда много лакомых кусков; от них быстро наливается красивый жир на руках, плечах и бедрах. Таких жирных самок выбирают и за них идут битвы на жизнь и смерть. Чтобы получить эти радостные, одетые тесом дома, обсаженные красными и голубыми цветами, яркие желтые дорожки, лакомые куски теплой жизни, надо разбивать друг-другу голову, с одного удара, и уметь хорошо прятаться, и не бояться завтра… Не бояться завтра… Люди гадали. Сидела у красного тепла чертовка мрачного севера Лоухи, и разбирала нити судеб, старалась, суеверная, доискаться. Ну, да немного разберешь кривыми лапками! Сердилась, шептала, шипела, и в досаде убегала белкой на ель, опять копалась. Люди покупали у нее амулеты. Гадала. Она старалась уловить в свои руки кривую судьбу людей. Кроме той, что текла под всеми вещами изначала, вечным теченьем, бродила еще кривуля и людей пугала суеверьями и приметами. С ней через старуху старались войти в сделку. Это богатая жизнь крутом корневилась, коренастая, и пестрела, как раскрашенная дуга. Нужно было рожать и рожали, продолжали жизнь поколений. Покупались на куски ярких лент. Самкам нравилось яркое. Чертовка гадала – разродится-ли беременная, гадала, чем кончатся бои самцов. Заигрывает старуха с судьбой – а море катится, – и это судьба. Дождик пасет по песку пегие камни, – и это – судьба. Да будет. Мчатся волны жизни, волны голода, жадности, сытости, жирной игривости, – битва благ. Ссорятся из-за доброго тепла – и милой еды; – отбивают друг у друга самцов – беременеют – родят. Бусы, ленты, корсеты, румяна, помадки. Кровать женщины, обагренная ее-же кровью, и ее пролил ее-же детеныш. Ее мужчина приносит подарок, и она радуется бусам. Ей завидуют другие – не беременные; – Она хвастается, и потом умирает. В жилище дикаря в тундре висят трофеи. Навоевано много. Ползком он вползает спать. Тундра засыпает. Греет самка кормленная, богатая. И он благодарен ей за то, что она теплая и добрая.I.
Я так далеко заброшен среди земли, что только часы и календарь служат вехами в пучине времени: они что то разделяют, устанавливают твердое, точное на что можно опереться, чтобы не потеряться, но и слишком человеческое. И я думаю с соблазнительной сладостью страха: а что если часы остановятся. Я иду и, вот, берег такой пустой, что небо и море выпуклые и они дышат. Внезапно слышу присутствие: из сухой травы, черное бархатное лицо смотрит на меня косыми коварными глазками. Здесь под навесом сложенных досок живет кошка. Но чувствую, я здесь неприятен – и отхожу. Как бережно надо обращаться со всякой искрой жизни, думаю я, потому что сильно люблю и эту елку и ее большой пузатый живот, покрытый чешуей. Творят умные сосны… Ярко горят медные стволы, и раскаленные иглы в гордом блаженстве. Это мгновенье такой гордости, что птицы молчат в лесу. Я не знаю таинственного творчества деревьев, а они не замечают меня… Творят камни. Творят жаркие блаженные лягушки. Творят. Они творят… …Бьет полдень. О! солнце! Художников, деревьев, поэтов, солнце детей, играющих в формочки, кроликов и котят на горячем песке! О, солнце… Согнутые елки, от наслажденья положили словно змеи свои теплые животы на песок и нежатся. На дорожку выбегает самка, гремя светлыми бусами, и, насторожившись, смотрит в чащу. Может быть она, чем нибудь, испугана? Она роняет зонтик и поднимает его, все так же не сводя глаз с одной точки. Лесные страхи? Или ее преследовали? На брюхе у нее болтается украшенье: жемчужное с золотом. Она вероятно с больших дач на горе: ее могло испугать и какое нибудь четвероногое. . . . . . . . . . . Утром проходя мимо лавки, я видел груды нарезанных ломтей хлеба, бочки в человеческий рост колотого сахару – сыры. Святые ломти хлеба, сыру, масла, поддерживающие жизнь. На балконе сидели трое толстых и пили пиво. Лица их лоснились. Из какой глубины крепкого сна вылезла эта жизнь, чтобы так лосниться, розоветь и пить пиво. Но мое лето доспело, и вот, вот перешагнет невидимый порог. А для жизни, для сосен, которые должно уважать, мне хочется, крепких красных лодок на солнечной воде, пузатых кубышек с яркими полосками, груды овощей с черных огородов, и веселых, добрых детей, которые гладят пушистых кроликов. Жизнь хороша, теплая, хлебная, пушистая, как осенняя синица. Потому я увожу непригодное из жизни. Человек думает приласкать и покрыть крыльями весь мир, они у него уже довольно сильны от горя. И поддержать я хочу, сколько могу, этот мир умираний, страданий, горя, концов и начал, и великой, великой необходимости. На колени мне садится птенец с распоротым боком; его очевидно задели косой. Он умирает. Я даю ему пить и сижу тихо, тихо пока он умрет. Это последняя ласка его жизни. Я хочу покрыть крыльями весь мир. Разве не приходила темная ночь? Да, она приходила. Разв не смотрел ты в самые дорогие глаза и не видел в них страшную пленку смерти? «Да видел, и потому уже не страшна мне смерть. Умирай, умирай, разрешись от жизни поскорей. Ныне отпущаеши раба твоего Владыко. Я сижу тихо и жду. Вот наконец. Ныне отпущаеши эту маленькую жизнь Владыко… . . . . . . . . . . Мать потеряла сына, она сламывается от рыданий. Пусть к ней кто то подойдет и скажет «Не плачь; ты его родила, ты дала ему возможность наслаждаться жизнью, кормила, и берегла эту жизнь, и поддерживала ее сколько могла. И вот теперь снимается с тебя забота и нет уже больше возможности погрешить против нее. Что исполнено, то исполнено, а привязанности проходят, и боль заживает в живом и нужна тебе только твоя светлая совесть. А может быть ей это скажут небо и сосны, и тучная грязь на дороге, и много пережившие обои ее комнаты. На соседнем дворе собираются к свадьбе – через забор видно, как начищают до лоска толстые крупы шведских лошадей. Здесь нужны ленты, большие круглые бумажные розы, ужасно розовые, тучный обед с блюдами сала и овощей, здесь они несомненно нужны. . . . . . . . . . . Судьба – судьба… Комод и кресло видят за пределы мира. Иначе они не обладали бы таким величием молчания и созерцанья. В странных линиях судьбы точно два течения. Одно шевелит море, и сосны над морем, и соединяет нахмурившуюся косяками дверь со мною, и держит все вещи, окружив их своими вседержащими крыльями. И есть другая судьба наших личных удач и неудач, лукавое начало, двойник уродливый. Она подкупная, мелочно капризная. С ней, пожалуй, можно войти и в сделку, подкупить ее, и немножно-таки провести. Она ценит мелочи и пустяки. Дорогое письмо она отдаст, если предварительно потеряешь накануне десятирублевую монету. И не надо ждать, не надо спрашивать до утомленья у пустой дороги, а то оно не придет, счастье с быстрыми шагами. Не надо никогда смотреть на часы – не придет. И не открывай ей беззащитную, голую душу – она ужалит. Мы торгуемся с ней, как женщина с торговцем. – «Нет, мне этот кусок ситцу, с голубыми цветами собственно не нравится; разве взять, за неимением лучшего?» Возьми, возьми красивая красавица! И торговец тоже садится, на корточки, и оба хитрые, гибкие напряженные. «Нет, куда мне твой ситец? Редель!..» И он уступает; божится, клянется, и уступает. С хитрой можно торговаться и выторговать часок-другой живой радости. Она иногда вас лелеет, она собирается заплатить вам за ваше больное избитое сердце, она тогда забегает перед вами с дикими ухватками, льстиво мигая. Она рождает много диких суеверий своими капризами. Но великая Судьба любит говорить чрез окружающие каждодневные вещи. Иногда здесь кругом самая суть. Иногда взгляды вещей так дружелюбны и ясны, что судьба уже не там где-то, а окружает нас, как вода – корабль. Пожалуй, потому никто так значительно весело не может посмотреть в глаза, как кресло или комод, в самую душу своим темным безликим взглядом. В солнечный день Судьба между вещей и заставляет их о чем то думать – в полдень. И такая она большая, что на душе становится спокойно, «Больше ее воли, несть нигде!» И потому можно целый день лежать на камне, свернувшись, как ящерица. Или что-то ловить в мелкой сияющей водице, ловить и выпускать. И ничего не может она обронить, или просыпать из своих полновластных рук – и тебя не уронит! – Спи. Жарко. Молоденькая кошка, разнеженная зноем, подкрадывается и тихонько грызет мой палец. Такая яркая и глупая кажется мне жизнь, и любовь людей. Трогательно глупая. Вот, как он ее ревновал! «Тона! откуда у тебя цветы?» С дороги. «Нет Тона, на дороге таких нет, такие растут на мызе. И она смеется. Он-же думает, свирепея от нарастающей боли, где она была!?» «где она была!?» Ну, вот они за то: позаботятся о быте и о красках быта. Если они примутся раскрашивать дугу, как они ее раскрасят!.. Яростным становится зной, представляется, точно от жажды тигр лижет шаршавым языком раскаленные камни, и в глазах, не то темно, не то желто. Это страшно торопится северное лето. Я засыпаю, читая рассказы о Богах – Тиграх, постановивших жертвою кровью человеческой, заменить невинную жертву растений, «неимевшую никакой цены!» Просыпаюсь от глухих взрывов: внизу под горой рвут камни. И я думаю о творчестве умной гориллы – человека. И еще думаю: – идя долгую дорогу любить дорогое, незаменимое, так любить, бояться его потерять, так бояться, столько лет, что чувствовать облегченье потеряв и, просыпаясь после кошмара, где бился, безнадежно защищая, спасая, думать облегченно. Да, ведь я уже потерял! и возврат, и борьба, только сон. Так растет жизнь, таковы ступени ее восхождений… Эти елки! Их смоляной тяжелый запах, виснет, и слышна тяжесть их густых плащей. Это запах силы. Что-бы здесь себя хорошо чувствовать, надо иметь сильную волю и знать на чем хочешь настоять в жизни.Она жаловалась: «Мне больно, я одна». – Пойдем, говорил он тихо, и уводил ее на берег. Кругом мёл пустынный ветер и пересыпал песок. Медные сосны стоят. Медное солнце. Посыпались иглы. Сосны стоят. Пустыня восклицает: Море! Море! – И каждый полдень в великом блеске восклицает одно и то-же: «Море! Море!» И потом, до ночи, стоят в солнце, и молчат медные сосны. Они жили вдвоем в пустыне. Ты обманул меня. Ты заставил в тебя верить, как в Бога… И ты оставил меня… Кто сказал эти слова?.. Ах, нет, это так кажется, это спросонок болтает море: скоро полдень… Я не один, у меня есть кого приласкать, я говорю о памяти моей любви: «Пойдем! Ты может быть слышала? Это море баюкает сосны! Баю-бай. Это море баюкает берег – баю-бай! Пойдем! Я покажу тебе мои любимые местечки. Ты не мучайся, память моей любви, ты поверь жизни, хоть раз, поверь на одну минуту, что тебе больно – но жизнь больше боли – баю-бай, и вот ты умираешь – но жизнь больше – баю-бай… . . . . . . . . . . Чайки кувыркаются в голубом небе… . . . . . . . . . . Голова кружится; покачиваются, баюкают сосны. Ты слушаешь? Это сны: Издалека, издалека, издалека говорят, приезжает король! Разве ты не услыхала, как скрипнул гравий? Это ты, такой зеленый май? А мы надели новые ленты и пришли его встречать. Мы поджидаем кое кого к ужину, а пока мы посидим на речке, на майской речке! Это ты? Такой зеленый май! Заскрипели поржавевшие петли, отворилась серенькая калитка, и она – и она опускает бессильно руки, точно по ним протекло рекой счастье… В последнюю ночь, последнюю громкую тишину, когда тикает маятник и тишина на лице лежит каменной маской у постели твоей умирающей, твоей маленькой и еще теплой умирающей. Это, когда твердишь дорогие надрывающие прозвища, умирающие вместе, что бы разорвать побольней себе душу. Помолись, помолись, что-бы эти волосики увидать живыми еще раз, но этого уже – не будет. Ну-ка! еще как-нибудь понежней, чтобы разрывать себе душу. Кто перешел через это спокойствие, когда все можно произнести без рыданий. Но это тоже Судьба. Скрипят сосны. Проходит время. И ходит и смотрит умными злыми глазами больное животное, и от боли эти глаза еще умней. Но глядела ночь, и какой – то неведомый смысл, и понимал, что еще не все. Еще прими. Еще должно тянуться. – Собака зализывает больную лапу, – так переносится страданье. . . . . . . . . . . И так лето поворачивает на осень и идет к концу… И идет к концу. Несомненно. И такой редкий, пустой воздух, что выйдешь, постоишь и опять вернешься. Тебе незачем было выходить. Утром кто-то громадный железный умирал на взморье и не жалел, что он умирает. Бледные раковинки и перышки чаек были разметаны по песку. Желтеет камыш… Такие тяжелые становятся ветры, что люди убегают в города. Деревни разобщились, – между ними выросли щетины елок и свинцовых метел. Непроходимы стали дороги. Седые щетины лесов скалят друг на друга зубы. Настала отлитая тишина – сильнее рева, и сосны медной гривой вросли в небо и землю. Молчанье запускает корни вглубь. Тяжелой, могучей сросшейся медью стоит тишина. Ночь шумит. – Над морем поднимается темнота – и шумит. Эго гнут громадное железо, гнут, что-бы поставить весы мира, и взвесить на них переломы жизни. – Умирающие листья уносит. И еще – ждут. Один удар грома, еще одно решительное «Я» и еще одно – «Тебе приношу». И говорят голоса: «Слышали вы этот удар грома?» – Нет, еще не свершилось, еще не слышали. «Слышал ли кто-нибудь удар грома?» – Нет, еще подождем. Мне незачем сейчас торопиться, совершенно незачем, я могу и подождать, хотя я зябну, и мне лень зажигать огонь. Ночь. Последнее. Он выходит – и спрашивает: – «пора?» Там в шумящей темноте Зреет решенье. Сосны! Они шумят ответ, они шумят ливнем своих благородных игол. «Пора?». Вдали возникает звук, он гудит к нему, как по телеграфной проволоке, не дойдя, падает, и вдали, вдали возникает опять. Тогда он думает. Теперь когда так велики сосны… Но в темноте тяжелой и громадной еще не прозвучало последнее, и он ждет… Пора? – Когда ты придешь? С вершин, с гор повеяло чернотой. Кому назначено в эту ночь? И раздался железный скрип, как скрипит, падая дерево. Пора? Я понял тебя. Я слышал. И в ночи слышится чрез пространства – «Я иду». Упала сосна. Триста лет стояла она и упала сегодня ночью.
Порыв
– «Шутишь, Эмма?» – Эва, Эва – – «Так правда? Будешь жить тут, совсем близко? Мелькает мимо напряженная свежесть сосен. Розовеет свежее небо. – «Так близко! Совсем. Но, ведь, этому-же не поверишь! Ты подумай: только деревянные полочки, тающий снег у крылечка, холодное утро, забегать каждую минуту и знать, что впереди лето наше, наше! Грозы наши, елки наши, тучи наши, стихи, вечера!.. Эмма, как оглушительно скоро, расцветает счастье жизни. . . . . . . . . . . Это было неожиданно: в первый раз очутилась в рабочем уголке Эммы. На рукописях вместо пресса лежал булыжник. «Эмма Карловна! Вы тоже пишете?» Тучи ползли за переливными стеклами балкона. «Да, но я еще не решалась печатать… (Строгую верхнюю губу оттопырила немного). «О, пробиваться трудно!..» Громадный, пасмурный, но теплый день был за стеклами. Вороха бумаги на столе с исковерканным, как молнией, писательским почерком, бурным, как весна. Эмма! Аккуратная дочь немца садовода. Старо-немецкие пряжки на башмаках… И вдруг пропасть открылась громадных туч, облаков, гроз и близости. Нервно сжав руки, сидели неподвижно рядом. У балкона были напряженно-дождевые стекла. Падали капли. «Эва Львовна, ведь вы не боитесь промочить ноги? Хотите, я покажу вам питомники и парники? Там хорошо пахнет после дождя… Пока господа мужчины заняты разговором… Вы давно замужем?» Эмма идет впереди. Довольно большие ноги Эммы из под приподнятой над щиколками юбки вызывают непонятное доверие, такое глубокое, что глубина эта – спокойствие. Точно вдруг, сразу что-то впереди устроилось, точно Эва входила в какую-то гавань. Ей даже на минуту показалось, что некуда будет уезжать от этих парников и свежей земли. Эти переступающие по журавлиному ноги Эммы в коричневых чулках, рисующих долговязые щиколки, точно давали всей прогулке что-то тепло-интимное, верное, устойчивое и спокойное. – Хотелось говорить, медленно выговаривая, и слова незначительных пустых фраз были вкусные. Вспомнила, как представлялось дорогой, что Эмма будет в высоком корсете с красным безбровым лицом и прической в виде улиткиной раковинки на темени, принесет на подносе крендельки к кофе; и что будет, пожалуй, скучно, – разве розы вывезут. И теперь смех душил; так не похоже… «Эва, как вы думаете, мужчины между собой также разговаривают, как мы?» – Не знаю; я раз подслушала разговор двоюродных братьев, и вроде… – Только они представляются больше, чем мы. – «Эва, какие у вас роскошные волосы! – наверно, прическа не распадается? – Ужасно много требуют шпилек и все-таки не слушаются. . . . . . . . . . . Вчера у «Эмминых» мыли окна. Марфушка стояла на окне и мыла. Наверно, никого не было дома. . . . . . . . . . . «Шла ты в сером дожде между скал. Шла навстречу безумному ветру сумасшедшего марта…» Эмма проходит под окнами. На ней белый стоячий воротничек. Куда то прошла деловито. Куда-то прошла Эмма. Холодит март лицо. Кусает лицо свежесть. Думала: Эмма пройдет мимо серого пустого забора, мимо незастроенного еще городом пустыря в прекрасный город. Город бывал вдохновенный и суровый, бывал одинокий, сейчас он Эммин город: дома твердые, уверенные в себе, как воротнички. «Между скал, между слал, из серой страны придет она, из гордой страны». – «Эва, признавайся, ты бежала на лестницу! Эва, с твоим больным сердцем!» – «Эмма, молчи, молчи; – на сирени распускаются листочки, острые, светлые, точно мышиные ушки! На сирени уже листочки, пойдем…» . . . . . . . . . . Экипаж их уносит из города. И, проезжая мимо многих еще не населенных балконов, они понимают внезапной радостью всю громадность жизни. Некоторые нежданно уже переехали, и уголки их быта: самовары, белые молочные кувшинчики, освеженные непривычной безлюдностью и безлиственной свежестью весны, были нежданною красотой. И нежданное, и нетерпеливо-ясное было небо между четких вечерних стволов. Наклоняясь друг к другу, шептали: «Видишь, вот тут, росточек выполз зеленый, тут – красный, – через него что-то в нас соединилось. Росток уйдет вверх, но, что видели в дружб, останется в дружбе: это общая чашечка Причастия: утренняя – желтая, синяя – вечерняя, – белая – ночная. На другой день успокаивалась обрадованная. Отворила холодную калитку. Стыли утренние серые лужи. «На другой день» был точно второй день праздника. Ей хотелось ленточку навязать на калитку. Думала: «Жизнь бывает иногда совсем простая: Коля сорвал одуванчик, сегодня понедельник». Эва смеялась: «Сегодня понедельник» – белые слова. Эмма отдыхает.Эва говорит: «Почему я люблю твои флакончики? Ведь, это очень глупо, что у тебя флакончики; у человека понастоящему не должно быть розовых и голубых флакончиков. Это показывает, что ты долго пряталась в семье и считаешься предметом для ухаживанья и для поздравлений в именины. Как это смешно! Но мне нравится, что жизнь окружает тебя такой лаской… Мы прячемся за розовыми флакончиками, лентами и белыми платьицами, чтоб проглядели наши бури, наши высокие, черные елки, наши страстные ожидания ливня. Эмма пришла запыхавшаяся: я иду попытать счастья, Эва, постарайся, чтобы мне удалось это, напряги все твои душевные силы. Ушла. Эва желала твердо: «Судьба, пусть Эмма будет удачливая сегодня, пусть она ясная и солнечная берется за ручку твоей двери». И нить напрягается на расстоянии между ними, и поддерживает их обеих. . . . . . . . . . . Эва больна. Ее муж держит Эмму за обе руки. «Я надеюсь на вас, Эмма Карловна, – ваше благоразумие… Я спокойно отпускаю ее с вами…» Это сон. «Эмма, как быстро расцветают звезды нашей жизни! Даже страшно: так скоро стремится на нас блаженство. Какое безумье, какое чудное безумье жизнь!» Это сон. Они едва осмотрели свою дачу. Они зачем-то взялись за руки и прибежали сюда. Гигантская темнота, полная зыбких весенних прутиков, кивала навстречу. Небо быстро и доверчиво розовело. Отсырели немного их торопливые ситцевые платья. Сквозь елки вечность улыбалась. Что-то нетерпеливо стремилось к ней навстречу и молило, что-бы вечность остановилась. И уже быстрым дружелюбным взглядом говорило – она твоя, она твоя… На соседский балкон принесли самовар. У соседей садились пить чай. Холод был майский, и быстро, смелыми звездами, цвели белые цветы. Где-то в мирах два луча друг за друга зацепились – и ёкнуло сладко. Они удивились радостно, что в их большой комнате полы были новые не крашенные. – «Эва, ты спишь?» Нет еще. «Что это я слышу, за окном шуршат большие крылья?» – Это может быть лес шумит, а может быть Это вечность летает вокруг большой летучей мышью, т. к. мы живем теперь в ней, Эмма». – Но нет, постой, ведь бывает-же разлука, существуют слова разлуки, концы?.. – «Их не бывает Эмма! Разлуки только там, где люди верят в разлуки. Слышишь, как пахнет сосной деревянный пол, до чего глубоко. Разв это не – вечно?… . . . . . . . . . . Созревал и, исполнившись, уходил день… Над качелями уже июльское вечернее небо запуталось в черной сетке ивы. А с другой стороны наполнилось влагой, точно безмятежно сирень расплавилась в весеннем неб и наполнила его. – Эва? пойми, надо стать выше своего восторга, чтобы творить, как бы он тебя ни мучил, и тогда только это будет красотой для людей. – Но я не хочу перерости своего восторга, раз это самое красивое во мне, я хочу истаять в нем и – пусть мне простит жизнь. Наклонившись он тихонько шептались. «Знаешь, Эмма, прикосновенья восторга быстротечны, но это только отражения той громадности, и я вижу каждую нить мгновенья, продолженную до предела, до его родины, где он вечен, и ничто не скоротечно, и все вечность, и потому так больно бьется быстротечный восторг.
И были кратки, и были славословием жизни их разлуки. Эмма шла и думала: «Пусто-ли? Грустно-ли? Но уже установилась светлая, твердая тяга через пространства между ними. Ей стало приятно, что у нее широкие плечи, твердая шея. Это идет она, широкоплечая подруга Эвы. Поняла с полуулыбкой: «Эва думает обо мне». И дорога стала уютна, и перестали быть ненужными для нее особенности собственной фигуры: широкие плечи, твердая шея. Пахло повечеревшими влажными листьями. «Эва, Эва, вот я иду, Эва. Гибкая, высокая, взбалмошная Эва! Это я иду с моими красными загорелыми руками, у нас двоих один смысл». . . . . . . . . . . И так, как они были соединены нитью за пределами, и так как нити их были вечны… эту повесть я не хочу кончать. Я не хочу знать, что было в мелкой случайности ненастоящей жизни. Может быть, обе они умерли. Может быть, одна из них, та, которая была темнее, выше ростом и нетерпеливее… Может быть умерли раньше их души, только их гордые светлые души… Но вам черные, острые ели эта повесть. Но вам гордые, но вам нежданные, вам нетерпеливые, вам непримиренные!..
В парке
Голубенькие незабудки вылупились прямо из неба. Из тенистой травы – белый ландыш. Но из напряженной зари весенней – сиреневая перелеска; потому такая ранняя, почти мокрая от дождя. Также вылупилось сегодня и розовое утро из черных елок. Из земли зеленые рогатые травки, росточки вылезали еще совсем земляные беленькие с прилипшими комками песку. А наверху стояли сосны и дачи. Дачи отсырели от весенней воды, пахли рогожами, сосновыми иглами и кошками. На дачах всю зиму жил ветер. Стекла так долго проветривались в безлюдье, что и сейчас в них переливы ветра и гортанные голоса сосен. Иногда мелькают в них тучевые лица и рожи растягивают по-лесному. Их здесь всю зиму не спугивали. В дачи, пока что, переехали мыши с нахальными хвостиками. Прошлогодний крокетный шар линялым боком улыбается солнцу. Кот также хотел поселиться на дачке, но побоялся, чтоб у него не отсырел хвостик; ему рассказали, что на дачках очень сыро. Он также собрался было поохотиться сегодня, но день был такой добрый, мягкий и теплый, что он раздумал, сразу положил свой ватный животик на согнутые лапки и понюхал балконный столбик, точно за тем только и приходил. А у самого даже от веселой теплоты темечко и шейка пахли рябчиками. Внизу… Внизу мимо решетки катались дамы на веселых желтых и красных колесах, облепленных сырым песком. В корсетах, греческих стилизованных прическах и перчатках по локоть. Красные и желтые, по-весеннему катились колеса. А мне было так весело, что я подошла к дамам в колясках и, желая поделиться с ними богатством, очень учтиво предложила выучить их писать стихи. Это самое весеннее на свете! А ведь они ради весеннего выехали за город. Стихи? Сафо! Ах, пожалуй, это будет интересно, и даже в греческом вкусе! – Да ведь это очень просто! Возьмите комок черной земли, разведите его водой из дождевой кадки или из канавки, и из этого выйдут прекрасные стихи. Но, главное, если хотите увидать чудо, наклонитесь к самой земле и смотрите в самоё теплую землю, и все прекрасно устроится. Впрочем, девочки с крайней дачки мне дали еще другой рецепт: вместо воды, можно употребить просто слюни, вероятно, это выходит тоже очень недурно. Дождевые кадки, кот и елки кое-что знают об этом, они все здесь сегодня видели поэта. У него ладони были в земле. На минуту вода в кадке струила наклоненное лицо, точно весеннее пятно зари меж елками, и пятна темных волос кинулись, метнувшись с кругами воды, и за ними светлый заревой лоб. Хохотали белые пузырики, плясали, точно их гнал дождик. А другие видели его согнутую спину, убегавшую в чащу скачками. Сыпалась хвоя. Ему в волосы попадали червячки с березы, совершенно зеленые, как молодые листочки. Разорвал себе платье о колючие пальчики крыжовника. Перелески выглядывали на него из-под елок; на сырой земле лежали их сиреневые кусочки неба, а из канавы пахло вечерней водой. Потом он удирал на своем колесе. Озябший к вечеру воздух подгонял его. А из-под вечерней зари вылезла темнота, пахла черноземом, цветами и водой. Большое бархатное лицо наклоняла над землей и шептала. Точно ночные крылья шевелились.Приезд в деревню
 От времени до времени в темной и узкой детской, между бесконечными понедельниками, вторниками, цвета обыкновенной скуки, открывались приятно тревожные окошечки, откуда мог придти праздник.
Тогда начинали жить радостным нетерпеньем.
Так ждали назначенной заранее поездки за город с золотым утренним отъездом и тишиной вечернего возвращения, среди замирающего городского рокота; очарований игры неисполнимой сейчас; обещанного, волшебного чтения вслух в маленькой гостиной, при трепетании лампового света на фарфоровых игрушках и в отражениях зеркал.
Любили коротать время до назначенного срока; по утрам просыпаться с нетерпеливо приятным сознанием: это еще один день прошел и наступил другой, и есть зачем торопиться его скорей прожить.
Тогда шторки по утрам бывали светлые и дразнили вскочить с постели.
Были определенные, каждогодние времена ожиданий: к Рождеству елки и подарков, т. е. собственно, елочного царства, пахнущего позолотой и хвоей и цветными свечками.
К вербе пестрых бумажных розанов, желтых восковых птичек на фоне весенней слякоти. Но лучше всего было, когда в конце мая можно было начинать мечтать о даче с удивленными белыми звездочками в густой траве, с зелеными деревьями и катаньями в шарабане.
Участвовали в приготовлении этого будущего, в уборке квартиры. Надевали белые чахлы на статуэтки и мебель гостиной, начинали убирать игрушки в шкафу красного дерева. В комнатах становилось ново, светло, пусто и гулко. Появлялись сундуки, пахло новыми веревками и сеном,
И во всех этих запахах и звуках жило будущее, и мечта о нем. Что-то новое должно было прервать ряд обыкновенных дней, надоевших обязанностей; потом правда они снова наступали, но все же это было временное избавленье от царства настоящего. Потом снова тянулись: длинная скучная детская, отделенная от владений старших, непонятная далекая мама, точно декорация смутного фона, проходила шелестила платьем. Говорила о каких то выездах. Старшую сестру «вывозили». И от этого она все стояла пред зеркалом, кругом суетилась француженка; а нас уводили в детскую.
Но в один прекрасный день окошечко будущего открылось и стало безбрежным. Будущее никогда не должно было кончиться. Нам сказали:
– Мы купили в деревне землю, в лесу выстроили дом и переедем туда с первыми теплыми апрельскими днями.
Это было смолистое свежее дуновенье в заспанной квартирной комнате.
От времени до времени в темной и узкой детской, между бесконечными понедельниками, вторниками, цвета обыкновенной скуки, открывались приятно тревожные окошечки, откуда мог придти праздник.
Тогда начинали жить радостным нетерпеньем.
Так ждали назначенной заранее поездки за город с золотым утренним отъездом и тишиной вечернего возвращения, среди замирающего городского рокота; очарований игры неисполнимой сейчас; обещанного, волшебного чтения вслух в маленькой гостиной, при трепетании лампового света на фарфоровых игрушках и в отражениях зеркал.
Любили коротать время до назначенного срока; по утрам просыпаться с нетерпеливо приятным сознанием: это еще один день прошел и наступил другой, и есть зачем торопиться его скорей прожить.
Тогда шторки по утрам бывали светлые и дразнили вскочить с постели.
Были определенные, каждогодние времена ожиданий: к Рождеству елки и подарков, т. е. собственно, елочного царства, пахнущего позолотой и хвоей и цветными свечками.
К вербе пестрых бумажных розанов, желтых восковых птичек на фоне весенней слякоти. Но лучше всего было, когда в конце мая можно было начинать мечтать о даче с удивленными белыми звездочками в густой траве, с зелеными деревьями и катаньями в шарабане.
Участвовали в приготовлении этого будущего, в уборке квартиры. Надевали белые чахлы на статуэтки и мебель гостиной, начинали убирать игрушки в шкафу красного дерева. В комнатах становилось ново, светло, пусто и гулко. Появлялись сундуки, пахло новыми веревками и сеном,
И во всех этих запахах и звуках жило будущее, и мечта о нем. Что-то новое должно было прервать ряд обыкновенных дней, надоевших обязанностей; потом правда они снова наступали, но все же это было временное избавленье от царства настоящего. Потом снова тянулись: длинная скучная детская, отделенная от владений старших, непонятная далекая мама, точно декорация смутного фона, проходила шелестила платьем. Говорила о каких то выездах. Старшую сестру «вывозили». И от этого она все стояла пред зеркалом, кругом суетилась француженка; а нас уводили в детскую.
Но в один прекрасный день окошечко будущего открылось и стало безбрежным. Будущее никогда не должно было кончиться. Нам сказали:
– Мы купили в деревне землю, в лесу выстроили дом и переедем туда с первыми теплыми апрельскими днями.
Это было смолистое свежее дуновенье в заспанной квартирной комнате.
Железная дорога. В оконной раме быстро мчатся полосы земли и неба. Приятная скука ожидания. Все стушевалось и в вечернем свете румяно выступили новые впечатления приезда. Станция. Вышли из вагона. После дребезга и шума железной дороги охватило сразу кристально-чистой тишиной. Все остановилось в прозрачном онемевшем воздухе, грезили прозрачные вершины за крышами. Мы стояли и невольно слушали молчанье. Старшие хлопотали с багажем. Потом мы шли, спотыкаясь. Земля под ногами была невыразимо приятная после вагона и непослушная она колебалась, толкала, проваливалась. Пахло апрельским вечером, согретым деревом, землей и теплом косых огнистых лучей. Пахло приездом и счастьем. Было так хорошо, что в первый раз даже играть и выдумывать не хотелось. Жизнь была лучше игры: все теперь было такое чудесное, особенное. Пробираясь по подсыхающим бугоркам, торопливо думалось: «Как странно, а раньше, чем веселее, тем больше присочинять хотелось». В воспоминаниях отошли, побледнели и куда-то нырнули: город, игрушки, надоевшие обои детской. И, пока шли через дороги, через станционный двор, становилось сразу как-то необычайно. В нетерпении, желая чем нибудь запечатлеть радость, что-то взять от мгновенья, побежала к краю дороги и сорвала яркую, зеленую, пушистую травку. За мостом стояли лошади, гнедая и рыжая. Золотились на солнце; гнедая опустила к ноге голову с ярко-лиловой гривой, и была сине-фиолетовая тень отражений неба. В воздухе было добродушно и вечерне. Пахнуло лошадиным резким, теплым запахом, дегтем телеги и ново зазвучал мягкий говорок на тихом воздухе. – Поднимай, мет сюды, сюды лучше ставь. Да подвинь гораже. – «Ну, а мне думатца таперича повернуть!» На заходящем солнце горели ярко очерченные оранжевым лица. Говорок замирал так же, догорающим теплом. Укладывали вещи. «Ну, с Богом!» – Тронулись. Чухонская телега завизжала железом и захлябала по ухабам апрельской дороги. Повернулись и отплыли назад избы станции. Открылась безграничная земля, млеющая в вечернем, возрождающем упоеньи. И началось необычайное, о чем только лучи предсказывали. От последних греющих солнечных полос возникало настроение совершающегося громадного весеннего чуда. Было в молодом воздухе присутствие детского вдохновения. Что это так свежеет, воздух обнимает вокруг, и в душе что-то открылось безумно широкое. Пахнет корою и озоном и невыносимо, трогательно горячо пахнет согретой елью. «Прежде так не бывало мама!» Мы прежде не выезжали так рано из города, это ранняя весна. – Ай, что так пахнет и сырым, и теплым, едва мы поехали шагом? «Это земля из под снега!» – Мама, что это такое светло-лиловенькое по овражку!» – Это же цветы. – Мама, а деревья еще без листьев? – И травы нет? – Да, это самые, самые первые весенние, они цветут, едва обогреет землю; здесь их пригрело на припеке. Она весело говорит и тени тянутся по червонному косогору. – «Мама, посмотри, там под темными елочками белеется пятно, точно большой платок!» – «Это еще снег остался, обтаявший!» И тут охватывает непонятная, напряженная радость, Невозможно сидеть смирно в экипаже. Это, ведь остался последний снег от зимы! Мы ее победили холодную, заставлявшую скучать в городских комнатах. «Это последний снежок!» Такая близкая, близкая, настоящая мама! У дороги чернел мокрый торф, светлела прошлогодняя трава, рыжел и зеленел мох. Незаметно ускользнул последний язык косого луча, и серость, призрачная, ясная объяла все. Сумерки пахнут цветами, прохладой, небом и ночной землей: – она дышит сырым теплом и обуревает нарастающая тревога безумного весеннего восторга. И нарастающий восторг вокруг в апрельском вдохновенном воздухе, он обнимает округлыми волнами землю. Дорога развертывается и манит к будущему неизвестному. Хочется торопиться, бежать, прыгать, и от бодрости хвоистой, оттаявшей земли хочется быть великим. Интересно, чтоб так и ехали будущие великие люди, предназначенные судьбой для великого творчества. Эти великие люди – мы с сестрой. Но даром на душе так совсем особенно. Была апрельская распутица, на дороге ямы с протаявшим рыжим песком. Колеса скользили и скатывались, телега совсем накренилась, дух захватывало, но это были настоящие приключения. Останавливались. Вылезали. Близко, близко свежела земля. Пахло черноземом, лошадьми. Лиловая звездочка цвела в темных прошлогодних листьях. Из лесной опушки веяло сырью. Опять ехали. Опять толкало в телеге. И закачало в легком, грозном утомлении, потому что ехали долго-долго. Пошла мызная дорога. Темнее, лесистей. Таинственный поворот нырнул в старый ельник, канавы чуть блестели в голубой тьме. Еще повернули мимо чуть шевелившихся елок. Раздалось: – «Ну, слава Богу, приехали». Выехали в просвет. Впереди темнело громадное, как корабль, чудовище-строение. На прозрачности еловых вершин чернели смелые очертания крыш – это наш дом. Что-то страстно, больно захватило от восторга грудь. Лай собак гулко долетал откуда-то; Ехали через необъятный двор; посреди росли гигантские ели, сквозь них мелькали строения. Подъезжали. Из подъезда струился желтоватый отблеск в еще светлый голубой вечер. Перед домом стружки; мерещились в сумерках кирпичи. Пахло повой стройкой, терпкой газовой смолой в весеннем вечернем воздухе. Сверху лестницы бежали две деревенские девушки и радостные восклицания неслись к нам. Как хорошо. Тут радуются нашему приезду, значит, тут живут все родные, милые люди. Все поглощено восторгом приезда. В громадной столовой ярко освещенный белый стол. Жена немца управляющего романтически убрала его цветами. Эти веночки были весенние и приездные. Под горячим оранжевым цветом лампы на столе ярко блестел белый с синим фаянс в венках из лиловых анемонов. Пахло новым досчатым полом, а в окно махали черно-зеленые ветви и синели апрельские сумерки. Старшие за столом говорили, опьяненные смелостью начинаний: «Доставка газовой смолы на мызу, – кирпичный завод…» И новизна, и подъем от новых свежих, несношенных обиходом слов и названий – грубовато-твердых, передавалась нам. А в окна – кивали ели. Веяло смелым пионерством. В дикий, темный лес пришли люди, смело срубили дом из широких еловых бревен, новый, на свежем месте, где еще не было глухих, злых пережитков, мусорных углов, накопившихся от засиженной затхлой жизни. Мы еще блаженно не знали тогда, что у взрослых все гораздо обыденнее, и они совсем не чувствуют того, что дети. На самом деле тут был просто подъем и восторг приобретений, но уже рядом и опасливые расчеты о выгоде. Но небывалые разговоры, слова, произнесенные приподнятым тоном, уносили пас все дальше во вновь открытую страну. После чая побежали с балкона в прохладный, синий сумрак, населенный призраками деревьев и под глухой тьмой леса, у камней стали собирать светлеющие чуть-чуть звездочками благоуханные призраки цветов. Действительность совсем стала похожа на сон. Потом спальня, громадная, пустая, с громадными трехстворчатыми задумчивыми окнами без штор; и в них просветы неба, и темные пятна подступивших елей. Те-же голые бревенчатые стены, проконопаченные мхом, смола золотыми слезками, громадная умывальная чашка, наскоро установленная на скамье». Чистая постель. Воздух легкий, легкий. С завтрашнего дня начнется новая жизнь. Все слилось в приятный пестрый бред. В комнату громадной еловой темнотой глядели окна.
Рождественские снега
 Ну, наконец удалось протискаться; и мы едем, едем, к одинокому воздуху свежих, белых полей… Локомотив поет.
Еще и еще… с платформы врываются с паром… Кругом нас, в шубах медвежьих, румяные праздничные. В вагонном пару море жратвенной радости. От смеха дрожат: – «А ну ка! Сдвинет-ли паровоз?!» – «Если-б вчера, ничего, а сегодня мы тяжелые, праздничные!» «Захватили закуски?» Раздается: «Семга, балык; икра, семга, закуски!..»
. . . . . . . . . .
А в окно зеленые сосны, зеленые, здоровые на холоду, размашистые, разгульные сосны. Затеи: проектируют снежные игры: – «Есть у вас валенки?» – Ну, ничего, заедем ко мне, по дороге на дачу; сипит по хозяйски красный толстяк, – сипит здорово и тучно.
А в лесу наверно здоровые ели скрипят…
Друг друга одобряют глазами, чудятся дружные, старые волки: вместе охотнее угощаться, вместе и выпить… Да здравствует жизнь!
Сосны, зеленые сосны!!.
Остановка; оглушают нас смехом… Уж помчались!.. Вот их санки потянулись вверх по горе, цепью бархатных пятен среди снега.
Это для тебя белые калитки, дорогая оснежены рождественским сахаром; – в тихие, чистые бахромы оцепенелые грезы одетые; слоистые, опушенные…
Чистые белые не оскорбленные снега. С гор видны горы, горы… – Что это? Улыбнулась возможность?… Средь белизны каждый обрубок свежего дерева – золото.
– «Хочешь я тебе здесь построю золотой домик?.. Будущее – безграничная радость; жизнь – Это дорожка и калитка; – ветка сосны… Погляди, а в провалы отлогов тянутся дали лазурные, стеклянно бирюзовые, невозможно лазурные. Далекие порваны бархатом теплым, сосенок ближних отлогов. – Нет! Так красота слишком быстро промчится мимо. Спешились. Шаги в безграничном. Воздух стал кругом и заглядывает в лицо…
А в полях белые кораллы; это молчание вырастило белые кораллы…
. . . . . . . . . .
Издали, издали гудит телеграфная проволока…
Малютки следы на снегу… Кто здесь пробежал? Белка, или птичка?.. Нет, постоим еще это очень важно решить я никак не могу вспомнить, какие следы у белок…
Следы теряются: она здесь вспорхнула! – Да Это наверное была птичка!.. Птичка, с такой веселой, круглой головкой… – И ее бы хотелось погладить, маленькую дорогую теплую жизнь…
И дорога идет парком. Высоко вздымается молчание, безгранично высоко… Это елки… Сердце вырастает высоко-высоко, без конца, и опускается вместе с тишиной глубоко в снежное очарование; растягивается невероятно…
И входит большое молчание: – Ты – и я.
. . . . . . . . . .
Большие лучистые глаза поглотили мир…
Простерлись опушенные ветви-пальцы и оцепенели.
– «Зачем ты бросил в меня снежком?..» «Это тебе показалось; снег упал с ветки! Нет, я не бросал в тебя снежком… Ты кладешь мне на грудь твои руки, милая? Что ты делаешь?..»
Да? да? Так это не ты бросил в меня?.. Слушай, кругом большое молчание. Ты моя одна!.. ты одна…
. . . . . . . . . .
Тише. Подслушивает ледяное небо… Оно смеется вечной, закованной улыбкой… Молчи об этом; под ним надо притаиться, надо быть детьми…
Двое детей жили в занесенном домике; с утра выходили в то-же молчание, в котором к ночи засыпали. Играли со снежной красотой; в оттепели собирали еловые шишки на осевшем снегу.
Играли дни за днями – вечно… Затевая, поглядывая друг на друга с затаившимся смехом.
Наливались сверху потоки снегов, и застывали белыми гроздьями.
И опускались сумерки. Вдвоем стояли под склонившимся небом. Восток бывал из блеска вороненой стали… Оставались пока можно было различить дерево от сугроба и возвращались, бок о бок немые от радости.
И была вечность… Была жизнь. Они называли ее – «завтра» – ты знаешь кто были дети? – «Тише, больше не надо говорить, уже все сказано!..»
Гудит телеграфная проволока! это единственный звук из города. Он гудит версты, – версты. И сугробы наметаются на сугробы… И тянет, и проходит над ледяными полями, проходит, проходит над оцепенелым. Ледяные деревья наклоняются к земле. И над снежными дугами ледяное небо…
. . . . . . . . . .
Тихо… Вдали краем возвращаются рождественские горожане… Тянутся… Слились в стальной глубине. И теперь больше ничего, – ни звука… Кругом безграничное море снега… В молчание упалимгновения; льды промолчали об этом.
Теперь настает великий ледяной час. – Слышишь как остановился воздух?.. Сегодня, завтра, – вечно… Лес и голубая высота… Сверху навесились окаченные снегом вершины… Мы – это сказка.
Это закованное небо улыбается вечности.
Ну, наконец удалось протискаться; и мы едем, едем, к одинокому воздуху свежих, белых полей… Локомотив поет.
Еще и еще… с платформы врываются с паром… Кругом нас, в шубах медвежьих, румяные праздничные. В вагонном пару море жратвенной радости. От смеха дрожат: – «А ну ка! Сдвинет-ли паровоз?!» – «Если-б вчера, ничего, а сегодня мы тяжелые, праздничные!» «Захватили закуски?» Раздается: «Семга, балык; икра, семга, закуски!..»
. . . . . . . . . .
А в окно зеленые сосны, зеленые, здоровые на холоду, размашистые, разгульные сосны. Затеи: проектируют снежные игры: – «Есть у вас валенки?» – Ну, ничего, заедем ко мне, по дороге на дачу; сипит по хозяйски красный толстяк, – сипит здорово и тучно.
А в лесу наверно здоровые ели скрипят…
Друг друга одобряют глазами, чудятся дружные, старые волки: вместе охотнее угощаться, вместе и выпить… Да здравствует жизнь!
Сосны, зеленые сосны!!.
Остановка; оглушают нас смехом… Уж помчались!.. Вот их санки потянулись вверх по горе, цепью бархатных пятен среди снега.
Это для тебя белые калитки, дорогая оснежены рождественским сахаром; – в тихие, чистые бахромы оцепенелые грезы одетые; слоистые, опушенные…
Чистые белые не оскорбленные снега. С гор видны горы, горы… – Что это? Улыбнулась возможность?… Средь белизны каждый обрубок свежего дерева – золото.
– «Хочешь я тебе здесь построю золотой домик?.. Будущее – безграничная радость; жизнь – Это дорожка и калитка; – ветка сосны… Погляди, а в провалы отлогов тянутся дали лазурные, стеклянно бирюзовые, невозможно лазурные. Далекие порваны бархатом теплым, сосенок ближних отлогов. – Нет! Так красота слишком быстро промчится мимо. Спешились. Шаги в безграничном. Воздух стал кругом и заглядывает в лицо…
А в полях белые кораллы; это молчание вырастило белые кораллы…
. . . . . . . . . .
Издали, издали гудит телеграфная проволока…
Малютки следы на снегу… Кто здесь пробежал? Белка, или птичка?.. Нет, постоим еще это очень важно решить я никак не могу вспомнить, какие следы у белок…
Следы теряются: она здесь вспорхнула! – Да Это наверное была птичка!.. Птичка, с такой веселой, круглой головкой… – И ее бы хотелось погладить, маленькую дорогую теплую жизнь…
И дорога идет парком. Высоко вздымается молчание, безгранично высоко… Это елки… Сердце вырастает высоко-высоко, без конца, и опускается вместе с тишиной глубоко в снежное очарование; растягивается невероятно…
И входит большое молчание: – Ты – и я.
. . . . . . . . . .
Большие лучистые глаза поглотили мир…
Простерлись опушенные ветви-пальцы и оцепенели.
– «Зачем ты бросил в меня снежком?..» «Это тебе показалось; снег упал с ветки! Нет, я не бросал в тебя снежком… Ты кладешь мне на грудь твои руки, милая? Что ты делаешь?..»
Да? да? Так это не ты бросил в меня?.. Слушай, кругом большое молчание. Ты моя одна!.. ты одна…
. . . . . . . . . .
Тише. Подслушивает ледяное небо… Оно смеется вечной, закованной улыбкой… Молчи об этом; под ним надо притаиться, надо быть детьми…
Двое детей жили в занесенном домике; с утра выходили в то-же молчание, в котором к ночи засыпали. Играли со снежной красотой; в оттепели собирали еловые шишки на осевшем снегу.
Играли дни за днями – вечно… Затевая, поглядывая друг на друга с затаившимся смехом.
Наливались сверху потоки снегов, и застывали белыми гроздьями.
И опускались сумерки. Вдвоем стояли под склонившимся небом. Восток бывал из блеска вороненой стали… Оставались пока можно было различить дерево от сугроба и возвращались, бок о бок немые от радости.
И была вечность… Была жизнь. Они называли ее – «завтра» – ты знаешь кто были дети? – «Тише, больше не надо говорить, уже все сказано!..»
Гудит телеграфная проволока! это единственный звук из города. Он гудит версты, – версты. И сугробы наметаются на сугробы… И тянет, и проходит над ледяными полями, проходит, проходит над оцепенелым. Ледяные деревья наклоняются к земле. И над снежными дугами ледяное небо…
. . . . . . . . . .
Тихо… Вдали краем возвращаются рождественские горожане… Тянутся… Слились в стальной глубине. И теперь больше ничего, – ни звука… Кругом безграничное море снега… В молчание упалимгновения; льды промолчали об этом.
Теперь настает великий ледяной час. – Слышишь как остановился воздух?.. Сегодня, завтра, – вечно… Лес и голубая высота… Сверху навесились окаченные снегом вершины… Мы – это сказка.
Это закованное небо улыбается вечности.
Мелочи
Детское утро
Расцвели под окошком пушистые одуванчики. Раскрылся желтый лютик, и стало утро. Блестящие чашечки унизали лужок. Собрали чашечки лютика и еще синие и сделали чайный столик. Из лучей волчок бегал по полу. Пошли воевать с темной елкой: отвоевать белую кружечку. В это время дома выросли грибы на полках, деревянные, лакированные и с красными шапочками. Увидав это, желтые соломенные стулья заплясали по комнате. А мы стали гоняться. Хотели поймать желтый солнечный пушок и посадить его на сосновую полку. Гонялись, гонялись и не поймали. Так и пробегали по солнечным окнам до завтрака. А с сосновой полочки смолка веселыми слезками падала.Неизреченное
Точно маленькая желтая улыбка. Неожиданно, утром на дорожке прилип желтый листик. Над дорожкой точно кто-то белокурый приподнял ресницы. Погоди, это приближенье. На коричневый мох рассыпались желтые треугольнички. Точно кто-то идет в конце дорожки – но его нет. Сверху льются лазоревые стеклушки и светло-зеленые. Встревожился воздух, стал холодноватый. Точно кто-то встревоженный и просветленный приподнял ресницы. Точно будет приезд. Приедет сюда дивная страна, далекая, с блаженной жизнью. Ее привезут в коляске с кожаным верхом, и чуть-чуть будут по песку пищать колеса. Точно обеими ногами подпрыгнули от земли и поплыли над землей. Сверху льются лазоревые стеклушки и зеленое серебро. Лучатся спелые соломинки у ступеней. Прозвенела стеклянная дверь балкона. Рамы стекольные и жердочки просветлели. Все это не сегодня – а завтра… Погоди!..Сон вегетарианца
Это был сон. Было утро. Тонкие четкие веточки виснули с берез, точно нежные вещицы. Точно их создали осторожно и с любовью. Тонкая сеть над землей серебрилась перламутром. На балконе сухонький старичок в детских воротничках читал внимательно книгу. Совсем тихо и долго, так что плед у него свалился с плеч на колени. Тихий, внимательный, осенний. Прозрачная рябь на него набегала – и убегала. Точно излучался: не то смеялся, не то струился. Какой-то серебряный комочек прикатился, ласкаясь к его ногам, мигая серебряными ресничками. Вкруг сухонького старичка зеленели, смеялись нежные мшинки. Гладкие тянулись светлые половицы, на них насорились сосновые иглы. От чайного стакана желтый зайчик сидел на стене; прыгал, смеялся и упал в лучинную корзинку у стены. Стал розовым. Взглянули кроткие голубые глазки. Светлые стружки кто-то строгал, они свернулись на досках кудрявым руном. Надо всем осеннее небо стояло недвижным, доверчивым озером, бледное до блаженной пустоты, – нежно сияло. В нем легко и безгрешно плыла земля, – и не было берегов… Грезили создавшие. Радовались создания.Домашние
 Приходили на большой дом недели дождя. Могучий ливень скатывался на крышу. Огромные елки разговаривали, но за шумом сплошной воды их не было слышно. В чуланном окошке стекло сияло подводным изумрудом. Длинное, как вязаный чулок, тянулось послеобеда.
Вышли из стен Заветные, засели совещаться в чуланчик, рядом с буфетной. По длинному коридору кто-то похаживал, точно крупные капли падали. За обоями коридора жил совсем серый, запачканный паутиной, стенной мужик Терентий, ростом с кошачью лапку, тарантил и плел кружево из сенинок.
Из голых досок чулана, из темных сучков подсматривали глазки. Все Домашние вылезли из стен и строили ушки. Под шумом ливня им было уютно, как под навесом. Сплошная водяная борода висела перед окном.
Они принесли любимые богатинки, талисманы. Хвастались накопленными сокровищами: ожерелья из слов, круглых и длинных, жемчуга из смолки. Один принес в коробочке словечко: елки в бурю и огоньки в окнах его слушались. У другого были нанизаны дни разных цветов, пестренькие, как ситцы. Все Домашние оказались богатыми, – и были очень довольны. Спорили, какого цвета сделать эту Субботу: синей, – или с полосками? Потом совещались о темных, что поселились в углу коридора, около детской, и пугали любимчиков. О том, какие в детскую послать сны: летающие одеяла – или лошадей-само-леток. Решили посоветоваться об этом с детскими кошками.
Дождик серый. Остроухие сидят кружком, в буфетной, и сторожат покой большого дома.
Калачиком свернулся за обоями пыльный Терентий. По коридору маленькие шаги, точно каплют капли. Из пространств глушат и шумят необъятные дожди. В чуланном окошечке стеклушко поседело. Все занавесилось сивой бородой.
Приходили на большой дом недели дождя. Могучий ливень скатывался на крышу. Огромные елки разговаривали, но за шумом сплошной воды их не было слышно. В чуланном окошке стекло сияло подводным изумрудом. Длинное, как вязаный чулок, тянулось послеобеда.
Вышли из стен Заветные, засели совещаться в чуланчик, рядом с буфетной. По длинному коридору кто-то похаживал, точно крупные капли падали. За обоями коридора жил совсем серый, запачканный паутиной, стенной мужик Терентий, ростом с кошачью лапку, тарантил и плел кружево из сенинок.
Из голых досок чулана, из темных сучков подсматривали глазки. Все Домашние вылезли из стен и строили ушки. Под шумом ливня им было уютно, как под навесом. Сплошная водяная борода висела перед окном.
Они принесли любимые богатинки, талисманы. Хвастались накопленными сокровищами: ожерелья из слов, круглых и длинных, жемчуга из смолки. Один принес в коробочке словечко: елки в бурю и огоньки в окнах его слушались. У другого были нанизаны дни разных цветов, пестренькие, как ситцы. Все Домашние оказались богатыми, – и были очень довольны. Спорили, какого цвета сделать эту Субботу: синей, – или с полосками? Потом совещались о темных, что поселились в углу коридора, около детской, и пугали любимчиков. О том, какие в детскую послать сны: летающие одеяла – или лошадей-само-леток. Решили посоветоваться об этом с детскими кошками.
Дождик серый. Остроухие сидят кружком, в буфетной, и сторожат покой большого дома.
Калачиком свернулся за обоями пыльный Терентий. По коридору маленькие шаги, точно каплют капли. Из пространств глушат и шумят необъятные дожди. В чуланном окошечке стеклушко поседело. Все занавесилось сивой бородой.
Подражание Финляндскому
Целый день провалялся я за гумном… Ничего нет весеннего вереска милее! Мне сказала Судьба: «Полежи еще, увалень; ты проспишь твое счастье». И когда я встал и вышел на дорогу, у меня еще солома сидела в волосах! Ничего нет весеннего вереска милее! И кричали мне вслед: «Экий неряха идет!» Да, захотел, так и встал. Высоко растут сосны! И я рыл целый день, ворочал и гнул, так что скрипели суставы. И я стрелял судьбу мою в высоте. Высоко растут сосны. И я вырыл из глубины лесной мою судьбу, и понес на плечах. И я вырыл большое счастье, и было чем хвастаться: «Захочу, так и встану я!» Да, совсем еще бурый вереск был. Ничего нет весеннего вереска краснее! И стояла девушка с белым цветком в руках. И стояла девушка, взявшись за концы платка… И сказал я девушке – будь моей! Ничего нет весеннего вереска милее! А большое счастье пусть постоит! И уж покраснела она и отвернулась прочь… Но тут меня треснула по шее судьба, так что в канаву ткнулся я головой, – а канава была с весенней водой. Ничего нет весеннего вереска милее. А когда я вылез, девушки не было, только прятался быстрый смех в кустах. И я нес добытое счастье на плечах, и соседи мне удивлялись и снимали шапки. И ворчала судьба: «Сыночек образумился!» Но я тихомолком от нее соображал: «Ведь она тогда отвернулась, покраснев. Ничего нет весеннего вереска краснее!» И я таки думал: «Весна придет опять, весна придет опять». И смех дразнил, исчезая в кустах. «Ничего нет весеннего вереска милее!»Мечта
. . . . . . . . . . «Как жаль, что сейчас мороз – носа никуда не высунешь, да и к тому же я один, вечно один!» – сказал одинокий человек, которому не с кем было быть счастливым. Но в ту же минуту, когда он это говорил, – постучали в дверь. Перед ним очутился человек одних с ним лет, уже, видимо, успевший оценить в жизни ласку и счастье. – Неправда, дорогой братец! Теперь весна, и нас ждут сестрицы и братцы в нашем новом загородном домике. У крыльца, правда, стало таять. – Пойдем же, торопись, опоздаем на поезд! Желтый вымытый вагончик ярко блестел и смеялся на старом утре. У возбужденной платформы нетерпеливые прутики ивы выставились из-за дощатого забора. Нетерпеливо раскладывали апельсины в буфете, чтобы пассажиры их успели купить и все-таки не опоздали на поезд. Апельсины радовались. Кондуктор добродушно пригласил в вагон любимых пассажиров. Он счастлив отправлять в весеннее утро за город. Предупреждал: «Смотрите не простудитесь, не стойте на площадке – еще свежо!» Друг сказал: – Обрати внимание, как нетерпеливы кустики ивовые на станционной платформе, – скоро стает снег! Торопясь, короткими ножонками побежали вагоны: «Скорей! Скорей! Их ждут братья и сестры и уж стучат серебряными ложечками у чайного стола!» От станции дорога побежала к елкам: тает, чавкает и смеется. А ели веселыми конусами прикрывают и ловят дорогу. Вот друзья уже идут пешком через сад по талой водице. Еще за четверть версты слышно, как в доме собирают чайный стол и ждут их. Идут. Кругом кап, кап, звенит вода, а их веселый чемодан быстро и резко пахнет кожей.Концерт
Город с тобой заговорил. Ты проснись под раскаты дрожек. Ты увидишь: блестят фонарики, скользят по стенам. Городские звездочки лучистые – падают к нам. Мы полетим над улицей. Нити фонарей длинные. Бусинки, улыбнувшись, все запутали. Вдруг раскрылась хрустальная чашечка и переломила искры. Темная чаша огоньков. Желтые, красные, белые сиянья заперты в рамках… В грули зарыдала в ответ лампочка, самая родная. Трепетала, рыдала и дрожала самая родная лампочка. В белой комнате колонны сверкают хороводом – торжественна дверь. Вышел со скрипкой в черном платье узкий, длинноносый. Звездочки летят со смычка, желтые полоски. Волосы его слабы, длинны и бледны улыбки. Точно растерял он осенние звездочки здесь нечаянно, – и удивился. Вышел на ногах согнутых черный, узкий, сломанный, но зато особенный – поверь. Все городские фонарики станут венцом вокруг него… По доверчивому бархату высыпали звезды, звезды… Выйди, длинноносый, с длинной улыбкой, из белой залы. Сегодня улицы в искрах, в бусинках светлых запутаны, и сиянья в окошке живут родные. Понесут тебя белые сиянья на лунных крыльях над длинными улицами вверх до кроткого бархата, что мигает сверху синими ресницами… Пойдем!Стихи
Готическая миниатюра
В пирном сводчатом зале,
в креслах резьбы искусной
сидит фон Фогельвейде:
певец, поистине избранный.
В руках золотая арфа,
на ней зелёные птички,
на платье его тёмносинем
золоченые пчелки.
И, цвет христианских держав,
кругом благородные рыцари,
и подобно весенне-белым
цветам красоты нежнейшей,
замирая, внимают дамы,
сжав лилейно-тонкие руки.
Он проводит по чутким струнам:
понеслись белые кони.
Он проводит по светлым струнам:
расцвели красные розы.
Он проводит по робким струнам:
улыбнулись южные жёны.
Ручейки в горах зажурчали,
рога в лесах затрубили,
на яблоне разветвлённой
качаются птички.
Он запел, – и средь ночи синей
родилось весеннее утро.
И в ключе, в замковом колодце,
воды струя замолчала;
и в волненьи черезвычайном
побледнели, как месяц, дамы,
на мечи склонились бароны…
И в высокие окна смотрят,
лучами тонкими, звезды.
. . . . . . . . . .
Так, в прославленном городе Вартбурге,
славнейший певец Саксонии –
поет, радость дам и рыцарей,
Вальтер фон Фогельвейде.
Днем
Прядки на березе разовьются, вьются,
сочной свежестью смеются.
Прядки освещенные монетками трепещут;
а в тени шевелятся темные созданья:
это тени чертят на листве узоры.
Притаятся, выглянут лица их,
спрячутся как в норы.
Размахнулся нос у важной дамы;
превратилась в лошадь боевую
темногриво-зеленую…
И сейчас же стала пьяной харей.
Расширялась, расширялась,
и венком образовалась;
и в листочки потекли
неба светлые озера,
неба светлые кружки:
озеро в венке качается…
Эта скука никогда,
как и ветер, не кончается.
Вьются, льются,
льются, нагибаются,
разовьются, небом наливаются.
В летней тающей тени
я слежу виденья,
их зеленые кивки,
маски и движенья,
лёжа в счастьи солнечной поры.
Едкое
Пригласили! Наконец-то пригласили.
Липы зонтами, – дачка…
Оправляла ситцевую юбочку.
. . . . . . . . . .
Уже белые платьица мелькали,
Уж косые лучи хотели счастья.
Аристончик играл для танцев.
Между лип,
Словно крашеный, лужок был зеленый!
Пригласили: можно веселиться.
Танцовать она не умела
И боялась быть смешной, – оступиться.
Можно присесть бы с краешка, –
Где сидели добрые старушки.
Ведь и это было бы веселье:
Просмотреть бы целый вечер, – чудный вечер
На таких веселых подруг!
«Сонечка!» Так просто друг друга «Маша!» «Оля!».
Меж собой о чем-то зашептались –
И все вместе убежали куда-то!
. . . . . . . . . .
Не сумела просто веселиться:
Слишком долго была одна.
Стало больно, больно некстати…
Милые платьица, недоступные…
Пришлось отвернуться и заплакать.
А старушки оказались недобрые:
И неловко, – пришлось совсем уйти.
«Сильный, красивый, богатый…»
Сильный, красивый, богатый
Защитить не захотел,
Дрожала, прижавшись в худом платке.
Кто-то мимо проскользнул горбатый.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Город большой, – толку-учий!
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Прогнали. Башмачки промокли.
Из водосточных вода текла.
И в каретах с фонарями проезжали
Мимо, мимо, мимо, – господа.
Он, любимый, сильный, он все может.
Он просто так, – не желал…
Наклонился какой-то полутемный,
Позвал пить чай, обещал:
– «Пойдем, ципа церемонная,
Развлеку вечерок!»
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
И тогда, как собачонка побитая, трусливо дрожа,
Поплелась за тусклым прохожим.
Была голодна.

Из средневековья
В небе колючие звезды,
в скале огонек часовни.
Молится Вольфрам
у гроба Елизаветы:
«Благоуханная,
ты у престола Марии-Иисуса,
ты умоли за них Матерь Святую,
Елизавета!»
Пляшут осенние листья,
при звездах корчатся тени.
Как пропал рыцарь Генрих,
расходилися темные силы,
души Сарацинов неверных:
скалы грызут зубами,
скрежещут и воют.
«Ангелом белым Пречистая Лилия,
ты, безгрешная Жертва Вечерняя,
Роза Эдемская,
Елизавета!»
Корчатся тени,
некрещеные души,
клубами свиваются, взвыв.
«Смилуйся, смилуйся, Матерь Пречистая,
«Божия Матерь.
«Молит за нас тебя ангел твой белый,
«наша заступница
«Елизавета!
«Сгинь, власть темная
«от гроба непорочного.
«Свечи четыре –
«Пречистый Крест
«и лилии – лилии,
«молитвы христианские!»
. . . . . . . . . .
Огоньки в болоте мелькают
в ядовитой притихшей тине.
Под часовней карлики злые
трясут бородами…
И пляшут колючие звезды,
дрожит огонек лампадки…
Невредимы в ночи осенней
весенние цветочки
у непорочного гроба.
Старый романс
Подана осторожно карета,
простучит под окном, по камням.
Выйдет сумрачно – пышно одета,
только шлейфом скользнет по коврам.
И останутся серые свечи,
перед зеркалом ежить лучи.
Будет все, как для праздничной встречи,
непохоже на прежние дни.
Будут в зеркале двери и двери
отражать пустых комнат черед.
Подойдет кто-то белый, белый,
в отраженья свечой взойдет.
Кто-то там до зари окропленной
будет в темном углу поджидать,
и с улыбкой бледно-принужденной
в полусумраке утра встречать.
И весь день не взлетит занавеска
меж колоннами, в крайнем окне;
только вечером пасмурным блеском
загорится свеча в глубине.
Скука
В черноте горячей листвы
бумажные шкалики.
В шарманке вертятся, гудят,
ревут валики.
Ярким огнем
горит рампа.
Над забытым столиком,
в саду,
фонарь или лампа.
Pierette шевелит
свой веер черный.
Конфетти шуршит
в аллейке сорной.
– Ах, маэстро паяц,
Вы безумны – фатально.
Отчего на меня,
на – меня?
Вы смотрите идеально?..
Отчего Вы теперь опять
покраснели,
что-то хотели сказать,
и не сумели?
Или Вам за меня,
за – меня? – Обидно?
Или, просто, Вам,
со мною стыдно?
Но глядит он мимо нее:
он влюблен в фонарик…
в куст бузины,
горящий шарик.
Слышит – кто-то бежит,
слышит – топот ножек:
марьонетки пляшут в жару
танец сороконожек.
С фонарем венчается там
черная ночь лета.
Взвилась, свистя и сопя,
красная ракета.
– Ах, фонарик оранжевый, – приди! –
Плачет глупый Пьерро.
В разноцветных зайчиках горит
его лицо.
Детская шарманочка
С ледяных сосулек искорки,
и снежинок пыль…
а шарманочка играет
веселенькую кадриль.
Ах, ее ободочки
обтерлись немножко!
Соберемся все под елочкой:
краток ночи срок;
Коломбина, Арлекин и обезьянка
прыгают через шнурок.
Высоко блестят звезды,
золотой бумаги
и дерутся два паяца,
скрестив шпаги.
Арлекин поет песенку:
– Далеко, далеко за морем
круглым и голубым
рдеют апельсины
под месяцем золотым.
Грецкие орехи
Серебряные висят;
совушки-фонарики
на ветвях сидят.
И танцует кадриль котенок
в дырявом чулке,
а пушистая обезьянка
качается в гамаке.
И глядят синие звезды
на счастливые мандарины,
и смеются блесткам золотым
под бряцанье мандолины.
Лунная
Над крышами месяц пустой бродил,
Одиноки казались трубы…
Грациозно месяцу дуралей
Протягивал губы.
Видели как-то месяц в колпаке,
И, ах, как мы смеялись!
«Бубенцы, бубенцы на дураке!»
. . . . . . . . . .
Время шло, – а минуты остались.
Бубенцы, бубенцы на дураке…
Так они заливались!
Месяц светил на чердаке.
И кошки заволновались.
. . . . . . . . . .
Кто-то бродил без конца, без конца,
Танцевал и глядел в окна,
А оттуда мигала ему пустота…
Ха, ха, ха, – хохотали стекла…
Можно на крыше заночевать,
Но место есть и на площади!
. . . . . . . . . .
Улыбается вывеске фонарь,
И извозчичьей лошади.
«Говорил испуганный человек…»
Говорил испуганный человек:
«Я остался один, – я жалок!»
. . . . . . . . . .
Но над крышами таял снег,
Кружилися стаи галок.
. . . . . . . . . .
Раз я сидел один в пустой комнате,
шептал мрачно маятник.
Был я стянут мрачными мыслями,
словно удавленник.
Была уродлива комната
чьей-то близкой разлукой,
в разладе вещи, и на софе
книги с пылью и скукой.
Беспощадный свет лампы лысел по стенам,
сторожила сомкнутая дверь.
Сторожил беспощадный завтрашний день:
«Не уйдешь теперь!..»
И я вдруг подумал: если перевернуть,
вверх ножками стулья и диваны,
кувырнуть часы?..
Пришло б начало новой поры,
Открылись бы страны.
Тут же в комнате прятался конец
клубка вещей,
затертый недобрым вчерашним днем
порядком дней.
Тут же рядом в комнате он был!
Я вдруг поверил! – что так.
И бояться не надо ничего,
но искать надо тайный знак.
И я принял на веру; не боясь
глядел теперь
на замкнутый комнаты квадрат…
На мертвую дверь.
. . . . . . . . . .
Ветер талое, серое небо рвал,
ветер по городу летал;
уничтожал тупики, стены.
Оставался талый с навозом снег
перемены.
. . . . . . . . . .
Трясся на дрожках человек,
не боялся измены.
Пиесы

Нищий Арлекин
 ПЕРСОНАЖИ.
Арлекин.
Учительница 30-ти лет.
Дети 6-ти, 7-ми лет.
Мать.
Прохожий.
Кокотка.
Толпа.
Солидный господин из публики.
ПЕРСОНАЖИ.
Арлекин.
Учительница 30-ти лет.
Дети 6-ти, 7-ми лет.
Мать.
Прохожий.
Кокотка.
Толпа.
Солидный господин из публики.
Картина первая
Над трубами тянутся по червонному небу тучевые и дымные полосы. Ненастный вечер. Петербургский особняк. У барского подъезда сидит Арлекин в трико и бубенцах и следит глазами прохожих. Проходит учительница. Музыка доносится точно издали: к началу разговора смолкает, как бы уносимая ветром.Арлекин. Позвольте вас проводить. Учительница. Нахал!.. Торопится Арлекин. Ах, нет, пожалейте, позвольте вас проводить – только издали… Учительница. И нигде не видно городового. Арлекин. Немного ломаясь. Моя осенняя любовь… Учительница. Оставьте!.. Арлекин. Убедительно и с непонятной силой. Королева!.. Учительница. Молчит. Арлекин. Я люблю, – вы так красивы… Вы всегда так прекрасны в осенние вечера? Учительница. Как бы в исступлении. Насмехаетесь! Еще насмехаетесь… Я одинока, девушка, худа, я получаю двадцать рублей, как кухарка; я устала, я охрипла… Вы слышите, я охрипла на вечных уроках; мне не могут сниться фантазии. Арлекин. Ах, нет, вам это только так кажется… У меня была мечта… это – Вы. Учительница. Медленно оглядываясь. У вас черные ресницы и большие глаза на бледном лице умирающих и детей… Арлекин. У меня черные ресницы и большие глаза умирающих детей. Учительница. У вас печальное выразительное лицо. Арлекин. У меня печальное выразительное лицо. Учительница. Ваши бледные губы… Арлекин. Мои бледные губы почти всегда сомкнуты. Меня сбивает с ног ветер. Учительница. У вас большие, печальные, черные глаза, Арлекин. Арлекин. Да, видите ли, это немудрено, королева. Я немножко еврейского происхождения; я ведь сын Агасфера, Вечного Жида. Учительница. Ах, вот отчего вы так трепетны и печальны! Вас так ужасно мучили! На вашей красной с черным одежде я вижу точно следы крови. На ваших бледных руках – царапины и синие пятна. Испуг на вашем пестром платье. Над вами столько издевались все века. Вы дрожите, вы страдаете… Арлекин. Ах, нет, моя королева, мне просто холодно. На земле было столько простуженных и веселых карнавалов, и столько пьют, и столько было у меня женщин, что я облысел немного, и теперь я просто зябну под бумажным моим колпаком. Это, видите ли, наследственно: мой папаша очень зябок, и потому мне чертовски холодно в вашем Петербурге. Учительница. Брезгливо отворачивается и идет. Арлекин. Вдогонку. Мне холодно, мне очень холодно, и ветер меня сбивает с ног… Учительница. Ускоряет шаги. Арлекин. Бледнеет и исчезает. . . . . . . . . . . Пустая улица. Туман. Одинокий голос Арлекина. Арлекин. И в бессонных зеркалах Альказара, полных светлого безумия, кружится бедный бессонный Дьявол, не разжимая губ, и когда он снимает колпак, то, смеясь в потолок, его лысина повторяет отблески сияющих люстр. Туман рассеивается. Появляется прохожий. Рядом Арлекин. Арлекин. Позвольте вас проводить?… Прохожий. Провожать мужчин? Да вы потеряли стыд… Я крикну сейчас городового… Негодяй!.. Вы заставляете меня бежать, а у меня одышка. Арлекин. У меня у самого одышка. Не заставляйте меня бежать так скоро. Я обязан всех провожать в ненастные вечера. Разве я не кажусь вам даже фантастическим? Прохожий. Вы?… Вы – хулиган. Городовой! Прохожий и Арлекин исчезают. . . . . . . . . . . Пустая улица. Потом Арлекин. Арлекин. – (Канцона)
Вот на тонких ножках пляшут огоньки.
Я срываю звездных бус корольки.
Вырастают странные на морозе мечты;
Вырастают на стеклах ледяные цветы;
На карнизе прилипли две ласточки – зябкие птицы;
Закутано соболем горло итальянской певицы.
Меня спросил раз фонарь:
– Откуда пришел ты, бледный?
Впали твои глаза, Арлекин бедный!
– Родила меня южная ночь
Под звон бубенцов,
Под шум безумных бокалов,
Под смех глупцов.
Меня, закутав в соболь, принесли
Из теплых стран, где Миньона
Апельсинные рвет цветы.
Миньоночка, потанцуй, –
Фантазия Арлекина.
Мы танцуем под барабан
Строгого Господина.
Окрестили меня вином
Под звон стакана,
И потом
Возвели с торжеством
На подмостки балагана.
Миньоночка, потанцуй,
Мечта-Коломьина,
Потанцуй, поцелуй,
Фантазия Арлекина.
Ах, веселый карнавал, блестки.
Ах, сосульки уронили слезки…
. . . . . . . . . .
И когда остался я один,
Ночь вздыхала:
– Ах, бездомное дитя, Арлекин,
Дитя нежное,
Ты пришел к нам издали
В страны снежные;
Виснут у тебя льдинки,
Насмешливые снежинки
На бровях,
Ах…
Картина вторая
Ночь. Сцена представляет детскую. Штора поднята. На столе горит лампа. Ночник. Двое детей в постелях.Первый ребенок. Попрощаемся с ночничком, он скоро погаснет. Ведь считается, что мы уже спим. Второй ребенок. Сегодня не спущена штора. Видно улицу. Замечает Арлекина, прижавшегося лицом к стеклу. Он сейчас добродушнее и толще. Ах! Наш старый Арлекин… Смотри. Первый ребенок. Вот ты пришел, Арлекин. Давай играть. Арлекин. Давайте. Т-сссс. Я пришел, только чур. Подносит палец к губам. Тише, тише – жид на крыше. Первый ребенок. У него совсем не отломан нос. Второй ребенок. Боженька залечил ему нос в Царстве Небесном. Он, может быть, хочет войти в детскую. Арлекин, ты не пройдешь в форточку? Арлекин. А мне здесь очень хорошо. У меня тут на подоконнике целая комната. Я вам кое-что принес. Вынимает из кармана множество бумажных петушков и расставляет на подоконнике. Дети. Ку-ка-ре-ку. Ку-ка-ре-ку!.. Арлекин. Ку-ка-ре-ку-у-у-у… Я был далеко, далеко. Дети. А мы думали, что ты все лежал под комодом и тебя выбросили. Тебе не страшно на улице, Арлекин? Арлекин. Нет, мне подмигивают фонари. Газовые рожки пляшут, как мои бубенчики. Второй ребенок. У тебя на носу тает снежинка. А тебе не холодно? Арлекин. Раньше мне было зябко, но тут мне тепло. Второй ребенок. Ах, как хочется впустить Арлекина в окно. Не открыть ли на всякий случай форточку? Первый ребенок. Мне немного страшно. Шаги матери. Она входит. Дети. Мама, мама, к нам пришел наш Арлекин. Вот он стоит там, в окне. Мы бы хотели позвать его в детскую погреться. Второй ребенок. А вот, ему страшно. Мать шагает с лампой в руках к окну. Бледное лицо Арлекина, прижатое к окну, выражает страдание. Он исчезает. Дети. Ах, он испугался и ушел. Арлекин, ты вернешься? Мамочка, ты его нечаянно испугала! Как жаль! Мать спускает шторы. Декорация меняется.

Картина третья
Улица. Толпа. Арлекин.Арлекин. Проводите меня, я заблудился. Кокотка. Заблудившиеся не танцуют матчиш среди улицы. Арлекин. Ломаясь. А я, может быть, танцуя, и заблудился, моя кошечка. Другим тоном. Я заблудился. Очень трудно найти дорогу в темных улицах. Я вот могу показывать фокусы. Вынимает из кармана горсть небесных звезд и бросает в воздух. Они полетят сейчас, как ласточки, – прямо в небо. Звезды падают камнем в лужу. Кругом смеются. Арлекин смущенно улыбается. Голос из толпы. Вы устарели, Арлекин. Арлекин. Вы едите сегодня и завтра котлеты с горошком. Мне холодно. Обращается в другую сторону. Если хотите, я потанцую. Прохожий. Некогда, некогда, любезный. Грубые голоса. Танцуй. Раз Арлекин, то давай представление. Арлекин. Подпрыгивает раза два, но шатается и бледнеет. Смущенно. Я не могу. Я озяб. Кругом хохочут Голоса. Это канатный плясун, бежавший из цирка. Бродячая собака. Любопытная фигура. Довольно жалкая. Арлекин. Вы делаете мне больно. Голос. Его бледность прямо развратна. Такой бледности стыдятся. Арлекин. Покажите дорогу, – я иззяб, я болен. Кругом смеются. Извините, почтеннейшая публика. Я потерял, танцуя, сапог с ноги; я сознаю, что это очень неприлично. Извините, пожалуйста. Голос женщины. Визгливо. Нахал. Он нас морочит: оба сапога у него целы. Арлекин. Помогите, пожалуйста, мне найти мой сапог. Униженно вас прошу. Декламирует забывшись.
Я все грезил Миньоной: она – картина.
Она не сойдет на зов Арлекина.
В закрытой чаше
 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.
Звездокопатель. – Напоминает высокого старого гнома, а когда сидит – кошку. У него кошачий хвост.
Огуречник. – Он в зеленом трико, с влажными, черными, немного шалыми глазами. С черными или зелеными кудрями. Бледный, но с вишневыми губами.
Гимназист восьмого класса.
Дама. – Блондинка лет сорока.
Господин. – Лет тридцати, одет по-заграничному.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.
Звездокопатель. – Напоминает высокого старого гнома, а когда сидит – кошку. У него кошачий хвост.
Огуречник. – Он в зеленом трико, с влажными, черными, немного шалыми глазами. С черными или зелеными кудрями. Бледный, но с вишневыми губами.
Гимназист восьмого класса.
Дама. – Блондинка лет сорока.
Господин. – Лет тридцати, одет по-заграничному.
Сцена первая
Ночь. Звездокопатель сидит на горе, в руках держит букет из тонких, совсем бледных звезд белой ночи. Декорация написана так, что дачные домики по горе кажутся несоразмерно маленькими относительно фигур актеров. Огуречник показывается по временам, отдергивая бледнозвездное небо, как занавес.Звездокопатель. Засматривая вниз. У-у-у, как хорошо пахнет дождик! Глубоко во всех вещичках притаились их таинственные душонки – и подслушивают мысли: крылечки, столбики, перильца… Глубоко в зеленых листьях притаилась душа старой дранковой крыши, прежняя, старая душа, а под самой крышей смеется чердак; – интересно, – что он поделывает днем. – У него должно быть шаловливый глазок. Глубоко-о в маминой кладовой сидят на полках кувшинчики и горшочки и ведут таинственный разговор. Они собрались в кружок. Я сказал раз мальчику: «Мальчик, ты хочешь к гостям?» – «Нет, я не хочу, я хочу послушать, что говорят кувшинчики» А наверху подъезжали экипажи, блестя колесами. Огуречник. Выглядывает поспешно. Иногда «он» или «она» подъезжают в экипажах… Звездокопатель замахивается на него звездной копалкой. Огуречник исчезает. Звездокопатель. Но потому, что кувшинчики ведут разговор, экипажи становятся красивыми, и мальчики и девочки пишут стихи. Встает. Ты выходишь на бодрый берег озера и кричишь: «Сосны! Сосны!» И ты видишь на другом берегу девушку… Огуречник. Поспешно высовываясь. Эту-то девушку и я всегда вижу! Звездокопатель бросается на него с яростью и вышвыривает его пинком ноги. Звездокопатель. И я видел девушку! И она пела! Глубоко в зеленых листьях притаилась дождевая душа. И мне милы намокшие маркизы балкона и шум дождя. Огуречник. Томно, с любовью и несколько экзальтированно. Вот, вот именно! Так милы намокшие маркизы и шум дождя… Замечает движение звездокопателя и срывается. Звездокопатель. А меня самого нет, потому что сам я – девушка, шум дождя, вереск и улыбки кружек на полке Звездокопатель. Слышится рояль: звуки страстной и пошлой музыки. Мальчик, может быть, хочешь к ним? Свечи горят на столе, и клены просятся в окна. – «Нет, меня волнует вечер и голоса издали, как вино…» Мальчик говорит: «Они там смеются, такие интересные, и никто не знает дома, что я стану великим…» Огуречник. Эге! Звездокопатель. Передразнивая. Нет, не «эге». Из всего этого выйдет вечная песня про синие кувшинчики и дождик. Огуречник. В упор звонким голосом. Там сидит одна дама и ее любовник. От горячего дыхания их запрещенной, осужденной, полной прошлого жизни – стали теперь так терпки и свежи дождевые листья. Звездокопатель. Его слова точно затихают, уносимые ветром. Я люблю сережки зеленой березы, и сосновые половицы, и вереск… Занавес.
Сцена вторая
Жаркий июньский полдень. Финляндская дача с желтыми решетчатыми балюстрадками веранды. На веранду, запыхавшись, входят: дама лет сорока, полная блондинка, гимназист, господин лет тридцати с бородкой Henri Quatre, одетый по-заграничному, с плащом и дамской накидкой в руке, с тростью в другой.Господин. С шутливой укоризной. Фу, жарко… Ну, куда вы нас притащили… Дама. Дурачась. А море – буль-буль! А море – буль… Гимназист. Смотрит на нее с восторгом. . . . . . . . . . . Дама. Господину. Ну, как вам угодно, а возьмите для меня эту дачу. Возьмите! Мне уже теперь захотелось этих сосен. Господин. Но, Надежда Михайловна, ведь другую же можно… Дама. Нет, не другую, – захотелось гамака, сосен, балкона… Господин. Балкон здесь как раз в каждой даче. Дама. Упрямо, тем же тоном перечисляя. Сосны над балконом… Господин. Передразнивая. Песку по колено, чтобы было недалеко, неудобно, безрассудно… Дама. Упрямо, тем же тоном. Хочу песку… Вы, вообще, тут оба, понимаете слово – «хочу»? Гимназист. Мальчишески небрежно, но любуясь ею, подает ей кепку. Вот ваша шапчонка, – вам напечет голову! Дама. Не обращая внимания, продолжает, топая ногой. Это значит так, руками, ногами хотеть… Вот всем боком, носом!!.. Господин. Чем еще? Дама. Спокойно. Дурак! Господин. Вам вреден финляндский климат, вы в Ментоне были паинькой. Дама. В Ментоне было другое – был Ментон. Господин. А тут?… Дама. Обернувшись к гимназисту, говорит что-то, чего не слышно. . . . . . . . . . . Господин. Quand une femme veut… (свистит и уходит). Дама. Гимназисту. Какой глу-пый… Глазастик талантливый… Опять? Гимназист. Да, мне досадно, вы меня заставляете быть не своим, я меняюсь. Дама. Разве так не лучше? Гимназист. Умоляюще. Вот вы говорите, талантливый, – а я теперь не могу совсем работать; – которая неделя, я не написал ни строчки… Дама. Ах, Боже мой. Невозможно, мальчик, всю жизнь себя усчитывать… Гимназист. Я стану ничтожным, и вам же буду неитересным… Дама. Глу-упый… Все имеет смысл, по скольку жизнь дает. Другим тоном. Вот, например, я захотела простокваши, перед самым отъездом, от этого опоздали на поезд, и по-моему, прекрасно… Похлопав по плечу. От жизни и талант разовьется, миленький… Гимназист. А ты?… Дама. Ну что ж делать, мальчик… Так вышло. Напевает, точно вспоминая что-то. «О, проснись же, дорогая, я принес тебе мою любовь…» Господин. Входит. Ну, задаток отдал за песок… Ваш бок доволен? Дама. Доволен. Разносчик. За сценой. Огурчики зеленые! Господин. И шесть сараев сняты… Дама. Отстаньте! – зато сосна над балконом. Разносчик. За сценой, удаляясь. Огурчики зеленые, огурцы… Дама. Ах, нет! Бок не совсем доволен. Ах, захотела огурцов страшно. Захотела свежих, зеленых. А разносчика уж прозевали, пока спорили. – Конечно! Выглядывает огуречник. Огуречник. «О, милая!..» Гимназист. Я сейчас догоню разносчика. Прыгает через балюстраду. Дама. Сумасшедший мальчишка, ведь высоко. В виде разносчика появляется огуречник. Огуречник. Огурцы! Земляника грядная! Занавес.
Сцена третья
Комната. Гимназист один, закрыв лицо руками. Огуречник. Гимназист.. . . . . . . . . . Огуречник. Ее голосом. Ну, мне уже захотелось гамака, песку, сосен… Наклоняясь к нему на ухо. Целый день не раздвигай белой шторы – смотри. Ее голосом. А вечером на вокзал, на музыку. На ухо. Кто раньше шел истоптанной тропинкой? «Где ты была? С кем ты жила раньше?» Поет ее голосом. «О, проснись же, дорогая. Я принес тебе мою любовь…» Гимназист. Когда я спросил ее: «Где ты была?» – она засмеялась. Скажи мне, дорогая, где ты была? Огуречник. Ты еще мальчик. Гимназист. Нет, ты моя любовница. Ты вчера еще целовала мои руки. Огуречник. Ты же ничего не знаешь о моей жизни, жизнь длинна… Гимназист. И она смеялась, пела и не сказала мне ничего. А я бы отдал ей все… Я не прошу тебя вечно, но побудь еще со мной… Это точно из книги… Да где же я прежний? Нет, я никогда не был тонким, сумасшедшим мальчиком, любящим «женщину с прошлым», точно из книги… Что-то потерялось. Кусает себе руки. Где я?… Огуречник. Почему это не то? – ты слышишь, как море баюкает берег: баю-бай, баю-бай… Гимназист. А теперь мне нравятся мои худые руки, я нахожу их трогательными. Дорого настоящее, только настоящее – а тогда ты все взяла. Ты все взяла, так побудь же со мной!..… У нее бедра выпуклые. Ее милое круглое горло. Это шла тогда она… ведь она довольно тяжелая… и шаги у нее полные… Она позволила мне расстегнуть тугой лиф ее амазонки! Смеется. Я вынул из ее волос шпильки, а рядом сидели гости. Смеется – забывшись. «Черноглазый, талантливый мой!» Огуречник. Ах, посмотри, закат горит сквозь сосны. Тихо, тихо… Уже закат горит сквозь сосны… Гимназист. Это она шла к тебе… А может быть, к своему любовнику из Ментона… Огуречник. Ведь ты не знаешь ничего, мальчик, у нее прошлое, как темная глубина. Твоя плоская детская жизнь рядом с ней… Гимназист. . . . . . . . . . . Огуречник. Ах, посмотри, закат горит сквозь сосны. Тише, закат горит сквозь сосны. Гимназист. «Вот, берите, ваша шапчонка. Вам напечет голову…» Плачет. Ее голос за сценой, ликующий. Ее голос. О, проснись же, дорогая. Я принес тебе мою любовь! Занавес.
Сцена четвертая
Декорация первого действия. Темная звездная ночь конца лета. Звездокопатель сидит на горе, колупает звезд из синего низкого свода и кладет в мешочек. Огуречник сидит ниже, свесив ноги по косогору.Звездокопатель. Укоризненно. Ну вот, он убился, разве ж это не было все как сон. А между тем, в старой маминой кладовке вечно совещаются таинственные мамины кувшинчики, говорят о большом, темном, земляном шаре… И их безглазые личики – это жизнь, и зеленые ставни – это жизнь. Внезапно оборачиваясь к огуречнику. Ты ведь, собственно, все равно, что не существуешь, – ты просто сон, и это мне очень досадно, что ты меня все сбиваешь и сковыриваешь. А вот кувшинчики и любой чурбан были до тебя и будут после тебя, и вереск, и незнакомая девушка у озера. Обиженно колупает звезды. Огуречник. Во все продолжение речи болтает ногами, сидя на косогоре и почти не оглядываясь. Болван! Свистит и болтает ногами. Болван! Ворота были просто куском дерева, а я подхожу и говорю… – Это ты здесь прошел, милый. – Это твои шаги. Поет. «Кто целовал твои губки прелестные…» Ах, ты моя родная голубка! И ворота становятся – «мои родные». Звездокопатель. Ну, так почему же после тебя остается только пустота, труха? Вот смоляной запах и сосновые чурочки вечны и радостны. Вот они живут теплы, и радостны, и благодатны. Ведь все равно опять приходится приняться за меня же, так всегда. Ведь тебя, пустышка, так нет, что после тебя даже воспоминаний не остается по-настоящему! – А что и остается – наполовину мое. Огуречник. Вскакивает. Ах, как ты мне надоел! Да зато в одном моем слове «хочу» – целый мир. Говорит ее голосом. «Ну вот я целым боком своим хочу…» Кричит «Хочу!» Делает резкое движение, от которого Звездокопатель опрокидывается и летит вверх ногами в рассевшуюся землю. Огуречник. Одиноко прохаживаясь по авансцене, томно. Ах, как мне скучно, – как пусто… С чувством. Я так часто любил эти искренние, простые скамеечки, эти сосновые чурочки, и когда пахнет дождем, и чтобы дождь брызгал в окна, под шум сосны… Поет задумчивым голосом. О, проснись же, дорогая, я принес тебе мою любовь! Занавес.

Музыка к Арлекину
(канцона)
[в книге приведены ноты музыки, написанной М. Матюшиным для пьесы]Обложка и рисунки – работы автора; 3 рисунка на страницах 146, 162, 184 – работы Н. Любавиной. Музыка к пьесе Арлекин – М. В. Матюшина. Отпечатано в Феврале 1909 в типографии «Сириус».
Последние комментарии
38 минут 14 секунд назад
9 часов 29 минут назад
9 часов 32 минут назад
2 дней 15 часов назад
2 дней 20 часов назад
2 дней 22 часов назад