Посвящается моему другу Артему Летовальцеву, который очень ждал выхода этой книги, но не успел подержать ее в рукахБлагодарю Игоря Аверкиева, без которого не было бы этой книги.
Благодарю Леонида Юзефовича за всестороннюю помощь и поддержку.
Благодарю Юрия Крылова, который прочел мою рукопись, когда ее не читал никто.
Коса
Зимой хорошо. Зимой можно кататься с горки, снежками пулять, играть в царя горы или строить Камелот на круче возле пекарни. Из пекарни вкусно пахнет булочками, а тетя Таня чаем угощает горячим. Из стакана в подстаканнике, как в поезде. А еще можно на горку ходить. Она прямо за домом, а в конце кочка, чтобы подпрыгивать и кувыркаться. Но лето все равно лучше. Мы всем двором ждем лето, особенно в апреле или когда март. Купание потому что. Лично мне очень нравится плавать. Говорят, в городе есть пляж. И в Закамске, говорят, есть пляж. Но я хожу на Косу. Пехом всего полчаса получается. А если на велосе, то за пятнадцать минут можно. Только с велосом неудобно, потому что его через железнодорожные составы замаешься перетаскивать. Иногда четыре состава надо миновать, пока до Косы дойдешь. А без велоса хоть и долго, но ловчее. Даже если поезд тихонечко едет, все равно можно пролезть. Главное — не зевать. А когда назад идешь, вообще красота! Можно за поезд кляпнуться, и он прямо до Пролетарки довезет. С ветерком. Этим летом мы всем двором купаться пошли. Я, Вадик, Борька, Миша, Саня и Виталька. У Вадика родители на мукомолке работают, и поэтому они хлеб дома пекут, в духовке, по бабкиному рецепту. Он всегда на речку каравай белого берет. Тепленький такой, мягкобокий. Из него катышки хорошо делать, подкидывать и ловить ртом. У Борьки папа на самолете летает. У них дома всякие диковинные штуки есть. Тетка, например, из черного дерева с огромными титьками. Или веер с девушкой в кимоно. Или бумбокс, на котором можно маленькие блестящие диски слушать. Мишу воспитывает мама. Мишин папа в командировку уехал три года назад и еще не вернулся. Зато у него есть видеомагнитофон «Акай». Мы по нему всякие фильмы смотрим, а один раз даже эротический мультик смотрели. Санины родители служат в милиции. Они в том году на Кипр летали, а Саня нам потом фотки показывал. Там все белое, светлое все, светлее, чем у нас летом. И люди такие довольные, будто с утра до вечера арбузы едят. Очень сочное место. Мы теперь туда все хотим улететь, но пока не знаем как. Виталька самый крутой из нас. Он на турнике выход силой на две руки делает. На пианино играет. Ныряет головой вниз даже с высокого понтона. А еще у него большая собака — ротвейлер. Виталька чупа-кэпсы собирает. Три коллекции уже собрал — простушек, переливаек и «Мортал комбат». Мы все в чупа-кэпсы рубимся. Или в «Турбо». На бетонке у мусоропровода, когда не жарко. Или в квадрат пинаем за домом. Или на велосах в Закамск гоняем. Или на стройке заброшенной в сифу играем. Там кран башенный стоит и можно в кабине посидеть. Или даже по стреле прогуляться. Но речка, конечно, лучше всего. В этот раз мы пошли на Косу прямо с утра. На станции встретились, а потом пошли. С рюкзаками. Я два бутера взял и бутылку воды. Вадик с караваем, это уж как всегда. Борька конфет раздобыл. Миша три пакетика «Юппи» в киоске купил. У него день рождения недавно был. Санек два больших калача с маком приволок. А Виталька только с полотенцем пришел. У него батя бухал, и он по-тихому свинтил, чтобы не нагнетать. По дороге на Косу есть три интересных места и два интересных занятия. Занятия такие: ступать по шпалам не семеня, а строго через одну. Ну, или через две, если ты Виталька. Это очень трудно — не сбиться с шага. Кто меньше сбился, тот и победил. Второе занятие еще сложнее — надо пролезть под составом, чтобы ничем его не коснуться. А если состав тихонечко едет, то пропрыгнуть под ним, чуть только колеса мимо проедут. Теперь про интересные места. Свинарник. Там раньше хрюшки жили, а теперь живут буби. Мы их копаем, когда на Белое озеро идем рыбачить. Свинарник весь пошарпанный, а внутри хоть глаз выколи. Дверей нет, и он будто бы на тебя смотрит черным глазом. Как циклоп из книжки. Одному туда страшно со свету заходить, и мы всегда вдвоем заходим. В свинарнике прохладно. Иногда охота этому порадоваться, ведь на улице жара, а радости не получается. Неправильная прохлада потому что. Мороз по коже. Вадик говорит, что хрюшек убили и теперь они призраки, и поэтому тут холодно. А Виталик говорит, что это все фигня, просто у свинарника стены каменные. Не знаю. У меня дома тоже каменные, но нисколечко не зябко. Камушки. Это маленькое озеро. Лягушатник такой для самых мелких. Но туда не только малыши ходят. Мы как-то вечером с Косы шли, а там тетя с дядей купаются. Голые. А потом тетя на трубу коленками встала (там труба под водой идет, притопленная), а дядя сзади пристроился и давай в тетю тыкаться. Как в эротическом мультике. Ну, мы в кустах немножко полежали и дальше пошли. В этот раз на Камушках никого не оказалось. Зато я камышей нарезал. Из камышей отличные стрелы получаются. Я себе лук из рябины сделал. С леской вместо тетивы. Мне отец перочинный ножик подарил. В форме рыбки. Чтобы я мог в ножички играть и мастерить лук. У нас у всех есть перочинные ножички, потому что мы очень любим в них играть. Завод. Это уже рядом с Косой. Он заброшенный, как свинарник. Мы раньше через него на Косу ходили, а сейчас нельзя — шлагбаум стоит, и табличка про злых собак намалевана. Поэтому мы в обход идем, через Белое. На Белом мужики сетями рыбачат и пьют в палатках. Мы туда не любим заходить. Мы налево поворачиваем. Там деревья расступаются и прямо пустота, и старая котельная, и Кама. А на той стороне железные цапли песок из реки вычерпывают. Вот мы и пришли на Косу. Это заливчик такой на Каме. Там чуть поодаль баржа стоит и понтоны пришвартованы. Я это слово знаю, потому что читал «Одиссею капитана Блада». Мы обычно с понтонов ныряем. Просто так плавать не очень интересно. Это как бег и футбол. В этот раз мы тоже сразу на понтоны приплыли. Они горячие, как чай у тети Тани, долго босыми ногами не простоишь. А головой вниз только Виталька нырять умеет. Все остальные бомбочками прыгают или солдатиками. В том году к берегу труп прибило. Миша в него прутиком тыкал, а Виталька сказал, что надо домой идти и вызвать милицию. А еще тут рыбы селитерные водятся. Говорят, у них червяк белый внутри, и поэтому они наверху плавают, а вниз уплыть не могут. Сегодня мы решили одну такую рыбку поймать и проверить. А Борька захотел научиться нырять головой вниз. Виталька ему все объяснил и сказал, чтобы он подальше от понтона отталкивался, иначе можно под него уйти и не выплыть. Только Борька перестарался — слишком сильно оттолкнулся, и у него ноги за спину перелетели. Можно сказать, он под противоположным углом в воду зашел. Как раз под понтон. Я даже испугаться не успел, а Виталька уже нырнул. Их долго не было, секунд тридцать, а потом появились. Больше Борька с перил не нырял. Только с самого низа понтона, тихонечко. Пообедав, мы поплыли ловить селитера. Жирного такого окуня поймали. Расположились на берегу. Устали. Санька окуню живот вскрыл. Ножичком аккуратно пропилил, раздвинул края. Мы аж головами стукнулись, так было любопытно заглянуть внутрь. Не наврали люди. И вправду белый червяк в рыбе копошился. Плоская такая матанга, вертлявая. Мы его на камне разложили с помощью ножей. Как ленточка резиновая, только живая. Тут Миша смекнул, что этот червяк окуня погубил и его надо казнить. Казнили. Каждый своим ножом отрезал от червяка кусочек. Потом Вадик вырыл ямку, и мы селитера похоронили. Мы вообще часто кого-нибудь хороним. Собаку мертвую нашли — похоронили. Голубя похоронили. Кошку. Борька даже труп, который к берегу прибило, похоронить хотел, но Виталька не позволил. После похорон мы еще покупались, а потом легли на песочек в небо смотреть. Когда мы устаем, нам очень нравится лежать на песочке и в небо смотреть. Я обычно засыпаю, а Вадик кладет мне на голову бейсболку, чтобы не напекло. Все время про нее забываю, такой уж я человек. В тот день домой мы двинули ближе к восьми вечера. Мне нравится возвращаться домой, когда я там целый день не был. А Виталька вообще дом не любит. А Борька постоянно по папе скучает, но никому об этом не говорит. А Мишка, по-моему, хочет убежать. Саньке и Вадику дома тоже не нравится. Чего там сидеть, когда все на работе? Короче, никто из нас не торопился, но мы все равно решили прокатиться на поезде. Минут пятнадцать дожидались товарняка на повороте, где у него скорость маленькая. Кляпаться за поезда надо так: сначала бежишь рядом, а потом вспрыгиваешь на боковую лесенку, но чтобы и ногами запрыгнуть, и руками поручни ухватить. Тот, кто первым запрыгнул, залазит выше, а на его место запрыгивает другой. Впятером на одном вагоне с разных концов запросто можно разместиться. Ну, мы и разместились. Едем. Славно. Ветерок щеки щекочет. Вдруг сверху кто-то заорал: «А ну пошли нахер отсюда!» Мы, конечно, сразу посыпались. Это старшаки на поезд с другой стороны запрыгнули, влезли на крышу и оттуда пошутили. А мы когда ссыпались, то немного растерялись, и Виталька в стрелку наступил. А поезд уже прошел, и стрелка автоматически переключилась. Я смотрю — Виталька отстал и не идет. А потом смотрю — ему ногу рельсой зажало. Сгрудились все, конечно, давай тянуть. А Виталька говорит: без толку, бегите за помощью. Взрослых зовите и железнодорожников, а не то меня переедет. А я быстрее всех бегаю. Побежал. Со всех ног прямо. К сортировке уже подбегал, когда поезд услышал. У моего приятеля брата старшего поездом сбило. Он напился на Девятое мая и проехал Пролетарку. В Шабуничах вылез. Пехом домой пошел по рельсам. Не заметил электричку. И второго моего приятеля поездом сбило. Он к бабушке поехал в Челябинск, клея нанюхался и уснул на шпалах. Проспал локомотив, хотя он, говорят, дудел. Короче, я как поезд услышал, назад побежал. А он уже едет по тому месту, где Виталька стоял. Я на обочину слинял и стал состав пережидать. Главное — пацанов нигде нет. Ни разговоров, ни криков, ничего. Только лязг в ушах стоит и маслом пахнет. Так прямо одиноко, хоть с кулаками на эту махину бросайся. Наконец поезд проехал, и я увидел пацанов. Они все на той стороне были, и Виталька тоже. Его путеец из стрелки достал, потому что рядом с рельсой рычаг был, который ее разжимает. Путеец его нажал, и Виталька освободился. После этого случая мы на Закамский пляж стали ездить. Нас родители туда отпустили под Виталькину ответственность, потому что ему тринадцать, а нам всем по одиннадцать. Там кладбище кораблей есть, и понтоны есть, и даже тарзанка есть, а поездов нет.Тайная победа
В соседнем доме, который мог бы прилегать к моему верхней перекладиной буквы «Т», жили восьмилетние: Топа, Шиба, Кока, Киса, Дрюпа и Саврас. А я приехал с Кислоток и был весь такой солидный, девятилетний. С велосипедом. Батя на «Велте» работал, и им зарплату великами выдали. Сейчас мне кажется, что это был намек, типа а катитесь-ка вы отсюда. А я тогда очень обрадовался. В девять лет ценность денег неочевидна. Зато от своей «Камы» я прямо отойти не мог. То есть я реально на велике не ездил, а катал его по двору. Старик Виктор, сосед наш, «конюхом» меня дразнил. А потом я научился. Упал, конечно, пару раз. Один раз в лужу даже. Но искусством овладел. На Пролетарку я уже состоявшимся велосипедистом прибыл. А тут, значит, Топа, Шиба, Кока, Киса, Дрюпа и Саврас. Малолетки. Только-только на велики сели. По-девчачьи седлают. Не над сиденьем ногу перекидывают, а над рамой вставляют. Вокруг дома круги наматывают. А на Пролетарке тогда чего только не было! Вместо торгового центра «Времена года» Шанхай стоял. Это такой частный сектор, где огороды и цыгане. Цыгане там «винт» варили, но я об этом тогда не знал. Я его намного позже попробую. Всем пролетарским пацанам, у которых бабушек в деревне не было, этот Шанхай деревню заменял. Там гуси щипучие жили. Петух-гоголек. Корова томная ходила. Это если пехом, а если на великах, то вообще шикардос. Велики высокие, и с них за забор можно заглядывать. Да и гусей дразнить безопаснее, потому что все равно уедешь. Еще хорошо было ездить на Красноборскую. Там какой-то богатей замок построил. А замок — это ведь почти «Айвенго». Все равно что ты вот читал-читал книжку, а потом увидел. Если по Красноборской до конца проехать — там кладбище. Машин нет, а дороги есть — гоняй сколько влезет. Я там отрабатывал такое, знаете, крутое торможение, когда фууух! — и вбок. Но самое интересное, конечно, это в Закамск гонять. Вглубь. На Героя Лядова. Или даже на Стадион. Или вообще на Водники, где кладбище кораблей. На Каму на «Камах», каламбур такой. Когда туда едешь, Комсомольский поселок проезжаешь. Говорят, его пленные немцы строили, и поэтому дома там не по-нашенски выглядят. Они все двухэтажные (кроме общаги четырехэтажной, я в ней потом буду жить, когда меня в розыск объявят), и каждый как бы со своей особенностью. Один дом такой, другой вот такой, а на третий с торца что-то налеплено. Это прямо замечательно было, потому что наши дома все одинаковые и на дома не очень похожи. Будто мы все в коробках из-под холодильников живем, только больших и бетонных. На самом деле это, конечно, не так. Я потом буду бомжевать и три ночи в такой коробке просплю. Исключительный опыт, не то что в панельке копчик протирать. Я все эти места один исследовал, а когда с Топой, Шибой, Кокой, Кисой, Дрюпой и Саврасом познакомился, то с собой их позвал. Мы на «кузнечике» подружились. Это такая качель. Бревно железное, за которое с двух сторон руками надо браться и ногами землю толкать. Саврасу этой качелью голову пробило, и мы все стали его спасать. Несчастный случай нас вроде как сдружил. Топа и Шиба — братья. Они подпевалы. У них мама в больнице работает, а папа дома строит. Кока высоченный, выше меня, хотя и восьмилетка. Он сам себе на уме и про него никогда ничего не понятно. У Кисы папа офицер. Киса тоже на офицера похож. Прямой весь, с таким, знаете, лицом... Моя мама называет его породистым. Не знаю. Я когда слышу «породистый», сразу ротвейлера представляю. А у Кисы как раз ротвейлер, прикиньте? Породистый с породистым гуляет, каламбур такой. Дрюпа — хоккеист. Его родители в «Молот» возят, поэтому он с нами не очень часто бывает. У Дрюпы голова квадратная. Я его иногда по голове глажу и говорю: «Не плачь, мальчик, у тебя голова не квадратная». Это моего папы шутка. Он так надо мной шутит, а я перенял. Не знаю. Может, это унизительно, но никто не обижается. Такие уж мы люди. Саврас очень быстро бегает. Мы тогда не знали, что саврасками лошадей называют, а то смеялись бы, наверное. Он с мамой одной жил, потому что папа пил-пил и умер. Саврас его плохо помнит. Помнил только, что отец ему кинжальчик из дерева выстругал. А так батя у него сначала в тюрьме сидел, а потом с мужиками ползал. Саврас вообще молчаливый весь, будто ему не восемь, а десять с хвостиком. Пацаны тогда второклашками были, а я третьеклашкой. Я еще не знал, что через год меня в пятый «Е» переведут и петухами я уже не птиц буду называть, а живых людей. Я тогда думал, что всегда с Топой, Шибой, Кокой, Кисой, Дрюпой и Саврасом буду дружить. Если б знал, что только одно лето с ними буду дружить, я бы, наверное, по-другому дружил. Но мы ведь таких вещей никогда не знаем, правда? В тот день, о котором рассказываю, мы прямо с утра все собрались, чтобы поехать на кладбище кораблей. Киса про Миклуху-Маклая знал, и мы эту поездку экспедицией называли. «Инвайта» набодяжили. Бутербродов взяли. За домом уже стояли. Дрюпу поджидали. Дождались. Тут к нам Сито на «Урале» подъезжает. Сито в моем подъезде жил и клей мохал. Я к этому плохо относился. У меня друг был на Кислотках — Сашка Куляпин, он к бабушке в Челябинск поехал, намохался и уснул прямо на рельсах. В закрытом гробу похоронили. А Сито был старшак, и я его побаивался. А он подъехал и давай над Саврасом прикалываться, что у того шорты с обезьянами, и значит, он сам обезьяна. Сите тринадцать лет было, и мы все молчали, а он по нам проходился. А я вроде как старший и не должен был такого спускать. Чего, говорю, Сито, прицепился, едь куда ехал. А он такой: я-то уеду, а ты на моем велике даже уехать не сможешь, мелюзга! А я: чего это не смогу, очень даже смогу! На меня пацаны смотрят, и мне вроде как неудобно на попятный идти. Только на «Урале» я на самом деле никогда не ездил. Взрослый велик. Рама гигантская. Так сразу и не поймешь, как к нему подступиться. А Сито говорит: на, прокатись, если не трусишь. А я за руль взялся и понимаю, что не смогу с асфальта на «Урал» сесть. Смекалку проявил. Рядом такая железная штука стояла, на которой ковры хлопают. Возле трех машин припаркованных. Я к ней велос подкатил и уже с нее на него взобрался. Но на сиденье не смог сесть, потому что до педалей не дотягивался, а сел на раму, и все равно только носочками дотянулся. Неловкость прямо такая, будто ты что-то громоздкое пытаешься нести, а оно не несется. Оттолкнулся, поехал. Сито смотрит насмешливо. Пацаны во все глаза глядят. А у меня не получилось. Я немножко буквально отъехал и как бы накренился. В машины припаркованные меня понесло, и я в «Волгу» передним колесом въехал. А в «Волге» мужик сидел из моего подъезда. Начальник какой-то с завода. Мы не знали, что он там сидит. А я в машину въехал и дверь белую испачкал. Не знаю, где уж там Сито ездил, но грязи на колесах было дополна. А я когда въехал, то с велоса упал, а мужик из машины выскочил, грязь увидал и схватил меня за шкирку и давай под жопу пинать. Раз пнул, два пнул. Смотрю — Сито велос подобрал и укатил. А мужик, видно, очень свою машину любил, потому что пинает и пинает, не останавливается. Я уже на колени упал, а он все пинает, но не под жопу уже, а в спину и куда придется. Тут слышу — Саврас как сумасшедший заорал. А потом все прямо заорали: Топа, Шиба, Кока, Киса, Дрюпа. Им, наверное, очень страшно было, потому что они сначала заорали, а потом всей оравой на мужика набросились. Нетипичное такое поведение для детей. Это я сейчас понимаю, а тогда мне просто хотелось, чтобы меня пинать перестали. А мужик от такого наскока обалдел. Ну, то есть он растерялся и в машину шмыгнул, а мы велики похватали и уехали подальше, чтобы он нас больше не бил и чтобы дух перевести. А потом мы погнали на кладбище кораблей, и прямо такой у нас счастливый день получился, что я его до сих пор помню. Про этот случай с мужиком мы никому не рассказали. Ни родителям, ни в школе, ни вообще никому. Это наша тайная победа была, и мы ей потом очень гордились. Жаль, что у нас только одно такое лето было, но ведь и одно такое — это уже кое-что.Миша, мама и Валера
Девятилетки Коля, Вадик, Боря и Миша больше всего любили дразнить Валеру Карпа. Почему Валеру звали Карпом, никто из них не знал. Валера был пятидесятилетним дворником-алкоголиком в толстенных очках, перемотанных изолентой, и с речевым тиком, заставлявшим его после каждой фразы прибавлять: это самое. Несмотря на свой возраст, Валера жил с мамой, крепкой еще семидесятилетней старухой, которую он иногда поколачивал, — а иногда она поколачивала его. Начиная с октября Валера одевался в телогрейку и валенки с галошами и мог проходить в таком виде до мая. Летом Валера гулял в трико с лампасами, штиблетах на толстой подошве и выцветшей футболке с надписью «Спортлото-82». Конечно, Коля, Вадик, Боря и Миша не сразу стали дразнить Валеру. Они увидели, что его дразнят старшаки, и подхватили эту забаву. Им казалось, что они от этого становятся взрослее. То есть ребята не были злыми в чистом виде (за всю жизнь я только два раза сталкивался с кристаллическим злом), они были обычными губками, как та девочка, которую собаки в Архангельске воспитали. Вскоре друзья выяснили, что Валеру можно дразнить по-разному. Можно на велосах вокруг него ездить и повторять «это самое», можно из водных пистолетов брызгать, можно тачку с метелками опрокинуть, можно зимой снежками из-за угла пулять, можно петарды ему под ноги швырять, можно урну поджечь, а потом смотреть, как он смешно будет огонь тушить. Но лучше всего, и это Коле, Вадику, Боре и Мише старшаки показали, звонить Валере в дверь, чтобы с верхнего этажа слушать, как он матькается на весь подъезд. На улице Валера матькался не так разнообразно, как в подъезде, а ребята живо интересовались матом. Вообще, Валера был чуть-чуть дурачком, потому что его в тридцать лет сильно избили. То есть он не только из-за водки таким сделался. Простой алкоголик не стал бы кричать девятилеткам: «Пидорасы, это самое! Я вас выебу, это самое!» А Валера кричал, из чего я делаю вывод, что он не понимал смысла некоторых слов. Коля, Вадик, Боря и Миша тоже всего смысла не понимали, зато фонетическую сторону копировали прекрасно. Они походили на дорогих попугаев ара, хотя на вид были обычными воробушками. Коля, Вадик и Боря были воробушками пухлыми, почти зажиточными. Они жили в полных семьях если не в пасторальной любви, то уж точно в заботе. Их мамы были домохозяйками, а папы тянули лямку на заводе. Мише повезло меньше. Ни о какой пухлости, тем более зажиточности здесь речь не шла — его папа не вернулся из Афганистана. Мама, женщина тихая и усталая, работала почтальоном. Когда Миша подрос и стал спрашивать, где папа, она сказала: «Из-за речки не вернулся». Для нее это была естественная фраза, потому что на сленге воинов-интернационалистов «не вернуться из-за речки» означало «не вернуться из Афгана». Миша понял фразу буквально. Каждый раз, приходя на Каму, он подолгу вглядывался в противоположный берег, надеясь увидеть плывущего к нему папу. Но папа не плыл. Папа пропал без вести в окрестностях Джелалабада. Естественно, Миша любил маму, принимал жизнь как данность, а если кого в чем и винил, то только дефолт. Тогда это слово не сходило с губ, и хоть Миша и не знал, кто такой этот Дефолт и как он перешел маме дорогу, но тоже его винил, за компанию. Например, когда Миша дразнил Валеру Карпа, он представлял, что Валера и есть Дефолт, и тогда дразнить дворника было особенно приятно. А еще у Миши была бабушка Тамара, которая жила в Краснодаре. Он был у нее один раз шестилеткой, и ему там очень понравилось, потому что у бабушки был сад с абрикосами. Миша хотел уехать к бабушке неочевидно и втайне от самого себя. Он был достаточно взрослым, чтобы стыдиться этого желания (у него же есть мама!), но недостаточно, чтобы его осуществить. При этом он все равно чувствовал себя перед мамой виноватым, из-за чего то отстранялся от нее, то ластился как щенок. В тот день, о котором рассказываю, я, Коля, Вадик, Боря и Миша пришли с Камы в пять вечера и тут же заметили возле банка спину Валеры Карпа. Ребята уже второе лето дразнили Валеру, и их глаза были настроены на его поиск. Судя по всему, дворник шел домой. Это было очень кстати, потому что после вглядываний в Каму Миша приуныл, а вместе с ним приуныли и остальные. Они часто приунывали вслед за вожаком, а Миша был именно вожаком. То есть это как-то само собой сложилось, в силу Мишкиного характера. Заприметив Валеру, девятилетки пошли за ним, держась на отдалении. Валера жил в пятиэтажке на третьем этаже справа. В глубине души Миша опасался, что Валера может сесть на лавку у подъезда и просидеть там два часа. Как мы знаем, дразнить Валеру на улице это не то же самое, что дразнить его в квартире. Только бы он пошел домой, только бы он пошел домой, думал Миша, поворачивая во двор. Ура! Валера пошел домой. Выждав пять минут, ребята зашли в подъезд, поднялись на третий этаж и позвонили в дверь. Иногда мать Валеры выключала звонок, и тогда ребята колотили в дверь ногами. Правда, делала она это редко, потому что была глуховата. По квартире разлетелась противная трель. Друзья взбежали на четвертый этаж и замерли в повизгивающем молчании. Скрипнула дверь. На площадку вышел Валера. Никого не обнаружил. Сказал: «Что за хуйня, это самое?» И скрылся в квартире. Ребята прыснули и позвонили снова. Потом еще раз. И еще. И опять. После пятого звонка Валера разбушевался. Он метался по лестничной клетке и трехэтажно матерился, а потом побежал вниз. Только доведенный до последнего отчаянья Валера бежал вниз. Фразы «убью, это самое», «изловлю, это самое», «пидорасы, это самое», «душу выну, это самое» скакали по ступенькам вместе с ним. О том, чтобы бежать наверх, Валера даже не помышлял. Этому трюку ребят научили опытные старшаки. А еще было очень волнительно пулей пролетать мимо Валериной двери, когда в нее уже не хочется звонить, а хочется гулять. Выскочив на улицу, Валера никого не обнаружил и, страшно сквернословя, вернулся в квартиру. Через пять минут ребята выкатились из подъезда. Они повторяли Валерины матюки и смеялись. При этом постоянно оглядывались, потому что все-таки побаивались погони. Оглянувшись в конце дома (а дом был длинным), Миша увидел маму. Она подходила к Валериному подъезду с почтальонской сумкой на плече. Миша побежал. Миша вспомнил, как мама жаловалась на Валеру, у которого почтовый ящик оторван, из-за чего ей приходится всякий раз взбираться на третий этаж. Вдруг он, разъяренный, ее обидит? Миша уже летел по ступенькам, когда мама позвонила Валере. Тому пришло заказное письмо из пенсионного фонда. Она не знала, что дворник притаился за дверью с черенком лопаты, которым намеревался треснуть проклятых детей как следует. Валера уже десять минут готовил этот удар в темноте коридора. Едва мама Миши позвонила, Валера рванул дверь и махнул черенком за порог наотмашь. Черенок угодил женщине в лоб. Она повалилась на пол. Миша бежал уже между вторым и третьим этажами и видел момент удара. Он закричал и бросился к маме. Валера охренел, а потом проявил чудеса ловкости. Позвонил в «скорую». Опрыскал Мишину маму водой. Привел в чувство. Наложил холодную тряпочку на шишку. Коля, Вадик и Боря хоть и трусили, но тоже зашли в подъезд. И они, и Миша раскрыв рот наблюдали за действиями Валеры. А тот сидел на коленях возле мамы Миши и строчил: «Простите, это самое, не хотел, это самое, бес попутал, это самое, я больше никогда, это самое, вот вам крест, это самое...» А женщине было жалко Валеру, потому что она знала, что его избили, и она его простила. А потом приехала «скорая» и сказала, что у Мишкиной мамы легкое сотрясение, а на лбу шишка сама пройдет. Через пятнадцать минут Миша, его мама и ребята ушли из Валериного подъезда. С тех пор Коля, Вадик, Боря и Миша Валеру Карпа не дразнят. Потому что он ведь знакомый Мишиной мамы, а знакомых не дразнят.Троица
Школьники жестоки. Хотя процент жестоких людей среди школьников точно такой же, как и среди взрослых. Просто дети честнее. Их жестокость не завуалирована. Они еще не научились прикрывать ее фиговым листочком стыда. Однако в 89-й школе, что на Кислотных дачах, в 1995 году произошел совсем уж вопиющий случай. Там учился Саша Новиков — тихий мальчик с большой головой, большими глазами, остреньким носом и аккуратным хрупким телом. Он напоминал совенка. Его все так и звали: Совенок. Саша не возражал. Может, ему нравилось это прозвище, а может, он не умел возражать. Во втором классе его стал тиранить Андрей Репин. Если б Андрей учился в американской школе, он бы без труда возглавил сообщество спортсменов в характерных куртках. Андрей Репин был крепок той крепостью, которой обычно принято наделять деревенских жителей. Высокий, мощный, с какой-то совершенно недетской фигурой в совершенно детском возрасте. Был в том классе и третий мальчик — Рома Попов. Он был чем-то средним между Сашей Новиковым и Андреем Репиным. Положа руку на сердце, он вообще был средним. Среднего достатка, средних отметок, среднего положения в классе. Но кому интересны внешние проявления характеров? Расскажу лучше о начинке. Саша Новиков был начинен кропотливостью, любованием и незлобивостью. Из таких ребят получаются отличные экскурсоводы, библиотекари, программисты, работники конвейера. Он был талантлив в том смысле, что легко распознавал чужой талант. То есть Саша был начинен хорошим вкусом, проклюнувшимся как из воспитания, так и из генетической наследственности. А может, про генетическую наследственность я заблуждаюсь, потому что мало в этом понимаю. Саша был не совсем мечтательным ребенком, но он был достаточно мечтательным, чтобы остановиться возле клумбы и десять минут наблюдать, как шмель опыляет цветок. Вообще, в его облике присутствовало что-то от жертвы. С одной стороны, приманивал тиранов, с другой — рыцарей. Как вы понимаете, тираном был Андрей. Он вел себя как взрослый человек, если бы взрослый человек стал ребенком. Подозреваю, что мальчишка копировал отца. Он громко говорил, отбирал булочки в столовой, стукал одноклассников без причины, но больше всего Андрею нравилось их превосходить. Например, он быстрее всех бегал, выше всех прыгал, ловчее всех лазил по канату. В его речи чаще всего проскальзывало слово «неудачники». Конечно, «неудачниками» были не все. Главным образом, неудачником был Совенок. Я подозреваю такую связь: отец утверждался за счет Андрея, Андрей утверждался за счет Совенка. Если б мне предложили снабдить Андрея профессией, я бы снабдил его званием сержанта в каком-нибудь дремучем полицейском участке, где по пятницам принято пытать задержанных. Однако я понимаю, что люди меняются, и поэтому, в противовес предыдущей должности, я бы поместил Андрея на ринг, где «неудачники» определяются в лоб. Рома Попов, которого я нелестно назвал средним, внутри средним не был. Его начинку целиком и полностью определил роман Вальтера Скотта «Айвенго». В силу возраста Рома был не способен рационализировать свою рыцарскую природу, отчего не только не мог ее развивать, но и не мог ей сопротивляться. То есть он неплохо ладил с Андреем и был равнодушен к Совенку, однако стоило Андрею насесть на Совенка как следует, и Рома тут же чувствовал потребность его защищать. Из таких Ром получаются пламенные революционеры, красиво умирающие на глазах у прекрасных декаденток. Романтизм, впитанный в детстве, когда ему невозможно сопротивляться, с течением лет приобретает хронический характер, если вовремя не изжить его здоровым цинизмом. Как правило, перезрелые романтики ни на что не годны, кроме своевременной смерти и таскания на плечах образа надмирной красоты человеческого духа. Наверное, именно поэтому все большие романтики давно живут исключительно в легендах. Как вы понимаете, характеры трех наших героев притянули их друг к другу. Андрей Репин тиранил Совенка, Совенок тянулся к Роме, чувствуя в нем рыцаря, а Рома хоть и хотел его защитить, но медлил, потому что Андрей был опасным противником. Как это чаще всего и бывает, скрытое противостояние обнажил случай. Соседка Саши Новикова по парте простудилась и заболела. Занималась промозглая весна, и многие ребята пропускали школу из-за простуды. А Рома расшалился на последней парте, за что был пересажен на парту первую, где, собственно, и сидел Совенок. Соседка Совенка проболела две недели, и за это время ребята сблизились. То есть если раньше Рома старался не обращать внимания на издевательства Андрея над Совенком (фофаны, броски резинкой, тычки исподтишка, уходралка, щелбаны), то теперь ему приходилось их терпеть. К исходу второй недели терпение Ромы лопнуло. Андрей украл Сашин кулек с обувью (ребята переобували сменку в классе) и нахаркал туда. Когда бедный Совенок отыскал свой кулек и засунул туда руку, он захныкал, потому что угодил пальцами в слюни. Андрей заржал. Несмотря на юный возраст, он уже умел именно ржать, а не смеяться. Рома уставился на пальцы Совенка, между которыми протянулась толстая нитка слюны. Повинуясь импульсу, он схватил кулек и швырнул его в лицо Андрею. Тот не ожидал броска и увернуться не сумел. За броском последовала драка. Пользуясь оглушенностью Андрея (удар демисезонными ботинками запросто может оглушить), Рома налетел на обидчика и сбил его с ног. Это был последний урок и учительница уже вышла из кабинета, а одноклассники, понятное дело, не спешили разнимать дерущихся. Вдруг с Ромой что-то случилось. Вместо того чтобы по детски отмутузить Андрея и на том успокоиться, он почему-то схватил пустой кулек, валявшийся поблизости, и намотал его Репину на голову. Так уж получилось, что в кульке не оказалось дырок. Рома душил, Андрей задыхался, класс наблюдал. Дело близилось к фатальной развязке, потому что Рома даже не думал ослаблять хватку, когда на сцену вышел Совенок, резко сменив амплуа. Он единственный понял, что происходит. Оценил он и последствия удушения. Точнее, Саша почувствовал, что происходит страшное, и бросился не столько спасать Рому, сколько это страшное прекратить. Разбежавшись, Совенок бросился на Рому всем телом и отпихнул его. Рома отлетел в сторону. Совенок содрал кулек с головы Андрея и присел возле него на корточки. Тут в класс вошла учительница. Задыхающийся Андрей, Рома с безумными глазами и бледный Совенок произвели на нее впечатление. На учительском допросе все трое молчали как задраенные. После этого случая ребята стали меняться. Всякое большое событие похоже на брошенный в воду камень, когда основной смысл таится вовсе не в погружении камня на дно, а в расходящихся кругах, которые он запускает. Драка будто бы перемешала начинки одноклассников: Андрей зажил с памятью о том, как легко стать жертвой, Рома ощутил сладость тирании, подержав врага за горло, а Совенок перестал быть Совенком и сделался Филином, потому что ну какой он Совенок, когда человека спас? Конечно, все эти перемены произошли не враз, а постепенно. Во всей этой истории мне только взрослых жалко, которые ни про драку не узнали, ни про ее животворящую роль в биографиях девятилеток.Собачья жизнь
Дом спорта «Орленок». Раздевалка, трибуны, каток. На катке многолюдно. Взрослые катаются по кругу. В центре — девочки-фигуристки оттачивают балетные па под руководством наставниц. С трибун на них взирают мамочки. Некоторые смотрят с любовью и опаской, другие — мельком и обыкновенно. Я катаюсь по кругу и сам себе напоминаю овчарку, охраняющую отару овечек. Мне нравится сумасшедше разгоняться, а потом ехать еле-еле, как бы фланируя. Зайдя на пятый круг, я проехал возле борта и встретился взглядом с одной из мамочек. В глазах женщины плескались злоба и нетерпение. Замедлив ход, я проследил ее взгляд. Он упирался в маленькую фигуристку, у которой не получалось упражнение. Наставница девочки, девушка лет двадцати пяти с жестким мужским лицом, выразительно взмахивала руками, показывая, как надо. Наконец мать не выдержала, подозвала дочь, схватила ее за плечо и зашептала что-то отрывистое прямо той в ухо. Я подкатил поближе. До меня долетели обрывки фраз: «Столько сил, столько денег... Я постараюсь, мамочка...» Девочка отъехала от борта и стала стараться. Но как она ни старалась, как ни смотрела оленьими глазами на мать, у нее все равно получалось плохо. Исчез «Орленок», исчез мокроватый лед, пропали трибуны. Больно уж пронзительно танцевала маленькая фигуристка, чтобы я не вспомнил собственное детство. В ноздри ударил запах мужского пота. Город Чайковский. Чемпионат Урала по дзюдо. Огромный спортзал, полный суровых отцов и прилежных сыновей. Мне двенадцать лет. Выиграв две схватки, я проиграл третью и теперь шел к машине медленным шагом, потому что боялся отца. Он стоял у «Волги» и курил, опираясь задницей на капот. Ни слова не говоря, отец щелчком отбросил окурок и сел за руль. Я полез на переднее сиденье. На соревнования я приехал именно на этом месте и поэтому полагал, что и обратно поеду там же. Я ошибался. Отец вытолкнул меня из машины, и я упал на асфальт. — Пап, можно я назад сяду? — Садись. Ехали мы в тишине. Обычно отец включал Наговицына или Круга, но не в этот раз. Ближе к Перми я не выдержал и попытался оправдаться: — Пап, тот парень, которому я проиграл... Он давно занимается. Четыре года уже, представляешь? Отец молчал. — Пап, я буду много-много тренироваться! Слышишь? Ну скажи что-нибудь, пап! Ну чего ты? Отец процедил: — Хватит болтать. Ты — тюфяк. Нет в тебе жесткости. И злости спортивной нет. Внезапно он стукнул по рулю и заорал: — Ты рвать их всех должен, понял?! Выходить на татами и рвать как сук последних! Хули ты танцуешь? Как девочка, блядь! Я сжался на заднем сиденье. Тут нас подрезала «девятка». Отец вильнул и вдавил педаль газа в пол. Догнав «девятку», он прижал ее к обочине и вылетел из машины. Я приподнялся и посмотрел в окно. Мы были уже недалеко от цирка. Из «девятки» вылезли трое. Они были с битами и в спортивных костюмах. Отец развернулся и побежал к «Волге». Вытащил из-под сиденья монтировку. Кинулся обратно. Я вылез из машины и нерешительно встал у бампера. Отец размахивал монтировкой и цедил: — Вы чё меня подрезали, а? Совсем охуели, а? Гондоны, а? Ребята из «девятки» почему-то совсем его не боялись. Завидев меня, один из них сказал: — Вали отсюда, мужик. Не хочу тебя при ребенке пиздить. После этих слов отец будто сорвался с цепи. Он полетел на троицу, высоко вскинув монтировку, но тут же упал. Парень, который стоял слева, просто вскинул ногу и резко ударил его в лицо. Видимо, отец сразу потерял сознание, потому что подняться он даже не попытался. Я подбежал к нему и с трудом перевернул на спину. Ударивший парень присел на корточки и нащупал пульс. — Не бзди, малой. Жить будет. А лихой у тебя батя, да? — Нет. Рвать вас надо как сук последних. Отсмеявшись, парни укатили. А я принес воды и стал брызгать папе на лицо. Когда он очнулся, мы сели в машину и поехали домой... Массовое катание в «Орленке» уже подходило к концу, когда я подъехал к мамочке, которая все так же пристально следила за маленькой фигуристкой. Я хотел рассказать ей свою историю, а потом пригляделся и подумал: «Кого я обманываю?» И поехал сдавать коньки.Чернобыльские
У Коли зубы были кривущие. Смотреть страшно. Его Пилой звали. У Светы родинка по щеке расползлась. Из нее волосы росли. Они в одном классе учились. Чернобыльские — так про них говорили. Не травили, но имели в виду. Свету Пятном звали. Отличница Лена говорила: «Единственное пятно на репутации нашего класса». Однажды Света кока-колу себе на блузку нечаянно пролила. А училка по физике такая: «Света, ты почему пришла в школу вся в пятнах?» Класс от хохота чуть с ума не сошел. Или вот Коля. Опоздал как-то, а математичка ему: «Уравнения пропустишь, потом будешь локти кусать!» А у Коли зубы параллельно земле. Класс едва представил, как он локти будет кусать, так и выпал в осадок. Тут в школу новый учитель пришел из вуза. Антон Михайлович, по русскому и литературе. Он робкий был и очень хотел найти общий язык с классом, куда его классруком назначили вместо Розы Сергеевны, которая на пенсию ушла. Короче, он тоже стал над Колей и Светой прикалываться, чтобы вписаться. Говорит как-то: «Николай, тебе лучше сидеть с закрытым ртом». А Коля и так с закрытым сидел. Они вместе со Светой с закрытыми сидели на последней парте. Или говорит: «Света, ты плохо помыла доску. Что за пятна?» А класс хохочет. Классрук-то свой человек! Вскоре началась неделя дежурств. Колю и Свету отправили в раздевалку. Они там дежурили на переменках всю вторую смену до семи вечера. На третий день одноклассники их заперли. Купили навесной замок в складчину и заперли. «Если Чернобыльские сойдутся, вот будет хохма!» — думали они. А Чернобыльские, то есть Коля и Света, сначала поколотились, а потом сели на лавку и давай молчать во все горло. Коле на самом деле не нравилась Света, потому что у нее пятно. А Свете не нравился Коля, потому что у него зубы. Тут они вспомнили про родителей. У них были обычные пьющие родители, и волновать их своим отсутствием ребята не хотели. Сотовых телефонов тогда не было, поэтому оставалось только сидеть. Вдруг из глубины раздевалки раздался грохот. Это историк Тихомир Вяткин выпал из шкафа, где уснул пьяным, пока школьники были в столовой. Историк Тихомир Вяткин имел свой ключ от раздевалки, потому что частенько тут спал или шмонался по карманам. Водрузив себя на ноги, Тихомир пошел на свет и вышел к ученикам. Тихомир: Пила, Пятно, чего сидим? Пила: Нас заперли, Тихомир Львович. Тихомир: Кто посмел? Пятно: Наши одноклассники. Тихомир: Вот суки! Пила: Суки и есть. Тихомир: У вас что, любовь? Пятно: Какая любовь? Вы его зубы видели? Пила: Ты на свое пятно посмотри! Пятно: Это родинка. Пила: А это, блядь, отсутствие денег на скобки. Тихомир: Хорош бухтеть, уродцы. У тебя охуительные зубы. А у тебя охуительное пятно. Жалко даже, что я не педофил. Ты Света, а ты Коля? Ребята кивнули и улыбнулись. Пила: Про педофила ржачно было. Тихомир: Ржачно другое. Я только вас по именам запомнил, прикиньте? Пятно: А Лену? Ну, которая отличница у нас? Тихомир: Не, не помню. Пила: А почему только нас? Тихомир: Ну, потому что вы отличаетесь. Это, кстати, ваш шанс. Пятно: Какой шанс? Тихомир: Стать крутыми. Пила: Как это? Тихомир: Ни для кого не секрет, что мы живем в постбодрийяровскую эпоху копий... Пятно: Какой уж тут секрет. Пила захохотал. Тихомир: Дети, блядь. В эпоху копий все из кожи вон лезут, чтобы отличаться от других, а вам даже лезть не надо, вас и так выделяют. Пила: Нас как-то отрицательно выделяют. Тихомир: Да похуй. Лишь бы выделяли. Замок, поди, купили, чтобы вас тут закрыть. Пятно: Не знаю. Это обидно. Тихомир: Тебе обидно, потому что ты соглашаешься обижаться. А ты не соглашайся. Пила: Это как? Тихомир: Переразъебайте их. Угорай над своими зубами больше, чем они угорают. А ты угорай над своей родинкой. Они от вас отцепятся, когда поймут, что вам похер. Только вам действительно должно быть похер, иначе не прокатит. Давайте попробуем. Тихомир Вяткин оглядел Свету и сказал: — Девушка, у вас на щеке какая-то грязь. Возьмите платок. Света застыла, а потом выдала: — Это злоебучая родинка, маркиз. Поцелуйте ее в черный волос, и она сразу исчезнет. Тихомир: Отлично! Еще можешь добавить: «А я превращусь в Шарлиз Терон и отсосу у вас по полной программе». Кстати, а родинку можно удалить хирургически? Пятно: Можно. Когда закончится половое созревание. Тихомир: А оно не закончилось? То есть у тебя грудь станет еще больше? Пила: Пока вы не наделали глупостей... Тихомир и Света заржали. Историк оглядел Колю. — А вы какая пила, молодой человек? «Дружба» или бензиновая? Коля ненадолго задумался и ответил: — Я не пила, сэр. Я ошибка генетического кода. Окажите услугу — убейтеменя в лицо. Учитель крякнул. Света захлопала в ладоши. Тихомир: Вы оба охуенно сообразительные детишки. Что вам мешает отвечать так же придуркам из класса? Ребята задумались. Первой сообразила Света. — Вас мы не боимся и никогда не боялись. А их привыкли бояться. Тихомир: Давайте так: я брошу курить, а вы бросите бояться? Заключим пари. Пила: Тихомир Львович, вы никогда не бросите курить. Вы пить-то не можете бросить. Тихомир: Это правда. Тогда так: я никогда не брошу курить, а вы бросите бояться. Пятно: Just do it. Тихомир: Типа того. По рукам? Пятно: По рукам. Пила: По рукам. Все трое обменялись торжественными рукопожатиями. Тихомир: У меня есть чекушка. Я ее выпью и усну. А вы потренируйтесь друг на друге в смысле подъебок и своей реакции. Но не громко. Ферштейн? Света и Коля кивнули и стали тренироваться. Тихомир Вяткин даванул чекушку и лег спать на старую тряпку. Потом уснули и Света с Колей. Утром всех троих выпустили из раздевалки испуганные одноклассники, которые за ночь насочиняли страшных последствий своей проделки. Когда же Пила и Пятно стали матерно шутить в свой адрес, одноклассники и вовсе обалдели. Где-то через неделю Пила и Пятно исчезли. Не вообще исчезли, а превратились в Колю и Свету. Даже классрук Антон Михайлович перестал над ними подшучивать. Что же касается Тихомира Вяткина, то его из школы выперли. Говорят, он вышел голым к директорской секретарше при каких-то загадочных обстоятельствах...Рецидивист Комов и Филипп Курицын
Рецидивист Григорий Комов пришел как-то к старшей дочери. Старшая дочь была ему рада, потому что рецидивист Комов пришел с пряниками и подарком, а не пьяным. Они поели пряников, а потом рецидивист Комов подарил дочери лото из разноцветных кубиков. Дочь дочери воззрилась. Ей было уже шесть лет, и она давно переросла эту ерунду. Она вообще была семейной проблемой, потому что ни о ком не заботилась, скандалила, швырялась едой и вообще вела себя как Сусанна Кольчикова. Рецидивист Комов не мог помочь своей дочери справиться с ее дочерью. Он плохо понимал в детях, а если и имел к ним отношение, то опосредованное: однажды рецидивист Комов зарезал педофила. Однако на этот раз рецидивист Комов пришел в гости с тонким планом. Не с планом как гашишом, а с планом как чередой заранее обдуманных действий. Наконец, дочь повела дочь укладываться спать. Девочка не хотела уходить из вредности и потому, что рецидивист Комов был для нее диковинкой. Вдруг дочь сказала рецидивисту Комову: — Комов, усыпи внучку. Боишься? Рецидивист Комов боялся. В каком-то смысле Комов боялся всего, но никому этого не показывал, то есть был самым осторожным человеком на Земле. Однако усыпление было частью плана, и он согласился. Рецидивист Комов взял дочь дочери на руки и унес в спальню. Белые руки внучки обвили его коричневую шею. Голубые широко распахнутые невинные глаза смотрели в серые, подернутые изморозью и опытом. Рецидивист Комов положил дочь дочери в постельку и сел рядом на табурет. Спи, сказал Комов и улыбнулся. Железные клыки сверкнули в огне ночника. Дочь дочери спросила: — Деда Гриша, ты расскажешь мне сказку? Рецидивиста Григория Комова сто лет никто не называл Гришей. Его и Григорием-то не называли. Комов то, Комов се. Комов, Комов. «Деда Гриша», сказанное хрустальным детским колокольчиком, шевельнуло в душе уркагана давно позабытые струны. Григорий Комов откашлялся и начал: — Жило-было на свете куриное яичко без скорлупы. Снаружи нежное, как молочко, а внутри, как солнышко, горячее. Его снесла курица Светлана из деревни Горшки. Курица Светлана жила там у стариков Изюмовых. Старики посмотрели на яичко, подивились и не стали его есть. А старуха Изюмова на Пасху нарисовала глаза, нос и губы на яичке. А старик Изюмов придумал ему имя — Филипп Курицын. Все детство Филиппа Курицына обижали другие яички. Они были в скорлупе, а он нет. Они были пестро раскрашены, а он нет. Их ели старики Изюмовы, а его нет. Особенно Филиппа доводили яички Прохор, Касатон и Панкрат (старики Изюмовы были бездетны и всем яичкам давали имена, будто они их дети). Прохор, Касатон и Панкрат считали, что смысл жизни нормального яичка — удовлетворять собой голод стариков Изюмовых. Филипп Курицын думал так же и страшно переживал, почему старики Изюмовы его не едят. А еще все яички лежали в большой вазе, соприкасаясь скорлупками, а Филипп Курицын стоял стоймя в отдельной вазочке. Старики Изюмовы его берегли как некоторое чудо. От того, что Филипп долгое время был один, он стал много думать желтком. В результате желток вырос и надавил на белок. Белок выдержал, но желтое стало просвечивать сквозь белое, и Филипп стал цветным яичком, почти как Прохор, Касатон и Панкрат, но не пестрым. Прохор, Касатон и Панкрат стали дразнить Филиппа китайцем. Они не знали значения этого слова, но им нравилось его произносить. Филипп тоже не знал значения этого слова, ему просто не нравилось его слышать. Из-за того, что у него разросся желток, Курицын стал много думать. Думанья привели его к мысли, что надо уходить от стариков Изюмовых, чтобы найти свое место в жизни. Филипп уже так поумнел, что понимал: его предназначение вовсе не в удовлетворении чужого голода, даже если это голод стариков Изюмовых. К уходу его подтолкнуло чудовищное событие. Однажды старик Изюмов сел за обеденный стол, разбил Прохора о вазу, очистил от скорлупы и съел с солью. В последний миг Филипп поймал взгляд Прохора — в нем плескался первобытный ужас. По белку разошлись мурашки. И Филипп решил бежать этой же ночью. Как резиновый мячик, он выпрыгнул из вазочки, пропрыгал по столу, спрыгнул на табуретку, взобрался на подоконник и сиганул в окно. На улице Филипп приземлился в мягкую траву и попрыгал куда глаза глядят, чтобы найти свое предназначение. Через два дня Филипп Курицын припрыгал в Пермь. По дороге ему встретились обжора с вилкой, голодный бродяга и дальнобойщик, которому нечем было закусить водку. Филиппу Курицыну удалось от них оторваться. В Пермь он прискакал исхудавшим и грязным. Долго жил на улице в коробке из-под фена. Связался с тремя бездомными картошками — горькими пьяницами. Дело шло к смерти Филиппа, когда его подобрал мужчина с железными зубами... Тут рецидивист Комов замолчал. Дочь дочери вскинулась в постельке: — Что было дальше, деда? Что случилось с Филиппом? Мужчина с железными зубами его съел? Рецидивист Комов улыбнулся: — Нет, не съел. Тем мужчиной с железными зубами был я. А вот Филипп... Рецидивист Комов достал из кармана желтое яйцо без скорлупы и с лицом. Дочь дочери вскрикнула. Она поразилась до глубины души. — Я уезжаю в командировку. (Комов был под следствием и ожидал ареста в любую минуту.) Ты могла бы, пока меня не будет, позаботиться о Филиппе? Дочь дочери испугалась: — Деда, может, лучше мама? — Мама заботится о тебе, ей некогда заботиться о Филиппе. Дочь дочери задумалась. Она хотела принять взвешенное решение. — Хорошо, деда. Я позабочусь о Филиппе... А что мне нужно делать? — Укладывать его вечером спать, играть с ним и каждый день кушать за его здоровье. Сам Филипп не кушает, но наедается, когда кушает его хозяйка. Это очень важно, чтобы Филипп не похудел. Держи... Рецидивист Комов протянул Филиппа дочери дочери. Девочка осторожно взяла желтое яйцо без скорлупы. — Я сделаю ему кроватку! — Конечно, сделаешь, только утром. А сейчас я положу Филиппа в карман твоего халатика, потому что у него уже глазки слипаются. — У меня тоже слипаются. — Ну, вот и спи, маленькая. Рецидивист Комов поцеловал дочь дочери в лоб, погасил ночник и вышел из комнаты. В коридоре он попрощался с дочкой и спустился на улицу. За углом рецидивиста Комова сбили с ног бойцы СОБРа, перевернули на живот и надели на него наручники.Трое в Баранятах, не считая грибов
Мы с Колей приехали в Нижние Баранята, чтобы как следует пивнуть и порыбачить. Мне было шестнадцать, а Коле семнадцать. Кому-то может показаться странным желание как следует пивнуть в столь юном возрасте, однако нам оно тогда не казалось странным. Нижние Баранята — заброшенная деревня. Она стоит на берегу Камы недалеко от Камского моря, если ехать в сторону Ильинского. Слева небольшой заливчик, справа — лес, а между ними деревня. Дома стоят заброшенными, но заброшенными не так давно, чтобы превратиться в развалины. Колин дом выгодно отличается от других. Колины родители купили его за бесценок, изобиходили и превратили в дачу, которой не смогли пользоваться. Атмосфера Нижних Баранят не располагала к отдыху. От покинутых домов веяло грустью и чем-то непонятным, как бывает на кладбище, если долго по нему гулять. В деревне стояла мертвая тишина. Представьте: кругом зелень, бликует река, светит щедрое солнце, а посреди этого великолепия стоят избы, покрытые гарью, как солдаты после сражения. Колин дом стоял первым от реки и последним от дороги. Хотя дорога — это громко сказано. То есть дорог две. Одна ведет к Баранятам, и ее уместнее называть направлением. Вторая, по которой мы приехали на автобусе, пролегает в шести километрах от деревни. В то время автобус ходил сюда строго два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Мы приехали в пятницу, а вернуться планировали в понедельник. У нас было: четыре бутылки «Гжелки», блок «Винстона», шестьдесят галлюциногенных грибов (две порции), две сигары, три банки тушенки, пачка макарон, пачка гречки, две буханки хлеба, палка копченой колбасы, стратегический запас пряников и презервативы, наличие которых объясняется только слепой надеждой. Ах да, еще были четыре бутылки «Балтики-девятки». В дорогу, для рывка, чтобы шлось веселее. С Колей мы отлично ладили. Это сейчас он дантист, склонный к самоубийству, а тогда был веселым парнем, с таким, знаете, веснушчатым лицом, что хоть вместо лампочки его вкручивай. Он был старше меня на год, но в наших отношениях верховодил я. Мне кажется, так чисто генетически получилось, потому что у меня бешеный темперамент, а Коля спокойный и рассудительный. Когда ты взрослый, хорошо быть спокойным и рассудительным, а когда ты подросток, лучше быть темпераментным и наглым, так уж устроен подростковый мир. Но в то лето я не был ни темпераментным, ни наглым. Я в пятнадцать лет полюбил девушку, а она меня не полюбила. За год эта любовь меня обглодала: я высох и сделался фаталистом. То есть много дрался, гулеванил, совершал чудачества. Например, на спор прошел по стреле башенного крана. Меня лихорадило. Я не то чтобы не мог взять себя в руки, просто руки куда-то исчезли. В деревню мы приехали лечить мою любовную тоску. Нам это решение показалось взрослым и взвешенным. Попьем, поговорим по душам, порыбачим, просветлимся грибами и тоска непременно отступит, думали мы. Автобус высадил нас на обочине в одиннадцать пятнадцать утра. Нацепив рюкзаки, мы взорвали по бутылке «девятки» и пошли сначала полем, потом лесом, затем просекой, потом снова полем и через час вышли к Баранятам. Вокруг происходил июль. Пахло чем-то приятным, известным только биологам. После второй бутылки «девятки» я был в игривом настроении, и поэтому деревня мне понравилась. Я нашел ее страшноватой, но страшноватой как в плохих ужастиках, где и грим топорный, и развязка не интригует. Прошагав по единственной улочке, мы с Колей зашли в дом. Дом как дом. С наличниками. Сени, русская печь, окна смотрят на реку. Еду, конечно, можно в печи готовить, но мы же не есть сюда приехали. Струганули колбаски, навертели бутербродов, дали по сто. Закурили не спеша. Когда тоска, когда забыть кого-то надо, курить полагается жадно, пить залихватски (я свою стопку с локотка накатил), а говорить громко и матом. Мат отмывает пафос и как бы снижает накал трагедии, что спасительно, когда этот накал невыносим. Например, можно сказать: знаешь, я люблю ее, и, видимо, это конец. А можно вот так: ебаный ты в рот, в бога душу мать! Или: у меня такое чувство, что самое главное в моей жизни уже произошло. А лучше: ебись оно все конем! Или: стоит только закрыть глаза, и я сразу вижу ее. Однако много лаконичнее иначе: это пиздец, Колян. Когда мат и бутылка иссякли, мы легли спать. Было восемь часов вечера. Утром мы отправились в грандиозное путешествие — переплывать на лодке Камское море. Собственно, ради этой мореходки мы и купили сигары. Сигары полагалось выкурить на том берегу в торжественном молчании. Веспуччи и Колумб на отдыхе. Так нам рисовалась эта картина. На деле мы еле выползли из лодки, так тяжело далась нам трехчасовая гребля. Свою сигару я зажигал дрожащей рукой. В то утро я впервые понял, что физические нагрузки отвлекают от душевных мук. Я совсем не думал о девушке, а думал о жратве, которая осталась в доме. Несмотря на голод, в обратный путь мы отправились не сразу. Руки требовали роздыха. В каком-то смысле они вступили в страшное противоречие с желудком и целый час его побеждали, а потом проиграли в один момент, стоило нам заговорить про колбасу. В дом мы буквально ворвались. То есть сначала мы попеременно гребли и вслух вожделели пряники и колбасу, а потом уже ворвались. Сразу кинулись к продуктовой сумке. Я хотел сладострастно разорвать упаковку пряников зубами. Голод как бы подхлестнул мой иссушенный любовью темперамент. Полный рот слюней, представляете? Продуктов в сумке не оказалось. Их нигде не оказалось. При этом водка стояла на столе. Не знаю, что чувствовал по этому поводу Коля, но меня обуял мистический ужас. В деревне кто-то был, хотя в деревне быть не могло никого. Идти по домам сразу мы не решились. Коля где-то вычитал, что водка очень калорийный продукт. Ей мы и решили пообедать. Обедать водкой на голодный желудок в шестнадцать лет — не самая лучшая идея. И в семнадцать лет тоже. Нас развезло с полбутылки. Причем развезло не как-то зло и деятельно, а тупо сморило в сон. Проснулись мы в темноте. Спросонья мне показалось, что в углу кто-то стоит. Я вскрикнул и разбудил Колю. За окном чернела субботняя ночь. Еды не было никакой. До автобуса оставалось тридцать шесть часов. Две с половиной бутылки водки синели этикетками на столе. Нам предстояло прошерстить избы и отыскать человека, который стащил наши запасы. Без фонарика эта идея казалась малопривлекательной. После трудных раздумий мы решили вооружиться. Я взял топор, а Коля — кухонный нож. Тут я вспомнил про галлюциногенные грибы. Они лежали в кармашке сумки, в майонезной банке, мелко нашинкованные. Грибы тоже исчезли. Интересно, человек, который их украл, знает, что это такое? Потому что если он не знает, что это такое, то вполне может сойти с ума. Или поджидать нас с топором, насмерть перепуганный галлюцинациями. Страх сцепился с голодом, как недавно воевал с усталостью. Компромиссом выступила водка. Факт ее калорийности не давал нам закрыть на нее глаза. Через полчаса на столе осталось две целых бутылки. Мне надоело бояться. Чего бояться, когда она меня не любит, в самом-то деле? Вскинув топор, я выскочил на улицу и ворвался в ближайшую избу. Коля не отставал. Он вроде как прикрывал мою спину. Мы были командой. Чак Норрис и Жан-Клод Ван Дамм ищут злодея. В деревне было восемь домов. Семь из них однозначно пустовали. Восьмой дом стоял на отшибе возле самого леса. Человек, укравший нашу еду, мог быть только там и нигде больше. У нас с Колей возник спор. Коля считал, что нельзя врываться в дом, если там кто-то живет. Я считал, что врываться можно, потому что мы хотим жрать. В итоге мы решили сначала заглянуть в окна. Осторожно подкрасться и заглянуть в окна. Окон в доме оказалось два: одно со стороны деревни, другое со стороны леса. Мы решили разделиться. Как темпераментный человек с топором я взял на себя лесное окно. Коле досталось окно деревенское. То ли потому, что изба стояла на фоне темного леса, то ли потому, что мы точно знали: вор притаился там, — но она казалась нам особенно мрачной. Лично я думал про вампиров, мавок и вурдалаков, когда обходил избу по дуге, чтобы подойти к своему окну. Я ступал очень осторожно, стараясь ничем не выдать моего присутствия. В голову лезла дребедень из голливудских фильмов про не вовремя хрустнувший сучок. Сучок не хрустнул. Я вплотную приблизился к окну. Сжал топор покрепче. Сделал последний шаг. Приподнялся на цыпочках. В это самое мгновение тишину пронзил Колин крик, в котором не было ничего человеческого. Я бросился к другу со всех ног. Я понимал, что иду на верную смерть, но не идти не мог. Пусть. Отмучился, значит. Вампиры все-таки. Или вурдалаки. Или мавки. Я молнией вылетел из-за угла, на ходу вскинув топор над головой, и... остановился как вкопанный. Рядом с крыльцом лежал Коля. Нож валялся в метре от него и поблескивал. Под Колей лежала бабка в пестром платке. Она безумно вращала глазами и бормотала: «Черти, ироды хвостатые! Помилуйте мя! Не буду больше еду воровать! Уйди! Уйди, кому говорю!» Короче, я сразу понял, что бабка наелась грибов. Пришлось ее связать и налить ей стакан водки, а то бы она спятила. Наши продукты лежали в избе почти нетронутые. Бабка выскочила на Колю, когда он подходил к окну. Если б она выскочила на меня, я бы сначала ударил топором, а потом уже стал разбираться. Хорошо, что Коля спокойный и рассудительный. С бабкой вообще оказалась интересная история. Старуха живет у сына в Перми, но постоянно сюда сбегает, потому что раньше жила в Баранятах. Сын, понятное дело, ее тут же возвращает. А в этот раз он с семьей уехал на юг. Бабка этим воспользовалась, запаслась продуктами и приехала на родину. Только вот с продуктами чуть-чуть не рассчитала. В понедельник собиралась домой. Два дня всего не дотянула. Наш приезд она проморгала. То есть тоже думала, что деревня заброшена, но на всякий случай по избам прошлась. А тут наша сумка с едой. Голодный человек не задается вопросом, откуда в заброшенной деревне сумка с едой. Голодный человек еде радуется и ест. Например, обжаривает грибочки с макаронами. Только к утру бабку отпустили галлюцинации. Крепкая оказалась старуха. Коля говорит, сейчас таких не делают. Не знаю. Бабке заметно полегчало, когда мы рассказали ей про волшебные свойства грибов. Воскресенье мы все втроем преспокойно прожили на наших запасах. Я выудил двух сорожек. Коля изловил на спиннинг жирного окуня. Накупались. Позагорали. А в понедельник рано утром уехали в Пермь. Бабка, понятное дело, уехала с нами. Ах да! Любовная тоска меня подотпустила. Не знаю. Хорошо ведь, что я так сильно любил, пускай и безответно? А потом снова накрыла. А потом отпустила. И опять. Семнадцать лет уже. Не хочу об этом говорить. Это ведь страшная пошлость — безответно любить девушку столько лет.Сарай
1994 год. Пермь. Кислотные дачи. Двухэтажный домик на Доватора. Двор. Шеренга почерневших от времени сараев. Самодельная песочница. Скрипучая качель. Если глянуть на двор сверху, то увидишь квадратное лицо: угловой дом с одного бока замыкают сараи, с другого — особняк богачей Новоселовых, а две лавки, каждая у своего подъезда, напоминают глаза. Сейчас эти «глаза» облупились после зимы, отчего стали разноцветными, потому что в прошлом году их красили синим, в позапрошлом — красным, а еще раньше — желтеньким. Я это знаю, потому что красил лавки собственноручно, вместе с Виктором. Виктору восемьдесят два года, и он живет в нашем доме с незапамятных времен. Он ровесник моей прабабки и родился за пять лет до революции. В доме его никто не называет по отчеству, потому что Виктор этого не любит. Обычно, когда проклюнется весеннее солнце, он выходит на лавку и целый день курит папиросы и пьет крепкий чай из железной кружки. Виктор — пересидок. Почти всю свою жизнь он провел в лагерях. В 1942 году ему было тридцать лет, когда прямо из лагеря его призвали на фронт. Виктор служил в армии Константина Рокоссовского и, как он говорит, «хлебнул горячего до слез». После войны Виктор снова сидел. Он сидел при НЭПе, Сталине, Хрущеве и Брежневе. Последний раз он освободился в 1980 году и поселился в нашем доме. Когда Виктор не пьет чай и не курит, он беседует с дворовыми пацанами, потому что мы любим его слушать, ведь он знает много интересных историй. А еще он помог моему папе. Осенью наша лайка Буран заболела чумкой. Пес заразился от овчарки Карины, которая жила в соседнем сарае, за стенкой. Мы все — и я, и папа, и мама, и сестра, и бабушка, и дедушка, и тетя — очень любили Бурана. А знакомый врач сказал, что его не вылечить. А потом Буран стал страшно выть на весь двор вместе с Кариной. Он выл весь день, а вечером папа достал охотничье ружье, сел на диван и заплакал. Тут в комнату вошел Виктор, потому что тогда двери еще никто не запирал. Он сел рядом с папой, потрепал его по плечу, взял ружье и ушел. Через пять минут во дворе прогремело два выстрела. Бурана я больше не видел. Папа говорит, что похоронил его в лесу под красивой березой. Он специально ездил на Чусовую, где набрал булыжников, чтобы навалить их на могилу. Прошлой весной богач Новоселов построил в нашем дворе сарай. Беленький, из свежей древесины, большой и просторный. Этот сарай стоял особняком от наших сараев и был самой симпатичной подробностью двора. Мы любили забираться на его крышу и крутить сальто в сугробы, потому что это единственная крыша, которая точно не обрушится. Новый сарай полюбился и Виктору. Он никому об этом не говорил, но иногда подходил к нему, гладил синей рукой доски, обходил вокруг, задирал голову и восхищенно цокал языком. Через год, то есть той весной, о которой рассказываю, в наш двор пришел Новоселов. Он сказал, что продает коттедж и сарай и уезжает к родственникам в Канаду. На коттедж покупатель уже нашелся, а вот сарай пока свободен. Типа — налетайте! В тот же вечер Виктор надел пиджак и пошел к Новоселову. Он должен был купить этот сарай, хотя и плохо понимал, зачем тот нужен. Хранить в нем Виктору было нечего, а мастерить он не умел. Наверное, Виктор собирался просто сидеть возле него или в нем, как люди сидят возле ротонды или в ней самой. Ему хотелось этот сарай, как мальчишке хочется мотоцикл, даже если ездить еще рановато. Назад Виктор вернулся багровым и злым. Он предложил Новоселову сто рублей, а Новоселов рассмеялся и сказал, что там только гвоздей на сто пятьдесят. Виктор сел на лавку, закурил и стал думать, где достать еще триста рублей, потому что Новоселов сказал, что дешевле четырехсот не отдаст. Я тогда гулял в песочнице, а когда увидел Виктора, то подсел к нему. Он не любил разговаривать со взрослыми, а с детьми разговаривал охотно. Так я узнал, что Виктор хочет купить сарай, но у него нету денег. А Новоселов — гнида, потому что мог бы и за так отдать, все равно в Канаду уезжает. Эту новость я рассказал родителям за ужином. Папа симпатизировал Виктору и решил дать ему сто рублей. Но ста рублей было мало, и тогда он пошел к соседям и рассказал им про сарай. Соседи дали пятьдесят. К ночи отец насобирал нужную сумму. Когда он вышел из подъезда, чтобы вручить деньги Виктору, то увидел, что сарай горит, а сам Виктор стоит неподалеку и глядит на пожар. Сарай сгорел дотла. Тушить его было поздно. Вскоре Новоселов уехал в Канаду. А отец рассказал Виктору про деньги, и пока он рассказывал, тот все жевал губы и изжевал их до крови. Но деньги не пропали и назад розданы не были. На эти деньги мой папа и дворовые мужики купили доски и построили новый сарай для общих нужд. Виктор все лето мог там просидеть, попивая чаек и пуская колечки в потолок. А потом мы переехали на Пролетарку, а Виктор умер. А сарай тот до сих пор во дворе стоит. Почернел весь, просел, но крепкий еще. Мокрушинский его называют, потому что у Виктора Мокрушин фамилия была.«Весенний вальс» под картошку
Пятница. Вечер. Наши дни. Где-то в утробе Закамска Виталий забросил мешок картошки на плечо и побрел на пятый этаж. Он был грузчиком-экспедитором и немножко дурачком. В семнадцать лет Виталий занемог дышать, а поход по врачам выявил шизофрению. Полугодовое лечение галоперидолом на Банной горе не помогло. Только через три года выяснилась правда: шизофрении нет, есть смещение позвонков. Пройдя трехмесячный курс у мануального терапевта, Виталий вернул себе кислород. Правда, Виталий почему-то перестал играть на пианино, решать уравнения, сочинять стихи, читать книги. А еще прежде общительный парень наглухо замолчал. Собственно, именно в силу всех этих обстоятельств он и стал грузчиком-экспедитором. Работал Виталий три раза в неделю. Высокий и крепкий, он разгружал «бычок». Рано утром парень приезжал на рынок в Заостровку, где грузил в машину четыре тонны овощей. Потом он отправлялся по адресам, потому что работал в конторе, которая занималась доставкой продуктов на дом. Рейс начинался в девять утра, а заканчивался около одиннадцати. Виталий зарабатывал две тысячи рублей за один такой выезд. Ему нравилось колесить по Перми, запоминать улицы, вглядываться в проносящиеся автомобили. Внешне он был обычным молодым человеком, а вот внутри происходило интересное. Интересное происходило на фоне молчания и напоминало всплеск. Иногда это была музыка, которую Виталий когда-то играл собственными руками. Иногда обрывки уравнений, химические формулы, заковыристые теоремы. Иногда просто бывшая подруга, и как они гуляли по набережной, сочиняя будущее. Эти всплески парень наблюдал сосредоточенно, будто силился ухватить рыбу, всплеск породившую. Ухватить рыбу никак не удавалось. Редко всплеск следовал за всплеском. В такие минуты Виталий впадал в ступор и мог пробыть внутри себя целый час. Поднявшись на пятый этаж, парень скинул мешок на пол и позвонил в дверь. Из квартиры доносилась музыка — русская попса. Виталий поморщился и снова нажал кнопку звонка. Дверь открыла женщина. Она выглядела одутловатой и чуть-чуть пьяной. — Тебе чего? — Картошку привез. — Какую картошку? — Белую. Красноуфимскую. — Бабка, что ли, заказала? — Наверно. Мое дело привезти. — Ладно. Тащи на балкон. Разберемся. Виталий вскинул мешок на плечо и вошел в квартиру. Миновал полутемный коридор. Протиснулся в гостиную. На диване за журнальным столиком выпивали трое: женщина и двое мужиков. Один мужик был крепким и лысоватым. Второй, наоборот, тощим и патлатым. Женщина выглядела изможденной. Сквозь жидкие волосы просвечивал череп. Напротив дивана, у стены, стояло пианино. Пока Виталий устраивал мешок на балконе, троица громко обсуждала появление грузчика-экспедитора в самых красочных выражениях. Кто-то выключил магнитофон. Хозяйка квартиры стояла возле балкона и молча наблюдала, как парень возится с мешком, который надо было уложить между банок. Закончив, Виталий снял перчатки и вернулся в комнату. — Сколько с меня за картошку? — Тысяча рублей. Женщина обернулась и обратилась к лысоватому: — Тыщу надо. За картошку отдать. — И чё? — Ничё. Давай деньги. — Ты совсем охуела, Светка! Нету у меня. — Ты гонишь, что ли? — Твоя бабка заказала, вот пусть и башляет. — Витя, ну не начинай, а? Она же в больнице. Ну, Витя? — Хуитя! Будешь ныть, я те щелкну, ясно? Тут к разговору подключилась изможденная женщина. — Ты забурел, Витек. Картофан — это святое. Отдай человеку деньги, и давай пить. — Вы чё, соски, сговорились? Нету у меня денег! Витя хохотнул, толкнул патлатого друга плечом и проговорил: — Вот ведь бабы настырные, а? — Определенно, определенно. Однако хозяйка квартиры от Вити не отстала. — Слышь, Витек. Ты здесь живешь, пьешь, спишь со мной каждую ночь. Ты мой гражданский муж, если чё! — И чё? — И чё! Оплати картошку. Хорош вилять. Сколько можно человека задерживать. Неудобно. — Неудобно на потолке ебстись. Остальное — нормалек. Ты мне за гражданского мужа даже не прокидывай, поняла? Знаю я, чем ты за моей спиной занимаешься. — И чем я там занимаюсь? — Блядуешь, дрянь. — Молчал бы лучше, кобель проклятый! Я девушка верная, порядочная. Такими глупостями не занимаюсь. Тут изможденная будто бы не выдержала и захохотала. Хозяйка мгновенно окрысилась: — Чё ты ржешь, Людка?! Дура набитая. Ржет она... Заплати за картошку, Витя. Быстро заплати, я сказала! Хозяйка квартиры перешла на высокочастотные звуки и швырнула в мужика стакан. Тот увернулся, вскочил, схватил женщину за руки и проорал прямо ей в лицо: — Отъебись, мать! Изможденная и патлатый бросились их разнимать. Началась свалка и крики. Виталий, который еще в самом начале ссоры ощутил всплеск, вдруг сел за пианино и поднял крышку. Робко коснулся пальцами клавиш. Сначала черных, а потом белых. Всплеск следовал за всплеском, и он уже ничего не слышал, кроме музыки, звучащей внутри. Тряхнув головой и будто бы решившись, парень заиграл «Весенний вальс». Поначалу его пальцы были вялыми, как после наркоза. Но чем дольше он играл, тем сильнее они становились. Когда Виталий закончил, в комнате повисла тишина. Спорщики сидели на диване и смотрели на музыканта во все глаза. — Ты, это самое, маэстро! — Это что было? Моцарт, да? — Охренеть. А я все думал: зачем оно здесь стоит? — Витя, заплати уже за картошку, я тебя умоляю. — Блин... Ну нету у меня! Нету, понимаешь? Пятихатка всего. И никакая музыка этого не изменит. Вдруг патлатый внес предложение: — У меня есть пятихатка. Давай мешок на двоих возьмем, да и все. Так приятели и поступили. Через пять минут Виталий сел в «бычок» и поехал дальше. Конечно, его не исцелила та игра на пианино. Зато теперь он играет на нем регулярно, и Виталию хорошо. А хорошо — это немало. Хорошо — это уже кое-что.Чужая кровь
Пермь. 2005 год. Витя Альбатросов проснулся в кровати ранним утром понедельника. За окном занимался жидкий рассвет. В ногах лежал толстый кот. По части жара (да и жира) он крыл рассвет по всем фронтам. Едва проснувшись, Витя ощутил страшную головную боль. Обыкновенно Витя жил просто с головной болью, потому что имел семь зарегистрированных сотрясений мозга. Последний врач рассматривал снимки Витиной головы с таким видом, будто мозг на них отсутствовал. Сейчас боль была действительно страшной. Витя попал в замкнутый круг. Он пил, чтобы боль прошла, и грыз зубы по утрам, потому что возвращалась она с утроенной силой. Анальгин и кетанов ему не помогали. На морфий у Вити не было рецепта. Плюс, как и многие бывшие боксеры, парень презирал наркотики. Утренние боли пугали Витю. Боль как бы жила по нарастающей: кто-то невидимый бросал в голову камень, а от камня расходились круги, захватывая шею, плечи, спину. В такие минуты Витя всякий раз пытался возобновить сон, но сон никогда не возобновлялся. Грелка, пересчет овечек, звуки живой природы, пустырник — ничто не могло помочь парню вернуть сон. Жутко скрипнув зубами, Витя отбросил одеяло и выпростал ноги из-под кота. Он уснул в одежде. Не кот — Витя. Вся его одежда была заляпана кровью. Кровь была темной, какой-то бурой и походила на венозную. Она буквально перекрасила джинсы и футболку. Ее появление терялось в беспамятстве пьяной ночи. То есть Витя не помнил не только драку, он не помнил вообще ничего. Кот шмыгнул в кресло. Витя привстал. Ощупал себя руками. Опустил ноги на пол. Стянул футболку. Тяжело снял джинсы. «А если не драка? А если сто пятая?» Мысль об убийстве повергла парня в шок. Похмельный страх ухватил за глотку. Очень быстро Витино состояние стало античеловеческим. Спасаясь, он придумал план. Во-первых, загрузить окровавленные вещи в стирку. Во-вторых, собрать сумку на случай ареста. Если ехать в СИЗО, то хотя бы с чаем и сигаретами. В-третьих, выяснить, откуда кровь. Точнее, что случилось прошлой ночью. Четвертым пунктом был пункт психологический: не бояться домофона, телефонных звонков, элементарно выйти на улицу. Первые два пункта Витя выполнил легко. Даже больноголовый человек способен включить стиральную машину и положить чай, конфеты, сигареты в рюкзак. От четвертого пункта Витя отказался, потому что как не бояться-то, когда со всех сторон конкретная неизвестность? Третий пункт напоминал огромный пластырь размером с тело, который надо было сорвать, но можно было и не срывать, то есть — не торопиться. К сожалению, в Витином случае «не торопиться» означало «ждать». Ждать было тем более сложно, ведь убедить себя в винном происхождении пятен парень не смог. Футболка и джинсы пахли кровью. Не спиртом, не кислинкой какой-нибудь, а именно металлом и животинкой, что не носом даже ощущается, а чем-то другим. Не решаясь выйти на улицу или хотя бы позвонить друзьям, Витя откупорил бутылку «Балтики» и стал гадать, кого бы он мог убить. На второй бутылке головная боль откатилась к прежнему градусу. По здравому рассуждению, Витя мог убить кого угодно. Конечно, скорее всего, это был мужик. Или зловредная женщина. А может, он убил собаку, которая на него напала? Вскочив, парень проверил нож. Тот лежал в джинсовке и был совершенно чистым. Костяшки! Кулаки. Должны же остаться хоть какие-то следы! Оглядев руки, Витя следов не нашел. Раздевшись догола, он завертелся перед зеркалом. Ни синяков, ни царапин. Чисто. Все эти операции взволновали парня. Либо он сработал очень уж профессионально, либо... Второе «либо» никак не приходило на ум. Либо ибо. Конкретная неизвестность уложила Витю в кровать. Телефон лег рядом. Парень понимал, что надо звонить, но боялся. Решившись, он набрал номер кореша Вадяна. Полминуты его оглушали гудки. Наконец в трубке раздался сонный голос: — Ну чего? — Вадян, пт. — Витя, я сплю... — Я быстро. Чё вчера было? — Да ничё. Пробухнулись у «Агата» и по домам пошли. — Я весь в крови проснулся. Махались с кем-то? — Нет. Витя, давай потом поговорим... — Откуда у меня тогда кровь? — Не знаю. Ты с Игарой уходил. Ему позвони. Сбросив Вадяна, Витя набрал Игару: — Привет, Игорь. — Какого хера, Витя? Семь утра! — Да знаю, знаю. Мы с тобой вместе вчера домой шли? — Вместе. Что случилось? — Я в крови проснулся. Весь. — Офигеть. Мы никого не били. Не знаю, где ты вляпался. Может, это не кровь? — Кровь. — Хм... Ты с Гусем у подъезда оставался, когда я ушел. Наверное, его и отмудохал. — Гусь мусориться не будет. — Не будет. Зайди к нему. Я правда не в курсе, где ты назехерил. Витя сбросил вызов и долго сидел на табуретке в коридоре, щурясь на дверь. Выйти из квартиры было сложно. Вдруг там засада мусорская? Или труп? Гусь, например? Гусь был алкашом и ничтожеством (это не всегда синонимы). Сидеть за него Вите казалось особенно обидным. С другой стороны, лучше уж за Гуся зону топтать, чем за хорошего человека или, упаси Бог, женщину. Мысль о мертвом ребенке лежала на самом донышке Витиного сознания и тихо его разлагала. Витя вышел из квартиры крадучись. Он жил на восьмом этаже, а Гусь на девятом. Следов «кровавой бани» в подъезде не обнаружилось. Перепрыгивая через две ступени, Витя взлетел наверх. Вдавил кнопку звонка. Он только вышел крадучись, а потом как бы бросился в омут. Дверь открыла тетя Галя. — Чего тебе, Витя? — Мне бы Сашку... — В больнице Сашка. Ночью на «скорой» увезли. Витя ощутимо вздрогнул. «Все-таки Гусь. Вот я урод!» Парня накрыли противоречивые эмоции. С одной стороны, он был рад, что все прояснилось. С другой — Гуся было жалко. — А что случилось? Избил кто-то? — Да кому он нужен. Панкреатит обострился. Нельзя же так жрать с панкреатитом. Из Вити точно выпустили воздух. Когда безумный мир обретает стройность, а потом ломается опять — это больно. — А точно панкреатит? Может быть, еще и избили? Все вместе? Тетя Галя была неумолима: — Панкреатит, панкреатит... А тебе Сашка зачем? — В футбол хотел позвать. Народ набрать не могу. Ладно. А куда его увезли? — Одиннадцатая медсанчасть. Хирургия. Навестить хочешь? — Не знаю. Если в Закамск поеду, так загляну. — Там на вахте фамилию назовешь и отделение, тебя направят. — Хорошо. Пойду... До свидания. — Пока. Вниз Витя ссыпался. Он торопился навестить Гуся, чтобы вызнать у него про свои похождения. Он уже ничего не боялся, а тупо злился на проклятую неизвестность и самого себя. Мужчина, женщина, ребенок — плевать! Лишь бы узнать правду. Тут Витя подумал о поездке на автобусе и содрогнулся. Нафиг. Надо найти машину. Машина была у Игары, но тот маялся похмельем. Зато его закодированный брат точно был огурцом. Витя позвонил: — Игара, у тебя брат дома? — Еб твою мать, Витя! Я сплю. — В больницу надо съездить. Узнать у Гуся, чё там было вообще. Меня же закрыть могут, Игореха. Закрыть, понимаешь? — Слушай, если бы ты что-то серьезное накосорезил, тебя бы уже приняли. Кто-нибудь подрался на районе, а ты в лужу упал. Вот тебе и кровь. — Где упал? Я с тобой до дому почти дошел. Крови не было. Ты говоришь, я стоял с Гусем. Получается, что я испачкался или с Гусем, или куда-то от него ушел и там испачкался. Гусь может что-то знать. Надо к нему ехать. Игорь вздохнул: — Куда ехать? — На Победу. В одиннадцатую медсанчасть. — Понятно. В ебеня. — Ты мне друг или нет? — Да друг, друг... Щас брата сгоношу. Через полчаса спускайся. В восемь утра Витя, Игорь и брат Игоря Антон рванули в больницу. В дороге они строили догадки о происхождении крови. Игорь: Может, ты собаку хоронил? Витя: Чего?! Игорь: Поезд собаку переехал, а ты хоронил. Железка рядом. Может, ты на станцию поперся? Витя: На станцию я мог пойти. Но зачем мне хоронить собаку? По-моему, логичнее, что я кого-то отмудохал. Антон: Логичнее-то логичнее. Но ты ведь говоришь, что крови очень много. Значит, ты дрался жестко, с двух рук засаживал. А руки целые. Как такое возможно? Витя: Не знаю. Может, я ногами бил? Игорь: Ты боксер, а не кикер. Отпадает. В салоне повисло молчание. Антон сосредоточенно вел автомобиль. Игорь курил. Витя вглядывался вглубь себя. Антон: А как вообще человек может испачкаться кровью, если он ни с кем не дрался? Игорь: Он мог помогать раненому. Или принимать роды. Или... Антон: Вот и я о том же. Витя: Харе. Я щас с ума сойду. Доедем до Гуся и у него все узнаем. Антоха, навали музон. Хриплый голос Наговицына заполнил салон. Свернув на Ардатовскую, друзья подъехали к больнице. Игорь: Сходить с тобой или один пойдешь? Витя: Пошли со мной. А ты, Антоха, будь в машине. Мало ли, когти рвать придется. Антон: Даже так? Витя: А кто его знает. В медсанчасти было безлюдно. На вахте сидела бабушка и разгадывала сканворд. — Мы к Александру Калиничеву. Хирургия. — Щас посмотрим... Его перевели в физиотерапевтическое отделение. Тридцать первая палата. Витя и Игорь поднялись на третий этаж. Нашли палату. Постучались. Вошли. Палата была рассчитана на шесть человек. Две кровати пустовали. Гусь лежал у окна. Из его руки торчала капельница. — Ба! Витек, Игара! Каким ветром? Гусь попытался воскликнуть это уверенно, но у него не получилось. За бравадой легко угадывался страх. Витя сел на подоконник и уставился на Гуся долгим взглядом. Игорь сел на стул с другой стороны кровати. Гусь: Чё молчите-то? Я тут ни при чем! Витя: К чему ты ни при чем? Гусь: Ко всему. Игорь: Хорош пургу нести. Ты ночью с Витей у подъезда стоял? Гусь: Ну, стоял. Витя: А что дальше было? Куда я пошел? Гусь: Ты не помнишь, что ли? Витя: Не помню. Игорь: Тебя не должно волновать, помнит он или нет, отвечай на вопрос. Гусь: Так чё отвечать-то? Постояли, покурили, попиздели. Я домой ушел. К нам еще Аркаша Шанхайский подрулил. Ты с ним про головную боль трындел. Лечение, там, народные средства. А я дома пельменей с уксусом поел, и меня прихватило. Мамка «скорую» вызвала. Игорь: Ага, именно поэтому тебя и прихватило. Скажи, а Витя чистым был или как? Гусь: Нормальным. Как все. Витя: Аркаша Шанхайский точно подходил? Гусь: Да точно. Бля буду ваще. Витя: Ладно. Выздоравливай, Гусь... Пошли, Игара. Антон встретил пацанов вопросительными глазами. Антон: Ну, чё там? Откуда кровь? Витя: Хер его знает. Поехали к Аркаше, в Шанхай. Антон: К нему-то зачем? Игорь: Витя с ним оставался, когда Гусь домой свалил. Аркаша — наш последний свидетель. Витя: Не факт. Может, я от него тоже куда-нибудь ушел? Антон: Ты как колобок. Ото всех ушел. Игорь: Да не... Распутаем клубочек. Витя: Езжай мимо моего дома — мусоров посмотрим. Милиции у дома не оказалось. Там вообще не было машин, потому что все уехали на работу. Проехав по центральной Пролетарской улице, Антон свернул к частному сектору, или Шанхаю. Аркаша жил в последнем доме слева от дороги. Он был остепенившимся пересидком с женой и скотиной. Антон: Я с вами пойду. Витя: Пошли. Игорь: Ну да, узнаем правду! Все трое подошли к деревянным воротам и забарабанили изо всех сил. Неожиданно ворота распахнулись. Антон вскрикнул. Игорь выругался. Витя побледнел. Весь двор был залит кровью. Она расползлась по дощатым мосткам, впиталась в дерево, расхристала себя по низенькой лавке. Антон: Это чё, блядь, такое? Игорь: Витя, ты, походу, Аркашу кончил. Антон: Тут чё-то очень много крови. Может, ты и жену его убил? Витя: Вы ебнутые, что ли? Не мог я такого сделать. Игорь: Это, кстати, объясняет, почему мусора тобой не заинтересовались. Они пока просто не в курсе. Антон: Даже на лавке, посмотри. Витя не выдержал. Его нервы сдали. Он упал на колени и страшно заорал: — Аркаша! Я не хотел! Господи, я ничего этого не хотел! Игорь: Хорош блажить. Надо осмотреть дом. Трупы, наверное, там. Антон: Я не пойду. Я в машине посижу. Нафиг надо. Тут из дома нетрезвой походкой вышел Аркаша. Если бы из дома вышел Иисус Христос, удивление вряд ли было бы большим. Двор погрузился в молчание. Аркаша: Витюня, братко! Вернулся все-таки. Молодец. Щас нацежу. Аркаша скрылся в доме, но через минуту вышел. Перед собой он нес граненый стакан, до краев наполненный красным. Аркаша: Пей. Только в этот раз не блюй, а пей. Витя: Что это? Аркаша: Кровь свиная. От головной боли. Ты чё? Мы ж вчера вместе Марфу кололи. Игорь: Кого вы кололи? Аркаша: Хрюшку мою. Неловко вышло. Не упала с удара-то. Насилу добил. Весь двор, вишь, кровью перепачкала. А Витька едва глотнул, давай блевать. Упал еще, пока Марфу ловили, упокой Господь ее душу. Игорь: Просто для протокола. Витя от тебя весь в крови убежал? Аркаша: Как есть весь. Как тут без крови убежать, если она везде? Витю вырвало. Антон похлопал его по спине. Игорь: Кровь мы пить не будем, Аркаша. Ты уж нас извини. Давай. Будь здоров, скотопромышленник. Игорь взял Витю под локоть и посадил в машину.Антон сел за руль и повел автомобиль на Пролетарку. Игорь: Витя, я даже не знаю, как на это реагировать. Антон: А мне хрюшку жалко. Игорь: С другой стороны, тебя точно не посадят... Может, нажремся? Витя: Нет. Я больше не пью. Я баул в зону собрал. Я думал, что ребенка убил. Игорь: Может, и убил. Витя: Чего?! Игорь: Аркаша ведь тоже бухой был. Может, ты проблевался и убежал, а кровью в другом месте испачкался? Витя: Антон, останови машину. Игорь: Да шучу я, Вить. Антоха, не останавливай. Витя: Антон, отвези меня домой. У дома Витя холодно попрощался с пацанами и поднялся в квартиру. Пошли они все! Никого он не убивал. Аркаша-мудак подложил свинью. Сука пьяная. Ладно. Надо душик принять, зубы почистить, похавать, глядишь, жизнь и наладится. Непринужденно насвистывая, Витя достал полотенце и зашел в ванную. Отдернул занавеску. В ванне лежал полуразделанный труп незнакомого мужчины. Шучу. Никого там не было. Вообще.После сексуальной революции
2009 год. Восьмое августа. Комсик. Общага. Я проснулся с конкретного бодуна и лежал смирно, чтобы не нагнетать. Голым проснулся, потому что август и жара страшная. Тут затренькал телефон. На дисплее высветилось имя Марина. — Жалуйся, Марина. Из трубки донеслись всхлипы. — Эй? Ты плачешь? Что случилось? — Я беременна, Олег! Я... я... Я не знаю, что мне делать! Пленка похмельного пота, которая покрывала меня с головы до ног, подернулась холодком. Я сел. Голова взорвалась болью. — Как беременна? — Вот так! Две полоски. — Какие полоски? Я не нюхаю, ты же знаешь! — Да не эти полоски. На тесте полоски. Писаешь на палочку, а результат в виде полосок. Одна — не беременна, две — беременна. — А у тебя две? — Две. — Ясно. А тест немецкий? — Откуда я знаю! Какая разница? — Огромная, Марина. В таких делах только немцам можно доверять. Вот я, например, пользуюсь немецкими презервативами «Дюрекс». Найдешь немецкий тест — тогда звони. — А если немецких нет? — Ну, на нет и суда нет. — Так ребенок-то все равно родится! — Не факт. Все, Мара. Ищи тест. Я сплю. Я сбросил вызов и растянулся на диване. Бред какой-то. Это физически невозможно. Я коробку презервативов в карты выиграл. Я ими уже три года ежедневно предохраняюсь. Для меня презерватив надеть — как руки помыть. Снова зазвонил телефон. Я думал, это Марина, и не глядя ответил: — Марина, ну чего? — Это Даша. Какая Марина? Ты вообще офигел? — Даша, прости. Марина — это моя тетя. Из Америки должна позвонить. — Тетя, значит? — Тетя. — Хорошо. У меня для тебя новость. — Излагай. — Я беременна. Ты станешь отцом. Я замолчал. Что за херня творится? — О’кей. А ты как это поняла? — Сделала тест. — Это когда на палочку надо писать? — Да. — А тест — он немецкий? — Щас посмотрю. Да, немецкий. Из Леверкузена. — Может, подделка? — Да нет, точно немецкий. — Хорошо. Повисло молчание. — И все? — А чего ты хочешь? — Ну, нам надо определяться. — Как это? — Создаем мы семью или не создаем? Как быть с ребенком? Где мы будем жить? Роддом выбрать, не знаю... — Стоп-стоп-стоп! Ты уверена, что отец я? — Конечно. У меня больше никого не было. — В таком случае это очень странно, потому что я точно помню, что предохранялся. — И что? Презервативы не дают стопроцентной гарантии. Микротрещинки достаточно, чтобы сперматозоид просочился. А мы с тобой очень интенсивно это делали. Ну, в смысле трения. — Интенсивно, да... Поженимся, значит, да. Конечно. Почему бы и нет? Мне надо только кое-что уточнить. Я не вполне уверен про Леверкузен. Давай я тебе перезвоню? В четверг нормально будет? С утра прямо? Ты пропадаешь, Даша! Пока. Я сбросил вызов и лег лицом на подушку. Аборты! Есть же аборты! Как я мог про них забыть. Миленькие, славненькие аборты! «Все на аборт!» — таков отныне мой девиз. Телефон зазвонил в третий раз. Оксана. С ней я уже три месяца не спал. Чего ей вообще надо? — Окси-детка, привет! — Привет, сладкий! Помнишь, мы переспали в мае на дискотеке? — Твоя попка до сих пор стоит у меня перед глазами. — Ты прелесть! Так вот, я беременна. — Они там что, в «Дюрексе», с ума посходили? — Ты обкуренный? — Нет! Аборт. — Чего? — Ты должна сделать аборт. — Я не хочу аборт. — Как это? — Дети прикольные. Хочу рожать. — Дети не прикольные. Сартр не рожал, Эйнштейн не рожал, Бертран Рассел не рожал. Даже Достоевский воздерживался. — Они мужики. — А я кто? Я, по-твоему, кто?! — Мужик. Но я тебе рожать и не предлагаю. Сама рожу. Будешь просто платить алименты. — Какие элементы? — Алименты. Отдавать половину зарплаты на содержание ребенка. — Какой зарплаты, Оксана? Я — вор! — Половину с делюги, значит. Да ты не парься. Я свое получу. Но если хочешь — можем съехаться. Я не против. — Я... Я не знаю. Мне надо кое-что утрясти с «Дюрексом». Я тебе перезвоню. Я сбросил вызов и зажмурился. Три ребенка. Три, блядь! Вчера ни одного, а сегодня три! И куда мне их девать в таком количестве? Солить? Пидорасы из «Дюрекса»! Суки, какие же они суки... Я достал коробку с презервативами и набрал номер «горячей» линии. — Вы позвонили в компанию «Дюрекс»... Блядь. — Девушка, вы там совсем охерели? У меня тут подруги в Перми толпами беременеют! Где ваше хваленое немецкое качество? — «Дюрекс» — английская компания. Что у вас случилось? Расскажите подробнее, мы... — Как английская, когда «Дюрекс»? — «Дюрекс» — это составное слово. Прочность, надежность и превосходство. — Издеваетесь? Смешно вам там, да?! Я сбросил вызов и скукожился на диване. Мне не хватало воздуха. Тут телефон зазвонил опять. Домашний номер, но не записан. «Идущие на смерть приветствуют тебя». — Алло? В трубке сопели. Сопение показалось мне знакомым. — Зуб? Сопение усилилось. — Зуб, дурья твоя голова! — Олег, я не знаю, как тебе это сказать... — Что ж за день такой... Говори как есть. — Я беременный. От тебя. Две полоски. Обе немецкие. Презервативы не дают стопроцентной гарантии. Аборт делать не буду. До четверга ждать не намерен. Женись на мне прямо сегодня, или я за себя не ручаюсь. Я выдохнул и улыбнулся: — Этот текст тебе Даша написала? — Ага. Ржака, да ведь? Ты на громкой связи. Тут Марина, Даша и Оксана. — Хоть одна из них беременна? Девчонки ответили хором: — Нет! — И как вы снюхались? Даша: Я же говорила, он ни хрена не помнит. Марина: Ты нас всех вызвонил на свой день рождения, когда нажрался. Вчера ночью. — И чего? Оксана: И ничего. Вызвонил и перезнакомил. Предлагал жить вчетвером. — А вы, значит, решили пошутить? Даша: Ну, не дуйся. Мы ж любя... — Вы у Зуба? Зуб: У меня. Ты тоже у меня ночью был. Не помнишь? — Неа. Есть выпить? Зуб: Ящик пива и два флакона. — Валите ко мне. Всей толпой. Хочу посмотреть этим стервам в глаза. Мобильник брызнул смехом. Хорошо все-таки жить после сексуальной революции, а не до. До сексуальной революции меня бы, наверное, за яйца на столбе повесили. Я закурил и лег на подушку. Эту пьянку надо запомнить. Иначе следующее похмелье не переживу.Туалет
Я мазал отработкой оконные опалубки, поставленные на попа, когда ко мне подошел Дима. За окном плавил асфальт июль. В цеху было где-то плюс пятьдесят. По технике безопасности формовщики должны работать в касках, но в такую жару все на это забивали. Бригадир смотрел на нарушения сквозь пальцы. Ему не улыбалось стать врагом народа и получить «темную», а он бы ее получил, если б попытался напялить на мужиков каски. Дима был в каске. Он вышел сегодня в первую смену. Я таких называю «оленятами Бэмби». Глаза напуганные, ничего не понимают, хотят постоянно спрашивать, но стесняются. А Дима вообще попал. Он выучился на социолога в Политехе, а потом долго не мог найти работу и пришел на завод. Он был приятелем моей младшей сестры. Интеллигентный такой парень. Я его отговаривал от завода, если честно. Советовал продавцом куда-нибудь пойти. У Димы язык подвешен, плюс солидное образование. А он знаете что мне сказал? Ненавижу, говорит, потреблядство. Лучше, говорит, буду рабочим, который производит реальные ценности, чем огрызком капитализма. Я плечами пожал. Принципы — это хорошо, но что с ними будет в цеху, где плюс пятьдесят, лом и лопата? Короче, когда Дима ко мне подошел, я швабру отложил и уставился. Интересно мне было послушать его первые впечатления. Закурил даже по такому случаю (на производстве везде можно курить, как на каторге). А Дима молчит. Минуту, наверно, молчал, а потом говорит: — Я в туалет ходил... Почему ты мне не сказал, что здесь такой туалет? — Какой? Туалет как туалет. Нормуль. — Нет, Олег. Это не нормуль. Три дырки в полу и никаких перегородок. Я не смог. — Чего ты не смог? Дима покраснел: — Покакать не смог. — Почему? — Ну как почему?! Там два мужика сидели и какали. Прямо на моих глазах. Между собой еще общались. А я как бы третьим должен был сесть, да? В полуметре от них? — Ты должен был сесть над свободным очком и посрать. В чем проблема-то? — Ну как ты не понимаешь! Справление нужды, особенно большой, это очень интимный процесс. Я должен быть в это время один. — Так мужики тоже срать хотят. Если их выгнать, получится несправедливо. — Я не предлагаю их выгонять. Просто должны быть кабинки. Ну, чтобы меня никто не видел, и я никого не видел. — Подожди... Но ты ведь все равно не будешь один. Слышно ведь, что в другой кабинке кто-то есть. — В квартире тоже слышно, что в другой квартире кто-то есть, но жить с этим можно. А теперь представь, что ты живешь в квартире с прозрачными стенами, полом и потолком? — Не, это другое. Одно дело жить, другое дело посрать. В тубзике на тебя никто не смотрит, кому ты нужен? Сел, посрал и пошел работать. — Дело не в смотрит! — А в чем? — В личном пространстве. А вдруг посмотрят? Почему я должен делать это в чужом присутствии? — Ну, делай в штаны. Ты больно нежный, Димон. Проще надо к засранству относиться. — Да дело не в засранстве! Нас всех как бы унижают таким туалетом. А унижение — это плохо. Мы не должны это терпеть. — Так никто и не терпит. Срут, и все. Ты первый жалуешься. — Это-то и чудовищно! — Чудовищно будет, если ты в штаны насрешь. Пошли. — Куда? — В туалет. Я дверь подержу, а ты посрешь в одну каску. Или до дома будешь терпеть? Дима помялся и пошел. В туалете никого не было. — Ништяк. Сри спокойно, а я в коридоре постою и никого к тебе не пущу. — Спасибо, Олег. Я привыкну. Я заявление напишу, чтоб кабинки сделали. — Напишешь, конечно, кто же спорит. Я вышел из туалета и встал у двери. Тут мужики со второго пролета подошли. Одному кусок цемента в глаз попал, когда он «ушко» на плите выдалбливал. Другому посрать приспичило. Я их сначала хотел не пустить, а потом подумал, что Диме надо привыкать срать в чужой компании. Не буду же я ему постоянно дверь держать? Впустил. Там, говорю, пацан срет, не смотрите на него, а то он стесняется. Не знаю, что там у них произошло, но где-то через минуту Дима выскочил. Взъерошенный такой. Морда в красных пятнах. Глаза дикие. — Ты почему их запустил? Ты же обещал?! — Чтоб ты привыкал. Помочь тебе хотел. — Помочь? Да я там... как... как... — Какал? — Сам ты какал! Как цирковое животное себя чувствовал. Они когда зашли, я уже не мог уйти. Ты меня перед фактом поставил, понимаешь? — Понимаю. Ну, постоял чуток перед фактом, не умер ведь? Пошли работать. И сними ты уже каску. Кто в касках ходит, тот в обмороки от жары падает. — В касках вообще никто не ходит. — Поэтому и не ходит. И ты не ходи. — Мне к бригадиру надо. — Зачем? — Хочу поговорить с ним про туалет и технику безопасности. — Второй этаж. Шестая дверь. Но я бы не советовал... Дима рванул. После разговора с бригадиром он ушел с завода. Бригадир Савелич не любит, когда молодежь права качает. Ну и слава богу, что ушел. Не для нежных людей наше производство. Хотя в его словах про туалет что-то есть. Что-то есть, но что именно — до конца не пойму. В МТС теперь работает. Срет, поди, в гордом одиночестве, как принц Датский. А я сразу говорил: продавцом тебе надо. А Дима: принципы, принципы... Нет никаких принципов, когда плюс пятьдесят, лом и лопата. Ну, или вот такой туалет.Случай под Рождество
Рождество 2009 года в моей жизни получилось памятным. Во-первых, я заигрался в крутого авантюриста и кинул закамских бандитов на сто тысяч рублей. Понятное дело, они хотели со мной встретиться. Поэтому я жил в общаге на Комсике, где мой приятель снял комнату на свое имя. Комната праздничному настроению не способствовала. Пружинистая кровать, лакированный шкаф, две скучных табуретки, круглый стол и сервант, набитый сочинениями Ленина, составляли все ее убранство. Во-вторых, я не пил уже две недели, потому что подсел на христианство. Такое часто случается с людьми, обеспокоенными самосохранением. В-третьих, девушка, которую я любил, благополучно вышла замуж и собиралась родить не моего ребенка. С последним обстоятельством смириться было сложнее всего. Оно казалось непоправимым, как ампутация. Помню, я тогда дни напролет читал Библию, надеясь вычитать там какие-то смыслы повыше любви и собственной безопасности. Вообще, хоть за окном и была зима, мне казалось, что я попал в какую-то нескончаемую осень. Я осыпался, понимаете? Как глупый тополь осыпается листьями в сентябре, так и я осыпался смыслами, целями, мужеством. Мне не то чтобы ничего не хотелось, скорее я перестал понимать саму природу желания. Бездействие стало главным моим занятием. Я мог часами созерцать потолок, безучастно читать Новый Завет, бесчувственно думать о том, почему все так произошло. Я даже пробовал молиться, но получалось слишком фальшиво даже для меня. Седьмого января в мою дверь постучали: тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук. Это был особый стук, по которому я понимал, что пришли свои. На всякий случай захватив со стола нож, я открыл дверь. На пороге стояла девушка в коротенькой юбке и куцей дубленке. — Привет. — Привет. Меня зовут Алиса. — Бывает. Ты кто? — Я от Виталика. Алиса протиснулась в комнату. Я захлопнул дверь и повернулся к девушке: — Что Виталик попросил тебя передать? — Ничего. Я — подарок тебе на Рождество. За все уплачено, не беспокойся. Алиса сняла сапоги и дубленку. Бросила сумку на стол. Оперлась на него попой и закурила. Я сел на кровать. Мой взгляд источал иронию. — Значит, мой приятель обеспокоился и прислал мне проститутку. Очень мудно. Алиса пристроила сигарету в пепельницу и села на кровать. Податливая пружина прогнулась и притянула нас друг к другу. — Я тебе не нравлюсь? — Нравишься. Просто я не в настроении. За сколько он тебе заплатил? — За два часа. Могу сделать минет, если хочешь. — Без презерватива? — Да. — И часто ты практикуешь такую открытость? — Нет. Только когда клиент мне симпатичен. — Я польщен, Алиса. Но тебе лучше уйти. Правда. Вот... Я приподнял матрас и вытащил из-под него тысячу рублей. — Это тебе за обманутые ожидания. Уходи. Алиса взяла деньги, но уходить не торопилась. Помолчали. — Как тебя зовут? — Господи, да зачем тебе? — Тебе сложно, что ли? — Меня зовут Никита. Довольна? — А на самом деле? Я глянул на девушку удивленно: — Ладно. Меня зовут Павел. — Почему ты наврал, Павел? — Привычка. Люблю анонимность. Ты ведь ее тоже любишь? — Почему это? — Потому что Алиса. — Нет. Это мое настоящее имя. Хочешь, паспорт покажу? У меня с собой, в сумке! — Не надо. Так и быть — верю. Но ей почему-то очень важно было показать мне паспорт. Гордеева Алиса Николаевна, 1990 года рождения, город Краснокамск. — Ну все. Теперь как порядочный человек я должен взять над тобой шефство. — Что такое шефство? — Опека. Чтобы маленькая девятнадцатилетняя девочка из Краснокамска перестала работать проституткой. — Лучше скажи спасибо, что маленькая девочка из Краснокамска героином не колется. — Спасибо, Алиса. А сейчас тебе пора уходить. — Не прогоняй меня. Не хочу сидеть дома одна. Рождество же. — Ты чтишь Рождество? — Что значит чтишь? — Ну... Тебе важно, что родился Иисус Христос. — Я не знаю Иисуса Христа. Знаю только, что он родился, а потом его на кресте распяли. Так ведь? — Так. Но между этими событиями тоже кое-что было. — Что? — Нагорная проповедь, например. Алиса рассмеялась. — Что тебя развеселило? — Нагорная. Как микрорайон. Я там комнату снимаю, кстати. Помолчали. Алиса снова закурила. Я встал с кровати и открыл форточку. Морозный воздух ворвался в прокуренное помещение. — Знаешь, о чем я думаю? — О чем? — Мы могли бы приготовить праздничный ужин, а ты бы рассказал мне про Христа. — Как влюбленная пара, да? Может, гирляндочки еще повесим? За руки возьмемся и все такое? Свечки зажжем? — Ты злой. Ладно. Я пошла. Алиса схватила сапог и стала ожесточенно его надевать. — Не уходи. Давай расскажу тебе про Христа. Девушка посмотрела на меня в упор и отложила сапог. — Хорошо. Ляжем? — Любишь слушать лежа? — Я все люблю делать лежа. — Теперь понятно, почему ты выбрала эту профессию. — Очень смешно. Мы легли на кровать, и Алиса тут же забросила на меня ногу. Я промолчал. — Вначале обратимся к первоисточнику. Я потянулся за Новым Заветом, но взять его не успел. Комнату разодрал треск ломаемой двери. Я мог бы выпрыгнуть в окно, но почему-то не захотел оставлять Алису. Вместо этого я сдернул ее с кровати и засунул в шкаф. — Это за мной. Ни звука. Все очень серьезно. С четвертого удара дверь пала. Я сел на стул. В комнату вошли четверо. Трое — незнакомых, а четвертый — обманутый мной бандит Жека Бизон. Тупой и беспощадный, как кухонный нож. — Могли бы и постучать. Неинтеллигентные какие... — Остришь, блызьма? Ну, остри, остри... Одевайся, до лесочка прокатимся, там и поговорим. — Чё-то как-то неохота. Дубак, знаешь ли... Мое спокойствие взбесило Жеку. Он мотнул головой, и троица быков кинулась в атаку. Ударом ноги из-под меня выбили стул. Встать с пола не получилось. Удары сыпались со всех сторон, будто я связался с многоруким Шивой. Когда я уже мало что понимал, Жека уронил: — Хорош! Посадите это мясо на стул. Он похлопал меня по щекам, и я сумел сфокусировать взгляд на толстом лице. — Слышишь меня? — Слышу. Вы мне зуб выбили, придурки. На самом деле в моей голове царил сумбур. Алиса, Христос, быки и Жека выплясывали там канкан, и все происходящее казалось фантастическим недоразумением. — Короче, расклад такой: или возвращаешь прямо сейчас сотку денег... — У меня нету... Жека отвесил мне леща. — Не перебивай. Или поджигаешь машину. — Какую еще машину? — Одного нехорошего человека. «Крузак». Тебе не похер ваще? Швырнешь «молотов» из-за угла, и все. Считай, в расчете. Слово даю. В первое мгновение идея показалась мне заманчивой. Сжечь машину действительно не так уж сложно. Но через минуту в моей голове опять заплясал канкан. Я вдруг подумал: а что бы на моем месте сказал Христос? А потом я подумал про Алису. А потом про то, что если соглашусь, то до конца своих дней буду сжигать машины. Жека и быки не знали, о чем я размышлял, и поэтому мой ответ их удивил. — Не буду сжигать машину. Я — христианин. — Кто ты, блядь?! — Христианин. Стараюсь им быть, по крайней мере. — Пиздец тебе, значит. — Пусть. Взять с меня нечего, можете убить. Мне все равно. Машину я сжигать не буду. И деньги тоже не отдам. Вы на моих схемах несколько миллионов заработали. Мы в расчете. Самое смешное, что когда я это все начал говорить, из меня куда-то подевался страх. Я реально перестал за себя бояться. Наверное, впервые за последние три месяца. Жека и быки это почувствовали. Хищники вообще хорошо чувствуют страх и его отсутствие. — Ты от христианства так раздухарился? — От него. Все ведь тлен, Жека. Надо это понимать. — Тлен — это хорошо. Про тлен мне нравится. Знаешь, как мы поступим? — Как? — Мы наебнем тебя еще разок. Крепко так наебнем, основательно. А потом спросим про деньги и машину. Если ты откажешься, мы увезем тебя в гараж и посадим в овощную яму. Я буду приходить каждый день и пиздить тебя как суку. Рано или поздно ты согласишься на что угодно. А если не согласишься, то я попрошу ребят с Северного выкопать тебе могилку в безымянном квартале. Чтобы палка заместо креста. Ты готов ко всему этому? — Готов. Когда пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что Бог со мной. — Вот и славненько. Хуярьте его, пацаны. Чтобы живого места не осталось. Во второй раз за день я оказался на полу. Мне отбили почки, выбили еще два зуба и вроде бы сломали ребро. Я уже совсем не понимал, что происходит. Красные половые доски то исчезали в темноте, то вдруг выныривали прямо в глаза. Закончив махать ногами, быки снова усадили меня на стул. Из тумана выплыла Жекина морда. — Ну что? Сожжешь машину или все-таки едем на яму? — На яму. Жечь не буду. Христос не велел. — Дело твое. Пацаны, поработайте-ка с ним еще. Но пацанам работа разонравилась. Они менжевались на месте и смотрели на Жеку недовольно. — Чё встали-то? Делайте его! — Не, Жека. Харе. Он блаженный какой-то. Нафиг надо. Вдруг самим потом прилетит? — От кого, блядь? Вы чё несете-то? — Не знаю, от кого, — ответил один. — От кого-нибудь. Забей уже. Я в Чечне таких видел. Им похуй дым вообще. — Пойдемте-ка выйдем, пацаны. В коридоре поговорим. Из коридора Жека с быками так и не вернулся. В чувство меня привела Алиса. Она вылетела из шкафа, уложила меня на кровать и вызвала «скорую». Помню, еще голову мою на колени к себе положила. Я даже пошутить попытался. Типа самое время обсудить Нагорную проповедь. А потом приехала «скорая» и увезла меня на Братьев Игнатовых. Ни Алисы, ни Жеки я больше никогда не видел. Такое вот Рождество. С канканом.«Кабачок» и все-все-все
На Пролетарке раньше было много баров, а теперь два. Один называется «Хуторок», и туда в трениках не пускают, а пускают в джинсах и туфельках. Второй бар называется «Кабачок». То есть по вывеске он никак не называется, а в народе называется так, как я уже сказал. Туда в чем угодно пускают, потому что это такой специальный бар, для каких угодно людей. На Пролетарке много каких угодно людей. Я, например. Я хожу в «Кабачок» по утрам. На самом деле все ходят в «Кабачок» по утрам, потому что он работает с десяти до девяти. Можно, конечно, ходить вечером. Часов в семь. После работы. Только у меня работы нет. А похмельем я исключительно по утрам мучаюсь. Оля этого не понимает. Она не понимает, что мне совесть не позволяет трезво смотреть на вещи. Ради иного угла зрения хожу я в «Кабачок», а не ради веселья. Например, именно ради угла пришел я туда позавчера 2013 года. Я пришел и с ходу выпил сто. За стойкой Валя работала. Это была замечательная новость. Валя дает в долг и смотрит на жизнь легкомысленно. Еще есть Тамара. Она как свое имя выглядит. Грозная. Кулаки. Советская благонадежность. Даже рюмку не нальет. Для нее кредит — пустой звук, а не инструмент капитализма. Выпив сто, я сел за стол. Противный туман, который я наблюдаю по утрам, чуток рассеялся. Из него выплыли бежевые стены «Кабачка», спинки стульев, красные скатерти, телевизор и входная дверь. На нее я и стал смотреть. Если подумать, то это самая драматическая подробность интерьера. Только оттуда может последовать что угодно. Для каких угодно людей нет ничего интереснее, чем когда к ним следует что угодно. Конечно, я предполагал, что может последовать из-за двери, но стопроцентной уверенности у меня не было. Например, оттуда может последовать Игнат, которого все называют Евпат. Он быстро-быстро говорит и заглядывает тебе в глаза, как барышник — лошадям. На таком, знаете, языке, в котором феня подружилась с Чеховым. Он мне заменяет шум прилива, потому что Евпату не нужно отвечать. Евпат не для этого говорит. Он говорит по тем же причинам, по каким море рокочет или там обдает бризом. В его присутствии я чувствую себя на берегу, так много из него выливается. Посидеть с Евпатом — это даже лучше, чем в Геленджик съездить. Во-первых — бесплатно, во-вторых — не обгоришь. Вообще, когда у тебя денег нет, а про телевизор ты давно все понял, только людьми и остается интересоваться. Можно, конечно, животными. Есть такие люди, которые ими увлекаются. Но мне это как-то не совсем, потому что животные не грешат. Хотя совсем не обязательно, что в дверь Евпат войдет. Это самое приятное в дверях. В их открывании или неоткрывании нет ничего обязательного, а только добровольное. Было бы неплохо, чтобы в дверь вошла Катя. Мы с ней иногда целые библиотеки обсуждаем, но никогда не спим. Она мой литературный друг. Иногда у меня такое чувство, что мы что-то более важное делаем, чем не спим. Катя говорит очень ясно и как бы артикулируя. Она так специально говорит, потому что у нее жизнь перепутанная. Для равновесия. Катя меня отвергла, когда была замужем. Я тоже ее отверг. Попозже. Когда был женат, а она уже не замужем. Это глупо. Мы только друг с другом можем про писанину поговорить. Катя талантливая, но ленивая. Она иной раз такой рассказ напишет, что я прямо не могу. А я не сильно талантливый, но трудолюбивый. Каждый вечер бумагу мараю сам не знаю почему. Мы как бы гармонируем, но наоборот. Когда откровенно наоборот, а не серединка на половинку, то крепко получается. Только мы оба пьем, а я еще и женат. Поэтому мы сидим в «Кабачке» и треплемся попусту, будто в роман Хемингуэя попали. Нас иногда даже тошнит от собственной вторичности. А иногда мы за нее прорываемся, и так хорошо становится, хоть умирай. Но, наверное, Катя сегодня не зайдет. Я о ней как-то слишком долго думал, а когда о ком-то долго думаешь, он никогда не заходит. Наверное, Сашка припрется. Сашка — это такой человек, у которого все было хорошо, а теперь плохо, и он это «хорошо» с таким усердием вспоминает, будто оно к нему от этого вернется. У Сашки нет будущего не так, как у нас у всех его нет, а потому, что он туда вообще не смотрит. Ему, видимо, такие взгляды не кажутся безопасными. Ему кажется безопасным смотреть назад, где все с гарантией хорошо. Слушать Сашку — это все равно что мифы Древней Греции слушать в исполнении Райкина. Особенно его приятно слушать, когда рядом Катя, и мы сидим на берегу Евпата, который говорит вместе с Сашкой, но на полтона ниже, как бы приуготовляя фон. Полчаса я о такой вот ерунде думал и смотрел на дверь. Два по сто навернул. Тут дверь распахнулась, и в «Кабачок» зашел Миша Кулема. Его я никак не ожидал увидеть. Интересно, а вертухаи с «четверки» в курсе, что Миша освободился? Пожалуй, в курсе. В Ныробе с этим строго. Увидев меня, Миша заорал: — Олежек, братан! Он десять лет отсидел. Когда столько сидишь, очень, наверное, хочется выйти и заорать. Чем угодно можно десять лет заниматься, но если вдруг прекратишь, это новое состояние чудом покажется. Миша весь был под каким-то чудом. Весь сиял. Прямо «Сияние» Стивена Кинга. Подсев ко мне за столик, Миша взял сто и бутерброд. Я тоже взял сто и бутерброд. Мне хотелось чем-то поддержать сидельца, и я решил его отзеркалить. Обычно я не беру бутерброд, а тут взял. Взял и задумался. Почему, мол, я его взял, а обычно не беру? А чтобы показать Мише, что он все делает правильно. Мог бы и сказать, но говорить как-то глупо. А тут сто и бутерброд. Наглядно. — Какие планы, Миша? — Группу соберу. — Какую группу? — Ты чё, забыл? — Что забыл? — Ты ж на барабанах сидел! — Ааа... Ты про школу? — Конечно. Я поэтому сюда и пришел, чтобы тебя в группу позвать. Если честно, я вообще не понял, что Миша несет, и сказал: — Позови. — Чего? — Ну, позови меня в группу. — Ну, так зову. Соберем команду, гастроль дадим, прославимся. Клево я придумал? Чего молчишь? Ты в деле или нет? Лучше б Саша мне про Древнюю Грецию рассказывал, честное слово. Так неловко, словно я снова девственности лишаюсь. И ведь не скажешь так сразу нет. Это, конечно, было бы правдиво, но кому нужна такая правда? Я решил зайти издалека. — А где инструменты возьмем? — Так в школе и возьмем. А когда разбогатеем, свои купим. — На школьных инструментах можно играть только в школе, а мы там уже не учимся. — Ладно. Придумаем что-нибудь. Тут я понял, что Миша все десять лет мечтал освободиться и поехать на гастроли. В глубине души он понимает, что это все бред собачий, просто ему охота помечтать. Миша как бы до сих пор в тюрьме и не может от тамошних мечтаний так сразу избавиться. А может быть, ничего он в глубине души и не понимает. Мне стало страшновато. — Придумаем, конечно. Правда, помимо инструментов, нужен еще фургон. — Какой фургон? — А как перевозить инструменты из города в город? Плюс водитель. Ты ведь не водишь? — Нет. — И я не вожу. И Вадя-гитарист не водит. А Надя, которая бубном трясла, вообще в Краснодар уехала. — И чё теперь? — Ну, вначале нам с тобой на работу надо устроиться. Потом ты пойдешь учиться на права. Накопим на фургон и инструменты. Затем будем у меня в гараже сыгрываться, оттачивать мастерство. Когда отточим, тогда и поедем на гастроль. Миша крепко задумался и сопроводил это комичным чесанием подбородка. — Я как-то по-другому себе это представлял... — Выпьем еще? — Не. Чё-то перехотелось. Я домой пойду. Бывай. — Бывай. Миша поднялся и тихо вышел из «Кабачка». Правильно он сделал, что ушел. Встречаться с реальностью лучше в одиночку и не пьяным. А я снова на дверь уставился. После Миши мне на нее как-то тревожно смотрелось. Мне подумалось: вдруг сегодня такой день, что в дверь только странные люди будут заходить, от которых мне будет неловко? Неловкость хуже страха, потому что страх понятно, как побороть, а как побороть неловкость — непонятно. Страх на тебя как бы всегда нападает, а на неловкость ты как бы всегда соглашаешься. А отбиваться намного проще, чем не соглашаться, тем более если не соглашаться глупо. Короче, не стал я дожидаться, пока дверь второй раз откроется. Утек. А то я в школе не только в группе играл, но и в кружок ходил театральный. Не готов я обсуждать создание Пролетарского театра. Какие угодно люди в «Кабачок» приходят, говорю же...Мужик с лилиями
2013 год. На полу проснулся. Дверь сломана. Я ее пьяный закрывал, не закрыв замок. Загнул железные колбаски, короче. Встал. Обошел квартиру. В дальней комнате Мага спит. В большой — Петруха. Что характерно, оба на полу. Банку с мелочью нашел. Литр пятикопеечных монеток. Растолкал Петруху. Считай, говорю. В твоих руках наш опохмел, то есть будущее. Магу будить не стал, он взбалмошный и считать не умеет. Сам в кресло повалился — дрожать и думать о смерти. Через полчаса Петруха досчитал: 53 р. 35 коп. Два фунфырика «перцовки». Повод выйти на улицу. Растолкал Магу. Его тяжело будить, поэтому я просто за ногу Магу взял и поволок по линолеуму на выход. В прихожей он проснулся, сказал: пусти — и надел ботинки. В каком-то смысле Маге так сподручнее передвигаться. Если б он всю жизнь так передвигался, может, и не сел бы два раза в тюрьму. Вышли из дома втроем на улицу, как кроты на поверхность. У нас в Перми два лета и оба бабьи. Едва успеваешь охуеть от жары, как уже приходится охуевать от холода. Уж что-что, а охуевать мы умеем. Мне кажется, некоторые начинают охуевать после шлепка акушерки и заканчивают ближе к семидесяти. Лично я нахожусь ровно посередине этого процесса. Жить в Перми в июле — это как жить с красивой стриптизершей, но фригидной. Во-первых, противоестественно, во-вторых, от Камы яйца сводит. Однако все равно радуешься, потому что дефицит жарких дней к этому обязывает. Это как день рождения справлять, когда настроения нет. Или читать книжку только потому, что о ней из каждого утюга говорят. Пермское лето принуждает себя признать. Это такое чудо, в которое нельзя не верить. До аптеки мы шли мужественно и молча. В аптеке работал кондиционер. Петруха встал под его струю и кончил лицом. Мага встал рядом и тоже кончил. Это национальная забава пермяков — кончать с кондиционером. Я не соблазнился. Я купил два фунфырика и пошел на тенистую лавку по соседству. Через пять минут ко мне примкнули Мага, Петруха, три пластиковых стаканчика и бутылка воды. «Перцовку» один к одному разводят. Из двух фунфыриков ровно три стакана пойла получается. Начинающие алкаши удовольствие растягивают. Им страшно вот так сразу выпить и снова остаться без пойла. Нам не страшно. Мы уже понимаем, что удовольствие к нашей жизни никакого отношения не имеет. Крякнули, саданули, закурили по последней. Дом отбрасывает тень. Плюгавая ива создает уют. А через полчаса снова искать пойло. Только пройдет дрожь, только исчезнет из живота липкий комок, только проклюнется уверенность в собственных силах... Ничто так быстро не превращает меня в человека и обратно, как алкоголь. Я думал, где добыть пойла, когда в конце дома показался мужик с букетом лилий. Было видно: он взволнован и стесняется. Костюма стесняется, букета, ведра одеколона на коже. Такой, знаете, работяга с заскорузлыми руками, которому надо явиться на торжество. Нагромождение советских комплексов. Ну, это когда из кармана пиджака торчит платок в кислотный горошек, а верхняя пуговица рубашки застегнута, будто предполагался галстук. В такую-то жару. Когда мужик поравнялся с нашей лавкой, я стрельнул у него сигарету. Мужик вздрогнул и заозирался. Словно я отвлек шахматиста от решения сложнейшего этюда. Сигарету «Оптимы» в студию, дамы и господа! Здесь я утрирую. От такого гуська можно и «Приму» получить. Угостив сигаретой, мужик не торопился уйти. Стоял он скорбно. Мял лилии, пачку, куксил лицо. Я даже подумал: а не на похороны ли он собирается? Оказалось, нет. Стоило мне спросить, куда это он с букетом, как мужика прорвало. Бабочка садится на ветхую плотину. Чудо закономерности и все такое. Мужик шел на день рождения к начальнице Тамаре Викторовне. Лез в эмпиреи. Она его позвала, потому что он ее по работе прикрыл пару раз. Из чувства вины и гуманизма. Из чувства вины и гуманизма ничего хорошего обычно не получается. Настасья Филипповна, христиане, экологини и веганы тому порукой. Короче, мужик нервничал, но при этом хотел как-то выделиться, как-то блеснуть, чтобы, видимо, знали наших. Как, говорит, поздравлять-то? Как вообще себя вести? Я закурил и посмотрел на мужика лучисто. Ты, говорю, в большой опасности. Нельзя в таком нервическом состоянии идти к начальнице на день рождения. Вдруг напьешься? Ты, говорю, уверен, что у нее нет аллергии на лилии? Ей они точно нравятся, ты узнавал? Нет, говорит, не узнавал. Красивые же... Эх, говорю, простая душа! А если ей лилии бывший муж на день свадьбы дарил? А если он трагически погиб на рыбалке? Если она до сих пор плачет по ночам, а тут ты со своими лилиями? Почему ты так поступаешь с бедной женщиной?.. Мужик с ужасом уставился на букет. Клубок змей, а не букет, если приглядеться. Тут я проявил благородство. Так и быть, говорю, помогу тебе. Я ведь поэт. Напишу специально для тебя поздравительный стишок. Ты его прочитаешь, и все выпадут в осадок. Главное, ври смело, что сам написал. Вон, говорю, магазин. Беги туда и бери бутылку водки, пачку сигарет, листочек и ручку. Мага с тобой сходит. Убежали. Я когда выпить хочу, излучаю страшный магнетизм. Едва Мага и мужик скрылись, Петруха заулыбался. До этого он крепился и только важно кивал в нужные моменты. Если вдуматься, я его для того и держу, чтобы он важно кивал в нужные моменты. В каком-то смысле я страшный эгоист, потому что окружающий мир воспринимаю исключительно как декорацию. Если тут не резвиться, что тут вообще делать? Не жить же, в самом деле. Вернувшись из магазина, мужик увидел чудо. Он увидел, как разлитая в три стакана водка в один миг исчезла в трех жадных ртах. Вы хоть запейте, пробормотал он. Мы закурили. Я взял листочек и ручку. Быстро написал восемь строк. Отдал. Почерк у меня хоть и крестьянский, но разборчивый. Мужик вчитался. Это ты сам написал или где-то вычитал? Сам, говорю. Пуговицу верхнюю расстегни. И платок спрячь, он дисгармонирует. Мужик расстегнул и спрятал. Я поймал странный взгляд Маги. Чего это он? Захотелось ссать. Пойду, говорю, поссу. Не расходитесь. Пошутил так. Думал еще на бутылку мужика фалануть. До кустиков путь был не близким и не далеким — метров двести. Возвращаюсь — Маги и Петрухи нету. Мужик на земле сидит. Весь в крови. Рукав оторван. Лилии растоптанные валяются. Плачет. За что, говорит? За что они меня? Я рядом сел. Сколько, говорю, у тебя денег было в лопатнике? Пять тысяч. Мага их видел? Ну, тот, который с тобой ходил? Не знаю, говорит. Видел. А потом — это ты! Ты все подстроил! И дал мне по морде. Я молчу. Еще раз дал. Молчу. В третий раз дал. Молчу. В четвертый раз не решился. Полегчало, видно. Зачем, говорит, ты с ними пьешь? А с кем мне пить? Один, говорит, пей. А мне одному страшно. Не могу я один, хоть и понимаю, что лучше одному, чем с шакалами. Мужик поднялся, лилии в урну сунул, плюнул рядом со мной и поехал домой. Он с Железки был. Я тоже пошел. Повеситься, думаю, что ли? Не повесился. Нашел Магу с Петрухой и отпиздил нунчаками, как китаец — рис. Пиздил и все думал: они не виноваты, я не виноват, а мужик все равно не виноват больше. Как тут, блядь, интересно все устроено.Квартирный вопрос
Героиновая осень. Денис лежал в кровати и смотрел в окно. Из окна он видел синюшное небо, перерезанное проводами. Шквалистый ветер мотылял их в стороны, и вороны, наверное, чувствовали себя неуютно, но улетать с проводов не торопились. Не торопился и Денис. Откинув одеяло, он передумал вставать и снова лег на подушку. Загорелое тело, увитое татуировками, резко выделялось на белой простыне. Денис думал. Вчера, когда он катал зарики в местном баре «Каламбур», сорока на хвосте принесла паршивую новость. Приятеля его младшей сестры — шестнадцатилетнего Бимбу — родители собираются сдать в детдом. Отец Бимбы, сорокалетний пересидок Стасян, держал семейство в ежовых рукавицах. Мать, женщина серая и затюканная, против детдома нисколько не возражала. Самого Бимбу никто не спрашивал. Собственно, никто не спрашивал и Дениса, однако желание вмешаться засело в нем занозой. По «понятиям», влезать в чужую семью считалось недопустимым. Отец делал со своим выводком что хотел, за исключением сексуального насилия. Но по каким-то другим понятиям, Денисом пока плохо сформулированным, влезать в ситуацию надо было прямо сейчас. Бимба не отличался жесткостью и силой, чтобы нормально жить в детдоме. Просто нечестно, блин, его туда сдавать! В глубине души Денис даже готов был отдавать на содержание Бимбы ползарплаты и жить впроголодь. Правда, если он придет к Стасяну и попросит его оставить сына, тот стопудово не послушает. Ухмыльнется фиксами. Пальцами хрустнет. А потом спросит: «Ты кто такой?» А если Денис не извинится и не уйдет, а будет настаивать, Стасян достанет нож. И Денис достанет нож, потому что он не мясо, а крепкий двадцатилетний пацан. Только Стасян очень уж хорошо ножом владеет. Настряполякался в зоне. Он у него буквально пляшет между пальцев. Будто Стасян не финку вертит, а на пианино играет. Жутко и красиво. Перевернувшись на бок, Денис почувствовал страх и стал с ним бороться. Он много лет занимался борьбой и поэтому решил не доставать нож, а прыгнуть Стасяну в ноги, переведя схватку в партер. Запретив себе представлять в картинках дальнейшее развитие событий, Денис вскочил с кровати и принял упор лежа. Отжавшись пятьдесят раз, он вышел из комнаты и повис на турнике. Подтянувшись пятнадцать раз, пацан почистил зубы и сполоснулся в душе. Завтракать Денис не стал. Он где-то слышал, что лучше получить ранение в пустой живот, чем в полный. Одевшись в джинсовый костюм, Денис вышел из подъезда. Снаружи накрапывал куцый дождик. Дом Бимбы стоял по соседству. Короткий путь не позволял оттянуть столкновение, и поэтому Денис сел на лавку и закурил. Через минуту из подъезда вышел алкоголик Гусев. Много лет назад он побывал в Петербурге, и Петербург произвел на него впечатление. — Видал, как в парадной намусорено? Наблевано даже! Денис витал в мыслях и отреагировал не сразу. — Чего? — Наблевано, говорю. В парадной. — Так ты и наблевал. — Врешь! Я никогда не блюю. Я рачительный. — В смысле? — Берегу еду. Не разбрасываюсь ей где ни попади. Гусев довольно хохотнул и пошел разболтанной походкой в пивной киоск. Денис проводил его взглядом и вдруг подумал: «А если он последний, кого вижу в этой жизни?» На душе заскребли кошки. Можно ведь никуда не ходить. Пивка вон тоже взять. С пацанами на «пятаке» постоять. Насте позвонить. Просто у Бимбы судьба такая. Живут же люди в детдоме? И он, значит, как-нибудь устроится. Нахер мне этот Стасян сдался? Тележить с ним, возню всю эту затевать. Больше всех надо, что ли? А если он меня подрежет? Если инвалидом стану? Я кроме Перми и не видал ничего. Обидно будет говно из-под себя рукой выгребать. А Бимба-то чего видел? А если в детдом попадет, вообще ничего не увидит. И я в этом буду виноват. Или не буду? Стоп. Давать заднюю, даже если без свидетелей — это стремно. Пошел этот Стасян нахер! Надо будет — завалю. Рассердившись на себя, Денис вскочил с лавки и пошел к Стасяну. Он не боялся зоны. Он провел там три года (год на малолетке и два на взросляке) и не сомневался, что сумеет выжить. Однако не боялся зоны и Стасян (три года на общем, пятерка на строгом и семь лет на особом режиме). Иными словами, взаимная готовность в случае чего перейти черту делала встречу совсем уж непредсказуемой. Денис это чувствовал. Конечно, он чувствовал смутно, неясно, не так точно, как сформулировал я. Но ведь когда страшное чувствуется неясно, оно кажется еще страшней. Подъезд тридцать восьмого дома. Денис задрал голову и сосчитал до седьмого этажа. Окна Стасяна. А вот и сам Стасян. Курит на балконе. Отсвечивает синими звездами. Лифт не работал. Несколько раз щелкнув ножом, Денис убрал его в карман и двинул пешком. На седьмом этаже он закурил. Между перил была прилажена пепельница — банка из-под тушенки. Затушив окурок, пацан подошел к двери и вдавил кнопку звонка. Звонок не работал. Тут же высказался страх: «Это знак, пошли отсюда нахер!» Денис сжал кулак и громко постучал в дверь три раза. Потом еще раз и еще. В общем коридоре послышались шаги. Лязгнул замок. На пороге материализовался Стасян. — Здорово, Дензел. — Здорово, Стасян. Разговор к тебе есть.Серьезный. — Ну, раз серьезный, то заходи. Чифирнем. Мужчины вошли в квартиру. Денис огляделся. Рваный линолеум, рваные обои, засохшие пятна то ли портвейна, то ли вина. Разухабистый упадок. — Раздевайся. — Чего? — Куртку снимай. — Да мне не жарко. — Снимай-снимай, не в пещере. Денис снял джинсовку. Нож остался в ней. — А Бимба дома? — Не. Шляется где-то. — А жена? — На заводе. Ты с какой целью интересуешься? — Щас объясняю. Пивну пару хапков и выскажусь. — Годится. На кухне Стасян снял с плиты чифирбак (маленькую кастрюлю) и разлил пахучее варево по кружкам. Отпив два глотка, Денис отставил кружку и поднял глаза на Стасяна. Пересидок закурил и вопросительно глянул на гостя. В середине стола, чуть ближе к Стасяну, лежал кухонный нож. — Я зачем зашел-то... Мне сорока на хвосте принесла, что ты хочешь Бимбу в детдом отдать. Не надо этого делать. Ему два года всего тут пожить, а потом я его на завод затяну. Если ты его по деньгам не вывозишь, я могу четыре касика в месяц закидывать, на балабас. В детдоме жестко, Бимба не справится. Я отбывал с детдомовскими. Не надо его туда. Пока Денис все это говорил, Стасян затушил сигарету, взял кухонный нож и стал подрезать им заусенцы. Денис же завел ноги под табуретку, а руки — под стол, чтобы в любой момент опрокинуть его на Стасяна. — Помочь хочешь, значит... Нос суешь в мои дела. Ладно. Только четырех касиков не хватит. — Сколько надо? — Комнату. — Какую комнату? Тут из коридора донесся шум. Это Бимба вернулся с прогулки. Стасян заулыбался и позвал сына: — Бимба, иди сюда! За тебя тут мазу тянуть пришли. На кухню вошел Бимба. Угловатый чернявый подросток в стареньком балахоне с «Нирваной». — Привет, Дензел. — Привет, Бимба. Стасян усадил Бимбу за стол и, вкусно улыбаясь, спросил: — Расскажи Дензелу про детдом. Он пришел тебя от него спасать. — Зачем меня от него спасать? Это афера, Дензел. — Какая афера? — Смотри. Батя сдает меня в детдом на два года. А через два года, когда меня из детдома освобождают, государство дает мне комнату. Шестьсот косарей, прикинь? А жить я там не буду, разве что чуть-чуть. Батя с директором мосты навел. Там все ровно, короче. Денис оглушенно переводил взгляд с Бимбы на Стасяна и обратно. Стасян рассмеялся и похлопал гостя по плечу: — Не, ну ты духаристый пацан, конечно. Просто квартиры-то звиздец сколько стоят. А тут верный вариант. Бимба, кстати, сам весь этот замут предложил. Ко мне вчера Керогаз заходил. Тоже за детдом предъявлял. И Бизон заходил. И Коля Ворона. И даже Евген Кикбоксер заезжал. — И чё? Объяснил ему? — Ему попробуй не объясни. Чифирку подлить? — Не... Я пойду. И Денис пошел. Мимо хрущевок, бараков, облупившихся скамеек. А в голове все вертелось: «Что ж это за страна такая, где два года в детдоме — дешевая плата за комнату?» А потом там уже ничего не вертелось, а бултыхались пиво и водка. Они смыли с Дениса напряжение, и Бимбина ловкость перестала казаться ему такой уж чудовищной. Правда, когда к нему снова привязался алкаш Гусев, Денис сорвался и избил его в кровь.Правильный выбор
В пятницу ко мне приехал Даниил. Мы дружим много лет, но ко мне в гости он приезжает редко. Обычно Даниил занимается пешим туризмом в Западной Европе. Или катается на доске по гавайским волнам. Или едет на верблюде сквозь пустыню Сахару. Или практикует медитацию в Тибете. Или совершает многотрудное восхождение на Эверест. Или смотрит гонку «Формулы-1» в княжестве Монако. Или помогает больным детям на Африканском континенте. Или строит дома для индейцев Амазонии. Но когда он этого всего не делает, Даниил приезжает ко мне, и мы пьем кофе на маленькой кухне и по очереди курим в форточку. В общем-то наши диалоги носят лекционный характер. Обычно Даниил рассказывает о своих путешествиях. О том, что он почувствовал, пережил, осознал в той или иной точке мира. Эти посиделки всегда заканчиваются одинаково: Даниил вдруг прощается, словно спохватившись, и тут же уходит. Я закрываю за ним дверь и возвращаюсь на кухню. Там витает запах Амазонии, гремит морской прибой, шуршат колеса «Макларен» и будто бы даже Фернандо Алонсо заходит на победный круг. Я сажусь на стул и закуриваю. У меня есть жена, двухкомнатная квартира и двое детей. Я счастлив. Я нисколько не жалею, что двенадцать лет назад отказался идти на гоп-стоп, где Даниил словил сто пятьдесят тысяч баксов, благодаря которым и сумел раскрутиться. Здесь нечему завидовать. Я поступил правильно. Или нет? На кухню входит жена. Еще утром она казалась мне самой красивой женщиной в мире, а сейчас я смотрю на нее другими глазами. Глазами, видевшими Джомолунгму. Она привычно ластится и спрашивает: «Ты меня любишь?» А я говорю: «Люблю, котик». Привкус фальши ложится на губы. Вбегают дети. Алена и Ярослав. Мои маленькие медвежата. Я глажу их волосы с чувством, за которым пытаюсь спрятать отстраненность. Это выходит плохо. Дети спрашивают: «Папа, что с тобой?» Их тревога передается жене. Я молчу. Я не хочу им врать, но и правды, что никакая не правда, а бред, тоже сказать не могу. Я не могу сказать: «Со мной ничего. А ничего намного хуже всего остального. Понимаете, дети... Я живу не своей жизнью. Однажды папе спилили клыки, и теперь он страшно мучается, потому что стал травоядным. А знаете, дети, кто спилил папе клыки? Их спилили вы и ваша мама. Эта квартира. Треклятая плазма. Скучная работа. Нет, не так. Я сам спилил себе клыки. Я перестал ими пользоваться, и они выпали. Это очень горько, когда ты сам спилил себе клыки. Человеческая психика так устроена, дети, что нам нужно обвинять в своих бедах других людей. А мне некого обвинять. Разве что выебистую суку Даниила». Вместо слов я смотрю в окно, где фонари и темнота, которые мне нравятся. Я иду туда. Жена цепляется за мои руки, как жертва кораблекрушения. Дети начинают шмыгать носами и тихо просить: «Папа, не уходи». Но я одеваюсь и молча покидаю квартиру. Иду к «Агату», где даже в три часа ночи можно купить водку. Беру три бутылки, блок «Явы» и пару банок маринованных огурцов. Шагаю в бараки. Поднимаюсь на второй этаж. Вхожу в квартиру с вечно незапертой дверью. Тут пьют хроны, бомжи, бл*ди и синеботы. Завидев меня, они вскакивают с диванов и ликуют. Я выставляю угощение на стол и смотрю, как искренне и жадно они на него напускаются. Потом я закуриваю, опрокидываю стопку и рассказываю им про Эверест, пустыню Сахару и серфинг. Центровая Любка лезет мне в штаны. Я не против. Когда водка кончается, я снова иду в «Агат». Назад я уже не возвращаюсь. Одиноко пью на лавке. Иногда дерусь с местной шпаной. Иногда звоню Даниилу и говорю ему гадости. Обычно он рассказывает про бессонные ночи и кровавых мальчиков, но я ему не верю. В этот раз я решил выпить на «пятаке». Через полчаса туда подтянулась кодла пацанов. Они громко хохотали, плевались во все стороны и травили анекдоты. Пацаны стояли у входа в «Агат», и когда я пошел за добавкой, наши дороги пересеклись. — Дайте пройти. — А ху-ху не хо-хо? Завязалась драка. Меня сбили с ног. Запинали. Вдруг я услышал, как кто-то вжикнул ширинкой. Моча полилась рекой. Она попала за шиворот, в нос, глаза и уши. Я откатился в сторону. Вскочил на ноги. Побежал. Кодла пустилась следом. Я бежал со всех ног, как самый травоядный зверек на свете, и сумел оторваться. Вернуться к семье я не смог и поэтому ушел в барак, где пил до воскресенья. В воскресенье утром я вернулся домой. А по дороге позвонил Даниилу и попросил его больше никогда ко мне не приезжать. А потом удалил его номер. Потому что свою травоядность надо принимать достойно. А жену я люблю. И детей люблю. И квартира у меня уютная. Пошла она к черту — эта Джомолунгма! И Гавайи. И дельта Амазонки. И пеший туризм в Западной Европе. И пустыня Сахара, где двугорбые верблюды и оазисы. И северное сияние в Лапландии. И Африка. И дайвинг в Красном море. И кругосветка под белым парусом с молодой итальянкой. И Сикстинская капелла. И вся остальная мифология, включая Фернандо Алонсо. Я сделал правильный выбор. Я сделал правильный выбор! Или нет?..Лыжи и поножовщина
У нас на Пролетарке лес сосновый, а в нем экологическая тропа, по которой лыжня проложена. Я по этой тропе летом бегаю, а зимой на лыжах катаюсь. Там хорошо на самом деле. Сосны стройные, высокие, корабельные. Горка есть, откуда скатываться волнительно. Белки иногда попадаются. А если с утра пойти, то птицы какие-то поют. Мне особенно в будни нравится кататься, когда все на работе. Возникает чувство, что ты один на всем белом свете, и от этого не страшно становится, а уютно и умиротворительно. В прошлый четверг я рано на лыжню встал. Даже не позавтракал, так хотелось среди сосенок поскользить. Экологическая тропа четыре километра тянется, и я обычно два круга делаю, чтобы пропотеть. Ни одной живой души не встретил, пока первый круг бежал. Зато на втором случилась неприятность. Я скатился с горки и на скорости вошел в поворот, когда метров за десять прямо перед собой увидел «Лексус». Дело в том, что часть экологической тропы проходит вдоль дороги, ведущей в женскую колонию и поселок «Зона», и машина была припаркована на обочине, по которой пролегает лыжня. Я сразу понял, что затормозить не успеваю. Вощеные лыжи несли меня прямо в задницу автомобиля. За три метра до столкновения я бросил палки и выпрыгнул на дорогу. Не съехал, а именно выпрыгнул, буквально метнув свое тело в сторону. Больно приземлившись на левый бок и хлопнув ладонью по снегу (так меня учили падать в секции дзюдо), я отстегнул лыжи и подошел к «Лексусу». В салоне громко играла музыка. За рулем сидела миловидная девушка. Мой кульбит остался ею незамеченным. Я постучал по стеклу. Девушка воззрилась и убавила звук. Дверь она не открыла и стекло не опустила. — Вы припарковались на лыжне. Отъедьте, пожалуйста. Я только что чуть не врезался в вашу машину. — Куда здесь отъезжать? Сейчас мой Толик вернется, тогда и отъедем. — Вы понимаете, что в вас могут врезаться? — Ты что пристал? Я же сказала — Толик вернется, отъедем. Отдыхай. — Сама отдыхай! Дала нахер с лыжни, пока я тебе колеса не проколол! — Совсем охамел, быдло! Все, я Толику звоню. Щас он придет и по голове тебе настучит. — Звони. Я подожду. Пока девушка звонила, я подобрал палки и лыжи. Сдул снег с креплений. Протер. Собрал все в один комплект с помощью пластиковых держателей. Вернулся к машине. Напряженно уставился вдаль. Стал считать варианты. Толик выбежал из леса бодрой рысью. Он был в расстегнутой дубленке и выглядел весьма внушительно. Не знаю, что ему рассказала подруга, но разговаривать он явно не собирался. Толик летел ко мне на всех парах с перекошенным лицом. Я скоропостижно думал, как остудить его пыл и вступить в диалог, когда нащупал в кармане нож. Это показалось мне хорошей идеей. Я достал «бабочку», тряхнул кистью и привел нож в боевое положение. Я думал, Толик притормозит, увидев оружие. Но он не притормозил, а тоже достал из кармана нож. Я еще успел подумать: «Какой абсурд!», когда время размышлений прошло. Уже подбегая ко мне, Толик вильнул вправо и ударил ножом, метя мне в живот. Я отскочил, одновременно приседая от левого хука. Тут Толик порвал дистанцию, и мы столкнулись. Точнее, я улетел в сугроб, а Толик остался стоять на дороге. Из его шеи торчала рукоятка моего ножа. Я всадил лезвие рефлекторно, не задумываясь о последствиях. Толик опустился на колени и вытащил нож. Из яремной вены ударил бурунчик крови. Я подбежал и прижал шапку к ране. Девушка вылезла из «Лексуса» и завизжала как сирена. Через минуту Толик умер. Мои мысли понеслись вскачь. Недавно я написал роман, который надеялся издать, и тюремный срок не входил в мои планы. Жизнь только начинала налаживаться. Я пить даже бросил. Лихорадочные размышления прервал резкий скрип снега за спиной. Я ушел на кувырок, вскочил и оглянулся. Девушка из «Лексуса» подобрала нож Толика и размахивала оружием с безумными глазами. Дистанция между нами сокращалась. Я еще мог подобрать свой нож, но решил этого не делать. Я скользнул девушке навстречу и ударил ее в подбородок. Получилось плохо. Получилось очень плохо. В последний момент опорная нога поехала по Толиковой крови, и удар вышел сильным и неточным. Девушку буквально швырнуло в «Лексус», приложив затылком о бампер. Я подбежал к ней и нащупал пульс. Поначалу он был нитевидным, но вскоре пропал. Оглядевшись, я вытащил ключи из замка зажигания и открыл багажник. Положил туда девушку. Обливаясь потом, пристроил Толика. Забросал пятна крови снегом. Кое-как разместил в салоне лыжи и палки. Сел за руль. Меня била крупная дрожь. В багажнике зазвонил телефон. В голове всплыло имя: Михалыч. В начале нулевых я работал на «Северном», где изредка практиковали двойные захоронения. Это когда копальщики углубляют плановую могилу, кладут туда незарегистрированного мертвеца, засыпают землей до гостовской глубины, а потом, сверху, хоронят официального покойника. Всей этой бодягой тогда заведовал Михалыч, и, насколько я знал, он до сих пор работал на кладбище. Отыскав его номер, я позвонил. — Михалыч, это Пахан. — Сто лет, сто зим. — Я по делу. — Излагай. — Тут два человека непредвиденно зажмурились. Концы бы в воду, что скажешь? — Можно. Сто тысяч. — За одного? — Обижаешь. За двоих. — Дам сто пятьдесят, но надо прямо сейчас. — Есть два вакантных места в безымянном квартале. Вези. Только езжай прямо туда, у конторы не светись. — Через десять минут буду. «Северное» встретило меня безлюдной тишиной, хотя людей там около двухсот тысяч. Михалыч подъехал через пять минут после меня. С двумя комплектами лопат. Потому что долбить стылую землю лучше титановой штыковой, а выбрасывать — совковой. За полчаса мы углубили могилы на восемьдесят сантиметров. Девушка легла аккуратно. Для Толика пришлось углубить еще. Когда дело было сделано, а земляные днища выровнены и не вызывали подозрений, я записал номер карты Михалыча и поехал в гараж. Он находился на Судозаводе. В этом гараже знакомые автоугонщики разбирали ворованные тачки. Скинув им «Лексус» за четыреста тысяч, я взял лыжи, дошел до остановки и кое-как забрался с ними в автобус. Толик выбежал из леса бодрой рысью. Он был в расстегнутой дубленке и выглядел весьма внушительно. Не знаю, что ему рассказала подруга, но разговаривать он явно не собирался. Толик летел ко мне на всех парах с перекошенным лицом. Вдруг его физиономия прояснилась. — Пахан! Я тоже расслабился. Передо мной был мой старый кореш, с которым мы три года боксировали в одном зале. — Толян, братко! Братко сгреб мою руку и чуть не раздавил. Чувствовалось, что он по-настоящему рад меня видеть. — Ну, чё ты, как? — Да нормалек. На лыжах, вишь, гоняю. — Красава. Представляешь, эта мне звонит, говорит, мужик из леса вышел, в машину лезет, изнасиловать хочет. — Ни в жизнь. Ты ж меня знаешь. Она просто на лыжне припарковалась, я чуть не врезался. Отъехать попросил. — Да я сразу понял, что пиздит, когда тебя увидел. Но ведь как, сука, ловко намазала. Чуть лбами не столкнула, в натуре. — Есть такое дело. Главное — все пучком. — Пучком, но не совсем. — В смысле? — А под жопу надо напинать и тут оставить. Чтобы не пиздела в следующий раз. Толик подошел к машине, открыл водительскую дверь и выволок подругу наружу. — Толик, ты чего?! Это он ко мне приставал! — Нет, Пахан, посмотри? Это ж какая охуевшая морда! — Вы знакомы, что ли? — Знакомы, Мариночка. Очень хорошо знакомы. Это братан мой. Мы щас в ресторан с ним поедем. Поедем, Пахан? — Да легко. — Вот! — А я? — А ты... Толян развернул Марину к себе спиной и пнул ей под жопу. Девушка пробежала несколько метров и упала на дорогу. — Ты, Мариночка, сама по себе. Как хочешь, так и добирайся. Покеда. Толян сел за руль и открыл багажник. Я кое-как засунул лыжи и упал на переднее сиденье. В зеркало мне было видно, как девушка потирает ушибленное место. Потом Толян дал по газам и повернул на Якутскую. Марина исчезла. Я задумался о том, как буду выглядеть в лыжных ботинках посреди дорогого ресторана. Пока девушка звонила, я подобрал палки и лыжи. Сдул снег с креплений. Протер. Собрал все в один комплект с помощью пластиковых держателей. Вернулся к машине. Напряженно уставился вдаль. В немом ожидании прошло пятнадцать минут. Я слегка подмерз, но был полон решимости убрать «Лексус» с лыжни. Вдруг водительское стекло опустилось. — Замерз? — Где твой Толик? — Не знаю. Он трубку не берет. — Блин! Так отъедь, и все. Я сразу уйду. — Не могу. — Почему? — Я водить не умею. — Так ты же за рулем? — Ну, я сюда пересела. — То есть на лыжню Толик припарковался? — Он. — А чего сразу не сказала? — Ты так неожиданно появился... Я испугалась. — Что у тебя на лице? — Что у меня на лице? — Под тоналкой. Это синяки? — Тебе не пофиг? В героя решил поиграть? — Нет. Просто не люблю синяки. — А кто любит? — Ты, видимо. Их тебе Толик поставил? — Да. Он хороший, только очень ревнивый. — Как же он тебя одну в лесу оставил? — Ну, тут же мужиков нет. Толик с колонией о чем-то договаривается, а мне с ним нельзя. — Ладно. Я пойду. Но ты запомни мои слова: когда-нибудь он тебя убьет. — Не убьет. Он отходчивый. — Не факт, что ты его отходчивость застанешь. — У тебя губы посинели. Сядь в машину, согрейся, потом пойдешь. — А если Толик вернется? — Не вернется. Я его, бывает, по три часа жду. Да и все равно он вначале перезвонит. — Ладно. Уговорила. Я сел в машину, скинул перчатки и стал усиленно дышать на руки. — Тебя хоть как зовут, уничтожительница лыжни? — Марина. А тебя? — Павел. — Ты с Пролетарки? — С нее. А ты откуда? — Я из Березников. Учиться в Пермь приехала. — На кого? — Актрисой хотела стать. В институт культуры поступила. — О господи! Стать актрисой в нашем «кульке»? — Да знаю. Сейчас знаю. А тогда... — Ясно. А с Толиком-то как связалась? — В клубе познакомились. Он випку снимал. Год уже у него живу. — Нашла себе золотую клетку? — Нашла. Лучше в золотой жить, чем в железной. — А без клетки не пробовала? — А ты пробовал? — Прямо щас пробую. — Вот не верю. Все мы в клетках живем. Или в вольерах. Или в каких-нибудь загонах. Что там еще есть? — Заповедники? — Не, заповедники другое... Сафари-парки, вспомнила! — Если из твоей терминологии исходить, то я в сафари-парке живу. Вдруг Маринино лицо исказил ужас. Я резко обернулся. Здоровенный мужик в расстегнутой дубленке распахнул дверь. — Даже здесь себе ебаря нашла, курва?! Бугай схватил меня за грудки и вышвырнул из салона. Я ловко перекатился, встал на ноги и вытащил нож. Толик (а это был Толик) криво усмехнулся и ринулся на меня. Я подбросил нож на ладони, перехватил за лезвие и резко метнул. Рукоятка ударила Толика в грудь безо всякого эффекта. Наступив на «бабочку», он разорвал дистанцию и сбил меня с ног. Я попытался откатиться, но был прижат к земле. Волосатые руки сомкнулись на моей шее. Когда я начал отъезжать, а лицо Толика расплылось в мутное пятно, хватка вдруг ослабела. Толик осел на меня, накрыв мое лицо пузом. Долгое время не происходило ничего. Потом я услышал испуганный голос Марины. — Паша?! Ты жив? Говорить у меня не получалось, но я жизнеутверждающе промычал. Совместными усилиями нам удалось вытащить меня из-под Толика. Оказывается, Марина огрела его монтировкой по затылку, когда поняла, что он меня вот-вот прикончит. Пощупав толстую шею, пульса я не обнаружил. Марина разрыдалась, подошла ко мне и растерянно взяла меня за руку. Вдвоем мы загрузили труп в багажник. Толика пришлось кантовать на моих лыжах и по ним же волоком затаскивать в машину. Позвонив Михалычу, я повел «Лексус» на «Северное». Интересно, что мне делать с Мариной? И как я объясню всю эту фигню собственной жене?.. Больно приземлившись на левый бок и хлопнув ладонью по снегу (так меня учили падать в секции дзюдо), я отстегнул лыжи и подошел к «Лексусу». В салоне громко играла музыка. За рулем сидела миловидная девушка. Мой кульбит остался ею незамеченным. Я постучал по стеклу. Девушка воззрилась и убавила звук. Дверь она не открыла и стекло не опустила. — Вы припарковались на лыжне. Отъедьте, пожалуйста. Я только что чуть не врезался в вашу машину. — О господи! Простите, пожалуйста. Я не заметила лыжню. Сейчас отъеду. Через две минуты лыжня была свободна. Я снова пристегнул лыжи и покатил себе дальше. До конца круга оставалось два километра, и мне хотелось пробежать их во всю мочь, чтобы компенсировать глупую остановку из-за машины. Домой я пришел потным и довольным. Как все-таки умиротворительно и уютно бывает в лесу. Лыжи потому что. Экологическая тропа. Урал. Природа. Это вот все.Теряя ясность
Бывает, живешь и мироздание тебе понятно. Как омуль в Байкале плещешься. Прозрачность вокруг. Вот Пермь. Вот работа. Вот жена. Вот друзья. Вот планы на отпуск. Кот в кресле лежит. Интернет. Футбол по телевизору. Чашка кофе с утра. Пробежка. Кроссовки в одно и то же время завязываешь. Плей-лист телефонный любовно подобран. Ясность как в поле. Кажется даже, будто судьбу издалека видать. Будто если что и может произойти, то ты это заранее увидишь. Или предупредишь, если плохое грядет, или улучшишь, если грядет хорошее. Покойное такое чувство контроля. Все ведь было уже. И в тюрьме сидел, и сына хоронил, и с ножом в животе асфальт ногтями скреб. Опыт — как скафандр — облепляет. Приятная непроницаемость. Не гордыня, а просто — ну чего там у вас? Не страшно, не больно, наплевать. Даже не задом наперед уже живешь, сладко замирая от собственного прошлого, а тихонечко, благодушно, как бы на обочине души. Непонятно только, это от нее одна обочина осталась или ты сам сюда пришел. В таких вот пустяковых размышлениях время проводишь. Не то чтобы о смерти думаешь, но и о смерти тоже. Почему бы о ней не подумать, пока живой? Вчера я проснулся рано. Часов в семь соскочил, потому что Оля на работу собиралась, а мне надо было клавиатуру «избить». Я когда просыпаюсь, сразу про кофе думаю. Мне друзья турку гейзерную подарили, а в Гражданской палате (я там работал) — термокружку. Я в нее кофе наливаю и пью маленькими глоточками. Часа три можно печатать, а кофе все горячий. А если штору отдернуть, то за окном на проводе вороны сидят. На них приятно смотреть, когда что-нибудь обдумываешь. Вообще, у меня по отношению к писанине (не важно, статья это или рассказ) сформировался ритуал. Кофе, кружка, вороны на проводе и журнал «Знамя» за 1996 год. Там последние стихи Бродского опубликованы, стихи Арабова и кусочек «Чапаева и Пустоты». Этот журнал жил вместе со мной на улице. То есть десять лет назад я был бомжом. Спал преимущественно в подъездах. Научился пристраивать тело на ступеньки таким образом, чтобы оно могло уснуть. А утром, когда рассвет, я выходил из подъезда, садился на лавку и читал журнал. За полгода бездомья, наверное, раз сто его прочитал и почти весь нечаянно выучил наизусть. Мне кажется, он меня тогда сберег, как оберег. Ну, не он один, но и он тоже. Иногда я думаю, что литература не для тех пишется, перед кем все дороги открыты, а для тех, у кого выхода нет. Литература — это выход, понимаете? Выход там, где выхода нет. И вот сижу я такой, по клавишам щелкаю, пью кофеек, на журнал поглядываю, на ворон. Посреди небывалой ясности. Тут домофон затренькал. Я вначале подумал, что меня глючит. Ну кто ко мне может пожаловать в восемь часов утра? Я, главное, только-только наушники хотел надеть. Если б надел — ничего бы не услышал. Вхолостую домофон бы надрывался. Но надеть наушники я не успел. Секунд двадцать мне не хватило. Вообще, как подумаешь о переплетении маленьких случайностей и какую огромную тень они способны отбросить, то журнал «Знамя» уже не кажется таким уж надежным оберегом. Домофон звонил полминуты, когда я встал со стула и снял трубку. — Да? — Привет, Олег. Это Василиса. Я замолчал. Я зашел в темный лес. Закружилась голова. Василиса. Подруга детства, собутыльница, наркоманка, всадившая три года назад мне в грудь шприц с чужой кровью, от которой я заразился гепатитом С. Я пытался отобрать у нее шприц, потому что она слила остатки с пяти шприцов и хотела этой кровью уколоться. Завязалась драка. Я не хотел бить Василису кулаком и поэтому ловил ее руки. Она этим воспользовалась и всадила иглу мне в грудь, чтобы тут же вдавить поршень. Я заболел гепатитом С и был этому рад, потому что мог заболеть ВИЧ. Потом, где-то через месяц, Василису отправили в зону. Она полицейского укусила и по совокупности фактов своей биографии загремела в Березниковскую колонию. Знаете, есть такая фигня, когда человек все видит и будто бы понимает, но шагает под грузовик? На голубом глазу шагает, бог весть почему. Примерно по этим же соображениям я сказал: — Поднимайся, Василиса. И открыл дверь. И вот едва я повесил трубку домофона, как тут же спросил себя: «Зачем?» Я кололся «солью» и чуть не умер, страшно пил и чуть не умер, постоянно дрался и чуть не умер, жил на улице и чуть не умер. Все, с кем я кололся, пил, дрался, бомжевал, умерли. Все, кроме Василисы. И теперь я пригласил ее в дом. Ее невозможно перековать. Пляски с демонами — ее суть. Но невозможно ли перековать меня? Ясность улетучилась. Вокруг раскинулись буераки. Я сбегал в комнату и взял журнал и кофе. С журналом под мышкой и термокружкой в руке я вышел в общий коридор и открыл дверь. На пороге стояла Василиса и улыбалась. — Привет. — Привет. — Я только что освободилась. — Рад за тебя. — Мог бы и приехать... — Мог бы, но я завязал. Жена, знаешь ли, работа. — Как скучно. — Ясно. — Ясно? — Ясно. — Кому нужна такая ясность? Хриплым красивым голосом Василиса пропела: «И мы с тобой не доживем до пенсии, как Сид и Нэнси, как Сид и Нэнси». Ее каштановые волосы струились по плечам. Правильные черты дышали жаждой жизни. Голубые глаза глядели с издевкой. Во всей ее фигуре была какая-то страшная правда саморазрушения, от которой я почему-то не мог отвернуться. То есть я старался от нее отвернуться, но что-то случилось с шеей. Я смотрел и смотрел, и чем дольше я смотрел, тем увереннее смотрела Василиса. — Зачем ты пришла? — Мне негде жить. Родители от меня отвернулись. Василиса притворно вздохнула. — И что? — Пусти пожить. У тебя ведь есть свободная комната? — Не пущу. Она занята. У меня приятель живет. (У меня действительно жил приятель, попавший в трудную ситуацию.) — Прогони его. Если, конечно, дело только в приятеле. — Не только. Моя жена не допустит, чтобы ты тут жила. — То есть дело в жене и приятеле?.. Ты любишь ее? — Люблю. — По рукам и ногам, бедный Олежек. Давай хоть кофе попьем. Или ты меня даже в гости не пригласишь? Я смешался. Гостеприимство — это черта моего характера, понимаете? Василиса только что освободилась. В конце концов, мы с ней с детства дружим! — Давай попьем. Проходи. Я посторонился, и Василиса проскользнула в квартиру. Я побрел за ней. Я брел и пытался рассуждать логически. Взывал к ясности. Ясность ускользала. Я вдруг понял, что перестал себя понимать. Что вообще перестал понимать мир. Я был ни в чем не уверен, даже в том, что живу так, как мне нравится, и люблю свою жену. В коридоре Василиса взяла полотенце и коротко бросила: — Я в душ. — Там... — Да знаю. Я ведь уже была. Пока Василиса мылась в душе, я сварил кофе и нарезал бутерброды. Я нарезал бутерброды и прислушивался к льющейся воде. Я знал, что могу взять нож, открыть им ванную и присоединиться к Василисе. Она будет не против. Я буквально кожей чувствовал, что она будет не против. Чтобы отвлечься, я раскрыл журнал и попробовал читать. Буквы не шли в глаза. Точнее, глаза не могли за них зацепиться, словно буквы были в скафандрах. Я отбросил журнал и уставился в окно. Через две минуты из ванной вышла Василиса. Она была в одном полотенце и тапочках моей жены. — Какие маленькие ноги у твоей благоверной. Она ходить-то может? — Может. Сними тапки. — Давай без фетишизма. Ты ей тоже целуешь ножки или это только мне такая нежность перепадала? — Пей кофе, Василиса. И уходи. Я не буду играть в твои игры. — Жаль. Я пока сидела, ко мне один дурачок на свиданки стал ездить. Знаешь, есть такие ребятки, которым в кайф поваляться с зечкой. — И чего? — Ничего. Просто он оказался денежным. А я девушка горячая, ты ведь в курсе? — В курсе, в курсе. Дальше что? — А то, что он подарил мне двести тысяч. Хочу на все лето уехать к морю. Пожить в свое удовольствие. Поехали со мной, а? Ну, сам посуди, зачем тебе эта мещанская жизнь? Ты всегда от нее бежал, а тут вдруг стал поборником. Хочешь жить долго-долго и умереть в один день? — Хочу. У меня ясность. Мне нравится ясность. Последние три года я держусь за эту ясность двумя руками, и ты меня от нее не оторвешь. — Это не ясность, Олег. Это просто быт. Ты никогда не жил бытом, и поэтому тебе по приколу. Но это пройдет... Я слышала, ты чего-то пишешь? — Пишу. — Читала. На «Фейсбуке». Знаешь, что ты делаешь? — Что? — Живешь на бумаге, вместо того чтобы жить на самом деле. Не по Бердяеву как-то. — В смысле? — Ну, творчество жизни выше искусства. Артюр Рембо вот бросил заниматься этой галиматьей и подался в жизнь. А тебе слабо? — Ты готовилась к этому разговору? — Нет. Я очень много разговаривала с тобой в тюрьме. Даже дурачка, который мне денег дал, Олегом называла. — Тяжело тебе там пришлось? — Унизительно, но в целом нормально. Я хорошо дерусь. Ну так что? Едешь со мной или дальше будешь прикидываться порядочным? — Я не прикидываюсь, Василиса. Мне нравится жить так, как я живу. — А как ты живешь? — Не пью, не балдею. Много пишу. Иногда путешествую. Люблю жену. Как все, короче. — Это не как все, это как монах. Даже как евнух в витальном смысле. — Пускай. Можешь назвать это монашеством, башней из черного дерева, как угодно. Я тут навсегда, понимаешь? Я это выбрал, потому что другое — распад и смерть. — Это же прекрасно! Нет ничего честнее распада и смерти. Василиса подняла с пола рюкзак и вытащила из него бутылку «Старого Кенигсберга». — Я себе в кофе плесну. Или в твоем доме алкоголь нельзя пить всем, а не только тебе? — Плесни, конечно. Я не фанатик. — Но скоро им станешь. Люди не меняются, Олег. — Не надо говорить со мной стереотипами. Человек не константа. Он постоянно меняется. Просто мы редко наблюдаем радикальные перемены. — Твои перемены дутые. Это как с путинистами и антипутинистами. И те и другие жить не могут без Путина. Разница лишь в том, что одни его славословят, а другие ругают. Вот скажи честно, разве не кайфово было бы сейчас вмазаться и весь день провести в постели? Вспомни приход? Чувствуешь? У меня мурашки по коже. Посмотри! Василиса протянула руку и полотенце спало. В одну секунду она оказалась совершенно голой. Я дернулся и зажмурил глаза. — Ты как девственник, честное слово. Будь я на твоем месте, уже давно бы меня трахнула. — А дальше-то что, Василиса? Развестись с женой, уехать с тобой на море, пить и колоться, забросить литературу, а когда кончатся деньги — опять идти на гоп-стоп? — Слушай, отличный план! Мне нравится. Хочешь, я сама позвоню твоей жене? Мой телефон лежал на столе. Василиса его схватила и стала листать мои контакты. — Отдай! — Мы же все решили, милый? К чему эти эмоции? — Немедленно отдай телефон! — Хорошо. Но если ты со мной выпьешь за освобождение. Мне уже было все равно, лишь бы она не позвонила жене. Бегать за ней по всей квартире, драться и царапаться у меня не было сил. Я был глупым омулем, выброшенным на берег Байкала. Бутылку коньяка мы приговорили за полчаса. Василиса отбросила полотенце и склонила раздеться меня. Быть голыми, но не заниматься сексом, а говорить — вот что, по ее мнению, было круто. Потом нам пришлось одеться, потому что надо было сходить за второй бутылкой. К ее исходу Василиса достала из сумки красную помаду и ярко-ярко накрасила губы. Потом продефилировала по кухне и сказала: «Я одета в одну помаду!» Я схватился за голову. Конечно, я опьянел и смотрел на жизнь легкомысленно, но не до такой степени. Хотя нет, до такой, потому что мой член стал набухать. Я сопротивлялся наваждению изо всех сил. — Когда твоя жена вернется? — В семь вечера. — Вариантов два. Либо едем в отель, либо звоним ей по громкой связи и объясняем ситуацию. — Какую ситуацию? — Ну, что мы вместе и все такое. — А мы вместе? — А разве нет? — Нет. — Почему это нет? — А почему да? — Мы сидим голые на твоей кухне и пьем коньяк. Наверное, поэтому. — Это ничего не значит. Я каждый день с кем-нибудь сижу на кухне голый и пью коньяк. — Врешь. Ты вообще не пьешь. — Не пью. Я и сейчас не пью, а просто делаю вид. — Прикалываешься надо мной, да? — Чуть-чуть. — А зачем? — Тебе пора, Василиса. Допиваем, и ты уходишь. Договорились? — Ты кое-чего не понял, Олег. Я никогда, слышишь, никогда от тебя не отстану! Ты — мой. Смирись с этим. Прими как факт. Жена, работа, все твои размышления... Они ровным счетом ничего не стоят, потому что ты — мой! — Ты это щас серьезно? — Серьезней некуда. Как Сид и Нэнси. Хочешь, вены вскрою? — Не надо. Давай я поставлю Сида и Нэнси? Панк заполнил кухню. Пользуясь шумом и тем, что Василиса слушала песню, я ушел в туалет и позвонил в полицию. Не знаю, зачем это сделал. Мне эта идея показалась блестящей. Я понял, что иначе мне от Василисы никогда не отделаться. Я думал ее обидеть. Думал, полиция ее вышвырнет или увезет в участок и выпишет штраф. Я хотел сделать подлость, чтобы оттолкнуть Василису от себя. Чтобы она больше не приходила. Такую демонстративную подлость. Как по щекам отхлестать. Показать ей, насколько она мне не нужна. — Дежурная часть. — Алло, ко мне в квартиру вломилась пьяная девушка. Она дебоширит. Я думал, она свидетель Иеговы, а она ворвалась и дебоширит. Помогите, пожалуйста. — ФИО, адрес. — Олег Степаныч Рудаков, Докучаева тридцать восемь, квартира сто двадцать. — К вам выехал наряд. Ждите. Я съел зубчик чеснока, сжевал кофейное зернышко, вышел из туалета и оделся. (Зубчик и зернышко я захватил по дороге в туалет.) Василиса воззрилась. — Ты чего оделся? — Я совсем забыл. Бабушка может прийти. Зачем травмировать старушку? — Старушку действительно травмировать не стоит. Хотя мое тело не способно никого травмировать. Разве что восхитить. Василиса сладко потянулась и огладила груди. Потом медленно оделась, как бы застывая в интересных позах. Затренькал домофон. — Это кто? — Бабушка, наверное. Одевайся, я открою. Наряд полиции состоял из двух крепких мужиков. С усами и без. Со мной заговорил усатый: — Что у вас случилось? — Открыл дверь. Думал, святоши проповедовать пришли. А она ворвалась в квартиру и давай пить коньяк на кухне. Я ее пробовал выгнать, а она царапается и кричит, что вичевая. Нафиг надо. (Про вичевую я наврал.) — Понятно. Щас разберемся. Когда полицейские вошли на кухню, Василиса курила в форточку. Я старался не смотреть ей в лицо, но все равно посмотрел. Безмерное удивление и почти такая же брезгливость. Почему-то у меня в сердце похолодело. Я вытянул руку и ткнул пальцем в Василису: — Вот она, дрянь пьяная! Забирайте ее. Это она ко мне ворвалась. Василиса молчала. Она не пыталась оправдаться, что-то объяснить или наорать на меня. Она просто молчала и как бы ощупывала глазами мое лицо. — Пройдемте с нами, девушка. У вас паспорт есть? Безусый взял Василису под локоть. — Володя, да она совсем бухая! — Так и запишем. Это ее сумка? Я не мог оторвать глаз от Василисы и молча кивнул. Содержимое сумки посыпалось на стол. Усатый воскликнул: — Да это же наркотики! Сережа, зови понятых. Здесь пятерка весом, не меньше. Похоже, «соль». Спасибо вам большое, молодой человек, вы помогли... Я задохнулся. Пятерка весом. Десять лет сроку. Это конец. Василиса там умрет. Сейчас она этого не понимала. Она все так же молча ощупывала мое лицо. Она была убита моим предательством. А я внутренне завыл. Я выл как псина, а когда безусый шагнул за понятыми, я ребром ладони перерубил ему кадык. Усатого я убил ножом. Он успел вскочить со стула, но дальше я ему шанса не предоставил. Скакнул навстречу и три раза погрузил кухонный нож в широкую грудь. На автомате добил безусого. — Уходим, Василиса! Девушку била крупная дрожь. — Куда? — Тела прятать бесполезно. В дежурке знают, куда они уехали. — И что? — Ничего. Рвем когти на юга. Мне пж светит. У тебя документы с собой? — Да. — Все, уходим! И мы ушли. На такси. В сторону Абхазии. Журнал остался на кухне. Жене я так и не позвонил.Вопросительное
Живу как по маслу, а иногда проснешься и вдруг спрашиваешь себя: Андрей, а хороший ли ты человек? И голос, главное, такой, будто с тобой далекий космос разговаривает. Почему? Откуда? Фиг его знает. А отвертеться не получается. Я так-то очень двуличный человек. То есть не двуличный, а вроде как артист. Страсть до чего люблю прикидываться. От чего угодно отвертеться могу. От армии отвертелся. От тюрьмы три раза отвертелся. От алиментов даже отвертелся вместе с предыдущей женой. А еще я с людьми лажу. Не знаю. Само собой выходит. Бессознательно. Например, звонит мне Сивый и говорит: пт, братан! А я такой: пт, фартовый, как сам? А он: ништяк, прошвырнемся? А я: да без бэ, сам знаешь, а он: ага-га, ага-га, а я: ага-га, ага-га. Душа в душу, короче. Или вот звонит мне Валерий Игоревич. «Здравствуйте, Андрей». «Добрый день, Валерий Игоревич». «Я звоню вам по поводу объекта...» «Простите, что перебиваю, но по поводу объекта вы можете совершенно не беспокоиться, потому что вчера подвезли материалы и бригада уже приступила к работе. Я держу руку на пульсе и буду еженедельно сообщать вам о ходе строительства». Как-то так, в общем. Врожденные кривляния. Или я фильмов в детстве пересмотрел. Фиг его знает. Своя душа — потемки. А еще я люблю противоречить из чувства противоречия. Тоже так себе черточка. Я поэтому, кстати, и не женюсь вторично, а просто живу, минуя свадьбу. На свадьбе клятвы надо говорить, а я когда клянусь, то сразу думаю, как эту клятву нарушить. Я с детства такой. Я «нельзя» как «можно» воспринимаю, а «можно» как «надо подумать». Конечно, я никому про это не рассказываю, а обстряпываю все по-тихому, потому что не люблю нести ответственность. Я как бы стремлюсь к легкости, а какая может быть легкость, если ответственность? Легко нести ответственность можно только на широких плечах, а у меня плечи обычные, среднестатистические. Плюс я дохрена книжек прочитал. То есть у меня вообще на любой случай есть отговорки и под всякую ахинею я могу подвести целую философию. К примеру, когда я пил, то объяснял запои цитатами из Довлатова. Когда бросал жену, ссылался на «Эрос и личность» Бердяева. А когда мне пьяному не давали в баре курить, я разглагольствовал про фашизм и, кажется, приплел Хайдеггера и Муссолини. Убедительно приплел. Пока плел, успел докурить. До фильтра прямо высосал, до сих пор помню. Очень я хитрожопый человек потому что. И вот проснулся я седьмого мая весь такой хитрожопый, а тут голос этот космический: «Андрей, а хороший ли ты человек?» «Чего, — говорю, — начинаешь-то? Хороший, плохой — понятия абстрактные, только безумцы обсуждают их на трезвую голову». А далекий космос не умолкает: «Андрей, а хороший ли ты человек?» «Отъебись», — говорю. А далекий космос хохочет и гнет свою линию: «Андрей, а хороший ли ты человек?» Как сверло соседское в два часа ночи. Ноет и ноет, зуб гнилой. Я, конечно, встал, по квартире прошелся. Подруги нет, на работу ушла. Хотел поесть, но чё-то не поел. На улицу пошел. Голову, думал, проветрю, и отстанет от меня этот инопланетный голосок. Не отстал. Про Еву спросил. Это подруга детства моя. Она скололась, и ее в тюрьму посадили. Мы с ней вместе кололись. Я выбрался, а она — нет. Я ее вычеркнул из своей жизни. Ева чокнутая. С ней скорее подохнешь, чем станешь счастливым. Я пробовал. Она просто недавно освободилась. Из-за этого, наверное, все. Она пока сидела, я ей ни разу не позвонил. А когда она звонила — не отвечал. У меня только-только житуха нормализовалась. Мне эта возня нафиг не нужна. «Андрей, а хороший ли ты человек?» Сучий космос. А ты сам-то, блядь, хороший? Чё ты мне предлагаешь, а? В гости к ней зайти? С подругой расстаться? Может, «солью» еще по вене шмякнуться? Пока я переживал, глупые ноги принесли меня к Евиному подъезду. На лавку сел. Сижу, обутками болтаю. Домофон номер «семьдесят пять», баба ягодка опять. Такой вот бред в голове, представляете? «Андрей, а хороший ли ты человек?» Ебать, какой плохой. Не буду я ей домофонить. Через пять минут я набрал «семьдесят пять». Не потому, что космос победил, а потому, что я ему так не покорялся, что из чувства противоречия вдруг захотел покориться. «Ааа, — думаю, — пошло оно все, чему быть, того не миновать!» — Кто там? — Еву можно? — А кто спрашивает? — Андрей. — Поднимайся. Поднялся. Ну, то есть сначала две сигареты выдолбил, а потом уже в лифт шагнул. «Андрей, а хороший ли ты человек?» Хоть висок дырявь, честное слово. Когда двери открылись, я чё-то разнюнился. Слезы по щекам зачем-то потекли. Доконал меня этот херов вопрос. На этаж вышел, а тут Ева стоит. Бледная вся, худая, потому что у нее ВИЧ. А у меня нет ВИЧа. Тут я тоже выбрался, а она — нет. Вот может хороший человек из такого количества передряг выбраться? Риторический вопрос. — Привет, Андрей. — Привет, Ева. — Ты не звонил. Вычеркнул меня, да? — Да. — А зачем пришел? Тут я растерялся и ляпнул: — Скажи, Ева, а хороший ли я человек? — А ты сам как думаешь? — Фиг его знает. Наверное, нет. Ко мне голос прицепился. Такой внутренний, понимаешь? С утра прямо. Говорит и говорит. То есть спрашивает. Одно и то же, как автоответчик. — Что спрашивает? — Андрей, а хороший ли ты человек, прикинь? — Ты снова колешься? — Да вот нифига, в том-то и дело! — Странно. — Очень странно. «Андрей, а хороший ли ты человек?» — А ты? — Что — я? — Ты колешься? — Нет. Ева закатала рукава халата. Тонкие руки, исполосованные шрамами (она несколько раз вскрывала вены), были чисты, никаких свежих проколов. Хотя это ничего не значит. На человеческом теле полно вен, которые так запросто и не осмотришь. Да и зачем их осматривать? Ебенный бред. — Ева? — Да? — Я пойду. — Насовсем? — Насовсем. Зря я сказал «насовсем». Не надо было этого говорить. Я вдруг так живо представил, что большеникогда ее не увижу, что чуть не закричал. «Андрей, а хороший ли ты человек?» Вот ведь срань господня. Что я творю? Пока я все это думал, идиотские губы проговорили: — Пойдем ко мне, Ева. Попробуем заново. В последний раз. «В последний раз» — это ж надо? Мейсон из Санта-Барбары и тот такой херни не нес. — Нет, Андрей. Я с Сивым встречаюсь. Мне с ним хорошо. Прости. — А зачем ты спросила: насовсем? Зачем, блядь, ты мелодраматически спросила: насовсем? — Да по приколу. Потому что ты меня швырнул и в колонию даже ни разу не приехал! — А Сивый, значит, приехал? — Приехал. — Выебал тебя там, да? — Ох и выебал, Андрюшенька! До сих пор ноги дрожат. — За жопу тебя держал, да? Раком ставил, да? А если я тебя за жопу возьму? Если я тебя прямо здесь раком поставлю? Не знаю, что на меня нашло, но я притянул Еву к себе и стал целовать ей лицо. А потом закатал рукав и поцеловал каждый шрамик на руке. Какой-нибудь херов Дюма назвал бы эти поцелуи «исступленными». Ева отозвалась. Наши языки перемешались. По стенке мы уползли к мусоропроводу. «Андрей, а хороший ли ты человек?» — Сивый тебя так раком ставил? Так, да? — Д-а-а... Давай же... Ну! И я дал. По самые яйца. А когда кончил, мне вдруг стало противно, и я убежал. В голове бултыхалось: «ВИЧ, презерватив не надел, подругу могу заразить, надо ей все рассказать, ланфрен-ланфра, лан-та-ти-та, Сивого убить, дайте мне точку опоры, и я наброшу на нее петлю». Возле дома в башке прогремело: «Андрей, а хороший ли ты человек?» Я поднял лапки кверху, лег на лавку и закрыл глаза.Женя и Литература
Женя Хохряков писал роман, а роман не писался. Не знаю, зачем он стал писать роман. Нормальные мужчины романов не пишут. Нормальные мужчины делают деньги и любят женщин. Женщин Женя тоже любил, но литературу любил больше. Хорошо любить литературу, когда ты живешь в Москве. Неплохо любить литературу из Петербурга. Однако Женя любил ее в Окуловке. Если вы возьмете карту Пермского края и будете долго на нее глядеть, слева от Перми вы увидите городок Оханск, а сразу за ним деревню Острожку. Дальше карта вам не поможет. Дальше надо ехать на машине, и через десять километров вы упретесь в Окуловку. Женя не то чтобы имел несчастье там родиться, но он не имел счастья родиться в Москве. В одном только Жене повезло — он родился смышленым. Смышленость помогла Жене поступить в университет, жениться, развестись, сделать карьеру, сесть на герыч, слезть с герыча, сесть на стакан, слезть со стакана, поумнеть, разочароваться, написать несколько удачных рассказов, дожить до тридцати и вернуться в Окуловку, чтобы написать роман. Один знакомый писатель ему прямо сказал: пиши, Женя, исторический роман, иначе не видать тебе счастья. Женя заерзал. Он хотел писать роман про наемного убийцу-франкофила, который влюблен в Катрин Денёв. Знакомый писатель замахал руками. С его слов выходило, что народонаселение не интересует современность, народонаселение интересует история. «Золото фунта», «Межсезонная дорога», «Марфа приоткрывает глаза», «Гробитель» — сыпал он названиями бестселлеров и, в конце концов, склонил Женю к историческому роману. Склонить-то он его склонил, однако сердцу не прикажешь, но парень попробовал. Сначала он попробовал написать про староверов, но про них уже написали. Потом он попробовал высказаться по существу о горнозаводской цивилизации, но и тут его опередили три раза. Тогда Женя решил покопаться в делах революционных. Копание продлилось недолго. Парень уснул на редких архивных документах и напускал слюней. Конечно, его с позором выгнали на улицу. На улице Женя огляделся и сообразил ехать в Окуловку. «Напишу про Окуловку, погружу в контекст, пусть знают!» — подумал он лихо и купил билет в деревню. Тут надо сказать, что клевание носом в архиве, равно как и разговор со знакомым писателем не прошли для Жени бесследно. Отныне все, что он видел вокруг, он видел как бы в историческом ключе. Еще вчера он любил жизнь и смотрел в будущее, которое даже видел. Сегодня Женя повернулся вспять, напряженно вглядываясь в смутные зигзаги истории. Женя плохо знал историю. Женя на ней дрых. Автовокзал города Перми. Желтый. Историческое здание. Построено за два дня до Карибского кризиса. Рабочих расстреляли. Из водных пистолетов. Мимо пробегавшие дети. Водные пистолеты были изобретены через три дня после смерти Сталина. Изначально Королев создавал их, чтобы откачивать слезы из слезных протоков советских граждан, потому что слезы там застревали, так много все плакали. А потом все перестали плакать, потому что Хрущев сказал, что не стоит, и взрослые отдали ненужные приспособы детям. А те налили туда воды и давай друг в друга пулять. Ну, и в рабочих, которым было жарко таскать кирпичи. Подумав все это, Женя подошел к платформе номер «пять». На платформе номер «пять» столпилось три человека, одним из которых была бледная девушка с локонами. Два других человека были бабушками лет сорока семи и не заслужили Жениного внимания. Девушка тоже не заслужила Жениного внимания. Оно как-то само заслужилось. Серые глаза с поволокой. Фарфор щек. Ноги с набалдашниками ягодиц. Изящные кисти. Пальцы потомственной пианистки. Зовущая шея. Игривая рыжина. Героиня Джармуша на выданье. Женя вздохнул. Женя ехал писать роман. Ему было не до любви. Ровно в девять ноль пять к платформе подъехал «Икарус». Если это был не первый «Икарус», попавший в Россию, то уж точно второй. Он представлял историческую ценность. Известно, компанию «Икарус» основал в 1895 году дальний родственник Наполеона, бежавший в Венгрию от карточных долгов. Однако именно этот «Икарус» попал в Россию недавно. Судя по кузову, отсутствию левого крыла, поручней, люка и двух форточек, он появился здесь в промежуток между 1918 и 1924 годами. Как раз в то время, когда в Перми жил Михаил Романов, со второго раза расстрелянный мотовилихинскими уголовниками-революционерами. Возможно, великий князь даже ездил на этом автобусе за покупками. Хотя это маловероятно, ведь он прибыл в Пермь с собственным «Роллс-Ройсом», который так и не был найден. По слухам, этот «Роллс-Ройс» до сих пор находится в городе, предположительно в одном из кособоких сараев Разгуляя. Если, конечно, его не продал Жонсон. Или уголовники-революционеры. Подумав все это, Женя вошел в автобус и мужественно прошагал мимо девушки, рядом с которой было свободное место. Потом Женя немужественно прошагал обратно и на него сел. Это было странно и бессмысленно, потому что в автобусе было еще шестьдесят три свободных места (всего в автобусе было шестьдесят восемь свободных мест, но три заняли две сорокасемилетние бабушки). Девушка сидела у окна и по совместительству в него смотрела. У нее был круглый затылок, о котором мне больше нечего сказать. И оттопыренные ушки. Про ушки скажу. В Японии оттопыренные ушки считаются признаком чувственности, и Женя об этом знал. Женя любил чувственность вне зависимости от пола, особенно в женщинах. Автобус тронулся. Поехали. «Башня смерти». Советский дистрофический классицизм. Построена за год до смерти Сталина. Гнездо НКВД. Она, конечно, не по пути, но Женя о ней думал, потому что в Перми не так уж много зданий, о которых можно подумать в историческом ключе. Говорят, в старые времена на месте «Башни смерти» стояла изба, в которой жил Малюта Скуратов, когда поругался с Иваном Грозным. Начиная с 1952 года в «Башне смерти» расстреливали пермяков и гостей города. Наиболее часто тех и других расстреливали по воскресеньям, чтобы в понедельник рабочие могли замуровать трупы в стены. Еще с этой «Башни» сбросился политзаключенный, которого энкавэдэшники затащили наверх и сказали: «Кто не прыгнет, тот фашист!» И заключенный прыгнул, потому что все равно бы сбросили, а так хотя бы не фашист. Последняя история носит фольклорный характер. А в остальном — очень историческое здание. Сам Сталин хотел приехать в «Башню смерти», но не успел. Умер на даче, как дурак. Подумав все это, Женя откашлялся. Девушка повернула круглый затылок к окну. Пригляделась. Отметила высокие скулы, волевой подбородок, широкие плечи. Васильковые глаза писателя произвели на нее влажное впечатление. Женя тоже смотрел. Женя тоже был не без греха. Наконец он колыхнул губами: — Привет. — Привет. Девушка вымученно улыбнулась. На щеках проступили ямочки. Не такие ямочки, когда вилкой мимо пасти промахнулся, а такие, когда Господь приуготовил. — Меня Женя зовут. Ты в Окуловку едешь? — В Окуловку. Таня. Девушка протянула руку. Женя пожал узкую ладонь. Она была жутко холодной и липкой. Парень пригляделся. В Таниных глазах была не поволока. Они были затуманены кайфом. Девушка тоже пригляделась и поняла, что он все понял. А Женя понял, что она поняла, что он понял. А она поняла, что он понял, что она поняла, что он понял. Я так до бесконечности могу. Суть в том, что между молодыми людьми произошло сближение. Первым колыхнул губами Женя: — Героин? — Да. Перекумаривать еду. — Одна? — Одна. У нас там дача, но никто не ездит. Бабушка с дедушкой умерли, а родителям плевать. — Ясно. Какая доза? — Треть. — Сколько? — Два раза в день. — Ты там умрешь. — Пускай. Не могу больше. — Я раньше жрал. — Серьезно? — Да. — И как слез? — Пил. Полгода примерно. — Что с печенью? — Прокачался потом. — Думаешь, мне тоже надо пить? — Надо. Тебя ломало? — Подламывало. — Купи водки. Бутылок пять. Хотя бы на первое время. — А потом? — Суп с котом. У всех по-разному. — Слушай, а ты не мог бы... — Не мог бы. — Я даже не договорила! — А чего тут договаривать? Не мог бы я потусоваться с тобой, пока ты будешь перекумаривать. — А почему нет? Я же вижу, как ты на меня смотришь. — Как? — Вот так. — Как вот так? — Вот так! — Вот так? Женя внезапно плюнул на все и поцеловал Таню в губы. Нефиг на него орать! Он ей устроит! Так нежно поцелует, так нежно, что ей... будет стыдно? — Ух ты! — Не благодари. — Ну так что? — Что ну так что? — Проведешь со мной две недели, присмотришь? — Нет. Я еду в Окуловку заниматься литературой. — Ты писатель, что ли? — Некоторым образом. — Круто! Но ты сначала мне помоги, а потом пиши сколько хочешь. — Нет. Я думаю только о литературе. — Давай так. Называй меня Литература, и больше никаких проблем. — Ты Таня, какая ты Литература. — Нет. Я — Литература! — Таня. — Литература. — Таня. — Литература. — Таня. — Литература. — Литература. — Таня. — Ха! Попалась! Все-таки Таня. — Идиот. Мне плохо... Литература (уважим девушку) положила голову Жене на плечо и свернулась калачиком. Писатель понюхал ее волосы, а потом обнял и понял, что ближайший месяц действительно проведет с Литературой. Впервые в жизни с самой настоящей. Через час за окном возникло наиисторичнейшее здание. Это был Острожкинский храм, возведенный до ямы под фундамент в 1614 году. Яма под фундамент был возведена в честь победы Смутного времени над Иваном Исаичем Болотниковым. В этом храме крестили младшего помощника старшего помощника Строгановых, внебрачного сына Ермака и сиамских близнецов. Потом храм потрепала революция, и в нем стали хранить картошку и прочую флору. Теперь храм отстраивают снова, хотя ни сына Ермака, ни младшего помощника старшего помощника Строгановых, ни сиамских близнецов в округе решительно не наблюдается. Однако здание легендарное. Каждый кирпичик в нем помнит былое, а тот факт, что кирпичи не разговаривают, нисколько не должен нас смущать. Мы и сами-то разговариваем с пятого на десятое. В конце концов, кирпичи не виноваты в амбициях нашей памяти! Дом, в котором не то чтобы не посчастливилось родиться Жене, находился в речной части Окуловки. Это был последний дом от остановки и, соответственно, первый от реки. Дом Литературы, наоборот, чернел неподалеку. Писатель и Литература вышли из автобуса порознь. На улице Литература взяла писателя за руку. — Ты чего? — Мне так спокойней. — Отпускает? — Отпустило. — Пошли за водкой. — Я десять тыщ с собой взяла. — Ну ты крутая. Могла бы колоться и колоться. — Я знаю. — Знаешь, что крутая? — И то и другое. В магазине Женя и Литература попали в очередь. Магазин был изготовлен из киоска и не представлял исторической ценности даже при максимальном приближении. Переговоры с продавщицей взял на себя писатель. — Сколько у вас всего водки? — Ящик. — Какой? — «Пермской». — Так далеко забрались, а водка «Пермская». Давайте пол-ящика. — Пол? — Седмицу. Конечно, пол. Тут с продавщицей заговорила Литература: — И еды еще, пожалуйста. Два килограмма пельменей, макароны, чай, две буханки хлеба, три банки сайры и вон те булочки. Две. Нет, три. Женя наклонился к оттопыренному ушку и зашептал: — Зачем тебе еда, ты не сможешь есть. Ну, почти не сможешь. — Я для тебя. — Для меня? — Для тебя. — Для меня?! — Издеваешься? — Нет. Просто я все время думаю о тебе и как-то забыл, что мне надо есть. А ты, получается, все время думаешь обо мне и забыла, что сама есть не сможешь. — Не все время думаю. — Не все время? — Все время. — И я все время. — Ты меня не бросишь? — Как писатель я не могу бросить Литературу. Как Литература ты должна это понимать. Из магазина они вышли навьюченными. Женя тащил водку. Литература несла продукты. Через двести метров показался черный домик. Он тоже не представлял исторической ценности. Разве что бревна, из которых он был сложен, могли видеть Якова Свердлова, хотя и это вряд ли, потому что в Пермской губернии прославленный революционер постоянно сидел в тюрьме. Дом был устроен просто: сени, две комнаты, кухня. Сортир на улице слева, справа баня и сарай. По центру скелет парника и грядки. Женя поставил водку на стол и затопил печь. — Зачем, Женя? Тепло же. — Скоро ты замерзнешь. Пусть будет жарко, а не тепло. — Ты сказал, что приехал заниматься литературой. — Да. Я хочу написать исторический роман. — О чем? — Об Окуловке. — А ты мне его потом прочитаешь? — Конечно, прочитаю. — Сколько ты со мной побудешь? Женя хотел сказать неделю, а потом сказал: — Сколько понадобится. Ты живешь в дальней комнате. Я в этой. Найди какие-нибудь прочные тряпки или веревку, но лучше тряпки. — Зачем? — Буду привязывать тебя к кровати. — А почему тряпка лучше веревки? — У тебя нежные запястья. Веревка их поранит. — Ты думаешь о таких мелочах? — Это не мелочи. Меня привязывали ремнем. Женя показал руки. На запястьях едва различались белесые шрамы. — Говорят, бывших наркоманов не бывает. — Говорят, в Москве кур доят. — А если серьезно? — Если серьезно, то наркоман бы сюда не поехал. Еще нужно ведро. — Я буду блевать? — Ты будешь очень много блевать. — А ты будешь за мной выносить? — А я буду за тобой выносить. — Почему ты такой? — Какой? — Заботливый. — Я не заботливый. Просто я думаю о Литературе. — Ладно. Когда все начнется? — На рассвете. Приблизительно. — Я боюсь до чертиков. — Выпей водки и поешь. Есть шанс, что ты еще сможешь поспать. Через час Литература уснула. Женя ворочался в постели и задремал глубокой ночью. Утром его разбудил придушенный стон. Ломка началась. Две недели Женя ухаживал за Литературой. Привязывал, обтирал прохладной тряпкой, толок анальгин, выносил ведра, вливал водку, помогал сходить в туалет, вытирал попу. Первые три дня Литература билась на вязках, как ведьмак на шабаше. Женя не мог оставить ее одну и сходить к своим родителям, потому что она постоянно его звала. Парень и за продуктами выбегал всего два раза. Он стал частью ее бреда и в то же время спасительной нитью в реальный мир. Вторая неделя прошла чуть легче, если не считать двух попыток бегства. Только через месяц Литература пришла в себя. Она сильно похудела и напоминала умирающую эльфийку. Это странно, но физиологические проявления ломки не оттолкнули Женю от Литературы. Наоборот, он полюбил ее какой-то зрелой любовью, похожей на любовь крестьянина к земле. — Женя? — Да? — Я справилась? — Справилась. Ты умничка. — Ты вытирал мне попу? — Вытирал. — Что дальше с нами будет? — Дальше мы поедем в Пермь и будем жить у меня. Если ты этого хочешь. — Хочу. А как же твой роман? — Да наплевать. Буду писать рассказы, как раньше. Теперь моя Литература никуда от меня не денется. Женя сиял. Литература нахмурилась. — Ну, я не знаю, хорош ли ты в постели... — Что?! — Шучу... А если я сорвусь? — Снова поедем в Окуловку. Собирайся. Мы уезжаем. И они уехали. Мимо Острожкинского храма, «Башни смерти», на старом «Икарусе» прямиком к историческому автовокзалу. Правда, в этот раз Женя не смотрел на все это в историческом ключе. Да и как смотреть-то, когда вокруг столько все еще живых людей? Поэтому Женя просто ехал домой и думал о литературах.Стрелка
Слякотная осень. Я проснулся трезвым и злым, потому что уже неделю ничего не происходило. Сейчас, когда мне тридцать восемь, я радуюсь отсутствию событий, а в двадцать два я проклинал покой. В двадцать два у меня не было души, у меня было тело и дух. Тренированное тело и наглый дух. Мне нравилось играть в кошки-мышки с операми, нравилось драться, нравилось ехать на стрелку под музыку Наговицына, нравилось срываться с цепи и давать волю своим демонам. Я еще не научился получать удовольствие от их укрощения. Мне даже в голову не приходило, что демонов можно укрощать. Я проснулся, отжался сотку от пола, поболтался на турнике, растянул маваши, почистил зубы, съел два вареных яйца и грустно сел у окна. Я так уже неделю сидел, потому что блядский покой образовался. Ни стрелки, ни делюги, ни даже самого завалящего рамсилова на горизонте не наблюдалось. Нет, я, конечно, ходил в зал и тусовался на «пятаке», но это ведь совсем не то. Рутина. Вата. Будни. Я смотрел в окно и думал, чего бы такого крутого и денежного провернуть, когда мой домашний телефон ожил. Самураи так меч не выхватывают, как я схватил трубку. — Алло! — Петр? Петенька! — Кто говорит? — Это Лена! — Какая Лена? — Из школы. Мы в десятом классе вместе учились. Охренеть. Я эту Лену раньше любил как не знаю кто. Но чисто платонически. Школота, чё тут скажешь. — Понял. Узнал. Сто лет, сто зим... — У меня беда, Петь. — Что случилось? — Я в Екатеринбург учиться уехала. У меня тут жених. Он дорогу перешел уралмашевским. Его поставили на счетчик. В милицию Кеша боится идти. Завтра надо отдавать деньги. — Сколько? — Пятнадцать тысяч долларов. — Нехило. От меня чего хочешь? — Ты не мог бы помочь? — В смысле? — Ну, поговорить с уралмашевскими. Я замолчал. Гнать в Ебург и рамсить с местными — это, конечно, жесть жестяная. С другой стороны, а кто они такие? Не из мяса, что ли? Да и Ленка девка сладкая. А жених это ведь еще не муж. Под благородным соусом можно и заново любовь закрутить. — Когда стрелка? — Завтра в десять вечера. — Где? — На Уралмаше. — Вы чё, с дуба рухнули? А чё не сразу в морге? — Ты о чем, Петь? — Стрелки всегда забиваются на нейтральной территории. Это ж азбука. Твой жених кто? — Предприниматель. — Понятно. Барыга. Чего он там наблудил? — Ничего не наблудил. Просто за крышу не захотел платить. — А пиписька-то у него выросла, чтоб такого не хотеть? Лена промолчала. Говорить, что выросла, как-то глупо, ведь она же мне позвонила. А говорить, что не выросла, обидно, жених все-таки. — Ладно, Лен. Диктуй адрес. Вечером буду у тебя. Водочку готовь. Я с похмелья люблю на стрелки ездить. — Почему? — Потому что злой как собака. Записав адрес, я положил трубку и задумался. Потом по очереди набрал Вову Гордея, Жеку, Валеру Карпа и Диму Снайпера. Первым приперся Дима, потому что он жил подо мной. То есть не по жизни подо мной, а квартира у него внизу находилась. — Чайку, Димон? — На пару хапков. — Без бэ. Делюга есть. — Излагай. — Помнишь, я тебе по бычке про Лену рассказывал? — Это которой ты не вдул? — Это которую я любил. — Ну да. Любил и не вдул. — Тут ваще не про вдул. Она щас в Ебурге живет. — И чё? — А то, что еённый жених коммерс. — И чё? — Чё-чё. Уралмашевские на счетчик его поставили. — Скока просят? — Пятнадцать кусков. — Зелени? — Нет, блядь, деревянных. — Аппетит. — Предлагаю сгонять туда. Урезать пацанам желудочки. — Нас самих там урежут по самое не балуйся. — Ссышь? — Ссу. Они крутые, мы крутые, вот хули из этой встречи получится? — Двенадцать кусков получится. Лучше один раз нам и двенадцать, чем постоянно им и пятнадцать. Арифметика. — Да это понятно. Но в чужом городе силой не попрешь. — А никто переть и не собирается. Приедем, прозондируем почву. Поищем подходики. Если дело швах — уедем. Может, подломим кого по дороге. А если вырулить можно, то почему не вырулить? — Коммерс чем барыжит? — Я даже не спросил. Вот не похер? — Похер, конечно. Интересно просто, где такие куски крутятся. — Щас Лену наберу. Лена долго не подходила к телефону, но все-таки подошла. — Лен, твой жених чем барыжит? — Компьютерами. У него логистика налажена из Китая. — Высоколобый? — Программист. — Понятно. К вечеру жди. Нас пять человек будет. Тут влез Димон: — Девять. Я зажал трубку ладонью. — Почему девять? — Впятером блудняк. На двух моторах надо. — Кого хочешь прицепить? — Фому, Игару, Зегу и Бизона. — Они же обмороки. — Ну и чё? Пусть лучше они пули собирают, чем я. — Тоже верно. Сколько посулишь? — По трешке на харю. — Тыща двести. Плюс бензин, пошамать, туда-сюда. Два куска в руки. Пойдет. — Алло, Лен, ты здесь? — Здесь. — Нас девять человек будет. Дело серьезное. Лучше перестраховаться. Димон запел: — Застрахуй братуху, застрахуй!.. — У нас трехкомнатная квартира. Не знаю, поместитесь ли вы... — Поместимся. Мы впятером в хате будем ночевать. Остальные в машине покемарят. Все. Пока. — Пока. Димон прикурил сигарету и улыбнулся: — Трехкомнатная хата — это очень интересно. — И как тебя в Чечню взяли, такого корыстного? Димон заржал. Я тоже прикололся. Ништяк получилось. «В Чечню взяли» — это ж надо. Пока мы угорали, в дверь заколотились. Это Гордей, Жека и Карп пришкандыбали. Они у подъезда подновились и уже косяк «плана» успели раскурить. — Уу-у-у, бля, наркоманы! — Петрович, не нагнетай. Это Гордей ответил. Он идиот. То есть он правильный пацан, но какой я Петрович, если меня зовут Петр, а отчество у меня совсем другое? — Дядя Петр, есть чё пожевать? Ништячков бы... Это Карп. Он молодой. Ему всего двадцать. Недавно в нашем обществе вращается. Я бросил ему пакет шоколадных пряников. — На. Топчи. — Во пруха. Чтоб я так жил! — Чё позвал-то, Пахан? Жека. Молчаливый и деловой. Человек-молоток. Люблю таких. Хоть «крокодильчиков» к яйцам пристегивай — похуй дым. Но я, конечно, не проверял. — Делюга есть. Если выгорит, срубим по два куска зелени. Расклад такой. Рвем в Ебург, трем с уралмашевскими за одного коммерса, получаем с коммерса лаве и сразу обратно. Тип-топ, чичи-гага, на все про все сутки с хвостиком. Тут возник Димон: — Петруха, я не спросил: где стрела-то будет? — У них на районе. — Чего?! На Уралмаше? Димон аж привстал, так его поперло. — На Уралмаше. Пацаны от таких новостей вообще прикурили. Они за уралмашевских еще не перекубатурили, а тут еще место такое «удачное» оказалось. Короче, все перебздели конкретно, особенно Димон. — А может, ты нас тут завалишь? Сади прямо в рыла по-македонски. Хули бензин катать? — Димон, охолони. Вот скажи, я мудак? — Нет. — Ну и чё ты тогда ноешь? Я ж сказал: приедем, оглядимся, проведем рекогносцировку. Ты духов на войне валил, чё ты уралмашевских-то перебздел? — Я, блядь, снайпер, а не пехота. — А тебя пехотой никто быть и не просит. Выберешь позицию, прикроешь с дальняка. А пехотой я побуду. Вы чё скажете, пацаны? Первым отозвался Карп. Он заглотил пряник и просипел: — Я в деле. Хули тут на голяках сидеть? — Сам знаешь, Петрович. Задрал меня Гордей с этим Петровичем, честное слово. Жека с ответом медлил. Очень задумчивый характер носила его «заточка». Через минуту он как бы очнулся и сказал: — Я участвую, но хочу знать, как ты вышел на этого коммерса. Пришлось мне рассказать ему про Лену. — Это которой ты не вдул? — Это которую я любил! — И не вдул. Димон чуть со стула от хохота не упал. И чего смешного? Шутят одинаково, как инкубаторские. Дальше все понеслось как по маслу. Димон позвонил обморокам и затянул их на делюгу. Они рассекали на «бочке» (это «ауди» такая). Мы зарядили свою бэху. Димон взял «драгунчика». Он у него на пятихатку метров пристрелен и забоксиден на прицеле. Я притараканил спортивную сумку короткоствольных. Был у меня тогда схорон заводской. Прапора — они больше генералов кушать любят. В четыре дня мы подловились на «пятаке» и на двух тачилах рванули в Ебург. Люблю такие поездки. Из которых ты необязательно вернешься. Примерно на середине пути мы остановились пожрать. Все сразу в кафешку прошли, а Карп поссать двинул. Нам шнырь уже хавку таскал, когда Карп ворвался в помещение и с ходу заорал: — Дядя Петр, эти бляди медведя в клетку засунули! ШИЗО Мишке устроили. У него глаза, бля, как у моей мамы, когда она умирала. — Валера, ты чё несешь? Сядь за стол. Харе ластами вращать. Карп сел и тут же выжрал бутылку Гордеева пиваса. Димон: Чё случилось-то, Карлуша? Карп: Медведь у этих барыг в клетке сидит. Настоящий медведь в настоящей клетке. Маленькая такая, сука. Он в нее еле влез. Гордей: И чё ты так завелся? Жека: Да, я тоже чё-то не догоняю. За соседним столиком Фома, Игара, Зега и Бизон навострили уши. Карп: А вы посмотрите на него! Вот прямо все сходите и посмотрите. Димон: Делать нам больше нехуй. Гордей: А чё? Пошли глянем. Чё скажешь, Петрович? — Пошли. Я медведя только в зоопарке видел. Клетка стояла справа от кафешки. Мы всей толпой к ней подошли, потому что обмороки прямо за нами двинули. Медведь выглядел плохо. Он был каким-то грязным и в прострации, будто слетел с катушек. Я пригляделся. Когтей у Мишки не было. Жека: Это еврейский медведь. Карп: Почему? Жека: Потому что он в Бухенвальде. Про Бухенвальд, кроме Жеки, знали только я и Димон. Мы оба невесело усмехнулись. Тут Мишка, который только что ничего не отдуплял, посмотрел на нас. Не вру, из его глаз катились слезы. В одно мгновение вся наша компания озверела. — Фома, Игара, Зега, Бизон! Обмороки подобрались. — Тащите сюда педрилу-хозяина. Щас рокировку делать будем. Если он закопытит — хуярьте, но чтоб не наглухо. Обмороки кивнули и убежали в кафе. — Димон, сходи проконтролируй, вдруг перестараются. Через двадцать минут показался хозяин. С разбитой ебучкой и на дрожащих ногах. Крепыш такой брутальный из охотников. Они все брутальные, пока в безоружных кабанов стреляют. Пацаны гнали его пинками, а он бежал зигзагами, как пьяный. В двух метрах от меня Димон подсек ему ноги, и хозяин рухнул рожей прямо к моим ботинкам. — Ну что, хуй пиздоглазый?! Ты медведя в клетку засунул? Крепыш плакал и мотал головой. — Фома, вы чё, его выебли? Фома: Не ебали. Закошмарили стволами децл. Почки рихтанули. Ну, пару зубов, может, выбили. — В рот, поди, стволы-то пихали? Фома: Пихали. — Экие вы бармалеи. Димон заржал. Я перевернул хозяина на спину. — Где ключи от клетки, охотник? — Я... Я не жнаю! Я жабыл! — Ты зачем медведя туда посадил, выблядок? — Для туристов! Отпустите меня. У меня жена! У меня дети. — Ага. И старуха мать. Говори, где ключи, или я тебе лом в жопу засуну. Гордей: Петрович, у нас нет лома, только монтировка. — Значит, монтировку. Ключи нашлись в кабинете хозяина. Жека: Пахан, а если мы клетку откроем, Мишка на нас не бросится? — Хрен его знает. Пусть клетку откроет Бизон, как наиболее быстрый член нашего коллектива. Димон: А мы где будем? — На безопасном расстоянии. Димон: Может, мне «драгунчика» принести? — Не надо. Мы ведь хозяина не для того изувечили, чтобы пристрелить медведя. Отойдя на приличное расстояние, я дал отмашку Бизону. Он отпер клетку и сделал ноги. Мишка вышел не сразу. Минут пять он сидел на жопе, а потом ткнулся носом в дверь, и она распахнулась. Не поверив своему счастью, медведь неуверенно вышел наружу, а затем резко припустил в лес. Не знаю, выживет он там или помрет, но уж лучше там, чем здесь. — Запихивайте хозяина в клетку, пацаны. Но сначала отпиздите как следует. А если ты замусоришься, боров (это я уже к хозяину обращался), мы всю твою семью вырежем. На то мы и организованная преступность. Ферштейн? — Не надо! Пожалуйста! Я все понял! Гордей: Надо, Федя, надо. То меня Петровичем назовет, то старье какое-то вспомнит, вот что он за человек? Прямо неудобно за него иногда. Дообедав, мы сели в машины и забыли про медведя и уебка-хозяина. До цели оставалось двести километров. До встречи с уралмашевскими чуть больше суток. Ебург. Такое, знаете, проклятие Перми. Не люблю этот город. Может, завидую, конечно, но все равно не люблю. Дом Лены пришлось поискать. Три раза спрашивали прохожих. В городе везде были пробки. И чего им на метро не ездится, раз уж вырыли? К Лене я поднялся один. И пацаны, и обмороки остались в машинах. Мало ли... Пусть лучше с улицы страхуют, чем мы все в блудняк влетим. Вдавив кнопку звонка, я децл заволновался. Интересно, она такая же бодрая, как в школе, или еще бодрее? Лязгнул замок. Я убрал руку в карман пальто. В кармане у меня «макар» лежал. Люблю «макар». Он небольшой, можно прямо через карман стрелять. Зря я гнал. В дверном проеме образовалась Лена. Она чуток пополнела, но от этого стала еще глаже. Сдобный бархат такой, понимаете? Я невольно облизал губы и сглотнул слюну. Помять бы эти бели в самом деле! — Привет, Лена. Вот и я. — Привет. Ты один? — Нет. С тимуровцами. Где жених? — Тут. Хочешь с ним поговорить? — Разумеется. И комнату покажи, где мы переночуем. — Разумеется. Подколола типа. Это у нас со школы. Жених оказался так себе. Иннокентий зовут. Видали мы женихов и поубедительней. Интеллигентный, очечки, башковит, кадыкаст. Лена им верховодит, а он бабки барыжит и вообще рад стараться. Союз меча и орала, где Иннокентий — орало. Поговорили. Сеть магазинов «Джой». Ну как сеть. Три магаза. Не бог весть что, но и не голый вассер. Вокруг да около я ходить не стал. Прямо объявил: за разрул рамсов хочу видеть в бардачке двенадцать кусков зелени. Девять после стрелки, а три прямо щас. Следующий наезд, если такой случится, обязуюсь отбить задарма. Иннокентий вздохнул и согласился. Потом я расспросил его про уралмашевских. Наезд оформил некто Кент. Вот что с ними не так, а? Откуда эта страсть к сигаретным погонялам? А чего не герцог Мальборо? Или верблюд Кэмел? Ха-ха. Надо будет про Кэмел Димона с Жекой приколоть. Короче, узнав все что можно, я откланялся и спустился к пацанам. А, да, комната, которую мне показала Лена, была так себе. Я решил перекантоваться в гостинице. Благо три куска бакинских топорщили карман. Топорщили-то они его топорщили, но и за Кентуху-братуху надо было пробить. Поселив пацанов и обмороков в гостинке на окраине Ебурга, я прицепил с собой Димона, и мы двинули к моему знакомому золотнику. Я сдавал ему рыжье уже лет пять, и у нас все было чики-пуки. Услыхав за Кента, золотник перебздел. Кент был уралмашевским пацаном до мозга костей, но не совсем, потому что он был из молодых (собственно, как и я), а молодые отличались лютостью (опять же, как и я). Бандюги девяностых были советскими чуваками. А Совок — это хоть какие-то рамки. У нас рамок не было. То есть мы их сами себе придумывали, а когда сам себе придумываешь рамки, через них очень легко переступать. Все это означало одно: будет много крови и пальбы. Так себе перспективы. В гостиницу мы вернулись около десяти вечера. Я накатил двести граммов беленькой и лег спать. Мне всегда хорошо спится перед делюгой. Да чего там... Перед большой кровью мне хорошо спится. Сны яркие снятся. Выпуклые такие, сочные, словно арбузом чавкаешь или бабу спелую мнешь. Я однажды в трусы обтрухался, до того мне хорошо спалось. Утром, то есть часов в двенадцать, мы с Димоном отошли от гостинки и взяли такси. Надо было без палева посмотреть место стрелки, чтобы Димон выбрал позицию, а я просто хотел увидеть поле боя. Поле боя действительно оказалось полем неподалеку от завода. Скучная такая промка с двумя блестящими рельсами в пожухлой траве. Пустырь. Если я тут зажмурюсь, из меня точно не вырастут эдельвейсы. Не знаю, чё я так заморачиваюсь за эдельвейсы, но мне охота, чтобы из моей могилы росли именно они. Оценив обстановку, мы вернулись в гостинку. Пацаны чутка бздели, и их надо было чем-то занять. Гулять по Ебургу было не очень хорошо, и я предложил потренироваться. После легкой тренировки все завалились спать. В восемь вечера Жека увез Димона на позицию и вернулся в гостинку. Димон облюбовал чердак ангара в трехстах метрах от пустыря. Конечно, если мы не вывезем, его тоже накроют, потому что выделить ему автоматчика для прикрытия я не мог. В девять вечера из гостинки уехали мы все. Заехали за Иннокентием. Лена, как дура, махала рукой нам вслед. Что поделать, женская сентиментальность. Ненавижу такие штучки. Как в последний путь провожает, честное слово. До пустыря было двадцать минут езды. Я провел последний инструктаж. — Кеша, ты работаешь с нами и платишь нам. Тебе ничего говорить не нужно. Говорить буду только я. Смотри на мою спину. Если я дернусь, сразу падай на землю. Понял? Иннокентий: Понял. — Повтори. Иннокентий повторил. — Гордей, ты идешь слева от меня. Жека, ты справа. Карп, прикрываешь тыл. Обмороки сразу за тобой. Когда понесется, я перекатом уйду влево. Не путайтесь под ногами. Садите до упора. Убежать с этого пустыря невозможно. Расстреляют в спины. Либо мы их, либо они нас. Ясно? Карп: Пиздец как страшно. — Ты прикалываешься? Карп: Нет. Правда, страшно. Я даже маму вспомнил. — Скучаешь по ней? Карп: Очень скучаю. Гордей: Может, сегодня встретишься. Карп побледнел. Вот как можно быть таким бесчувственным? Жека: Не ссы, Карпуша. Кокнем бандосов, только шуба завернется. Рано тебе еще к мамке. Поживешь еще. Без двух десять мы приехали на пустырь. С противоположной стороны, из-за поворота, выехали три бэхи. Кентуха-братуха, хер тебе в ухо. Уралмашевские встали напротив метрах в двадцати. Дверцы мы открыли почти одновременно. Люблю это тихое мгновение перед бурей. Мир наливается красками и даже пахнет как-то резче, великолепнее. Я и Кент встретились посередине пустыря. На мне было черное короткое пальто. В каждом кармане лежало по «макару». Кент был с меня ростом, в кожаной куртке и четкой кепочке. Ретроград, блядь. Иннокентий трясся внутри нашего ромба. Мы как бы шли «свиньей», потому что глупо отрицать многовековую воинскую мудрость. Я знал, что в случае замеса Кентуха его не переживет. Он уже был у Димона на мушке, а Димон с таких расстояний не мажет. Он Басаеву руку прострелил, хули тут про Кента говорить. На пустыре повисло молчание. Я равнодушно оглядывал пехотинцев противника. Их было тринадцать, а нас всего девять. Правда, у Кента бойцы были необстрелянными и явно бздели. На их фоне мои выглядели орлами. Первым ни Кент, ни я заговаривать не хотел. Мы просто смотрели один другому в глаза очень тяжелым взглядом. Это такая психологическая херня. Первым всегда говорит проситель, понимаете? Невидимая схватка длилась полминуты. Вдруг Кент посмотрел мне за спину и расплылся в улыбке. Кент: Братуха, это вы хозяина харчевни отмудохали? Номера пермские срисовал. Понятно. Конечно, они были липовыми, но все равно пермскими. — Уточни, братуха. Кент: Витьку толстомордого, который медведя в клетке запер. — Мы. Есть проблема? Кент: Да какая проблема. Я когда про Мишку узнал, сам хотел Витьке башку отвернуть. Нельзя же так с медведями. — Твоя правда. Нельзя. Кент: Я — Кент. С Уралмаша. — Я — Пахан. Из Перми. Закамск. Кент: Ты Кешу крышуешь? — Его невеста — моя подруга детства. Считай, родная кровь. Кент: Родная кровь — это святое. Пусть платит десять процентов и живет спокойно. Или забирай его в Пермь. — Он будет жить здесь и не будет тебе платить. А знаешь почему? Кент: Почему? — Потому что Иннокентий взял меня в долю. Теперь мы партнеры. Так ведь, Иннокентий? Перепуганный до усрачки Кеша закивал всем телом. — Или с меня ты тоже хочешь получить? Повисла пауза. Воздух загустел. Я как бы невзначай приблизил руки к карманам. Кент: Замнем для ясности. Что мы быки, из-за трех магазинов бодаться? — Мы не быки. Ты грамотно рассудил. Бывай, Кент. Кент: Бывай, Пахан. Мы пожали руки и медленно пошли к машинам. Упав на сиденье, я закурил. Моя футболка пропиталась потом, хотя день был прохладным. Через полчаса меня накроет отходняк, и я превращусь в овощ. — Кеша, положи девять кусков в бардачок. Иннокентий: А можно я их тебе передам, а ты сам положишь, а то мне с заднего сиденья неудобно тянуться? — Конечно, можно. Это же просто фигура речи. Иннокентий: А доля? Ты что-то говорил про долю? — Какая с тебя доля, дурачок. Карп: Пахан, думаешь, почему нам со стрельбой подфартило? — И почему? Карп: Потому что мы Мишку спасли. Так себе шуточка, прямо скажем, но все заржали. И я заржал. Как конь. Ну вот что мы за люди? Одни смехуечки да пиздохаханьки на уме. Сделав зигзаг, мы забрали Димона. Его тоже потряхивало, как вообще всех потряхивает после убийства, даже если его и не было. С Кешой и Леной я распрощался быстро. Иннокентий сразу убежал на работу. А Лена, конечно, женщина сочная и бархатная, но что у нее в голове, раз она живет с Иннокентием? Бля, да чтоб носить такое имя, надо быть как минимум Смоктуновским! Или попугаем. Ха-ха. Про попугая надо Жеку приколоть. И про Кэмел! Про Кэмел совсем забыл. Тут я представил Лену, и у меня встал. Мы как раз выезжали из Ебурга, и я вдруг понял, что не могу уехать. — Гордей, поворачивай назад. Я с Леной забыл переговорить. Из машины я выскочил пулей. Без лифта взлетел на пятый этаж. Вдавил кнопку звонка. Лена открыла сразу, будто ждала за дверью. На ней был домашний халатик, накинутый на голое тело. Ни слова не говоря, я притянул ее к себе и впился в губы. Лена попыталась вырваться. Я толкнул ее в коридор. Она побежала в квартиру. Я настиг ее на кухне и завернул на стол. Тяжелые груди коснулись столешницы. Это была игра, потому что Лена не кричала. Я задрал подол и увидел бели. Покусал булочки. Содрал полоску трусиков. Мой член пульсировал как солнце. Я вошел в щелку и задвигался. Член выскользнул. Второй раз я вонзил его в задницу. Он сам туда скользнул. Лена закричала и попыталась вырваться. Я прижал ее к столу и сильно укусил в шею. Девушка всхлипнула и затихла. Я кончил и отпрянул. Ленины бедра испачкались кровью. Она лежала на столе и плакала. Я молчал. Я посмотрел в окно. Я натянул штаны. Не разбирая дороги, скатился вниз. Прыгнул в машину. Бросил: — Гордей, жми! Замелькали дома. Димон включил музыку. Вот что я за человек? Я закурил и уставился вглубь себя. Кто там? А никого. И была земля пуста и безвидна, и только дух носился над нею.На остров и обратно
Лето 200* года. Духота. Облагородив комнату двумя вентиляторами, я ел в кресле пухлый пирожок, когда раздался звонок в дверь. Ко мне пришла Ольга, местная сиповка и подруга Жилика. После ее сбивчивого рассказа я уяснил такой расклад: Жилик с Ольгой бомжевали в центре и заимели работу, — интересный человек предложил им копеечку вахтовым способом. Они подписались, и их увезли в область. На одинокий остров, окруженный Камой. А там взяли в рабство. Всю эту тему мутили коммерсы из бандитов. Они владели автостанцией, автобусами и магазинами в тех широтах. Жилик ходил за скотиной, Ольга ему помогала. Так продолжалось два месяца. Потом Ольга заболела, и ее отправили с фермы. Она пошла к мусорам, но те послали ее нахер. И она пришла ко мне. Тут надо пояснить, кто такой Жилик. Раньше он был уважаемым рецидивистом с четырьмя ходками за плечами и каталой союзного значения. Когда он отбывал последний срок, у него умерла мать. Хата, в которой она жила и в которой был прописан Жилик, оказалась не приватизирована, и завод силикатных панелей вернул ее себе. Освободившись, Жилик приехал домой, а дома нет. И вскоре он поселился на трубах с флаконом асептолина в кармане. Прогуливался я как-то по району с приятелем, и он указал мне на Жилика, отрекомендовав лестным образом. Я поселил его на блатхате и иногда подогревал хавчиком и лаве. Он же учил меня катать колоду и считать карты. Потом наши дорожки разошлись, Жилик замутил с Ольгой и отправился в свободное плаванье. Однако связь мы не теряли, и я даже испытывал к нему дружеские чувства. Короче, расклад с рабством и оборзевшими коммерсами задел меня за живое. Выпив два стакана крепкого чая, я решил вписаться. По карте Пермского края мы с Ольгой определили точное место. Потом появились фамилии деляг. Позвонив кому надо, я понял, что дело серьезное. Деляги были местными царьками, с крепкими связями в мусорской среде. Раскинув мозгами, я наметил три пути вызволения Жилика: выкупить его, выкрасть или разрулить вопрос на толковище. Но, детально проработав каждый из них, остановился на втором варианте. Башлять оборзевшим было впадлу, а договориться получилось бы вряд ли — «царьки» имели репутацию отмороженных. Решив вопрос со стратегией, я задумался о команде — с кем идти на дело? Пролистав записную книжку, выбрал трех человек — Олежку Карелина, бывшего бойца ОМОНа, Васю Афганца, из ВДВ, и Саню Зуба, духаристого боксера, с которым сам когда-то тренировался. В этот же день мы встретились в кафе. Ознакомив товарищей с положением дел, я вышел на улицу, дав ребятам возможность перетереть информацию. Мысль о том, что мы лезем в блудняк и не стоит ли сдать назад, висела в воздухе. Помусолив ее децл и выкурив пару сигарет, я вернулся за столик. На мой вопросительный взгляд товарищи дружно кивнули. Затем мы распределили обязанности: Олежек решает вопрос с оружием, Вася — с автомобилем, я — с надувной лодкой. Сане же досталась связь, провиант ипрочие мелочи. В общем на подготовку ушло три дня. И в понедельник ранним утром, разместившись в видавшей виды «Ниве», мы двинулись в долгий путь. Убитая дорога тянулась сквозь лес. Проскочив Березники, Вася включил «Наше радио». Под пение Бутусова каждый думал о своем. Опасная цель, маячившая на горизонте, делала молчание вязким. Одолев шесть часов пути и въехав в городок Z, мы бросили якорь у забегаловки на окраине. Она уже находилась на земле «царьков». Отхлебывая кофе, я оглядел зал — работяга смаковал рюмку, шантрапа точила шаверму, официантка залипала на стуле — и остался доволен. Безлюдность меня вполне устраивала, чем меньше людей нас заприметит, тем лучше. Потом мы поехали дальше и, свернув с трассы, углубились в лес. Через двадцать километров глиняной и разухабистой дороги наш автомобильный путь закончился. Переодевшись в хаки и забросав машину еловыми лапами, мы направились в сторону острова. Прошли еще пять километров. Почуяв близость воды, разбили лагерь и стали ждать темноты. Вынужденное безделье нагоняло зевоту, нервы не давали заснуть. Чтобы отвлечься, решили еще раз пробежаться по плану. На остров переплавляются трое: я, Олег и Вася. Саня остается на большой земле. Ему полагалось скрытно подойти к освещенному пирсу, который находился в трех километрах выше по течению и от которого лодки уходили на остров. Саня должен наблюдать за ним, чтобы цинкануть по рации пацанам, если кто-то приедет на пирс и соберется плыть на остров. Мы же, переплыв реку и оказавшись на дальнем конце острова, должны были его пересечь и, дойдя до фермы, разделиться. Олег оставался наблюдать за хатами рабовладельцев, вооружившись биноклем и карабином, а мы с Васей шли к амбару. Последняя часть была самой опасной: огромное поле простреливалось со всех сторон, и в случае замеса укрыться было попросту негде. Наступили сумерки. Саня, не прощаясь, ушел в сторону пирса. Спустя полчаса он добрался до места, и моя рация ожила. Позволив тьме сгуститься, а глазам привыкнуть, мы взяли лодку и пошли к реке. В небе светила луна. Тогда я думал, что это единственное, чего мы не учли. До острова доплыли без проблем. Резиновый нос, скользнув по песчаному дну, бесшумно замер на берегу. Подхватив лодку, мы тут же очутились в кустах. Огляделись. Лес был проходимым и даже просторным. Среди стройных сосен лишь изредка виднелись ели, валежник не путался под ногами и мох был повсюду, гася звуки шагов. В два ночи мы подошли к ферме. Еще полчаса провели в засаде, наблюдая за темными окнами. Потом, коротко кивнув Олегу, мы с Васей поползли через поле. Этот отрезок пути дался непросто. Рукоять «макара» натирала спину, роса лезла в берцы, а необходимость двигаться медленно раздражала. Прошло десять минут, и мы оказались возле амбара. Вскрыв каленой отмычкой навесной замок, я проскользнул внутрь. Вася — за мной. Слева и справа тянулись стойла. Запах навоза бил в нос. Жилик отыскался в третьем загоне справа. Он спал на ворохе старых курток. Склонившись над ним, я выбросил руку и зажал ему рот: — Тихо будь, Жилик. Не ори. — Пахан, охереть! Ты как здесь? — Ягод решил пособирать. В общем, расклад такой: на берегу ждет лодка. Щас тихонько делаем ноги и валим из этой глуши. Все разговоры потом. — Пахан, тут такое дело... — Жилик замялся и стал глядеть в сторону. — Ну? — Сегодня телку привезли. Молоденькую. Нормальная вроде девка... — Где? — Тут, рядом. В конце амбара... В разговор вмешался Вася: — Даже не думай, Пахан. Пятерых лодка не потянет. Утонем нахер. — Не гуди, Васян, щас решим. Я резко встал и направился вглубь амбара. Девчонка не спала. Забившись в угол стойла и обхватив руками узкие плечи, она смотрела в темноту. — Ты кто? Никакой реакции. — Ты кто, блядь? — уже громче спросил я. Она вздрогнула и в ужасе уставилась на меня. — Даша, — едва слышный шепот слетел с разбитых губ. — Идти можешь? — Да. — Тогда слушай. Уходим прямо сейчас. Если я ползу, ты ползешь, если бегу, ты бежишь. Вопросов не задавать, рта не раскрывать. Ясно? Она резко закивала, ударившись затылком о стенку амбара. — Тогда вперед. Обратный путь обошелся без приключений. Так же по-пластунски, но с большей резвостью мы пересекли поле и выбрались к Олегу. Удивленно глянув на девчонку и вопросительно на меня, он промолчал и бросил нам рюкзаки. По дороге мне в голову пришел вопрос: «Почему в амбаре было только два человека?» И когда мы подошли к берегу, я спросил про это Жилика. Тот пояснил, что людей привозят, а потом они исчезают, куда — черт его знает. Еще двое, мужик с бабой, собирают ягоды и грибы и частенько ночуют в лесу. — Им ништяк, они тут давно кантуются, безконвойники... А хозяева тут серьезные, — добавил он, — три брата, «слонами» кличут. На той неделе у старшого днюха была, человек пятьдесят съехалось, из ружей палили, куражились. Тем временем ребята раскидали ветки и вытащили лодку. — Короче, так. Олег, Вася и Жилик — в лодку. Дуете на берег. Ты, Вася, возвращаешься за нами. — Пахан, давай мы с Олежей за борта кляпнемся? Стремно как-то тебя оставлять. — Медленно пойдем. Не вариант. Я девку взял, мне, если что, и расхлебывать. Поняв, что спорить бесполезно, парни запрыгнули в лодку, и Вася налег на весла. Мы с девчонкой укрылись в лесу. Вскоре ожила рация. Раздался голос Сани: «Пахан, кипиш, три машины, сваливайте оттуда нахер!» Последнее слово он прошептал, и связь оборвалась. Выкурив две сигареты и раз десять прокричав в рацию, я закубатурился всерьез. В голове вертелся вопрос: откуда кипиш? Думка, что вертухаи спалили побег и вызвали подмогу, не канала. Проехать пятьдесят километров по трассе и еще двадцать по убитой ночной дороге за сорок минут было попросту невозможно. Однако других объяснений на ум не приходило. Или же «слоны» прикатили по плану и другому делу? Но тогда почему молчат пацаны? И где лодка? Сплошные непонятки. Закурив снова, я отбросил этот треш-меш и решил исходить из худшего: рабовладельцы прибыли за нами. Выждав еще минут десять и не услышав плеска весла, я повернулся к Даше и оглядел ее с ног до головы: худенькая скрюченная фигурка, речку переплыть не сможет. По уму, ее полагалось бросить, спокойно исчезнуть с острова, отыскать ребят и валить домой. С другой стороны — бросать девку из-за каких-то быков, пусть и с волынами, было стремно. Я пошел на принцип и, затушив сигарету, поднял девчонку с земли. — Слушай сюда. Лодки не будет. Нас уже ищут или вот-вот начнут. Щас руки в ноги и возвращаемся в амбар. Продолжая сжимать локоть, я потянул ее за собой. Она встрепенулась и дико уставилась на меня. — Не хочу туда. Не надо. Не отдавай меня! Выпалив это скороговоркой, она вырвалась и повалилась в траву. Постояв над ней, я уселся рядом. — Слышь, не гони. — Ситуация начинала действовать мне на нервы. — У нас нет времени. Вставай. Надо идти. Я снова, но уже бережней, поднял Дашу с земли. Лицо девчонки блестело от слез, спутанные волосы висели сосульками, плечи ходили ходуном. Поймав ее взгляд, я заговорил быстро и уверенно: — Щас пацаны оторвутся и выйдут на связь, а мы пока перекантуемся рядом с фермой. Этим мудакам даже в голову не придет искать нас там. Понимаешь? Все будет ништяк, так что не кисни. Я широко улыбнулся и поймал встречную улыбку. Бледную, зыбкую, кривоватую, но — улыбку. — Идем? Даша шмыгнула носом, убрала сосульку за ухо и пристроилась позади. Мы зашагали в сторону фермы. Идти было приятно. Мерный шаг наводил порядок в голове. Ближе к амбару мои мысли обрели стройность. Из этой стройности родилась простая и понятная цель: не ждать, когда оживет рация, но раздобыть лодку, на крайняк плот, и выбраться с острова. Все остальное — потом. Приказав себе не думать дальше этой цели, я распластался по земле и пополз к опушке. Девчонка не отставала. Улегшись бок о бок, мы уставились на ферму. Там горел свет и сновали вооруженные люди. Я насчитал десять человек. Наскоро посовещавшись, семеро из них двинулись к реке, трое зашли в хату. Эта движуха вогнала меня в ступор. Из-за Жилика такого кипиша быть не могло. Про нас же они вообще ничего не знали. Оставалась только девчонка. Но прежде чем приступить к расспросам, я решил разорвать дистанцию. Посмотрев на Дашу, я увидел, что ее снова колотит. Мы отползли в тень и встали на ноги. — Валим отсюда в темпе. Бежать можешь? — Постараюсь. Я поправил рюкзак и подался прочь. Она осталась на месте. — Ну что еще? — Мне страшно. — Не боись, прорвемся! Бодрячок давался мне все с большим трудом. И после недолгого раздумья я тихо добавил: — Мне тоже страшно, Даша. Но что делать? Выбираться-то надо. Она посмотрела на меня долгим взглядом и побежала. Рассвет набирал силу. Обогнув ферму по широкой дуге, мы добрались до другого конца острова. Бег вымотал девчонку. Схоронившись за могучей сосной, я скормил ей «Сникерс» и дал попить воды. — Наелась? — Угу. — Вот и ладненько. Теперь рассказывай. — Мой голос покрылся льдом, и она мгновенно это почувствовала. — Что рассказывать? — Начни с того, кто ты такая. — Никто. Обычная студентка. Путешествовала автостопом. Поймала машину и, вот, оказалась здесь. А что? — А то, Даша, что по лесу бродят мужики с автоматами, и они кого-то ищут. Стопудово не меня, за меня тут вообще никто не в курсе. И не Жилика — кому сдался старый бомж, с которого нехер взять? Остаешься только ты. Короче, расклад такой: или ты колешься по полной морде, или выбирайся с острова сама. Идти в одной упряжке черт знает с кем я не хочу. Она заговорила. Мучительно и короткими очередями. Ее темные глаза шарили по моему лицу. Порой наши взгляды скрещивались. — Меня похитили. Этим вечером. — Давай подробности. — Мой папа, он бизнесмен. У него свой пластмассовый завод. Эти, — она мотнула головой в сторону фермы, — хотят завод отобрать. А папа не отдает. — Как тебя похитили? — Я гуляла с собакой, и меня затащили в машину. Я даже понять ничего не успела. Просто схватили за волосы и швырнули внутрь. Как тряпку. — Дальше? — Связали, залепили рот скотчем и привезли сюда. Зачем-то переодели в эти вещи. Она брезгливо посмотрела на поношенные шмотки и с мукой — на меня. — Почему не рассказала этого сразу? Она скукожилась и спрятала глаза. — Отвечай, Даша. — Я испугалась. — Чего? — Что ты... — Ну? — Присоединишься к ним. За выкуп. Или сам захочешь его получить. — Вот оно что... — Разве это не правда? Она вскинула голову и уставилась на меня в упор. — Нет. Мне такой блудняк нахер не нужен. Не по моей части. На этом допрос закончился. И хотя я не мог подкопаться к ее рассказу, что-то мне в нем не нравилось. Слишком уж он был гладким. Ладно, подумал я, черт с этой историей, потом разберусь, сначала надо выбраться с острова. — В общем, так, Даша. Щас идем вдоль берега, но из леса не выходим. Задача — отыскать бревно. — Какое бревно? Зачем? — Чтобы уплыть. Вытолкнем на течение, ухватимся и вперед. Бревно должно быть толстым, чтобы ты смогла на него лечь. — А ты? — Я и в воде смогу. Не забивай голову, просто ищи бревно. Она тяжко вздохнула и поднялась с земли, ухватившись за мою руку. Потом долго не отпускала ладонь. Мне даже пришлось закурить, чтобы высвободиться из этого странного плена. Поглядывая на нее искоса, я вдруг заметил, как она переменилась после допроса. Черты лица расправились и ожили, походка стала упругой и женственной. Внезапно я поймал себя на мысли, что мне приятно за ней наблюдать. Прошагав пару километров, я почуял костер. Мы залегли. Прижавшись губами к Дашиному уху, я прошептал: «Сиди тихо. Я на разведку». Она попыталась что-то сказать, но я зажал ей рот. Затем вытащил нож и пошел на дым. Через сто метров лес расступился. Передо мной была поляна. Там стояла палатка, горел костерок и котелок побулькивал на огне. У котелка сидела женщина и помешивала варево. Из палатки вышел мужик и заговорил про ягоды. «Собиратели, что ночуют в лесу», — догадался я влет. Закончив разговор, мужик ушел, но вскоре вернулся, волоча за собой двухместную резиновую лодку. Перехватив нож, я замер в ожидании удобного момента для броска. Вскоре он настал. Опустошив котелок, парочка разделилась: женщина забралась в палатку, а мужик стал подкачивать лодку, повернувшись ко мне спиной. Медленно раздвинув кусты, я быстро пошел вперед. Скользя по траве, держал мужика периферическим зрением. Смотреть в упор, если хочешь подойти к цели незаметно, опасно. Такой взгляд легко почувствовать, и тогда все пойдет не по плану. Обычно такие зехера заканчиваются кровью, чего совсем не хотелось. До мужика оставалось метров семь, когда из палатки вынырнула женщина. Наши взгляды встретились, и она завопила. Я рванул изо всех сил, преодолев оставшиеся метры огромными прыжками. Мужик обернулся, но было поздно: моя пятка со страшной силой врезалась в его подбородок. Приземлившись, я тут же подскочил к женщине. Рукояткой ножа ударил ее в висок. Она завалилась набок. Я подхватил обмякшее тело и затащил в палатку. Выбежал за мужиком. Его поза показалась мне странной. Пульс не прощупывался. Шейные позвонки не выдержали удара. Я положил его рядом с женщиной. Потом связал ей руки и ноги. Вышел из палатки. Закурил сигарету. Отметил, что пальцы дрожат. Докурив до фильтра, вернулся назад. Сел на складной стульчик. Надо было решать, как жить дальше. Чувство вины мешало думать. В лесу ждала Даша. Вокруг рыскали быки с волынами. Время уходило. «Убирать свидетельницу или нет?» — против воли лезло в голову. Просидев пятнадцать минут, я решил оставить все как есть. Ослабив путы на ногах собирательницы, я подхватил лодку и быстро скрылся в лесу. Даша лежала на том же месте. Едва заслышав шаги, она вскочила и заулыбалась. Мысль о том, что это мог быть кто-то другой, не приходила ей в голову. При виде лодки глаза девушки округлились, сделав ее похожей на совенка. — Лодка! У нас есть лодка! — Да, есть. — Но как? Откуда? И почему так долго? Она шептала взахлеб, и было ясно, что полчаса в одиночестве дались ей непросто. — Не болтай, Даша. Все вопросы потом. Надевай рюкзак и бегом к реке. Она послушно кивнула и бросилась к рюкзаку. Я же, глядя на худенькую спину, вдруг подумал, что обязательно вытащу девчонку из этой передряги. Иначе мужик из палатки умер зря, а жить с этим мне совсем не хотелось. Через десять минут мы вышли к реке. Оглядели берег из густых кустов, подбежали к воде. Даша запрыгнула в лодку первой. Я разогнал суденышко, зайдя в реку по колено. Потом забрался следом и налег на весла. — На дно, Даша! — Тут грязь и вода. — Грязь не кровь, ее смыть можно. Она устроилась на дне, вытянув ноги под сидушку. Я же греб как заведенный, не отрывая глаз от берега. Мы были уже на середине реки, когда из леса вышли трое. На плечах висели ружья. Через минуту они заметили лодку. Двое вскинули стволы и открыли огонь. Третий что-то кричал в рацию. Даша сжалась на дне, уткнувшись лицом в мутную лужицу. Мне деваться было некуда. Я просто греб, стараясь не смотреть на стрелков. Все пули ушли в воду. У берега я спрыгнул в воду. Глубина оказалась по грудь. В два рывка я вытянул лодку. Забежал в лес, взял Дашу за локоть и потащил за собой. Мы находились между нашим с пацанами недавним лагерем и пирсом. Я хотел как можно скорей добраться до «Нивы». Если ее не окажется на месте, значит, пацаны вырвались и подмога не за горами. Если же машина есть, то уйти могли мы. Мысль о том, как вернусь сюда и умою кровью охеревших деляг, прибавляла сил. Впервые за этот день на меня накатила настоящая злость. Даша бежала рядом. Я как раз повернулся к ней, когда она упала, распластавшись на животе. — Вставай, Даша. Быстро! Она поднялась, сделала шаг, вскрикнула и повалилась на землю. Я опустился на колени, задрал штанину на девушке и ощупал ее лодыжку. Даша застонала. — Кажется, подвернула ногу. Ее голос дрожал, лицо было очень бледным. Я молчал. — Не могу идти. Больно. Она всхлипнула и схватила меня за рукав. Я продолжал молчать. Не вставая с колен, повернулся к ней спиной. — Забирайся. Надо идти. Она обхватила мою шею. Я встал и пошел медленным шагом, привыкая к весу. Пройдя метров пятьдесят, перешел на бег. До машины оставалось примерно три километра. Одолев половину пути, услышал перекличку. Приглушенные голоса доносились со стороны «Нивы». Я тут же свернул в овраг и, надсаживая спину, быстро спустился вниз. Под ногами хлюпала земля, чуть поодаль журчал ручей. Положив Дашу между поваленных бревен, я вернулся наверх. Но совсем вылезать из оврага не стал, затихорившись в зарослях папоротника. Вскоре подошли двое быков. Они особо не таились и разговаривали в полный голос. — Достал этот блядский лес, нахер мы тут ходим. Цыганка по-любому сделала ноги. — Если бы блядский, братан, было бы ништяк. А то ни одной бляди, только комары. — В натуре. Надо к войне готовиться, а мы тут шляемся. — Не, Сивый, ты неправ. Если девку возьмем, еённый батяня вмиг подвинется. Вот тогда заживем. Будут тебе и телочки, и бэха-пятерочка. Бычара хохотнул, довольный случайной рифмой. — Бэха — это мощь. — А то. Приятели скрылись из виду. Выждав, я снова спустился в овраг и усадил Дашу на бревно. — Щас подслушал разговор двух быков. Они назвали тебя цыганкой. Почему? — Не знаю. Потому что я черненькая? Я впился буром в ее глаза. Темные, с красивым разрезом, в них плескались удивление и искренность. Лицо, пропитанное усталостью, напоминало лик. Подозрения показались нелепыми. — Ладно, забирайся. Надо идти. Даша легла мне на спину, и мы выбрались наверх. Два километра я прошел быстрым шагом, не переходя на бег. Натужное дыхание мешало слышать лес. Вскоре мы вышли к «Ниве». Схорон был пуст. Пройдя чуть дальше, я ссадил Дашу под раскидистую ель. Сел рядом. Выкурил две сигареты. Пацаны ушли. Значит, нужно продержаться сегодняшний день и, возможно, ночь. Помощь обязательно придет. К тому же вырваться из капкана с девчонкой на плечах я все равно не мог. Щас быки прочесывают лес по ту сторону пирса, думая, что мы пошли к городку или к поджидающей машине. Пройдет минут двадцать прежде, чем они окажутся здесь. Это время надо использовать по полной морде. Найти укрытие, спрятаться, затаиться. Но где? Раскинув мозгами, я решил идти оврагами. Был шанс, что в одном из них окажется пещера или что-то вроде того. — Слушай сюда, Дашка. Щас идем оврагами — ищем укрытие. Пещеру, нору, яму... Не важно. Лишь бы продержаться до темноты. — Ладно. А когда стемнеет? — Когда стемнеет, здесь уже будут мои друзья. Как вывих? Она молча протянула ногу. Я задрал штанину и увидел, что дело плохо. Нога распухла и посинела. Достав из рюкзака бинт и фляжку, я смочил марлю водой и туго обмотал лодыжку. Даша надела рюкзак и устроилась на моей спине. Мы отправились искать убежище. Солнце двигалось к зениту. День обещал быть жарким. Прошагав около километра, на склоне третьего оврага мы нашли поваленное дерево — огромный тополь. Его корни разодрали землю и образовали нору. Забравшись в нее, я расчистил руками площадку, застелил ее еловыми лапами, затащил Дашу внутрь и уложил подальше от входа. В норе было сумрачно — свет проникал украдкой. С большим усилием сняв мокрые берцы и подсунув Даше под голову куртку, я достал из рюкзака два «Сникерса» и бутылку воды. Мы поели. Облизывая фантик, я вспомнил про рацию. Вытащил ее из кармана и попытался выйти на связь. Рация не фурычила. Видимо, промокла, когда я выпрыгнул из лодки. Последняя ниточка, связывающая меня с пацанами, оборвалась. Правда, оставался шанс, что рация просохнет на солнце. Выбравшись наружу, я положил рацию на поваленный тополь. Вернувшись, вытащил пистолет, проверил затвор и обойму. По виду ствол был сухим, однако поручиться, что он выстрелит, не получалось. Положив его рядом, я лег на лапы. Даша все это время ощупывала ногу. Потом легла и заелозила. — Ветки колются. Она произнесла это равнодушно и куда-то вверх. — Не обращай внимания. Просто закрой глаза и поспи. Нам нужны силы. — Для чего? Думаешь, мы выберемся? — Как пить дать! Последнюю фразу я произнес со всей доступной мне уверенностью. И даже улыбнулся в глиняный потолок неизвестно чему. Вскоре мы задремали. Но поспать долго у меня не вышло. Через полчаса я открыл глаза и прямо перед собой обнаружил Дашино лицо. Она спала на моей руке. Ее дыхание согревало мне щеку. Я закрыл глаза. Мне показалось стремным вот так вот глядеть на спящего человека. Но заснуть не удалось, и мой взгляд стал перебирать Дашины черты. Сначала он прикоснулся ко лбу. Иногда по нему пробегали морщинки, словно девушке снился тревожный сон. Потом обследовал веки, нос и приоткрытые губы. Их расположение придавало лицу беспомощный вид. Тяжеловатый подбородок нарушал это впечатление. Затем взгляд вернулся к векам. Рассмотрел голубоватые капилляры, отметил длинные ресницы и хрупкую белизну. Тут ресницы дрогнули. Я резко зажмурился, услышал смешок и открыл глаза. Даша улыбалась. Я улыбнулся в ответ. Она не убирала голову, я не шевелил рукой. В полной неподвижности и тишине мы смотрели друг на друга, и почему-то это было очень важно. Сложно объяснить. Спустя какое-то время Даша уснула, я — вместе с ней. Проснулись мы уже вечером, в шестом часу. Надо было проверить рацию. Я надел берцы, осторожно выбрался и огляделся. В лесу стояла такая тишина, что в существование быков как-то не верилось. Рация просохла и зафурычила, но на связь никто не выходил. Вернувшись в нору, я снова улегся на еловые лапы. Даша повернулась ко мне и сказала: — Дай мне руку. — Зачем? — Мне так удобней спать. Я протянул руку, и она положила ее себе под голову. Мы снова оказались лицом к лицу. Воцарилось молчание, которое не обламывало. Его нарушила Даша: — Можно спросить? — Давай. — Как тебя зовут? — Андрей. — Разве не Пахан? — Нет. Это просто погоняло. — Понятно. А как ты его получил? — Долго рассказывать. Да и неинтересно это. Мы снова замолчали. Даша заелозила и придвинулась еще ближе. Следующий вопрос она прошептала мне в нос: — Где ты достал лодку? — У собирателей отжал. Там мужик... был. С бабой... с женщиной. — Ты ее украл? — Почти. — В смысле? — Вырубил их. Тут на меня накатило, и я рассказал ей правду. — Я не спецом, понимаешь? — Понимаю. Просто... — Что просто? — Не знаю. Она передернула плечами. Ее взгляд изменился: в глубине зрачков появился страх. Я решил, что хватит с меня разговоров, и стал поворачиваться на другой бок. Неожиданно Даша вцепилась в мое плечо, прижалась всем телом и четко, даже властно, проговорила: — Не смей отворачиваться! Я оторопел и обхватил ее запястье: — Ты чё, Даш? Засвистела? — А ты не видишь? Мне страшно! Мы никогда не выйдем из этого леса! Никогда! Слышишь?! НИ-КО-ГДА! Она кричала в полный голос, и мне пришлось зажать ей рот. Дашу трясло. Я навалился на нее всем телом. Шептал какие-то глупости на ухо, пытался успокоить. Она расцарапала мне лицо. Потом обхватила за спину и с силой прижала к себе. Так мы пролежали черт знает сколько. Я продолжал шептать всякую успокоительную фигню. В конце концов Даша угомонилась. — Слезь с меня. Я слез. Девушка отползла и умыла лицо из бутылки. Повернулась ко мне. — Спасибо. — Замнем для ясности. Мы снова устроились на еловых ветках. Теперь молчание было вязким как глина. — Полегчало? — Полегчало. Расскажи что-нибудь. — Что, например? — Какую-нибудь историю. Но только добрую. — С добрыми у меня проблема. — Тогда сочини. — Нашла Андерсена. — Ну пожалуйста! — Погоди. Дай подумать. Но подумать я не успел. Ожила рация, и в нору ворвался голос Васи Афганца: — Прием, прием. Как слышно, как слышно, бля? Я метнулся к рации и зашептал в нее скороговоркой: — Васян! Васян! Я на связи! Как слышно меня, как слышно? — Пахан! Бля буду! Мы уж не надеялись! — Все пучком, братишка! Вы где? — Недалеко от схорона. А ты? — Я в километре от него. Третий овраг на север. Тут тополь поваленный. Мы в норе затихарились. — Мы? Ты чё, до сих пор с девчонкой? — Конечно. Куда я ее дену? — Хорошо, братан. Мы выдвигаемся. Тут повсюду бычье шныряет, так что ты не высовывайся. Будь на фоксе. Слышь, Пахан? — Слышу отлично, Васян. Поаккуратней там. Отбой. Я выключил рацию и с довольным видом повернулся к Даше. — Слыхала? Все ништяк. Пацаны по-любому на моторе. Так что скоро будешь дома. Однако новость ее не сильно обрадовала. Она смотрела в сторону и выглядела грустной. — Эй, что такое? Жизнь-то налаживается! — Да. Наверное. В норе опять повисло молчание. — Андрей? — Да. — У нас же еще есть время? — Минут десять точно. — Тогда расскажи историю. — Какую историю? — Ты уже забыл? Добрую. — Ладно. Дай мне минуту. — Подожди. Давай ляжем. — Давай. Мы легли, и я задумался. В голову лезли анекдоты и уголовщина. Потом в памяти всплыла детская книжка про Тристана и Изольду. Я стал вспоминать подробности. Волос, башня, поиски. Какой-то стремный король, тонны благородства и невозможная любовь. Пытаясь припомнить, чем кончилось дело, я повернулся к Даше. Тут совсем рядом раздался мужской голос: — Слышь, Сивый? Чё это за деревом? — Походу нора, — ответил ему другой мужик. — Надо глянуть. Вдруг там цыга захоронилась? — Да ну. Спускаться впадлу... — А по лесу шлынгать тебе не впадлу? Пошли позырим, вдруг чё? Голоса умолкли. Я понял, что быки спускаются вниз. — К стене. Быстро! Даша отползла вглубь. Я подхватил ствол и передернул затвор. Выходить из норы и брать быков на мушку было поздно. Оставалось только ждать. Когда в проеме появилась тень, я спустил курок и выскочил из укрытия. Ствол сработал. Пуля попала в грудь. Второй бычара стоял метрах в трех от входа. Он немного охерел от происходящего и тупо пялился на подельника. На автомате я выстрелил снова. На этот раз пуля угодила в голову. — Уходим, Даша! Уходим! В темпе! Вытащив девчонку наружу, я увидел, что слева от норы в овраг спускаются пять человек с «сайгаками», калашами и пушками. До кровавой бани оставалась минута. Ладонь, сжимающая «макар», покрылась потом. Мысли лихорадочно носились в поисках выхода. Но выхода не было. Тогда я взял Дашу за шкирку, прижал дуло ей к виску и спрятался за ней. Спустившись, быки корявой шеренгой засеменили к нам. Тут девушка вскрикнула. Правее в овраг спускалась еще четверка боевиков. Дула поблескивали на солнце. На удивление, бойцы были одеты во все черное. Ситуация запутывалась на глазах. Через полминуты отряды сблизились. Боевики явно враждовали: те и другие вскинули стволы. В лесу повисла гнетущая тишина. Внезапно раздался выстрел. Один из «черных» кулем упал на землю. Я едва успел подхватить Дашу, когда тишину разодрали автоматные очереди. На голом адреналине выбравшись из оврага, я побежал к схорону. Нас никто не преследовал. Выстрелы стихли. Добравшись до места, мы обнаружили «Ниву». Из ближайших кустов неожиданно вылез Жилик. — Пахан, в натуре! — Спокуха, братишка. Я осторожно опустил Дашу на землю. Из ее плеча сочилась кровь. — Жилик, помоги. Девчонку зацепило. Мы положили Дашу на заднее сиденье. Я достал нож и вспорол толстовку. Пуля прошла по касательной и вырвала кусок плоти. — Тащи аптечку. Жилик убежал к багажнику. — Даша, посмотри на меня. Девушка сильно побледнела и норовила уснуть. — Ты хотел меня убить? — Нет. Вытащить нас. Они бы не тронули ценную заложницу. Я легонько ударил ее по щекам. Потом обработал и перевязал рану. Дал девушке выпить несколько глотков водки. Даша немного пришла в себя. Отойдя от «Нивы», я подтянул Жилика. Тут зафурычила рация: — Прием, прием! Пахан, отзовись! — Васян! Я на связи. Вы где? — В овраге. Тут мясо конкретное. Все полегли, двое только копошатся. — Все понял. Щас буду. Отбой. Появление «черных» и то, что быки называли Дашу цыганкой, занозой сидело в голове. Потребность разобраться, что за херня здесь творилась, заслоняла страх. — Жилик, я к пацанам. Надо разобраться, чё тут за карусели. Присмотри за девчонкой. — Без бозика, Пахан. Я подошел к машине и склонился над Дашей: — Потерпи, скоро будешь дома. Я схожу к норе, там двое выжили. Надо расспросить, что тут происходит и откуда взялись «черные». — Хорошо. Только недолго. — Конечно. Туда и обратно. Резко развернувшись, я быстро пошел в лес. Потом перешел на легкий бег и вскоре оказался у оврага. Поле битвы впечатляло. Быки и «черные» устроили настоящее крошево: повсюду лежали мертвые, одни смотрели в небо, другие уткнулись в грязь. Пацанов видно не было. Я достал рацию. — Васян, прием. Вы где? — На той стороне, Пахан. Обходи слева, встретим. Обойдя овраг, я вышел прямо на Олега. — Пахан, бля, ну ты даешь! — В смысле? — Здорово ты из оврага ушел. Да еще с девчонкой за спиной. Прям спринтер. — Ты видел, что ли? — А кто, по-твоему, первого боевика шлепнул? — Ясно. Давай-ка подробности. — Да чё тут... Подошли к оврагу, залегли. Смотрим, бычье спускается, а ты девкой прикрываешься. Решили подождать, пока быки спиной встанут. Но здесь черномазые нарисовались. Видим, ребята-то не ладят. Решили их стравить. Вот я и шмальнул из карабина. Палево, конечно, но что было делать? — Да уж... Вляпались по полной морде. За разговором мы подошли к Васяну и Сане. — Братан, чё за херня? — Ты о чем, Вася? — Почему на связь не выходил? — Я децл искупался, рацию промочил. А вы куда подевались? — У нас, блядь, лодку спустило. Пошли в лагерь подкачивать, а она не подкачивается. Тут Саня прибежал, кипиш, туда-суда. Ну, мы за «Ниву» и погнали. Решили свалить до города, с лодкой порешать. Вышли из зоны покрытия рации. Думали, ты затихаришься, положуха успокоится и мы тебя заберем. Кто ж знал, что все посерьезе... — Ладно. Живы и слава богу. Я повернулся к оврагу и внимательно оглядел поле боя. — Олег, прикроешь с карабином. Пошли, пацаны, поговорим с бандитами. Мы спустились вниз. В воздухе пахло железом. Косые солнечные лучи выхватывали темные тела. Переступая через них, мы подошли к громко стонущему быку. — Вася, переверни его. Бык оказался парнем лет тридцати. — Ты кто такой, блядь? — Баряба. Раненый говорил тихо, у него были прострелены живот и нога. Я сел на корточки и зажал рану на животе носовым платком. — Чё тут за херня происходит, Баряба? Рассказывай. Перед смертью-то не быкуй. — Спрашивай, чё. — Боевики в черном — кто они? Баряба уставился на меня с великим удивлением и как-то растерянно: — Это цыгане, бля... А вы чё, мудаки, ни хера не знаете? Вы чё, не за девкой, что ли, пришли? Он шептал скороговоркой и был в странном возбуждении. — Мы пришли за Жиликом, мужиком с фермы. А девчонку захватили до кучи. — Ну вы, блядь, придурки! В такой блудняк влезли из-за бомжа! — Ты не пыли, Баряба. Я уже в курсе, что вы похитили Дашу и пытаетесь отжать у ее отца завод. — Какая Даша, нахер? Какой, блядь, завод? Ты о чем? Ее зовут Баваль, она дочь цыганского барона. Мы хотели залезть в долю... У меня закружилась голова, но я скрипнул зубами и продолжил допрос: — Чё за доля? — Героин, бля... Трафик. — Ты мажешь, парень. Барон скорее отдаст дочь, чем пустит чужаков в такой бизнес. — Не отдаст. Она рулит темой. — Что? — Баваль... Она заправляет всем. Видишь, сколько цыг за ней набежало? Ты спас змею, мудак. Последние слова он проговорил жутко ощерившись. Я быстро поднялся на ноги. — Вася, у Жилика есть ствол? — Да, ему Олежек свой отдал, на всякий случай. Ни слова не говоря, я сорвался с места и побежал к «Ниве». Пацаны кинулись следом. Машины не было. Жилик лежал на спине, раскинув руки. Я бросился к нему — аккуратное отверстие посередине лба уставилось на меня в упор. Я замотал головой и ненадолго завис. Потом стал рыть землю. Она взлетала в воздух и превращалась в пыль. Пацаны рыли рядом. Прибежал Олег. Руками, стволами, ножами мы выкопали могилу. Затащили в нее Жилика. И как собаки забросали тело землей. От физических нагрузок стало немного легче. — Чё будем делать, Пахан? Васян курил уже третью сигарету и смотрел исподлобья. Олег и Саня сидели на корточках. — Идем в овраг. Надо прошмонать быков. — Нахера? — Забрать ключи от машины. На пирсе их много. — Три штуки, — тихо уточнил Саня. Мы двинулись к оврагу. Пока шмонали, я прошел мимо Барябы, его ощеренное лицо разгладилось, глаза смотрели в небо. Отыскав ключи, мы добрались до пирса и залезли в покоцанную «Приору». Вася дал по газам. Ехали молча, за окном мелькали сосны, солнце плясало на иглах, а в моей голове звенела пустота и почему-то кололо в груди... За окном расходилась весна. После операции по спасению Жилика прошло полгода. Уже который день я сидел за ноутбуком, изучая план здания, подходы-отходы и прилегающую территорию. Новая работа — охрана блатного депутата Столярова — требовала дотошности и отнимала много сил. Прихлебывая гекуро, я пытался определить возможные снайперские точки. Тут мне позвонил Вася Афганец. Он нашел Дашу. Картель, в котором она заправляла, гнал трафик через Краснокамск до Заостровки. Однако верхушка картеля обреталась в области. Подняв старые связи, я вышел на оружейника. Продал, что мог. Купил СВД и старую «девятку». Пацаны об этом не знали — я решил посчитаться самостоятельно. Определив место, время и расстояние, я уехал в лес и пристрелял винтовку. На следующий день, вырядившись в бомжа, занял позицию на чердаке трехэтажного дома. С опозданием на десять минут Даша вышла из подъезда. Она была одна. Мой палец лег на курок. Я втянул воздух и замер, слушая удары сердца. Девушка подошла к машине и повернулась ко мне спиной. Я стал медленно водить взглядом по синему пальто. Уперся в левую лопатку. Вдруг знакомым взмахом руки Даша заложила прядь за ухо. Я перестал считать удары сердца. Потерял концентрацию. Отвернулся. Потом снова посмотрел в прицел. В то же мгновение Даша резко обернулась. Я отпрянул. Палец дрогнул. Невидимый кулак ударил девушку в грудь и сбил с ног. «В яблочко!» — вонзилось в голову. Стало нечем дышать. Я вскочил, отшвырнул винтовку и побежал к ней. В густом тумане ноги вынесли меня на улицу. Тут из подъезда один за другим стали выскакивать цыгане. Черные квадраты рубашек... Тупые дула стволов... Но я успел добежать. Ее подбородок был перепачкан кровью. Я упал на колени и схватил девушку за плечи. Потряс. Притянул тяжелое тело к себе. Кто-то схватил меня за волосы: — Пошел нахер, бомжара! Без тебя разберемся! Посыпались удары. Лаковый ботинок прилетел в нос. Еще и еще. Цыгане оттащили меня в сторону. Бросили на землю. Я перевернулся на спину и уставился в небо. По нему проплывали большие пухлые облака. Потом мир дрогнул, и я потерял сознание.Халулаец
Егор Саныч был мужиком жестким. Родился под Нытвой пятым ребенком в семье. Огляделся, а отец-то запойный, а мать инвалид. Как реагировать на такие обстоятельства? Егор Саныч, тогда еще Егорка, выучился собирать грибы, ставить силки на птиц, удить рыбу, бить из лука (луки в тех краях из вереска делали и черемухи). В начале 1980-х Егорка ушел в армию. Сначала он служил на острове Русский морским спецназовцем (их называют халулайцами, по названию бухты Холуай), а потом его командировали под Кандагар. В Афгане лесные умения Егора пришлись в жилу. Он пробыл «за речкой» полтора года и все полтора года служил разведчиком. Что он там повидал — одному Богу известно, а может, Бог отворачивался. Вернулся Егор в восемьдесят третьем и тут же уехал в Пермь. В Перми он получил корочки сварщика и автослесаря. Устроился на нефтебазу. В 84-м Егор встретил Марину. Обженились. В восемьдесят шестом у них родился сын Володя. Жили они у родителей Марины в трехкомнатной квартире. Родители были людьми если не интеллигентными, то почти интеллигентными. Имели большую библиотеку, цветной телевизор, 412-й красный «Москвич». Ели они церемонно, с приборами и переменой блюд. Любили поговорить о высоком (под высоким подразумевались Ремарк и Окуджава). Всего этого было достаточно, чтобы Егор чувствовал себя не в своей тарелке. В общем-то, он и был не в своей тарелке, потому что ступил на скользкий путь мезальянса. Благовоспитанная и образованная Марина влюбилась в человека с биографией, в нечто нездешнее и экзотичное. Егор влюбился в то же самое. До 1991 года их жизнь текла по советским нотам. Когда Союз ухнул, Егора затошнило. Так бывает, когда прыгаешь из вертолета в Тихий океан, а с губ рвется крик «Халулай!». Володя рос мечтательным мальчиком. Семья к тому времени перебралась в отдельную квартиру, а отец устроился в автосервис. Он всячески пытался привить сыну любовь к машинам. Любовь не прививалась. Тогда Егор отдал Володю на карате. Парень тренировался, но без охотки. Его тянуло в школьный театральный кружок и рисовать. Егор хмурился. Сын напоминал ему жену — белоручку и фифу. То есть в жене ему это нравилось, а в сыне он этого просто не понимал. Попытки затянуть его в лес, научить бить птицу из лука, ставить силки, выживать с одним ножом тоже провалились. Володе было четырнадцать лет, когда отец взял его на охоту, а на охоте протянул ему нож и приказал добить лосенка. Володя присел над лосенком, а потом расплакался как девчонка. В том же году, зимой, Володя впервые увидел отца в действии. Они пришли в общественную баню, куда ходили каждую неделю, чтобы париться. Отец сидел в парилке, а Володя отдыхал в раздевалке, когда в баню ввалился здоровенный мужик под мухой. Свободных мест не было, и он согнал Володю, сбросил его вещи на пол и стал раздеваться. Из парилки вышел отец. Смерил мужика взглядом. Вытер руки о полотенце. Подошел. Мужик был весь в татуировках. Егор указал ему на свою — черепаха на правом плече — и сказал: — Видишь? Расписной сбледнул, но ответить не успел. Егор ударил его раскрытой ладонью в кадык и подсек мужику ноги. Расписной упал и разбил голову о лавку. Отец взял его за лицо и стал возить по полу, приговаривая: «Ты здесь будешь мыться, понял? Здесь, выблядок». Расписной понял. Оклемался, оделся и ушел. После этого случая кое-что понял и Володя. Он понял, насколько крут его отец и что таким крутым ему никогда не стать. А самое страшное — он и не хотел быть крутым, он хотел ходить в театральную студию и рисовать, чтобы стать актером или художником. С женой отношения у Егора Саныча тоже разладились. Чем старше он становился, тем неудержимей его тянуло в лес. Жена леса не любила, без горячего душа жизни не мыслила, а без унитаза так и вовсе. К 2004 году они окончательно превратились в родственников, мало интересующихся жизнью друг друга. Можно сказать, Егор Саныч вообще жил сам по себе, потому что к сыну интерес у него пропал. Новой женой Егора Саныча стала старая любовница — природа. Он купил домик на берегу Камы, в Оханском районе, водил китайский джип и был почти счастлив, когда не думал о семье. Сын после одиннадцатого класса поступил в институт культуры на актерский факультет. Жена увлекалась рукоделием, что отлично совмещалось с работой секретарши в аудиторской фирме. Летом 2005 года сын с друзьями поехал отдыхать в Полазну. Володя водил ВАЗ-2110. Назад они возвращались ночью. Шел дождь. А гаишник на трассе машину тормознул и вытянул шофера на дорогу. На повороте. Их обоих Володя и сбил. Шофер выжил, а гаишник умер. Тут Егор Саныч забегал. В кредиты залез, адвоката дорого нанял, к оперу знакомому ходил, с которым в Афгане вместе служил. Не помогло. Володе дали пять лет общего режима, потому что и скорость превысил, и с похмелья был. Если б Егору Санычу дали пять лет общего режима, он бы их на одной ноге отстоял. Он на суде прямо так и попросил: давайте я за него отсижу, сын ведь актер, какая ему тюрьма? Не разрешили. Кто преступление совершил, тот пусть и отвечает, иначе, мол, никак. Володю отправили сидеть в 38-ю колонию. А общий режим — беспредел. Профессиональных преступников, живущих по понятиям, там мало. Зато наркоманов и хулиганья хоть отбавляй. Про 38-ю присказка есть: на всю зону четыре мужика, все остальные блатные. Понятное дело, Володя в блатную жизнь не вписался. Он красивым был, гладеньким и наивным. Красивым, гладеньким и наивным там только одно приспособление находят — сексуальное. Володю сломали в первый же месяц. Под интриги подвели, под нелюдское. Изнасиловали. Не на хора, а спокойно так. Блатной Зоба соблазнился. У петухов в зоне своя ниша и своя иерархия. Если, к примеру, хочешь ты петуху на клыка навалять, то сначала надо подойти к главшпану (старшему петуху), сторговаться с ним за чай-сигареты, а потом уже пользовать симпатичного. А с чаем и сигаретами не у всех достаток, вот и получилось, что Володю в основном пользовал блатной Зоба. Он его Иришкой называл. Сладкая ты, говорит, девка, Иришка. А Володя... Как сказать... Его сломали об колено, конечно, но жить-то надо. А как жить, если Зоба раз в неделю тебе на грудь садится? Мне кажется, Володина психика сделала кувырок. Человеческая сексуальность вообще штука тонкая. Два месяца пользовал его блатной Зоба в рот, пока однажды не пристроился сзади. В бане дело было. Зоба вставил, Володе сначала больно было, а потом вдруг стало хорошо. Возбудился он. Заподмахивал. Зоба ему в попу кончил, а Володя — на полок банный. Тут отец на свидание приехал. Спрашивает: как ты тут живешь? А Володя же не скажет, как он тут живет. Наврал, конечно. Хорошо, говорит, живу. Сигарет бы с конфетами побольше... А отец говорит: знаю, у тебя подруги нет, но без женщины пять лет жить нельзя, привезти тебе проститутку на длительное свидание? А у Володи полок забрызганный перед глазами стоит. Нет, говорит, пока не приспичило. Разве что попозже. Отцу этот ответ показался странным, но он промолчал. На общем режиме разрешено четыре длительных свидания и четыре коротких в год. На короткие ездил Егор Саныч, на длительные — мать. Когда Володя в третий раз отказался от проститутки, Егор Саныч заподозрил неладное и решил навести справки. Пошел к оперу-сослуживцу и попросил его разузнать про сына. Опер разузнал. Разузнать-то он разузнал, а как сказать, не знал. Отец — халулаец, сын — петух. Не укладывался такой позор в голове опера. Неделю трубку не брал. В отпуск даже думал уйти, но не ушел, потому что понимал: говорить все равно придется. Опер сидел в кабинете и смотрел в стену, когда к нему зашел Егор Саныч. — Здорово, Коля. — Саныч... — Хули Саныч. Рассказывай за сына. Опер отер лицо широкими ладонями и достал из сейфа бутылку водки и два стакана. Саныч вскинулся: — Это что за приготовления? Говори давай! — Твой сынпетух, Саныч. Блатной Зоба его пользует. Зобнин Константин Михайлович, тысяча девятьсот семьдесят шестого года рождения. Его вали, не меня. Егор Саныч опустился на стул. Побледнел. Он ничего не говорил, но глаза медленно разгорались желтым огнем. Опер испугался: — Саныч, давай без этих ваших трансов. Я не душман. Я жить хочу. Егор Саныч разлепил губы: — Я тоже жить хочу. И как мне теперь с этим жить? Опер отвел глаза. — Давай я магнитолу украду, а ты со своими договоришься, чтоб меня на тридцать восьмую закрыли? — Не пролезет, Саныч. Система так устроена, что близких родственников в одну колонию не сажают. — Его весь срок там будут... — Весь срок. В один конец билет, ничего не поделать. Даже перевод в другую колонию не поможет. По «сарафану» статус передадут и все. — Что же делать? Опер вздохнул и разлил водку. По полстакана. Выпили. Закурили. — Ничего не делать, Саныч. Ждать освобождения. Два отсижено. Еще полгода отсидит, вытащим по УДО. — А Зоба этот... — Через год выйдет. Он блатной, ему УДО заказано. — Ладно. Вытаскивай его, Коля. За мной не заржавеет. А я кумекать пойду. — Не наследи только. — Да уж не наслежу. Дома Егор Саныч сел в кресло, закурил и задумался. На следующий день он уехал в лес, срубил две черемухи и вереск и приехал в гараж. Черемуху он пустил на «рога», а из вереска сделал основу. Очистил заготовки от коры и высушил. Потом обрезал по нужной длине, чтобы составной лук вышел не больше полутора метров. Склеил три части («рога» и основу) специальным клеем. Получилась кибить. Кибить Егор Саныч опустил в животный жир, потому что без такой пропитки лук хрястнет. Жиром он запасался на охоте, и в гаражной яме имелся запас. Изготовив кибить, Егор Саныч взялся за тетиву. Сначала думал сделать ее из сыромятной кожи, но в итоге сделал из пучка натуральных шелковых нитей. За стрелами Егор Саныч поехал под Ныроб, потому что там растет хороший ясень. На мелкого зверька сгодятся и березовые стрелы, но Егор Саныч собирался на хищника крупного, а на крупного только ясень или дуб годятся. Вообще, халулаец вполне сознательно выбрал лук. Для него он был инструментом священным, истинно своим, и Егор Саныч считал, что убивать человека, растоптавшего его сына, надо именно из лука. После недели кропотливых усилий, подгонок, шлифовок и пристрелок боевой лук был готов. Оставалось ждать, а ждать Егор Саныч умел. Опер сдержал обещание. В сентябре 2007 года Володя вышел на волю. У ворот его встретили отец и мать. Отец вглядывался в сына, пытаясь рассмотреть следы слома, но следов этих не замечал. Володя был счастлив видеть родителей, счастлив погожему деньку, счастлив свободе и зимнему салату под рюмашку коньяка. Отец не собирался говорить сыну, что знает о его петушиной жизни. Он собирался всадить стрелу в глаз блатному Зобе, когда тот выйдет из ворот колонии, и забыть весь этот позор как страшный сон. После освобождения Володя немного побыл дома, а потом устроился экспедитором в «Нестле». То есть сначала его никуда не брали, но отец позвонил друзьям, и его взяли в «Нестле». Целых полгода отец украдкой наблюдал за сыном. Ему казалось странным, что сын не хочет облегчить душу, рассказать о своем горе, попросить прощения. А еще халулайцу казалось странным, что за эти полгода сын так и не привел домой девушку. В начале марта 2008 года ему позвонил опер и назвал дату и время освобождения Зобнина. Пятого марта Егор Саныч встал рано утром, не позавтракал и ушел в гараж. В гараже он поменял номера на машине, положил лук и три стрелы на заднее сиденье, выкурил сигарету и поехал в Березники. Напротив колонии тянулся пустырь, а за ним шло редколесье. Егор Саныч давно выбрал позицию и теперь встал за толстой березой в полный рост. Набросил тетиву. Наложил стрелу. Металлический наконечник тускло блеснул на солнце. Пахло лежалой травой. До колонии было сто метров. Опер показал Егору Санычу пару фотографий Зобнина, и он не сомневался, что узнает это животное даже в толпе. Правда, никакой толпы быть не должно, потому что на волю отпускают по одному. Тяжелые тюремные ворота поползли вбок. Халулаец улыбнулся и медленно поднял лук. К воротам подъехало такси. Дальше два события наложились друг на друга. Из ворот вышел Зобнин, а из такси выскочил Володя и бросился ему на шею. В одну короткую секунду Егор Саныч понял, почему сын так и не привел домой девушку. Володя ластился к Зобнину, а тот улыбался и гладил его по спине. Халулаец натянул тетиву. Он как бы взял себя в кавычки. В таком же состоянии он добывал языка в горах Афганистана и шел в лобовую атаку на обколотых героином душманов. Зобнина или сына? Сына или Зобнина? Время уходило. Звериным чутьем халулаец слышал его шаги. А может, это колотилось сердце. Зобнина или сына? Сына или Зобнина? В последнее мгновение, когда парочка уже стояла у такси, Егор Саныч вскинул лук, выпустил стрелу в небо и повалился на землю. А Володя и Зобнин сели в такси и уехали в Пермь.Несладкая история
Есть в мире сладкие места. Я щас не про физиологию, я про работу. Например, отдел материально-технического снабжения одного заводика, который рекламировать не буду, большой сладостью отличался. Я туда спецом устроился. Моему приятелю мужики с этого заводика медь таскали. А я решил туда трудоустроиться, чтобы... кое-что стырить. Мне свойственны далеко идущие планы. Я вообще стратег, если отбросить скромность. На самом деле, мне легко отбросить скромность, потому что я с детства предпочитаю целеустремленность. А еще я красив той грубой прямолинейной красотой, на которую так падки чуть-чуть образованные женщины и сильно образованные мужчины. Некоторые склонны приписывать мне гипнотические способности, но здесь я решительно протестую. Любой гипноз в моем исполнении — это чутье и ум. Например, зашел я в отдел кадров и вижу: женщина лет сорока, на пальце полоска от обручального кольца, волосы у корней не прокрашены, маникюр есть, но самодельный и нанесен неровно, кожа оставляет желать лучшего, при этом — шея изящная, грудь очерченная, черты лица предполагают одухотворенность. Как с такой заговорить? А очень просто с такой заговорить, потому что заговаривать надо не с ней, а с вышивкой на стене. На вышивке море и корабль с парусом изображены при помощи «крестика». Это кадровичка с тоски и от одиночества соорудила. Чтобы о муже не думать, чтобы будущее в этом нитяном море утопить. Но зачем же топить, зачем так сразу, когда есть я? — Потрясающие волны! — Что? — Картина. Я бы на вашем месте отодвинулся. — Почему? — Обрызгать может. — Вам правда нравится? — Очень. Я сам пробовал вышивать... — Вы?! — Я. А что в этом такого? — Ничего. Просто мужчины обычно... — Предрассудки. Когда одинок, надо же чем-то занимать вечера? Кадровичка вздохнула. — Вы одиноки? — Как жертва кораблекрушения. Кадровичка замялась. Я знал, что ей хочется спросить почему. Но она стесняется. Выдержав паузу, я ответил на незаданный вопрос: — Жена погибла в аварии полтора года назад. Здесь главное — не переборщить. Потому что жить без женщины три года — бобылячество, а полгода и флиртовать — свинство. А полтора — самое то. Ты как бы уже поскорбел всерьез и теперь делаешь первые шаги к новой жизни. Робкие такие шаги, как олененок Бэмби. Кадровичка встрепенулась и спросила: — А вам чего? — Я хочу все поменять. — Что поменять? Кадровичка залилась густым румянцем. — Все. Квартиру поменял, машину поменял. А к вам пришел, чтобы поменять работу. — Вы на какую-то конкретную должность претендуете? — Мне бы в отдел материально-технического снабжения. — Там вроде бы все занято... — Хорошо. Я попробую устроиться в другое место. Когда такое говоришь, надо подпустить в голос обиду, но чуть-чуть. Кадровичка ведь не соискателя отшивает, а почти родственную душу. Ей тяжело. Пусть будет еще тяжелее. — Постойте. Я позвоню Николаю Викторовичу. Может быть, получится что-то решить. — Я на стульчике посижу. Мне отсюда картину видно. Можно? — Конечно-конечно. Понимаете, соль в том, что всем насрать на ее картину. Мне, конечно, тоже, но я хотя бы делаю вид, что нет. Вы замечали, что мы живем в поразительно честном обществе, где все фонтанируют правдой, которая никому не нужна? Закончив говорить по телефону, кадровичка выбралась из своего закутка и подошла ко мне. Я поспешно вскочил. Вскакивать тоже надо уметь. Попробуйте вскочить на ноги так, чтобы женщина поняла, что вы не просто так вскочили, что вы не перед всеми женщинами так вскакиваете, а только ради нее. — Есть одна вакансия, но вам она вряд ли подойдет. — Почему? — Ну, это грузчик-экспедитор. — Я готов. Когда приступать? — Сейчас оформим документы, и завтра можете выходить на смену. У вас ведь высшее образование? — Разумеется. Вот. Я положил на стол липовый диплом, липовый СНИЛС, липовый ИНН, липовый паспорт и липовую трудовую. С паспортом проще всего получилось: срезал бритвой фотку знакомого бомжа, а на пустое место вклеил свою. Самолетом, конечно, с таким паспортом лучше не летать, а вот на завод устроиться — вполне. К тому же я не планировал задерживаться надолго. Афера любит легкость, а когда долго — обязательно какая-нибудь тяжесть возникнет. — У вас педагогическое образование? — Да, но вы ведь знаете, сколько получают учителя? Кадровичка улыбнулась. Несмело, как вдова. Вдова вдовцу, хе-хе. — У нас тоже зарплата небольшая. Восемнадцать тысяч плюс премия. — На первое время — нормально. Осмотрюсь и сделаю у вас головокружительную карьеру. — У нас. — Что? — Уже у нас. — Да. Уже у нас. В воздухе повисла пикантная двусмысленность. Это было лишним. Свидание и прочие сопли не входили в мои планы. — Живете там, где прописаны? — Конечно. — То есть в сорок втором доме? На Пролетарке? — Совершенно верно. — А я в тридцать восьмом. — Надо же! Так мы соседи. Тут меня понесло, и я брякнул: — Не хотите вечером прогуляться? Со мной такое бывает — я как бы подчиняюсь роли, то есть стремлюсь к правдоподобному развитию персонажа, даже когда это вредит делу. Но здесь и кадровичка попалась интересная. Чувствовалась в ней какая-то глубина. Понятно, что я хотел чуть-чуть пощипать заводик и свалить в родную Мотовилиху. Однако не в одних же деньгах счастье? Хотя это я гоню, потому что именно в них. — Хочу. Меня Ксения зовут. — Антон. Где встретимся? — Давайте в семь вечера у банка? — Отлично. Мне сейчас куда? — Выйдите из кабинета и сразу налево. — А там что? — Там вас сфотографируют на пропуск. Вот. Ваши документы. Трудовую я оставляю у себя. — Тогда до вечера, Ксения? — До вечера, Антон. Вечером мне, понятное дело, пришлось переться к банку. В Мотовилиху я не поехал. Скоротал денек на малине за картишками. С заводом расклад выходил такой. Либо щипать его по-крупному — гасить водилу и уводить фуру с металлом. Либо по мелочи — тырить катушку медного кабеля через одну интересную дыру в заборе. Затихариться на заводе и дождаться ночи проще простого. Привезти катушку погрузчиком к дыре тоже не проблема. С катушкой вернее, но выхлоп всего пол-ляма. С фурой можно загреметь, зато и навар пять миллионов. Подельники не олени. Я не олень. Опера из УГРО не олени. Слишком много неоленей, чтобы все прошло гладко. Доиграв круг-стук, я остановился на катушке кабеля. Нахер. От пяти лямов мокрым пахнет, а тут еще эта Ксения. К банку я подошел без пяти семь. Отгуляю скромно, завтра стырю катушку — и привет-пока. На юг мотану. Люблю гастроли. Там вообще можно просто спать с женщинами, а утром уходить с их сумочками в рассвет. Ксения пришла ровно в семь. В сарафане. Легкая такая струящаяся ткань аппетитно-бежевого цвета. И лицо другое. Будто она на работе маску надевает, а тут сняла, а под маской — жизнь. Блин, нет ничего вульгарнее влюбленного маравихера. — Потрясающий сарафан! — У вас все потрясающее, Антон. — В смысле? — Ну, сначала вышивка, теперь сарафан. — Я вам не льщу. Говорю, что вижу. — Куда пойдем гулять? — Я недавно переехал, так что плохо знаю эти места. Ведите! — Можно погулять по экологической тропе. — Тут такая есть? — Да. На Сочинской начинается. — Тогда вперед! Когда мы вошли в лес (до леса мы шли не молча, но так — обмениваясь ничего не значащими фразами), Ксения вдруг взяла меня под руку и прошептала: — Не оборачивайтесь. За нами идет мой муж. Я, понятно, обалдел. Какой муж — картина же?! Будущее утонуло в нитяном море. — Простите, я не понимаю... — Я недавно развелась. Он меня избивал. А теперь преследует. — А как же полиция? Полиция как же! Первый раз в жизни я заговорил про полицию. — Участковому все равно. Я обращалась. Писала заявление. Насилу упросила, чтобы его приняли. Витя так-то неплохой, но когда выпьет или с кем-то меня увидит — в него прямо дьявол вселяется. У меня в голове шумели сосны. Какой-то херов Витя, видите ли, идет за нами. Как же я неаккуратно «прочитал» эту Ксению. И чего теперь с этим Витей делать? Он ведь драться полезет, чучело. — Ксения, а зачем вы пригласили меня на прогулку, если знали о таких... особенностях мужа? — Ну, во-первых, меня пригласили вы. — А во-вторых? — Вам правду? — Да уж будьте любезны. Тропа сделала поворот, и я коротко глянул через плечо. За нами действительно шел мужик, и он был здоровенным. Вот что я за человек? Буквально на ровном месте влип. Ничего еще не украл, а уже страдаю. — У вас широкие запястья. У моего мужа такие же, потому что он занимался боксом. Значит, вы тоже занимались. Плюс у вас плечи, толстая шея, тело тренированное. — Про тело-то вы откуда узнали? — А по движениям чувствуется. Движения-то не спрячешь. Я посмотрел на Ксению новыми глазами. Врожденная способность к мимикрии, это ж надо. Она даже под речь мою моментально подстраивается. Блин, если я ее заполучу, мы такую кашу заварим, что любо-дорого! — Ксюша... — Да? — Я тебя правильно понимаю — ты решила столкнуть нас лбами? — Не совсем. Я просто положилась на случай. То есть согласилась пойти с тобой на прогулку. — Лихо. И чего теперь будет? Предскажи будущее, Кассандра. — А что тут предсказывать? Скоро Витя нас догонит и попытается тебя избить. — Я ведь могу и убежать... — Ты не бросишь меня в лесу с этим чудовищем. Я помолчал. Дать стрекоча, конечно, очень соблазнительно. А если он ее убьет? Мусоров вызвать? Пока приедут. Витя, наверное, подшофе, так что медлить не будет. Что же делать? Да пошел он нахер! Порву, суку, первый раз что ли? — Не брошу. Но за тобой должок. — Переспать со мной хочешь? — Нет. Хочу кабель. — Какой кабель? — Который на заводе лежит. Короче, рассказал я Ксюше подноготную. А чего? Либо вербану, либо... Она все равно ничего не докажет. — Ну хорошо. Украдешь ты кабель. А что потом? — Потом поедем с тобой на юг. Месяца на три. Познакомимся поближе. — То есть все-таки переспим? — Ну конечно. — Хорошо. Но давай поговорим об этом, когда выйдем из леса. — Давай, правда, я... Договорить не успел. За спиной хрустнули ветки. Я обернулся. Набыченный Витя несся к нам со всех ног. — За дерево, Ксюша. Быстро! Просить дважды не пришлось. Ксюша спряталась за дерево, а я остался на тропке. Витя оказался набыченным только с виду. Во всяком случае, ко мне он подбежал уже легкой трусцой, а метров за пять вообще остановился. — Ксюха, пошли домой! — Никуда я с тобой не пойду! Мы разведены! Исчезни из моей жизни, Витя, прошу тебя! — Это ебарь твой, Ксюха? Ты ебарь ее, да? Витю надо было вывести из равновесия, чтобы он кинулся. Мочить людей, когда они не в себе, проще, чем всяких хладнокровных засранцев. — Конечно, ебарь. В жопу сегодня драл твою Ксюшеньку. Тебе, небось, в жопу-то не давала? А знаешь почему? Потому что ты олень, Витя. Витя одновременно озверел, побагровел и кинулся в бой. Я скользнул вбок и подсек ему опорную ногу. Витя повалился на землю. Попытался встать. Я пробил с подъема в голову. Попал в зубы. Витя сплюнул и замотал башкой. Я ударил снова. Перевернул Витю на спину. Таких типчиков надо бить основательно, иначе они ничего не поймут. Я сел на него сверху и стал месить толстое лицо. Левой-правой, левой-правой, левой-правой. В такие минуты я ни о чем не думаю. В такие минуты я сосредотачиваюсь на костяшках. Указательная и средняя — больно ему. Безымянная и мизинец — тебе. Тут из-за дерева выбежала Ксения: — Что ты делаешь? Пусти его! Ты убьешь Витеньку! Она налетела на меня с кулаками, а потом схватила за волосы и попыталась стащить с бывшего мужа. Я легко освободился от захвата и кувырком ушел в сторону. Ксения упала Вите на грудь и стала гладить его раскуроченную морду. Ну вот еб твою мать, а? — Что ты с ним сделал? Что ты с ним сделал, убийца? Я тебя посажу, слышишь? Посажу! Я приблизился и нащупал пульс. Нормально все. Я ведь не первый раз человека избиваю, чего уж прямо так-то... Хрен теперь мне, а не медный кабель. Хорошо, что не рассказал Ксении про поддельные документы. — Ксюш... — Пошел вон! — Ты ебнутая, ты знаешь? — Пошел вон, урод! — Щас уйду. Один вопрос только. Та вышивка в отделе кадров... Она твоя? — Нет. Дочь подарила. — Ааа... Ну слава богу. А то я, знаешь, начал в себе сомневаться. — Ты что несешь? Витенька? Витя?! Витя стал приходить в себя. Не так уж сильно я его избил, как вы могли подумать. Короче, Ксения сосредоточилась на муже, а я тихонько свалил. Нахер этот заводик, который я по-прежнему отказываюсь рекламировать. И Ксению с Витей нахер. И вообще всю Пермь. На юга поеду. Лучше уж курортные романы крутить, чем по таким блуднякам лазить. Вот уж где сладость так сладость, не то что здесь.Попался!
Раннее утро. Пасмурная весна. Город труб и огней. Люди разбегаются по делам. Людям нужны деньги, еда, погашенные кредиты и путевки к морю. Я стою на балконе девятого этажа. Курю. Лениво стряхиваю пепел в бутылку из-под шампанского. Рядом стоит Марина. Она кутается в теплый халат и выглядит бледно. Такие утренние стояния после восхитительной пьянки я называю длинно: выйти на балкон, поплевать на рабочий класс. В общем-то к рабочему классу у меня нет претензий. Он более-менее одинаков во всех уголках планеты. Скорее я не согласен с жизненной стратегией именно российских работяг. Ну зачем, скажите на милость, всю жизнь честно впахивать, если пенсия все равно лишит тебя человеческого достоинства? Докурив, я достал из кармана пакет ганджубаса. Вырвал из пачки фольгу. Прикрепил ее к горлышку маленькой «Бонаквы». Вытащил из халата английскую булавку. Сделал в фольге четыре дырочки. Прикурил вторую сигарету. Прожег круглое отверстие в нижней части бутылки. Насыпал траву. Прижался губами. Поджег. Едкий ароматный дым хлынул в легкие. Я сдержал кашель и протянул бульбулятор Марине. Девушка замотала головой и сухо обронила: «Не буду». Я знал, что она в депрессии, потому что приболела и уже две недели не веселилась как следует. Пришлось вступить в диалог. — Мара, не начинай. Тебе надо расслабиться. Последнее время ты сама не своя. Марина вскинула руки и завела роскошные волосы назад. Я люблю этот жест. Как будто пантера потягивается в джунглях Амазонии. — Нам надо поговорить. Ее тон подразумевал абсолютную серьезность. Мне это сразу не понравилось. Нельзя быть серьезным, когда куришь ганджубас. — О чем ты хочешь поговорить? — О нас. Пойдем в комнату. Я вздохнул и ушел с балкона вслед за Мариной. В комнате она легла на кровать. Я лег рядом. Нарушать тишину не входило в мои планы. Если Марина хочет поговорить — пусть говорит. Помогать ей не буду. — Мне все надоело, Олег. Я молчал. Не вижу смысла отвечать на реплики, в которых нет вопроса. — Мне надоело бухать, нюхать, трахаться, путешествовать. Надоело переезжать с места на место. Надоело жить без детей и своего дома. Я хочу родить ребенка. Хочу большой коттедж и золотистого ретривера. Хочу обычных домашних хлопот. Хочу варить борщ и ждать тебя с работы. Ты меня понимаешь, Олег? Я закурил. Пустил в потолок три колечка. Закинул ногу на ногу. — Понимаю. Ты ведь знаешь, где находится дверь? — О чем ты? — О том, что ты рвешься к мещанскому счастью, а для меня это ад. Если ты действительно всего этого хочешь — уходи. — Куда, Олег? Я пять лет езжу за тобой по всему миру. Мне тридцать пять, ты понимаешь? Я ничего не умею. — Ну, ты достаточно красива... — Достаточно красива, чтобы жить с кем попало, но не с тем, кого я люблю? — Ты полюбишь. Обязательно полюбишь. Наверное, это будет какой-нибудь инженер. Или бизнесмен средней руки. Родишь ему ребенка. Тело деформируется. Вылезут растяжки. Муж начнет тебе изменять. Потом придут бессонные ночи. Зубки режутся, грязные памперсы, очередь в детсад. Зато каждый год Турция, шашлыки в сосновом лесу, предсказуемость и стабильная бедность. Дерзай. Это, видимо, то, чего ты хочешь. — Какой же ты дурак! Я хочу всего этого с тобой! — То есть всерьез подумываешь обречь меня на унылость? Не выйдет, Мара. До тебя со мной ездила Катя. Между нами произошел точно такой же диалог. Теперь она брюхата вторым ребенком и живет где-то под Краснодаром. Возможно, счастлива, хотя не уверен. — И зачем ты мне это рассказываешь? — Ну, как... Чтобы ты понимала степень моей свободы. Я не поддаюсь на уговоры, шантаж, угрозы и причитания. Я иду своим путем, и либо ты идешь со мной, либо я двигаюсь один. Никто и ничто не изменят вектор моего движения. Марина перевернулась на бок и заглянула мне в лицо: — Хорошо. Я уйду. Но пообещай, что будешь помогать своему ребенку. Я приподнялся и уставился в лукавые глаза: — Какому ребенку? Что ты несешь? — Я беременна, Олег. От тебя. Это правда, милый. У нас будет ребенок. — Чушь! Я на такое не поведусь. Ты же пьешь противозачаточное! «Ярину» эту или как там ее? — Я пила «Ярину». А потом решила, что хочу ребенка, и перестала. Ладно. Пойду собирать вещи. Марина попыталась встать, но я прижал ее к кровати: — Какой срок? — Пять недель. — Понятно, понятно... И куда ты пошла? — Ну, ты ведь идешь своим путем. А я пойду своим. Бизнесмен средней руки, говоришь? Или все-таки инженер? Как думаешь, кто лучше воспитает твоего сына? — Сына? А ты точно уверена, что будет сын? — Не точно. А разве девочка что-то меняет? — Да нет, в общем-то. Девочка даже лучше. — Чем это? — Проживет дольше. А еще девочки поспокойнее. — Да. Если родится мальчик, назову Антон. А если девочка — Василиса. — Ужасные имена. Мальчика назови Матвей. А если девочка, то пускай будет Даша. — Ну, это уж мы с моим будущим мужем как-нибудь вдвоем решим. Пусти, Олег. Мне пора. — Куда тебе пора? Я чемпион мира по покеру с бриллиантовым браслетом! Куда тебе может быть от меня пора? Марина посмотрела на меня с улыбкой, а я понял, что попался. Будет и большой коттедж, и золотистый ретривер, и зубки режутся, и грязные памперсы, и галиматья с выбором имени, и поиск лучшего роддома, и Маринина мама приедет, чтобы возиться с Матвеем и страшно меня раздражать...Аватар Олега
Олег не был умен, талантлив или, скажем, богат. Он не был даже статен, внушителен или ослепительно красив. Если б вы увидели его бредущим по Компросу в золотом закате, когда косые лучи выигрышно подсвечивают в спину, и тогда бы он вряд ли произвел на вас впечатление. Среднего роста, среднего телосложения, с чуть великоватой головой, Олег смотрелся со стороны... Никак он не смотрелся со стороны. Тридцатилетний мужик, каких пруд пруди по Перми. Но это если смотреть со стороны. Потому что в упор у Олега обнаруживалась особая черточка: магнетизм. «Магнетизм» — плохое слово. Сродни словам «вечность», «любовь» или «талант». Ничего конкретного и однозначного за ним не скрывается. Как пустая стеклянная банка: так можно потрясти, сяк потрясти, на солнце сквозь нее посмотреть. Пусто. Поэтому я его перед вами разверну. Набью эту банку содержанием. Олега хотели девушки, причем хотели остро и как-то сразу, минуя даже букетно-конфетный период. Долгое время я не мог понять, почему так происходит. Официантки, стюардессы, кондукторши, продавщицы, начальница на работе, попутчица в поезде, моя жена — все попали под его чары и легли к нему в постель. Когда Олег бросил мою жену и та вернулась ко мне, я попытался расспросить ее. Я долго готовился к разговору, но все равно замямлил, и получилось плохо. То есть меня понесло в чистую физиологию. Я думал, Олег как-то виртуозно занимается любовью и поэтому Ольга ушла к нему. Помню, я спросил ее про петтинг, куннилингус, размер члена, нежность и протяженность полового акта. Ольга рассмеялась. Она сказала, что Олег бы никогда не сказал «половой акт». Он бы сказал: «секс-шмекс», «ебля», «потрахушки», «праздник пестика и тычинки», «порево». Ольга на полном серьезе считала, что Олег был самым свободным мужчиной в ее жизни. Если б он попросил меня вернуться, я бы не задумываясь снова ушла к нему, сказала она. Я не знал, как реагировать на такую откровенность. То есть я не понимал, как жить с Ольгой дальше, как заботиться о ней, как заниматься любовью. Хоть она и ушла от Олега, его тень стояла между нами, и я решил препарировать ее, выяснить, что за человек сломал мой брак. Почему скучным сентябрьским утром Ольга сошла с ума и бросила меня, как фантик. Понятно, что пойти к любовнику жены я не отважился. Я не боялся Олега, просто не представлял, что ему скажу. Поэтому все свои вопросы я адресовал жене. Вначале я задавал их изредка и как бы между делом. Однако вскоре все наши вечера заполнил Олег. Я заметил, что Ольге нравится рассказывать о нем. В такие минуты она становилась необыкновенно красноречивой, в деталях описывала свои похождения и будто бы мстила мне за то, что я не он. Понимаешь, говорила она, с ним жутко необычно. Он заговорил со мной в кафе, а уже через час я раздвинула ноги. Он сделал мне куни прямо в туалете. У меня никогда не было такого оргазма. Но дело даже не в этом, хотя и в этом тоже. Он... Как бы тебе сказать. Для него каждая девушка идеальна. Ты это просто чувствуешь. Это потрясающе. Ты знаешь, у меня была куча комплексов. Ну, что я худая, зубы неровные, грудь маленькая. Рядом с ним комплексы исчезли. Я реально была Скарлетт Йоханссон. Я видела себя такой в его глазах. Он, знаешь, очень свободный. Мы ходили по квартире голыми. Трахались по всему городу. А самое крутое — это разговоры. Он так со мной говорил, будто мы с ним вдвоем на Земле остались. Запредельная искренность, полная свобода и сумасшедший секс. Он не умный при этом. Ничего такого. Просто естественный, непосредственный, в жестах, в словах, во всем. Вот. Я поняла, как сформулировать. В нем больше жизни, чем вообще во всех, кого я знала. Ты мертвец по сравнению с ним. Ну, и я тоже. Я лежу в постели с тобой и ничего не испытываю. Это как воду из крана пить после родниковой. Я молчал. С одной стороны, фигура Олега слегка прояснялась, с другой — она напоминала фигуру восемнадцатилетнего парня. Это смущало и как-то не увязывалось. Была и третья сторона. Третью сторону я озвучил: если Олег такой замечательный, почему он тебя бросил? Ольга ответила мгновенно, будто ждала этого вопроса. Я сама виновата. Кроме меня, у него были и другие девушки. Иногда он приводил их домой, и мы занимались групповым сексом. А я хотела, чтобы он был только моим. Я виню в этом желании своих родителей и советские догмы. Короче, я решила от него забеременеть и проколола презервативы иголкой. Но дело тут не только в девушках. У Олега есть концепция. Встречаться не больше полугода. Он ненавидит быт, власть привычки, мещанство. Он называет это самоцитированием. Типа первые полгода секс — это секс, а потом обычный онанизм при помощи вагины. Он бы меня в любом случае бросил, вот я и проколола презервативы. Я старалась сделать это аккуратно, но Олег все равно заметил. Он поставил меня раком, трахнул в задницу, а потом отхлестал ремнем и выгнал на улицу. Я кричала от боли и кайфа. Ты когда-нибудь кричал от боли и кайфа? Если честно, у меня вторую неделю жопа горит. Хочешь ее поцеловать? Я посмотрел на Ольгу и увидел, что она сильно возбудилась. Я понимал, что она хочет не меня, что она хочет Олега, но мне было плевать, потому что я тоже сильно возбудился. Это странно, я понимаю. Просто у меня пять месяцев не было женщины, а видение Ольги, стоящей раком перед другим мужчиной, воспалило мое и без того воспаленное сознание. Конечно, кто-то может удивиться, почему я не бросил жену, почему позволил ей вернуться, почему выслушиваю все эти излияния. На самом деле, ответ тут такой же примитивный и тупой, как с магнетизмом. Я люблю Ольгу и совершенно ничего не могу с этим поделать. Во время секса она три раза назвала меня Олегом. Постепенно секс через воспоминания о ее любовнике стал повседневным. То есть я возбуждал Ольгу как аватар Олега. Я знаю, что это порочная практика, но почему-то и сам стал находить в ней мазохистское удовольствие. С каждым месяцем фигура Олега обрастала подробностями. Я купил зажигалку «Зиппо», как у него. Перешел с «Мальборо» на «Парламент». Коротко постригся. Наколол змею на бицепс. Перестал брить подмышки. Посмотрел видеосеминар про куннилингус. Подсел на творчество группы The Who. В августе Ольга привела меня в кафе, где познакомилась с Олегом. Мы выпили кофе. Потом она сказала, что не надела трусики, и ушла в туалет. Я хотел не идти за ней, но через пять минут побежал бегом. Я вылизывал свою жену в той же кабинке, где семь месяцев назад ее вылизывал любовник. Из кафе нам пришлось уходить стремительно: Ольга залила своим соком мою рубашку, а я испачкал трусы. Через неделю жена стала называть меня Олегом, а себя попросила называть Лили. Я сживался с ее любовником уже на каком-то экзистенциальном уровне. Ольга больше ничего не стеснялась. В постели она могла сказать: «Олег входил глубже». Или: «Олег шлепал меня по заднице». Или: «Олег брал меня на столе». И я послушно входил глубже, шлепал по заднице, брал на столе. То есть я подчинялся не Ольге, а как бы сам хотел быть Олегом и делать все то, что делал он, чтобы жена была счастлива. Ну, и потому, что меня самого это возбуждало. Мы смотрели фильмы, которые смотрел Олег, ели блюда, которые ел он, планировали посетить те страны, где он уже побывал. В каком-то смысле моя личность исчезала. Я взял ее в кавычки, и кавычки становились все выше и чернее, а я сидел внутри и с восхищением смотрел, как над ними восходит новый Олег. Будучи перфекционистом, я хотел, чтобы мой Олег был идеальным. Мне вдруг стало казаться, что я фальшивлю, что настоящий Олег совсем другой. Я превратился в мнительного актера, которому нужно непременно познакомиться с Джонни Кэшем, чтобы сыграть Джонни Кэша. Это желание зудело во мне две недели. Потом я не выдержал и исподволь вызнал у Ольги адрес Олега. В понедельник после работы я поехал к нему. Мои ладони вспотели от волнения и оставляли следы на руле. Олег жил в ничем не примечательной десятиэтажке на Плеханова. Я припарковался, оплатил парковку, подошел к подъезду и закурил. Я совершенно не представлял, что скажу своему божеству. Я много раз представлял Олега голым. Видел его эрегированный член. Держал Ольгу за руки, когда он входил в ее узкую жопу, притрагиваться к которой она не разрешала никому. А он не только притрагивался, он хлестал и топтал ее, как маленькую сучку. Не знаю. Наверное, в тот момент я сошел с ума, потому что захотел позвать Олега к себе, чтобы он посмотрел, как я трахаю Ольгу, и сказал, правильно ли я ее трахаю. Трахаю ли я ее, как он, или все это сплошная халтура. Решившись, я набрал домофон. Мне никто не ответил, но дверь открыли. Я поднялся на восьмой этаж. Двести пятая квартира. Направо. Я вдавил кнопку звонка и замер. Момент истины вызывал коленную дрожь. Лязгнул замок. Из квартиры вышла неопрятная старуха. — Тебе кого? — Олега. — Нет его. В монастырь ушел. — Как в монастырь? — А так. Наблудил с женой бандита и в монастырь ушел. А может, в Москву уехал. Я ему раньше сдавала, а теперь сама живу. Твою, поди, тоже оприходовал? — Оприходовал. — Морду пришел чистить? — Нет. В глаза посмотреть. — Да нет там никаких глаз. Кобель он и есть кобель. У самого жена с детьми в Краснокамске, а он здесь блядует. — Как жена и дети? Не может быть! — То-то и оно, что может. Он гипнотизер патентованный. Раньше в цирке выступал. Выгнали. Всех гимнасток перетрахал, лишенец. Подъезд поплыл перед глазами. Мне вдруг захотелось схватить нож и срезать с бицепса татуировку. И никогда не слушать группу The Who. И отрастить волосы. И купить «Мальборо». И побрить подмышки. И вообще вымыться и все-все рассказать Ольге. Я достал зажигалку «Зиппо» и сунул ее старухе. Не дожидаясь лифта, я скатился по лестнице, прыгнул в машину и рванул домой. Прямо с порога я все-все рассказал Ольге. Она мне не поверила. Ни единому слову. Она просто смеялась надо мной. Неожиданно для нее, я тоже рассмеялся. Ну нравится девочке быть Олеговой сучкой. Зачем лишать ее такого удовольствия? Рассмеявшись, я отвесил Ольге тяжелую пощечину. Она упала. Я вытащил ремень и отхлестал ее. Сначала она кричала: «Олег, не надо!» А потом заскулила: «Антон, ну пожалуйста-а-а...» Тогда я поднял ее с пола и отнес в кровать. Неделю мы не разговаривали. Я предложил ей развод, если она хочет. Она промолчала. А через неделю наша жизнь вошла в русло. Не в прежнее доолегово русло и не в русло олегово, а в какое-то новое русло, потому что Олег из меня никуда не делся, а как бы мутировал от соприкосновения с Антоном, и я стал каким-то Антолегом, уж простите за словообразование. Конечно, между мной и Ольгой выросла стена отчуждения, но чем выше она становилась, тем яростнее мы преодолевали ее праздником пестика и тычинки. Настоящего Олега я встретил через год. Он шел по Компросу на закате, а мы с Ольгой сидели под липами. Он не произвел на меня никакого впечатления. «Вот идет Олег», — равнодушно сказала Ольга. А я сказал: «Ну и пусть».Похмелье буднего дня
Мое похмелье похоже на липкого сумоиста, который выталкивает меня в лужу сомнительной философии. «Главная прелесть жизни, — думаю я в такие минуты, — это то, что ее в любой момент можно закончить». Приятно осознать противным осенним утром, что хоть над чем-то у тебя имеется власть. Погоняв примерно вот такую херню, я открываю глаза и вглядываюсь в расступающийся туман. Кресло, шкаф, пианино, кот, зеркало, письменный стол и штора обретают краски. Идет это только коту. Остальное (особенно стол) выглядит измученно, как член импотента. Улыбаясь дурацкой метафоре, я медленно опускаю ноги на пол. Упираюсь взглядом в нутро бездверного шкафа. «Дмитрий, — обращаюсь к нему, — гроб ты мой лакированный! Как спалось?» Но Дмитрий молчит. Рубашки на плечиках напоминают призраков разных национальностей. Вскоре молчание шкафа делается невыносимым. Я встаю. То есть вначале встает член (завидуй, стол!), а потом все остальное. Говорят, в состоянии похмелья организм близок к смерти и поэтому спешит продлить собственный род. Не знаю. Организм — дурак. Только собаки могут переплюнуть детей в смысле навязчивости. Мне это, понятно, ни к чему. Я ведь вольный стрелок и все такое. Ванная. В стакане стоит щетка. Там могли бы стоять две щетки. Могли — три. Могли бы даже четыре. Но какой-то святой умник изобрел презерватив. Вообще, некоторые люди называют презерватив гондоном. Это неправильно. Гондон — это использованный презерватив. Разница примерно такая же, как между Девой Марией и моей бывшей женой. Принципиальная. Кухня. Ебаный хай-тек. Я лезу в холодильник. Внезапно нахожу там пиво. С недоверием усаживаюсь на стул. Не падаю. Делаю жадный глоток. Потом еще и еще. Дождь над Сахарой. Бессмысленно и приятно. Удивляюсь собственной предусмотрительности. Момент водворения пива в холодильник от меня как-то ускользнул. Член продолжает стоять. Я чуть не сбиваю им бутылку со стола, когда поднимаюсь за пепельницей. Однако суходрочка меня не привлекает. Мешают комплексы взрослого человека. Я беру телефон и начинаю шерстить контакты: Аделаида Брунгильда Василиса Гурьяна Донара Евлампия Жозефина Зена Ирина (Вот ведь имечко, а?) Констанция Лисса Мадонна Нелли Одетта Присцилла Рагнара Сусанна Теургина Урания Ярмина Ненадолго задумавшись, выбираю трех кандидаток — Жозефину, Присциллу и Рагнару. С Жозефиной я познакомился на «Кампус фесте». Мы с ней стояли в очереди за фалафелем и разговорились. Милая студенточка с истфака. Зачесывала мне про французскую революцию и Наполеона. В постели немного зажатая, будто зачет сдает. Типа наблюдает за собой со стороны, старается, чтобы все ее движения и позы нравились воображаемому фотографу из «Пентхауса». Таких всегда интересно раскрепощать. Присциллу я встретил в магазине виниловых пластинок. Она искала Элвиса Пресли, я — Эллу Фицджеральд. Не то чтобы наши вкусы совпадали или я не смотрел на Присциллу с чувством превосходства (где Элла и где Элвис?), но когда она сказала: «Джаз — для нытиков!», мне стало интересно. В постели она напоминает американку — действует грубовато, с нарочитым энтузиазмом. Ей кажется, что большая грудь автоматически является красивой. Было бы неплохо добавить ее сексу изящества. С Рагнарой я познакомился в кино. Галантно помог ей снять гигантский пуховик у гардероба. Угостил попкорном и пепси. А потом мы пошли в темный зал, чтобы посмотреть вторую часть «Тора». Правда, под занавес фильма нас больше занимали взаимные губы и обжимания. В постели Рагнара любит говорить непристойности. Иногда она произносит их совершенно естественно, а иногда — мучительно выдумывает прямо во время секса. Представьте: расслабленное и довольное лицо вашей любовницы вдруг напрягается, брови сходятся над переносицей, подбородок затвердевает и вдруг она выдает: «Еби меня, милый, еби! Ах, я такая сука! Твоя сука!» Честное слово, я чуть не заржал однажды. Пришлось поставить ее раком, чтобы хоть лица не видеть. Надо будет затрахать Рагнару до такого состояния, чтобы у нее не осталось сил на литературу. Вначале я позвонил Жозефине. — Здравствуй, Жозефина. — Привет, Марат. — У нас проблема, малышка. — Что случилось?! — У меня окаменел член. Если ничего не делать, он может отпасть. Мне больно. — Прямо окаменел? — Гранит. Диктуй адрес, я вызову тебе такси. — Но я на учебе... — То есть ты предпочитаешь грызть гранит, хотя могла бы его сосать? Ладно. Позвоню другой. Береги зубы. — Букирева пятнадцать. ПГНИУ. — Ок. Я сбросил вызов и задумался (точнее, сумоист пихнул меня в очередную лужу). А почему бы не пригласить в гости всех троих? Устроить вечеринку и все такое? — Алло, Присцилла? — Да. — Это Элвис. — Вау! Я думала, ты не позвонишь. — О твоих оскорбительных подозрениях мы поговорим позже. Приглашаю тебя в гости. — Глодать кости? — Именно. Одна часть моего тела страшно закостенела. — Бедненький... Нельзя бросать Короля в таком положении. — Ну, Европейский суд по правам человека этого бы точно не одобрил. — Еду. — Жду. Потом я позвонил Рагнаре. — Здравствуй, валькирия. — Здравствуй, Олаф. — Где ты? — В скучном офисе. Наблюдаю за работой принтера. — Я могу тебя спасти. — Как? — Возьми отгул, внезапно заболей, виртуально умертви бабушку и приезжай ко мне. — И что мы будем делать? — Сожжем принтер и займемся любовью на его пепелище. — Мне нравится. Взять вина? — Возьми. И бутылку абсента. — Может, мне сразу уволиться? — Поговорим об этом при встрече. — Хорошо. Я скоро буду. — Пока. В третий раз сбросив вызов, я решил смотаться в магазин. В этой квартире я жил всего месяц и ни разу еще не «работал» возле дома. Правда, для «работы» мне нужна была пустая касса. Такая отыскалась в ближайшей «Семье». Затарив тележку, я подошел к кассирше и посмотрел ей в глаза своим особенным взглядом. Женщина тут же безвольно улыбнулась. — Отсканируйте, пожалуйста, и расплатитесь за меня. Я забыл бумажник дома, а забывчивым людям надо помогать. Правильно? — Правильно. Услужливо сложив продукты в пакет, продавщица достала свой кошелек и вложила в кассу необходимую сумму. К нам подошел охранник. Ему я тоже заглянул в глаза. — Тебе нравится... Надя? (Я прочитал имя на бейджике.) — Нравится. — А тебе, Надя, нравится Витя? — Нравится. — Тогда идите в подсобку и займитесь любовью. Довольно с вас одиночества. Будьте счастливы. Взявшись за руки, парочка ушла в глубь магазина. А я поспешил домой. У подъезда меня поджидала Рагнара. Я впервые увидел ее в очках (обычно она носит линзы). Очки добавляли ее лицу строгости, которую очень хотелось преодолеть. Мой приятель ожил и прильнул к джинсе. Мы зашли в лифт. Я притянул Рагнару к себе и поцеловал в губы. — Тебе от меня только секс нужен, да? — Да. — Какой ты честный. — Заткнись. — Не здесь же... — Хочу здесь. — А если мы застрянем? Я не ответил. Просто нажал «Стоп» и задрал на Рагнаре юбку. — Обожаю твой круп. — Поцелуй его. — Извращенка. — Не разговаривай с набитым ртом. — О господи... — Я такая сучка. Выеби меня! Давай же, ну! Спустив джинсы, я принялся исполнять ее желание. Хотя смешно было безумно. Трахал и давился смехом. Опять «сучка», опять «выеби». Вдруг из динамика заговорила лифтерша: — Почему лифт не едет? Вы застряли? — Нет. Мы трахаемся, а вы нам мешаете. — В лифте нельзя трахаться. Немедленно покиньте кабину! — Не могу. Девушка сейчас кончит. Как бы в подтверждение моих слов, Рагнара громко застонала и выругалась матом. — Слышите? — Слышу. Я вызываю полицию. — Возбуждает? Долгая пауза. — Есть немного. Тут Рагнара кончила и сразу обиделась: — Какого черта ты треплешься с лифтершой, когда мы занимаемся сексом! — Да ладно тебе. Женщина на службе. Скучает... Я нажал восьмерку, и лифт тронулся. Лифтерша с нами больше не заговаривала. Правда, я слышал ее тяжелое дыхание. А может, это были похмельные глюки или динамик так работал. Едва мы зашли в квартиру, раздался домофонный звонок. — Слушаю. — Это Присцилла, сладкий. Открывай. — Поднимайся, детка. — Что за детка? Это Рагнара проявила любопытство. — Присцилла. Классная девчонка. Сейчас познакомитесь. — В смысле? Ты тоже с ней спишь? — Конечно. Иначе зачем она нужна? — Так... Что-то я ничего не понимаю... — Да тут нечегопонимать. Обычная вечеринка. Ты, я, Присцилла и Жозефина. Пьянство и свобода. Будем пить абсент, читать стихи, заниматься любовью. Как будто завтра Боргильдова битва, смекаешь? — Ты серьезно? — Разумеется. Давно хотел вас познакомить. — Все. Я ухожу. — Уходи. Возвращайся в офис. Только когда будешь наблюдать за работой принтера, не думай, пожалуйста, о том, как нам тут заебись. Рагнара забарабанила пальцами по столу. — Я в ванну. Мне надо подмыться. Полотенце дай. — Там есть чистые. Пойдем. Проводив Рагнару в ванную, я пошел встречать Присциллу. Избыток косметики на ее лице гармонировал с избытком буферов чуть ниже. Американская мечта о глупой сисястой блондинке прямо на моем пороге. Забавно. — Проходи на кухню, Присцилла. Накатим. — А чьи это туфли? — Рагнары. — Кого? — Классной девчонки, которая сейчас моется в моей ванне. — Что?! — Не парься. Я вас познакомлю. Очаровательное создание. — Ты с ней спишь? — Что у вас у всех с головой, а? Одни и те же вопросы. В секте, что ли, выросли? — Нет. Просто я думала... — Что я трахаюсь только с тобой? — Ну да... — С чего баня-то пала? Откуда такое самомнение, цветочек? — Действительно, наивно. Как-то само так думается, понимаешь? Машинально. — Бедняжка... Машинально думается только всякая херня. Гони ее в шею. Пока мы обо всем этом трепались, я успел разлить вино, «отработанное» в «Семье», по хрустальным бокалам. А Присцилла — даже выжрать один бокал нервным залпом. Тут из ванной вышла Рагнара и приехала Жозефина. Пока Жозефина поднималась на этаж, я схватил Рагнару за руку и усадил рядом с Присциллой. — Ни единого звука! Хочу сделать Жозефине сюрприз. Я серьезно, слышите? Даже не ржать. Но девушкам было не до смеха. Они украдкой посматривали одна на другую оценивающим взглядом и хранили неловкое молчание. Жозефину я встретил у лифта. Она была моей любимицей. Образованные девочки вообще моя слабость еще со времен Гипатии Александрийской. — У меня для тебя сюрприз, солнце! — Привет, Марат. — Привет. Позволь, я завяжу тебе глаза. — Давай. Я завязал, взял Жозефину за руку и привел на кухню. Отметил, что бутылка вина опустела. Игриво посмотрел в раскрасневшиеся физиономии подруг. Встал у Жозефины за спиной и нежно обхватил ее за плечи. А потом легким движением руки сорвал повязку. Атмосфера немого кино расползлась по комнате. Старик Бунюэль был бы доволен. — Это кто, Марат? Что здесь происходит? Жозефина обернулась ко мне, и я поцеловал ее в губы. — Ты привезла абсент, принцесса? — Вот. — Ставь на стол и садись. Сейчас я все объясню. Жозефина повиновалась. Три красавицы застыли на стульях, как курочки на насестах. Их вопросительные взгляды скользили по моему лицу. Хотя у Присциллы взгляд был пьяным и заговорщицким. А у Рагнары восхищенно-осуждающим. Можно сказать, я вам наврал, потому что вопросительным взгляд был только у Жозефины. — Сегодня утром я проснулся с жуткого похмелья. В состоянии крайнего сексуального возбуждения. Полез в телефон. Пробежался по контактам. Нашел там вас троих и позвал в гости. Это если коротко. — Давай длинно. А то короткое объяснение как-то не греет. — Хорошо. Длинно. Мне одиноко с похмелья. Хочется женского внимания, шумной компании, застольных бесед. Вечеринки хочется, короче. Вам, на самом деле, даже не обязательно со мной трахаться. Давайте просто накатим абсента и поговорим по душам? Если такой расклад тебя, Жозефина, не устраивает, можешь возвращаться в универ. Больше тебе не позвоню. — Пожалуй, так и сделаю. — Что ж... Мещанство — это всегда выход. — Что ты сказал? — Что слышала. — То есть ты прямо сейчас назвал меня мещанкой? — А кто ты? Разве не ханжество смотрит на меня твоими прелестными глазками? Ты, конечно, можешь читать Сорокина и слушать Моррисона, но человека определяет не искусство. — А что? — Поступки. Если угодно — творчество жизни. Способность отклониться от проторенных тропок. — Подожди, подожди... В твоем представлении таким отклонением является групповуха? — Ты собиралась в универ, кажется? — Уже не собираюсь. Познакомь нас. — Ах да. Простите, девушки. Эту разговорчивую особу зовут Жозефина. Слева от тебя, Жо, сидит Присцилла. Справа — Рагнара. Теперь, когда с формальностями покончено, предлагаю накатить. Я разлил абсент по стопкам. Щелкнул зажигалкой «Зиппо». Замахнул с довольным видом. Вдумчиво прикурил сигарету. День обещал быть славным. После четвертой стопки я предложил девушкам раздеться. К чему эти буржуазные предрассудки в виде одежды? Под вечер, когда все изрядно окосели, я позвонил приятелю и заказал кокса. А ночью мы вышли во двор и торжественно сожгли принтер. Утром я снова проснулся с дикого похмелья...Луций и Венера
Пермь. Август. «Центральная кофейня». Я сижу на мягком, как облако, диване. Бесшумный кондиционер облизывает лицо. За окном-витриной снуют прохожие. Они отбрасывают длинные тени. Я наблюдаю за прохожими, как рыба из аквариума. Холодно, вскользь, равнодушно. Я вообще равнодушный человек. Это все из-за того, что я эгоист. Не какой-нибудь нарочитый эгоист, а природный, кристаллический. Мне и правда плевать на других людей, понимаете? Не вижу в них ничего особенного. Мещанчики, буржуйчики, трусишки... Про них Гессе в свое время очень точно написал. Не будем об этом. В «Центральную кофейню» я пришел, потому что хотел убить время. Стриптиз-клуб «911» открывался только в десять. В общем-то он мне уже поднадоел, как и Диана с Алисой, с которыми я там развлекался. Они были ничего, но жутко тупые. Иногда мне хотелось заклеить им губки скотчем. Иногда я их действительно заклеивал. Короче, назрела потребность в девчонке поутонченней. Не сказать чтобы я желал душевной близости, это было бы уже слишком, однако интеллектуального флирта и разговорчиков в стиле Хемингуэя мне бы хотелось. Ладно. Вот вам правда. Я пришел в эту хипстерскую кофейню, чтобы подцепить какую-нибудь высоколобую нимфу. Студентку истфака, например, или филологиню. Лучше рыжую, конечно, но в принципе годилась любая, лишь бы поговорить флиртово, постмодерново, с огоньком. И вот сижу я такой в этом облачном кресле, пью кофеек и наблюдаю. Не то чтобы озираюсь по сторонам, но головой шевелю, интересуюсь. Вы, наверное, встречали таких крутых парней: кеды из «Гута», джинсы «Левис», футболка с мордой Карлина, очки Терминатора. Будь я телкой, сам бы себе дал, честное слово. Подходящая девушка появилась где-то через час. У меня на подходящих нюх. Не знаю даже, как это объяснить. Просто возникает непреодолимое желание с такой заговорить. Что-то в лице, пожалуй. Или запах, походка. Иногда — жест. Увижу, например, как она прядку со лба отбросила, и сразу понимаю: приплыл. Раньше-то я пацанок выбирал, стриптизерш всяких, а тут к высоколобым пригляделся. Серенькие в основном, но эта... Она едва вошла, я сразу смекнул: мой вариант. Во-первых, рыжая. Во-вторых, кожа белоснежная. Бродский со своим паросским мрамором тихо курит в сторонке. В-третьих, она зал оглядела как львица. Так хозяева жизни смотрят, мелочь пузатая так смотреть не умеет. В-четвертых, мы с ней взглядами встретились. Так встретились, что хоть электриков вызывай. Она замерла, я замер. И улыбаемся оба одной улыбкой на двоих. До того неожиданно получилось, что я даже на секундочку испугался к ней подойти. Со мной подобной херни лет десять уже не случалось. Такое бывает, кстати. Иногда проще человека убить или ювелирку грабануть, чем какую-нибудь ерунду сделать. Однако в этот раз я быстро взял себя в руки. Меня потому что к рыжей как под действием гравитации тянуло. Вблизи она оказалась еще интереснее, чем с моего дивана. Брови густые, очерченные скулы, нос нормальный, не кнопка, губы упругие, настоящие. А самое крутое — платьице и босоножки. Есть у меня фобия: я терпеть не могу человеческие ступни. Мне даже собственные не нравятся. Как-то беспомощно-жалко они выглядят. Иной раз смотрю на девчонку — конфетка, а на ступни гляну и думаю: «Потерялась бы ты уже где-нибудь, милая!» Здесь я тоже на ступни сразу посмотрел. То есть я периферией подсек, что она в босоножках, и сначала решил ни за что не смотреть, но тут же посмотрел. Первый раз в жизни не разочаровался, честное слово. Офигенные ступни, никогда раньше таких не видел. Я щас долго рассказывал, а в голове у меня все это за секунду промелькнуло. Со стороны это выглядело так: парень подошел к столику, наклонился к девушке, поймал ее взгляд и сказал: — Привет. Хочу выпить с тобой кофе. — Привет. Ты уверен? — Конечно. А почему я должен быть не уверен? — Не знаю. Может быть, потому, что я жду своего парня. А может быть, потому, что со мной опасно пить кофе. — Так ты ждешь своего парня или с тобой опасно пить кофе? — Не устраивай сцен. Сядь уже. Начало разговора меня позабавило. Я сел за столик. — Ты не ответила на вопрос. — А ты настырный... — В маму. — Правда? А какая она — твоя мама? — Ты это щас серьезно? Хочешь послушать про мою маму? — На самом деле нет. Я и так про нее все знаю. — Неужели? — Какой ты лаконичный. Мне нравится. Ладно. Слушай. Как тебя зовут? — Евген. То есть Евгений. Можно — Женя. Рыжая рассмеялась. Хрустально так, будто окно на верхнем этаже разбили, а стеклышки на мостовую сыплются, ударяясь о булыжники. — По-твоему, Евгений — это смешно? — Смешно. Если знать все факты. — Какие факты? — Я — Евгения. Можно — Женя. Я усмехнулся. Не то чтобы это было уж очень смешно, но позабавило. Конечно, Женя могла бы смеяться менее откровенно. Хотя она так смеется, ну и пускай. Все равно она не похожа на идиотку. — Рассказывай, Женя. — Подожди. Нам надо договориться. — О чем? — Как мы будем друг друга называть. — Давай договоримся. Ты будешь Женей, а я Евгением. — А почему так? — Не знаю. Просто предложил. — Так не бывает. У всего есть внутренняя логика. Это потому, что я девушка, да? — В смысле? Как это связано? — Евгений — строгое официальное имя. А Женя — его уменьшительная легкомысленная форма. Я бы даже сказала, уменьшительно-ласкательная. — Ласкательная — это Женечка. — Пусть. Все равно ты думал только о себе. — То есть? — Тебе придется произносить меньше букв, а мне больше. Это несправедливо, не находишь? — Ты издеваешься, что ли? Разбитое стекло снова посыпалось на мостовую. — Немножко. — А зачем? — Не знаю. А зачем вообще люди издеваются? — Ты скачешь с темы на тему. Давай вначале определимся с именами, потом ты расскажешь мне про мою маму, а уже после этого мы поговорим про издевательства. — Любишь порядок, да? — Люблю. Он помогает избежать путаницы. — Ты не прав, но об этом позже. Что там у нас первое? Имена? — Они, Женя. — Значит, Женя? — Как вариант. — Мне кажется, мы попали в ловушку. — Продолжай. — Искусственно себя ограничили, понимаешь? Тебе не обязательно быть Евгением, а мне — Евгенией. В мире полно имен, мы можем выбрать себе любые. Как бы тебе понравилось, если бы меня звали Диана? Этого мне еще не хватало. И почему приличных девушек так тянет на стриптизерские псевдонимы? — Нет. Только не Диана. — Почему? — Не люблю Древнюю Грецию. Мне по душе Рим. — То есть ты предпочитаешь Венеру? Уже лучше. По крайней мере, с такой стриптизершей я не спал. — Венера мне нравится. И раз уж мы обратились к Риму, зови меня Марс. — Только не Марс. Неужели она спала со стриптизером по имени Марс? Неприятно. — Почему? Бог войны. Легендарная фигура. — Шоколадка. Нуга, карамель и молочный шоколад. Нет, тебе нельзя быть батончиком. — Вот, значит, как ты смотришь на Рим. Хорошо. Предложи свой вариант. — Катилина. — Да ладно?! На Катерину похоже. К тому же он был бестолковым революционером. — Зато он был страстным. Ты ведь тоже страстный, скажи? Повисла пауза. Наши взгляды опять столкнулись. Давно на меня не смотрели так прямо. — Как Везувий. Огонь и лава. Хочешь проверить, Венера? — Нет, Катилина. Блин, действительно по-дурацки звучит! — Может, Катилину надо называть по имени? Венера улыбнулась и тихо, как бы пробуя имя на вкус, произнесла: — Луций Сергий... Серега, если по-простому. — Венера и Серега. Как детей назовем? — Обсудим через девять месяцев. — Ты слишком фривольна для богини. — О боги, ты знаешь слово фривольно? — Не так уж это и удивительно. Я и Катилину знал. — Многие мальчики знают Катилину. А что ты еще знаешь, Луций? — Тебе откровенно или шутливо? — Попробуй совместить. — Я знаю, что ты обещала рассказать про мою мать. А еще знаю, что меня не раздражают твои ступни. — Что? Почему мои ступни должны тебя раздражать? — До сегодняшнего дня меня раздражали все ступни в мире. Поэтому то, что меня не раздражают твои ступни, — великое открытие. — Хочешь сказать, ты к ним равнодушен? Голос Венеры оброс серьезностью. — Нет. Они мне нравятся. Глядя на них, я даже не уверен, ходишь ли ты по земле. — Ты странный, Луций. — Думаешь? — Уверена. Я тоже странная. — Чем же? — Например, мне очень нравится, что тебе нравятся мои ступни. А еще я не люблю человеческие уши. — Уши? — Я окинул Венеру взглядом. — Поэтому ты закрываешь их волосами? — Да. — Покажи. Нет, правда. Мне кажется, твои уши вряд ли уступают твоим ступням. — Ох ты! Это самый чудной комплимент, какой я слышала. Спасибо! Я протянул руку к Венере, чтобы отвести прядь. Она обхватила мое запястье прозрачными пальцами. Маленькая, сухая, сильная ладошка. Приятно. — Не надо. Сначала ты. — Что — я? — Сними кеды. Хочу увидеть твои ступни. — Прямо здесь снять? С носками? Мой голос сочился иронией, хотя внутренне я уже снимал чертовы кеды. — Да. С носками. Бартер, понимаешь? Ты показываешь ступни, я показываю уши. Идет? — А ты реально странная. Хорошо. Я нырнул под столик и быстро стащил кеды и носки. Глупые грабли глянули на мир остриженными ногтями. Вот сколько живу, столько они топора и просят, честное слово. Когда я вынырнул, Венера улыбнулась. — Готово. Можешь смотреть. — Я не хочу лезть под стол. Давай я сяду к тебе на диван, а ты положишь ноги мне на колени. — С ушами ты хочешь поступить так же? — Да. Я хочу, чтобы ты посмотрел на них сверху. Если смотреть сбоку, их уродство не так заметно. — А ты хочешь, чтобы было заметно? — Конечно. Иначе теряется весь смысл нашего заголения. — То есть смысл в этом все-таки есть? — Согласна, словами его сложно выразить. Но ты ведь чувствуешь? Вот здесь? Венера протянула руку через стол и прижала ладошку к моему сердцу. Подлый моторчик сразу забился часто-часто, с готовностью. Как собака хвостиком завиляла, понимаете? — Чувствую. Иди ко мне. Венера пересела на диван. Мягкое облако притянуло нас друг к другу. Запах вполз в ноздри. Со мной явно творилась какая-то хрень. — Ложись, Луций. Я лег на диван. Забросил ступни на колени девушке. — У тебя отличные ступни, Луций. — Правда? — Нет. Ты не из Шира, случайно? Я быстро сел и спрятал ноги под стол. — Хоббитом всякий обозвать может. — Глупый. Фродо спас нас от страшной беды. Тебе нечего стыдиться. — А я и не стыжусь. Уже не стыжусь. Показывай уши. — Мне сразу лечь или сначала сидя? — Давай сидя. Венера поднесла руку к волосам, но я перехватил ее запястье: — Я сам. Пожалуйста. Девушка кивнула и придвинулась вплотную. Я медленно провел кончиками пальцев по волосам. Всей ладонью огладил круглый затылок. Обнажил левое ухо. — Господи, да ты же эльфийка! — Не торопись с выводами. Дай я лягу. Когда Венерина голова легла на мои колени, она легла не совсем на мои колени. Я давно не разговаривал с членом, но тут взмолился: «Пожалуйста, Билли Бой, не вставай! Не надо, Билли Бой! Ты упрешься ей прямо в щеку. Не делай этого!» — Ну что? Как тебе мое ухо с такого ракурса? — Оно и вправду уродливое. Венера села. Ее лицо застыло и вытянулось: — Уродливое... Ты действительно так считаешь? Олененка Бэмби видели? Примерно такая же фигня. Стыдно до чертиков. — Нет. Просто я боялся, что мой член упрется тебе в щеку. Повисла пауза. — Знаешь, мне кажется, настал психологический момент поговорить о твоей матери. Такого я не ожидал. Хрюкнул даже от удивления, а потом заржал. Девушка ко мне присоединилась. Булыжники и стекло посыпались на мостовую. Тут зазвонил мой телефон. На дисплее высветилось имя Череп. — Я отойду на минутку, ладно? — Конечно, Луций. На самом деле мне тоже... После «конечно, Луций» я не слушал. Моим вниманием завладел Череп. Через десять минут я вернулся из туалета. Венеры за столиком уже не было. Пустой диван, понимаете? Все вокруг обшарил — записку искал. Не нашел. Чертово облако превратилось в топь. К стриптизершам я не пошел. Сидел в «Центральной кофейне» до закрытия. И на следующий день — тоже. И после послезавтра. И потом. Целую неделю там сидел. С утра до вечера. Как Хатико. На дверь смотрел. Вздрагивал, когда девушки входили. Ужас просто. Еле-еле водкой отошел. Равнодушный эгоист. Ага, как же. Два месяца прошло. На днях я снова в «Центральную кофейню» зашел. Сижу, настоящий американо прихлебываю. Гессе листаю. Между прочим, спиной к входу. Потому что надоело мне собаку из себя изображать. Вдруг чувствую: Венера в носу. Ее запах. «Ну, — думаю, — здравствуй, Банка! Приехали». Тут и голос подоспел: — Привет, Луций! Я так скучала! По-моему, я в обморок упал. Лицеист хренов. Но меня понять можно. Представьте, вот вы загадали, что щас по небу чувак на метле пролетит, а он возьми и пролети. Кому угодно крышу снесет. Вот и мне снесло. Я весь вечер Венеру за руку держал, чтоб она не исчезла. В туалет даже не ходил. Чуть не обоссался от высоких-то чувств. Брет Эшли и Роберт Кон, господи прости! В тот день мы с Венерой до закрытия просидели. А потом как-то совершенно естественно уехали ко мне. Пришлось, конечно, с женой объясняться, выгонять ее к родителям, шмотки собирать. Да и Венерин муж, к которому мы заехали по дороге, распсиховался и подпортил настроение. Но его можно понять. И жену мою можно понять. И меня можно понять. И Венеру можно понять. Всех можно понять. Любовь, чего тут.Двое в окопе
Вышел Борис из дому, перекрестился и пошел. Почему перекрестился неверующий Борис? Куда он пошел в лаковых туфельках и голубой рубашке? Отчего благоухает дорогим одеколоном? А Борис пошел к Зоеньке. Известной городской фифочке с глазами. Зоенька носит чулки, шпильки вострые, имеет прическу и белую шею. Борис влюблен в нее приватным образом. В глубине его рабоче-крестьянского сердца полощет плавники светлое чувство. Борис решительно намерен составить Зоенькино счастье. Как идет мужчина к любимой женщине? Затейливо идет мужчина к любимой женщине! То камушек подопнет, то вокруг оси крутанется, то ногами чего-то изобразит, то присвистнет, а то подпрыгнет и рассмеется как мальчишка. Но так только до остановки идти можно. В автобусе-то особо не покуражишься. Зато в автобусе песни можно слушать. Например, «Мою любовь» рок-группы «Сплин». Или «Мороз по коже». Вроде спокойно стоишь, а ножка тыц-тыц, тыц-тыц. Ничто в такую минуту не важно. Все буквально отходит на второй план. Писатели часто пишут, о чем думает человек. Но ведь намного важнее, о чем он не думает! Борис не думал о зарплате, не думал, что мать в онкологии лежит, не думал, что в том месяце отец помер, который все детство его лупил. О коте не думал, который сбежал и никак не найдется. О гепатите своем не думал, хотя он снова активизировался после лечения. Не думал о жене и сыне, которые в позапрошлом годе разбились, и теперь им памятник надо покупать. И про войну Чеченскую он тоже совсем не думал. Ни о чем таком Борис не думал, потому что он думал о Зоеньке. Он о ней очень возвышенно думал. Это все равно что под баржу заплыть, выплывать-выплывать, задыхаться страшно, а тут свет спасительный, когда уже и не ждал, а ты прямо на него — раз-два, — и выплыл. Очень вкусным воздухом дышал Борис в автобусе, хоть с ним и ехал какой-то бомж. А в городе каково? Это только для равнодушных глаз Пермь серовата и неказиста. Для Бориса она красавицей на выданье была. На Попова кофейню открыли, мужик на гармонике соло выдает, дом с антеннами стоит, окнами французскими подмигивает, велики снуют, девчонка какая-то хохочет, будто миллион в лотерею выиграла. А Компрос? Чеховская артерия заводской Перми! Липы, запах, скамеечки. На скамеечках гитаристы. Поют, черти, слезу вышибают, хоть садись и слушай. Но некогда Борису, некогда! Заждалась его Зоенька. У ДК Солдатова договорились они встретиться. Концерт группы «Сплин» слушать. Скоро уже, скоро! На свидание Борис шел не с пустыми руками. Он нес Зоеньке сережки. Синие, как глаза. И предложение съехаться, потому что не мог он видеть ее урывками. Борис много чего мог. Он такое мог, что обычному человеку и не вообразить. А без Зоеньки чах. Под баржей без Зоеньки сидел. Задыхался. Знаете, есть такая выспренная фраза: «Человек — целый мир». Раньше Борис над ней смеялся. Ну какой человек мир? Ну откуда?! Голова, руки, живот. Огрызь одна. А тут понял. Стихи даже страшные писать стал. Он над ними не работал, как литератор, а просто высмаркивал из себя и с рук на бумагу стряхивал. Он сначала не догонял — чего это он? А потом сообразил: не хочет он с этой гадостью к Зоеньке идти. Чистеньким надо. Не изломанным. Без пятнадцати семь Борис подошел к ДК Солдатова. Зоенька уже была там. Платье вразлет. Ресницы крылатые. Бусы обвивают шею. Но не это главное. Запах главное. Зоенькин запах. Борис его кожей чувствовал, будто это и не запах, а море Средиземное, куда он погружается без остатка. Вообще, когда Борис и Зоя встречались, то оба хотели друг на друга кинуться, обнять, поцеловать, сдавить, но они сдерживались бог знает почему, и эта сдержанность порождала такое напряжение, такой электрический заряд, что все их взгляды, слова, движения делались осторожными-осторожными, словно они были бомбами. — Привет, Боря. — Здравствуй, Зоя. Я тебе сережки купил. Борис протянул коробочку. Зоя взяла. — Синенькие... Спасибо. И к платью подходят. Я их прямо сейчас надену! И надела. Очень у нее это мило получилось. Зоенька, конечно, была фифочка и с мужчинами обходилась легко. Но тут... Судьбоносность, понимаете? Она ее чувствовала, и Зоеньке было страшновато. Она такого не знала. Раньше все ее отношения напоминали игру. А здесь она прямо понимала, что это очень серьезно. Зоя как бы балансировала на канате между небоскребами. То есть она боялась, что скоро Борис спросит: «Ты будешь со мной?» И ей придется отвечать. И она знала, что любой ее ответ — это навсегда. Не готов постмодернистский человек к такой цельности. Обычно в шутку все, а тут такая правда, что... Будто ты на другую планету прилетел. С неизвестными физическими законами. В ДК Солдатова Борис и Зоя сразу прошли в амфитеатр. Им никуда не хотелось. Им хотелось сидеть вдвоем и ждать концерта. Зоя думала: «Только бы не взять его за руку, только бы не взять его за руку!» А Борис думал: «Господи, как я предложу ей съехаться? Мы ведь даже не спали! Так вообще делают в двадцать первом веке? Или сказать? Прямо сейчас взять и сказать? И будь что будет!» Эту страшную готовность Борис не афишировал даже лицом, однако Зоя ее почувствовала. Концерт отошел на второй план. На второй план отошли звонки и люди. Борис не мог оторвать глаз от Зои. Зоя не мигая смотрела на него. Им никогда в жизни не было так страшно. — Зоя... — Что? — Я... Борис умолк. Ему вдруг показалось, что прыгать с вышки не обязательно. Что он торопит события. Что он безжалостно давит на девушку, как пар на скороварку. Что надо радоваться тому, что есть. Что от добра добра не ищут. Что... В Борисе засвербели стихи. Желание высморкаться и стряхнуть их на бумагу погасило нерв ситуации. Правда, только на секундочку. Тут же Борис превратился в солдата, который знает, что скоро бой, но изо всех сил старается о нем не думать. Сидя в окопе ДК Солдатова, он попытался отстраниться, взять себя в кавычки, но ничего не получалось. «Я люблю тебя, ты будешь жить со мной?» — подобралось уже к самой глотке, и только губы плотно сопротивлялись. В Зоином животе разрасталась шаровая молния. Зоя знала, что сейчас скажет Борис. Знала и лихорадочно искала ответ. То есть даже не ответ. Ей надо было распробовать «нет» и «да». Почувствовать их. Понять наконец, какие перемены они таят в себе. Зоя скажет да, и... Она не могла представить это «и»... Мир сжался до двух красных кресел, зависших в темном зале накануне неизвестности. Все это было так важно, что об этом хотелось подумать завтра. Но Борис уже собирался с силами, уже смотрел, уже вздрагивал кадыком... Тут на сцену вышли музыканты. Зал грянул аплодисментами. Саша Васильев тронул гитарные струны. Разговор откладывался. Зоя облегченно и в то же время разочарованно улыбнулась. Она сама не знала, чего в ней больше — облегчения или разочарованности. Борис шало оглядел зал. И прыгнул с вышки: — Я люблю тебя! Ты будешь со мной жить?! Ему приходилось кричать, потому что творчество группы «Сплин» набирало обороты. Услышав вопрос, Зоя сначала испытала ужас, а потом небывалую легкость. Ну вот и все. Девушка закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. А потом притянула Бориса к себе и прокричала: — Да! И давай не будем больше об этом? — Давай. И они стали смотреть концерт.Либертарианец на семейном ужине
Моя подруга Ната полюбила уголовника. Его звали Степан, и он был видным таким мужчиной, но в татуировках. В том, что Ната полюбила уголовника, нет ничего необычного. Многие хорошистки путаются с хулиганами, а Ната была отличницей. Плюс она была социологиней, а социологини (да и вообще гуманитарии) склонны видеть в людях хорошее. Они подают там, где технарь отгрыз бы себе руку. Степан очаровал Нату своей брутальностью и практичным отношением к жизни. Надо сказать, что он был не таким уж уголовником. Просто отсидел шесть лет за какой-то темпераментный разбой, а теперь имел свой ломбард и носил золото. Подозреваю, что Ната его любила, как некоторые биологини любят горилл. Полгода пронеслись как в тумане. Горилла, то есть Степан, буквально носил Нату на руках, кормил пирожными, катал в большом черном автомобиле. Ната была счастлива. Однажды они заговорили о совместном проживании. Дело двигалось к свадьбе. На горизонте замаячило знакомство с родителями. Только тут девушка посмотрела на своего парня более-менее трезвыми глазами. Натин папа Андрей Иваныч был отставным милиционером. Мама Клавдия Николаевна преподавала русский и литературу. Они жили в Краснокамске и в жизни дочери особенно не участвовали. Однако их участие в свадьбе предполагалось. Ната ездила к родителям по выходным. Счастье и смятение дочери не ускользнули от мамы. Пришлось колоться. Тут Нату понесло. С ее слов Степан выходил аспирантом филфака, благотворителем и вообще чем-то средним между Львом Толстым и Махатмой Ганди. Естественно, родители настояли на скорейшем знакомстве. Естественно, Ната перепугалась. Степан был грубоват. Да и как спрятать наколки, когда на веках написано Не буди — убью? Не будет же он все время сидеть в солнцезащитных очках? Зимой. После мучительных раздумий Ната сочинила план. Привести на знакомство с родителями не настоящего Степана, а мужчину, подходящего под ее описание, то есть интеллигентного парня нормальной внешности, разбирающегося в литературе. При этом он должен был вести себя наимерзейшим образом, чтобы родители ужаснулись, а Ната рассталась с ним прямо в их присутствии. Таким способом моя подруга хотела приуготовить фон, чтобы, когда она приведет настоящего Степана, он — на контрасте — показался родителям милейшим человеком. Как вы понимаете, исполнить роль Лжестепана выпало мне. Во-первых, в Перми не так уж много людей, застрявших между Львом Толстым и Махатмой Ганди. Во-вторых, будучи потомственным алкоголиком, я часто сижу без работы, а неработающие люди много читают, потому что надо же как-то убивать время. В-третьих, я возглавлял одну религиозную группу в корыстных целях и здорово поднаторел в Библии и трескотне (чего не сделаешь ради денег). В-четвертых, я виртуозно вру. Некоторые сравнивают естественность моего вранья с естественностью дыхания. В-пятых, у Наты было не так уж много друзей, которым она могла бы доверить такую важную миссию. Короче, я согласился. Мне нравится валять дурака, а ради дружбы я вообще готов на многое. Поход к родителям предваряла репетиция. Точнее — полемика. — Альберт (это я), нам надо придумать, что именно ты будешь говорить. — Ничего придумывать не надо. Я все равно не запомню. Мерзость должна идти изнутри, понимаешь? — Хочешь сказать, в тебе есть мерзость? — Сколько угодно! — Например? — Я грызу ногти, редко моюсь, пью и громко пукаю. — Это я и так знаю. Что еще? — Этого мало? — Мало. Не будешь же ты пукать при моих родителях? — Да, это перебор. Хотя... — Без хотя. Надо что-то идеологическое... — В смысле? — Ну, мой отец любит Путина, ненавидит наркотики, геев и либералов. — Геем я точно не смогу быть. — Зато ты сможешь их любить. И не любить Путина. И любить наркотики. И... Я поняла! — Что ты поняла? — Ты должен стать либертарианцем! — Очнись, Ната. Я и есть либертарианец. Не переживай так. Просто положись на меня. И она на меня положилась. Я потрясающий человек, на самом деле. На меня кто угодно может положиться, и я не подведу. В субботу мы с Натой приехали в Краснокамск. Краснокамск как Краснокамск. Зелень и наркотики. Родители Наты жили в десятиэтажке, которых тут не так уж много. Камерный город. Зимой напоминает гараж Курта Кобейна. Я вырядился, конечно. Пиджачок набросил. Джинсы состирнул. Побрился. Пуховик почистил. Надушнялся китайской водой «Армани Спорт». Неправдоподобно было бы, если б я бичом оделся. У подъезда Ната взяла меня за руку: — Альберт, я волнуюсь. Я никогда не обманывала родителей. — Даже когда девственность потеряла, правду рассказала? Ната покраснела. Жутко мило у нее это получилось. — Нет. Но это не считается. — Пифагор бы с тобой поспорил. — Почему Пифагор? — Ну, он вроде как отец логики. Твой Степан в курсе, на какие жертвы ты ради него идешь? — Нет. Он и про тебя не знает. Степа страшно ревнивый. — Слушай, я подмерзаю. Пошли уже? — А ты не хочешь еще покурить? — Я только что покурил. Возьми себя в руки, сопливая девчонка! Я зачем-то охватил Натины щеки ладонями и заглянул ей в глаза: — Все нормально будет, принцесса. Я навсегда оттолкну твоих родителей от себя. Сказал и подумал: как же странно я время провожу? Ну да чего не сделаешь ради друга. — Ладно. Пошли. Ната тряхнула головой и приложила ключ к домофону. На лифте мы поднялись молча. У меня в руках был торт с бантиком. Вдруг я заметил, что тереблю бантик. Я тут же перестал его теребить. Бантики теребят те, кто нервничает. А я не нервничаю. Я никогда не нервничаю. Чего мне нервничать? Мне вообще наплевать. На площадке нас встретили родители. Андрей Иваныч и Клавдия Николаевна. Ну, или папа и мама. Поздоровались сердечно. Калейдоскоп улыбок. Иваныч, конечно, руку полез жать. Сжал. А я такой: ой, вы мне делаете больно! И чуть торт от потрясения не уронил. Иваныч поморщился. В неженки сразу записал. Неженок никто не любит. Даже сами неженки думают о себе как о брутальных альфачах. Прошли в квартиру. Советская опрятность. Ламинат. Люстра богатая. Без ковров. Клавдия Николаевна: Идите мыть руки и за стол. Помыли. Ната шепнула мне на ухо: «Ой, вы мне делаете больно. Гениально». Я усмехнулся. Наконец сели за стол. Пока ели, обменивались общими фразами. Когда подали кофе, начался допрос. Андрей Иваныч: Степан, а ты чем занимаешься? Давно встречаешься с нашей Натальей? На римскую прямоту я обычно отвечаю галльской двусмысленностью, но тут надо было бить в лоб. — Я работаю в правозащитной организации. Защищаю права ЛГБТ-сообществ. Я поймал взгляд Наты. Отвел глаза. Андрей Иваныч: Что еще за сообщество? — Аббревиатура. Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. Андрей Иваныч крякнул и побагровел. По кухне поползла нехорошая тишина. Я снова посмотрел на Нату. Я думал, она на меня не смотрит, а она смотрела. Клавдия Николаевна: Давайте резать торт! В этом призыве было столько страсти, будто Клавдия Николаевна — жрица племени майя, а резать предполагалось совсем не торт. Андрей Иваныч: Режь. Никто тебе не мешает... Степан, и давно ты встречаешься с моей дочерью? — Полгода. Да ведь, сладкая? Я уже на все забил и смотрел только на Нату. Она тоже смотрела на меня. Удивленно так, типа: а мы вообще знакомы? У нее глаза большие-пребольшие. Я раньше как-то не замечал. Андрей Иваныч: Полгода, значит... Наталья, ты тоже считаешь, что этих ВКПб надо защищать? — ЛГБТ. Андрей Иваныч: Не влезай, Степа, когда я с дочерью разговариваю! Такого я не ожидал. И Ната не ожидала. Мы не ожидали, что отец перекинется на нее. Ната: Я считаю, что надо защищать кого угодно, если на него нападают. Андрей Иваныч: А кто на них нападает? Кто, а? Тут я уже не мог не влезть: — В Чечне недавно напали. А в Чечне ни на кого не нападают без благословления Рамзана Кадырова. Который, кстати, дружит с президентом Путиным. Еще одним нападающим. Андрей Иваныч: Во как! На власть брешешь, Степа? А ху-ху не хо-хо? Подожди... Ты никак из этих? Из либерастов? — Берите выше, дражайший Андрей Иваныч. Я чистокровный либертарианец! Разговор становился все более странным. Я смотрел на Нату, Ната — на меня. Вначале я думал, что это мы так друг друга подбадриваем, а теперь я уже так не думал. Клавдия Николаевна: Ешьте тортик. Я слышала, Степан, вы в аспирантуре на филфаке? — Совершенно верно. Клавдия Николаевна: И что вы сейчас читаете? — Читаю маркиза де Сада на старофранцузском. Совсем иная глубина в смысле просодии. Никогда не думал, что изнасилование ребенка можно описать так поэтично. Натины глаза мерцали. Я будто бы с нею разговаривал, а не с родоками. Андрей Иваныч: Наталья, и ты вот с этим встречаешься? Вот с этим уродом? Еще в дом его привела?! Ната ответила. Очень тихо и очень твердо, как бы роняя слова на пол: — Я люблю этого урода, папа. Разве ты не видишь? По сценарию мы должны были расстаться. Ну, то есть Ната должна была меня бросить. Однако Ната куда-то отклонилась. Я тоже куда-то отклонился, потому что подошел к ней и поцеловал. Не в губы, а в лоб. Как... Как жену. Сложно это объяснить. Пользуясь родительским замешательством, мы ускользнули в ванную. — Ната, ты... — Да. А ты? — И я. Будем объяснять родителям, что мы их обманули? — Нет. Не сегодня. Я хочу уехать. — Куда? — К тебе. — А Степан? Ната вздохнула: — Вот так вот... Мы вышли из ванной и попрощались с родителями. Спустились вниз. Повернули за угол. Прямо на нас шел Степан. Он был пьян и сильно шатался. Позади него стояла большая черная машина с открытой дверью. — Ебаря себе нашла? Петуха башковитого? Резать щас тебя буду, сука! Мы с Натой взялись за руки и побежали. Нам легко бежалось. Будто мы за один день два кирпича с души столкнули. А Степа навернулся. Ну и черт с ним. Черт с ними со всеми, когда вот так вот, навылет, и ни с того ни с сего.Фикус
Пермь. Апрель. Я сижу в кабинете и вопросительно гляжу на фикус. Его кто-то протер от многовековой пыли, и мне интересно кто. В кабинет вбегает Ярослава. Она маленького роста и похожа на хорька. Когда вижу Ярославу, я проговариваю ее имя про себя, потому что юмор помогает мне жить. Улыбаясь как бы своим мыслям, я спрашиваю: — Вам чего, Ярослава Михайловна? При этом стараюсь дышать в сторону, потому что в воскресенье выпивал со знакомой стюардессой, а кичиться насыщенной личной жизнью не в моих правилах. Ярослава молчит. Ее подвижный носик ощупывает воздух. На острых скулах наливаются красные пятна гнева. Я закидываю ногу на ногу, потому что утро грозит быть многообещающим. Мне понятно, почему молчит Ярослава — она считает, что молчание усилит ее будущую речь. Что ж, посмотрим. Я перевожу взгляд на фикус. Сколько он тут стоит? Я занял этот кабинет десять лет назад. Фикус уже был на посту. До меня здесь сидела Елена Витальевна. Двадцать два года. Она говорит, что фикус не приносила. Получается, фикус стоит тут больше тридцати двух лет. Это вообще возможно с точки зрения биологии? По венам забегали остатки вчерашнего мескалина. Я вдруг представил, что фикус вышагнул из кадки, выхватил самурайский меч и голосом Кристофера Ламберта объявил: «Должен остаться только один из нас!» Мамочки мои, срань господня! Я резко зажмурился и отогнал проклятую волну. Красная, как вареный рак, Ярослава заговорила. Ее речь напоминала оползень. Мне стало грустно. Я почему-то вспомнил Сергея Бодрова. — Альберт Тарасович, я так больше не могу! Я не могу выходить на сцену и гнать порнографию! У меня нет уверенности, что это искусство, понимаете? Я ходила на встречу с режиссером Звягинцевым, и он мне сказал... То есть не мне одной, а нам всем Звягинцев сказал, что настоящее искусство должно быть настоящим! А я не уверена, что мое искусство настоящее. Ну вот с чем от меня уходят люди? Я не понимаю, с чем от меня уходят люди. Вы понимаете, с чем от меня уходят люди? Звягинцев говорит, что я, то есть мы все должны задавать себе два вопроса: зачем я это делаю и для кого я это делаю? Вот вы знаете, зачем я это делаю? Потому что лично я не могу ответить категорически. — Категорично. — Что? — Тут лучше использовать слово категорично вместо категорически. — Вы издеваетесь? При чем тут категорично или категорически, если я все равно не знаю, зачем все это делаю?! Нам нужно пересмотреть программу. У меня есть идеи. Я вижу свое выступление по-другому. Я хочу перемен, понимаете? Иного художественного воплощения. Иных смыслов. Ярослава пощелкала пальцами и закончила: — Иной творческой глубины. Вытянув букву «ы» неприлично длинно, она села в кресло и уставилась на меня зелеными немигающими глазами. Я осторожно заговорил: — Ярослава Михайловна... — Да! — Это не вы протерли фикус? — Боже мой, какой фикус?! Я говорю с вами про творчество, про космос, который ношу в себе. Я принесла программу. Вот... Ярослава вытащила из сумки стопку листочков и шмякнула их на стол. — Поймите, Альберт Тарасович, для меня главное — честно выразить себя. — Это, кажется, Брюс Ли сказал? — Какой Брюс Ли, Альберт Тарасович? Это сказал Бродский! — Да? А по-моему, Брюс Ли. Ладно. От меня-то вы чего хотите? Похмелье давало о себе знать, и мне хотелось выпить чекушку «Старого Кенигсберга», чтобы ясноголово почитать в Интернете про фикусы. — Я хочу, чтобы мы вместе пересмотрели программу. Я хочу изложить идеи... — Излагайте. На подоконник села синичка и запрыгала туда-сюда. Из-за тучек выглянуло солнце. По всему видать, за окном происходила жизнь. Эх, подайте мне жареных перепелов, рюмку водки и вчерашнюю стюардессу прямо на стол! Я пресыщенно посмотрел на Ярославу. Она шуршала листочками, поблескивая красными скулами в мою сторону. Если бы мы были в фильме Тарантино, я бы ее пристрелил. — Для начала нужно обсудить мой выход. Мне кажется, это должно быть что-то легкое, но со вкусом. Такая весенняя нежность, но без вычурности. Я предлагаю Шопена. — Фредерика Шопена? — А разве есть еще какой-то Шопен? — Ладно. Допустим. Что дальше? — Дальше — видеоряд. Помните «Зеркало» Тарковского? — Помню. — Та же идея, только вместо Да Винчи библейские рисунки Рафаэля. — Пухлые младенцы? — Да, ангелочки под музыку Шопена в затемненном зале. — А потом? — А потом выхожу я, одетая как Мария Магдалина, и читаю стихи про Пасху. Бродского, Ахматову, Вознесенского, Быкова, Уильяма Блейка. Ну, вы понимаете. — Понимаю, понимаю. А дальше? — Дальше сцена медленно заполняется людьми. Сначала выходят фокусники и показывают фокусы. Они символизируют чудо Пасхи. Потом выходят гимнасты и всячески скачут, как бы символизируя кипение жизни. Потом выходят дрессировщики и выпускают голубей. — В зале? Они же нагадят? — Не нагадят. — Нагадят. — Альберт Тарасович, вы ничего не понимаете в голубях! Это специальные голуби. — Которые не гадят? — Прекратите произносить это ужасное слово! Мы выпустим одного голубя. Он сразу улетит в открытое окно. Красиво пролетит по залу и вылетит в окно. А когда я буду читать последнее стихотворение, а на сцене будет твориться невообразимое, все вдруг замрут, музыка оборвется — и тут голубь влетит в окно и сядет мне на плечо. — Голубь в курсе? Ярослава замахала на меня руками и закончила свою речь: — Это как бы просимволизирует воскресение Христа и его возвращение на землю в ипостаси Святого Духа. Как вам такая программа? Она победительно сверкнула глазами и скромно потупилась, как Бог после сотворения мира. Я откашлялся. — Программа сногсшибательная. У меня только четыре уточняющих вопроса. Первый: где вы возьмете гимнастов? Второй: где вы возьмете фокусников? Третий: где вы возьмете голубя? И четвертый: вам не кажется, что это слишком сложно для детского сада? Я понимаю, что вы аниматор и вам хочется большего, однако дети в этом не виноваты. Ярослава вскочила и забегала по кабинету. — Моей дочери очень понравилось! — Вашей дочери пятнадцать. — Гимнасты, голубь и фокусники стоят недорого! — Денег нет. И вообще... — Что, что вообще?! — Я передумал праздновать Пасху в своем садике. Какой-то слишком религиозный праздник, на мой вкус. Будем праздновать День космонавтики. Расскажите детишкам про Гагарина и покажите слайды. — И все? То есть как обычно? — Как обычно, Ярослава Михайловна. Все. Идите. У меня видеоконференция с Минобром. Ярослава полыхнула скулами и бросилась на меня с кулаками. Тут из кадки выпрыгнул фикус и перерубил ее пополам. Шучу. Я схватил фурию за руки, и она сразу успокоилась. Это тоже обычная практика. Ярослава психует стабильно раз в месяц, потому что у нее нету мужа, но есть месячные. В этом смысле биология очень несправедливая штука. Выпроводив аниматоршу, я открыл чекушку и жадно отпил треть. Подошел к фикусу. Этот аксакал кое-что знал про биологию. Знал и молчал. Надо будет спросить Елену Витальевну о чуваке, который заправлял детским садом № 407 до нее. Может быть, это он принес чертовфикус?Улитка в разводе
Два раза в неделю Даша ходила на йогу. После йоги она шла в кафе «Улитка», где выпивала кофе и ужинала легким салатом. Кофе она любила, а салат ела в диетических целях. Даша была полновата и ненавидела себя за это. Как испуганная лань, она постоянно косилась на современные стандарты женской красоты, будто у красоты могут быть стандарты. Особенно она ненавидела себя после йоги. Насмотревшись на гибких и молодых девушек (а ей уже 35!), Даша впадала в ступор и тихо кляла собственные гены. Так средневековый крестьянин клял ведьм, столкнувшись с неурожаем. Собственно, воспользовавшись этим ее сумеречным состоянием, я и вступил с Дашей в контакт. Тут надо сказать, что моя подготовка к нашей первой встрече была довольно обширной и включала в себя не только бытовую психологию. Внимательно изучив Дашины аккаунты в соцсетях, я понял, что она любит начитанных мужчин, в одежде предпочитает классический стиль, увлекается поэзией и картинами Брейгеля-старшего. Романтизм и потребность быть любимой выпирали из ее текстов, как айсберги из-под воды. Еще я узнал, что два месяца назад Даша ходила на свадьбу, где было 347 гостей и где она слегка перебрала шампанского. Последней подробностью я и решил вооружиться. Серое кашемировое пальто, костюм-тройка, шейный платок в тон рубашке от Хилфигера и немецкие туфли были на мне, когда я вошел в «Улитку». Окинув зал равнодушным взглядом, я увидел Дашу и подошел к ее столику. — Здравствуйте, Даша. Не ожидал встретить вас здесь. Я — Андрей. (Так звали Дашиного племянника, в котором она не чаяла души.) Даша смешалась: — Простите, а мы разве знакомы? — Отчасти. Мы с вами были на свадьбе Арины Ореховой, и я вас запомнил. Веселое получилось событие, но несколько пафосное. На мой вкус. — На мой тоже. Прямо древнегреческий размах. Только вместо золота — позолота. (Даша недолюбливала Арину, точнее — тупо ей завидовала.) — Как говаривал Бродский: «Что попишешь? Молодежь! Не задушишь, не убьешь». — Вы любите Бродского? — Мне в принципе нравится поэзия. — Что вы стоите? Присаживайтесь! Вы ведь пришли пить кофе? — Да. В Перми только здесь можно выпить правильный кенийский кофе. В духе знакомства — то есть нарочитые манеры и псевдоинтеллектуализм — пролетел весь вечер. Я прочел несколько стихов, отрекомендовался бизнесменом в области Интернет-технологий, решительно высказался против стандартизации такого божественного явления, как красота. Произнес три уместных комплимента. Горько и убедительно повествовал о судьбе вдовца. Как и Даша, я оказался кошатником. Она буквально сомлела, когда я подсел к ней и стал показывать фотки своих питомцев — Стивушки и Сони. А еще я очень внимательно слушал ее излияния. Особенно мои уши навострились, когда Даша заговорила про бывшего мужа. Вскоре выяснилось, что он всем должен деньги и скрывается от кредиторов в протестантском реабилитационном центре «Божий свет» возле Чердыни. Мысленно зафиксировав эту информацию, я сделал сочувствующее лицо и как бы между прочим спросил: — Не знал, что бывают такие центры. Что, неужели прямо в квартире реабилитируют? Повисла пауза. Я затаил дыхание. Но Даша и не думала вилять. — Нет, за городом. Деревня какая-то. Горшки вроде. — Понятно. Дай Бог, у него все наладится. — Да плевать вообще. Так ему и надо. Урод. Дальнейший разговор не имел смысла. Я уже глянул на часы и собирался откланяться, когда Даша вдруг перешла на «ты»: — С тобой так интересно, Андрей. Мы еще увидимся? Попьем кофе? — Конечно. Потому что мне тоже с тобой хорошо. Ты как будто светишься изнутри. Это так удивительно в наше серое циничное время. Давай обменяемся телефонами? — Давай! Я записал Дашин телефон, вызвал такси и покинул «Улитку». Из машины я отправил СМС: Клиент в деревне Горшки под Чердынью. Протестантский ребцентр «Божий свет». Игнат. Потом достал симку и выбросил в окно. А все-таки приятно работать в эпоху соцсетей. Даже в коллекторской профессии находится место изяществу.Интервью
Я интервью беру. Тут беру, там беру. С утра до вечера иногда беру. Хорошо, что отец не знает. Недавно тоже брал. Прямо в кофейне. На диване мяконьком. Люблю кофейни-то. Атмосфера потому что. Полумрак. Из темноты проще людям в глаза заглядывать. Тем более что там тоже темнота. Сижу — жду. Готовлюсь брать. Тут — она. Вошла. Все как я люблю. Бледный овал, волосы пшеничные, радужки зеленые, походка. «Неужели, — думаю, — она моя интервьюируемая?!» Встал даже, разволновался. А она подошла, прядку со лба откинула и глубоким контральто говорит: «Привет». Запросто так, понимаете? Будто мы тыщу лет знакомы. Я аж растерялся — руку полез жать. А она ничего — жмет. Лыбится ангельски. Искрит взглядом-то. Сели. Геннадий — Ольга. Американо — капучино. Начнем — приступим. Приступили. Только я от ее красоты затупил и говорю: — Как вас зовут, Ольга? А она решила, что я так шучу, и пошутила в ответ: — Сергей мое имя. Тут я понял, что она не поняла, что я затупил. Пришлось шутить обратно: — Оригинальные у тебя родители, Серега. Как сам вообще? А Ольга, видимо, не привыкла отступать. Давай шутить дальше: — Да как все. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Про Сочи поговорили. Олимпиаду вспомнили. Помечтали о море. Чувствую — шутка затянулась. К интервью пора переходить. А то неловко как-то весь вечер Ольгу Серегой называть. — Ладно, Ольга. Харе прикалываться. Давай приступим к интервью. — Давай. — Скажи, за что ты убила своего мужа? — ???!!! — Понимаю. О таком непросто говорить вслух. Ну а все-таки? Он избивал тебя или как? Вот эти семнадцать ножевых ранений что-то значат? Символизм какой или случайная цифра? — Я не убивала мужа! У меня его даже нет. — То есть как это нет? Вот же, у меня записано: «Центральная кофейня», пятница, восемнадцать ноль ноль... Ольга Белова? — Я — Ольга Белова. Я аж вздрогнул. Смотрю, а в соседнем кресле пожилая женщина сидит, в метре от моей Ольги. Здоровая такая, с мужицкой печатью на лице. — Ты кто, мать?! Откуда тут взялась? — Я тут с самого начала сижу. Ты мимо меня прошел вот к этой. — Пожилая Ольга ткнула пальцем в молодую Ольгу. Я перевел глаза. — Стоп. А ты тогда кто? Хотел сказать жестко, но сказал мягко, потому что в глазах молодой Ольги плясали чрезвычайно симпатичные искорки. — Я тоже Ольга. Но не Белова, а Гуляева. Я на собеседование пришла. Промоутером устраиваться. — Ладно, — кивнул я. — А кто из вас мужа-то убил? Старая Ольга откашлялась. — Мужа убила я. — Хорошо. То есть не в том смысле хорошо, что убила, а в том, что разобрались. Тут встряла молодая Ольга: — Я за вас, конечно, рада. Но где мой работодатель? — Понятия не имею, молодая Ольга. Я — интервьюер. Интервью беру. Вот щас у старой Ольги брать буду. — Ты меня только что старой назвал?! — Я это вслух сказал? Пардоньте. Про себя хотел. — Ты правда думаешь, что я молодая? — А какая же ты еще? — Ну, мне уже двадцать пять... И улыбнулась. С ямочками. Чертенок. А при мне нельзя с ямочками улыбаться. Когда такие создания при мне с ямочками улыбаются, я жениться могу. Три раза уже женился по этому поводу. И разводился тоже. Химия, ничего не поделать. Здесь старая Ольга не выдержала. Вскочила и холодно так: — С меня хватит. Я ухожу. До свиданья. — А как же интервью? — Не будет никакого интервью. — Но почему? — Потому что вы очень сильно напоминаете мне моего бывшего мужа. И старая Ольга ушла. А молодая Ольга осталась. И как я старую не заметил, до сих пор ума не приложу.О любви и дружбе
Вера Мокрушина переехала в Петербург из Перми, чтобы стать актрисой, а стала Екатериной Великой. Вера думала жить на Лиговском. Думала она жить и на Достоевского. На деле Вера жила в деревне Новое Девяткино, откуда до метро двадцать минут пешком. Каждое утро, приехав на работу, она впихивала белое сдобное тело в корсет и вальяжно шла к Казанскому собору, чтобы фотографироваться с туристами. Вера не была дурой. Еще два года назад она зачитывалась Быковым, слушала джаз и легко могла отличить пошлое от непошлого. Однако ходить в костюме Екатерины и предлагать себя людям возле Казанского собора — это не то же самое, что предлагать себя на фоне Перми. В Петербурге и без унизительной работы чувствуешь себя пришибленным, а когда еще профессия вступает в резонанс с общим величием города, делается совсем паршиво. Вера портила атмосферу и прекрасно это понимала. Чтобы понимать это менее отчетливо, она стала прикладываться к бутылке. Прикладывался к бутылке и Петр Первый. Он был длинным сорокалетним саратовцем Алексеем Воробьевым. Его выгнали из ТЮЗа, потому что он даже для ТЮЗа много пил. Алексей работал Петром Первым уже семь лет. В основном он работал изможденным Петром Первым, только-только вернувшимся с верфи. У Алексея были большие карие глаза, в которых плескалась такая грусть, будто всех его Гатчинских солдатиков перебили. Вера была в него влюблена. Вера вообще отличалась влюбчивостью. Она была чувственной и горячей, а в постели ведь только это имеет значение. В постели не важно, что ты мечтала о подмостках, а теперь шляешься по Питеру в прикиде Екатерины. Обычно Вера легко укладывала самцов в постель, однако с Петром, то есть Алексеем, вышла заминка. Вера и так и сяк, а он говорит и говорит, а руками ничего не делает. Вера от этого еще больше его хотела. А Петр не то чтобы ее не хотел... У него был кризис сексуальной самоидентичности. Вместе с Петром и Екатериной к туристам приставала жизнерадостная поролоновая зебра. В костюме зебры находился двадцатилетний эфиоп Джамал Саглимбени. Он приехал в Петербург учиться, а зеброй подрабатывал по выходным. После работы Алексей мылся в душе с Джамалом. То есть Джамал мылся в соседнем отсеке, но Алексей мог его наблюдать. И наблюдал. «Морская пена на эбоните. Мускулы. Пропорции. Гибкая лоза. Боже мой!» Конечно, Петр не сразу стал думать такими пассажами. Просто однажды он мастурбировал перед ноутбуком и вдруг закрыл глаза, а перед внутренним взором Джамал, которого он целует, гладит и берет прямо в душе. Это видение пронзило Алексея насквозь. Он кончил как буйвол. Без сил повалился на кровать. Задрожал листочком. С того дня он стал мастурбировать без ноутбука. Никакая порнография не могла сравниться с образом Джамала. Естественно, Алексей и Джамал подружились. Петр как бы взял над ним шефство. Постоянно его касался. То по плечу потреплет, то волосы взъерошит, то по заднице хлопнет. А один раз даже в щеку поцеловал. Приник и отникнуть не мог. Иногда он думал, что Джамал догадывается о его чувствах. Во всяком случае, Алексей поймал на себе пару странных взглядов. В остальном Джамал был улыбчивым эфиопским парнем, который говорил по-русски с пятого на десятое. Петр помогал ему учить язык. Это была одна из видимых причин их внерабочего общения — язык. Петр не мог понять про себя главного — он гей, бисексуал или просто сошел с ума? Потому что с Верой, которая к нему подкатывала, он тоже подумывал переспать. Правда, ее он хотел далеко не так бесповоротно, как Джамала. А Вера, наоборот, хотела Петра так же, как тот хотел Джамала. А Джамал улыбался и учил русский язык. Неизвестно было, кого он хочет, а кого нет. А самое смешное, что Алексей, Вера и Джамал были друзьями и часто гуляли по Петербургу втроем. Страсть не может долгое время таиться внутри. Страсть любит действовать, брать быка за рога, осуществлять напор. Первым решился действовать Алексей. Он думал подойти к Джамалу в душе и поцеловать его. Или положить руку ему на член. Или встать перед ним на колени, чтобы припасть ртом. Так Джамал сразу поймет, как он ему нужен. Или не поймет? Или закатит истерику? Эти вопросы озадачили Алексея. Он часто представлял себя с Джамалом и как-то естественно решил, что Джамал представляет то же самое. Но это может быть ошибкой. Петр так терзался, что даже взял отгулы и три дня просидел дома с выключенным телефоном и водкой. На четвертый день он отважился поговорить с молодым эфиопом. Была жаркая июльская суббота, когда Петр Первый подошел к поролоновой зебре на Дворцовой площади. С Невы доносился учтивый бриз. Алексей специально выбрал такой день, когда Джамал в костюме. Говорить о своих чувствах с зеброй ему было проще, чем с человеком. Петр пересек площадь широким шагом и пристукнул каблуками возле Джамала. Зебра обернулась. Алексей заговорил с прямотой императора: — Джамал, привет. Я должен тебе признаться. Я люблю тебя. Хочу, понимаешь? Хочу заниматься с тобой сексом. Ласкать тебя. Короче, быть твоим любовником. Любовником! Ты ведь знаешь это слово? Ты несколько раз странно на меня смотрел... Я подумал... Я весь измучился. Мне это непросто. Я натурал, но сейчас уже не уверен. Скажи что-нибудь, а то я с ума сойду! Зебра обхватила голову копытами. Голова поползла вверх. Петр вскрикнул. Его сознание помутилось. Он кулем осел на мостовую. Вера с трудом выбралась из костюма и бросилась к нему (она подменяла Джамала, который приболел). Похлопала по щекам. Прижалась ухом к сердцу. Сердце билось еле-еле. Вера позвонила в «скорую». Попыталась сделать искусственное дыхание, но забыла зажать ноздри. Курицей забегала по Дворцовой площади. Вокруг лежащего императора стали собираться люди. Они думали, что это какое-то представление. Подъехала карета, на которой катали туристов. Завидев ее, Вера сообразила, что на Дворцовую площадь «скорую» не пропустят. Поэтому она загрузила Петра в карету и увезла к Невскому проспекту. На Невском врачи привели Алексея в чувство. С ним случился глубокий обморок на почве нервного потрясения. И хоть он очнулся, ему было очень плохо, и «скорая» увезла его в больницу. Только через неделю Алексей вернулся на работу. В больнице он понял, что ему будет трудно второй раз открыться Джамалу. Отработав смену возле Казанского, Петр вернулся в офис, разделся и пошел в душ. Там мылся Джамал. Он много раз звонил Алексею, когда тот был в больнице, но Петр не отвечал. «Нафиг. Забыли и проехали. Чушь какая!» — уговаривал он себя. Алексей повернулся к Джамалу спиной и намылил голову. Вдруг ему на спину легли ладони и опустились вниз. Вторая пара ладоней обхватила член. Это были Вера с Джамалом. Все втроем они занялись сумасшедшим сексом. Шучу. Петр вообще попытался прошмыгнуть мимо эфиопа незамеченным, но тот заградил ему дорогу и радостно завопил: — Алексей, брат! Ты вернулся! Петр судорожно сглотнул. Обнаженный Джамал стоял прямо перед ним. Полшага, и они соприкоснутся членами. Это было невыносимо. — Дай пройти, Джамал. — Подожди. Помоги мне. — Чем? Джамал приблизился. Петр почувствовал возбуждение. — Я люблю Веру. Научи меня, как мне с ней... — Джамал азартно постучал ладонью по кулаку. — Ты — русский. Ты должен знать. Петр нервно рассмеялся: — Кого ты любишь? — Веру. Екатерину. Очень люблю! Петр заржал, как Гарик Харламов. Джамал воззрился. Алексею было уже плевать. Он толкнул эфиопа в грудь и согнулся от хохота. В одну секунду он потерял к парню всякий интерес. Вульгарный жест (ладонью об кулак) и вовсе вызвал в нем отвращение. Петр смеялся так чистосердечно, будто смеялся над самим собой. А что же Вера, спросите вы? После признания Алексея Вера ударилась во все тяжкие. В тот же вечер она сошлась с кучером, который помогал ей грузить Петра в карету. А через день еще с кем-то. И потом. И снова. Она пошла по рукам — с той лишь разницей, что руки выбирала все-таки сама. Не знаю. То ли она мстила Алексею за его пренебрежение, то ли чертовой Екатерине, в платье которой таскается уже второй год. А может, Вера мстила омерзительно красивому Петербургу, снобу проклятому, который совершенно не оценил ее достоинств.Ева
Женщины любят, когда им лижут. Это нормально, кстати. Тут дело не только в физиологии. Если мужчина лижет женщину — значит, он способен быть любовником. То есть не смешивать миры. Не тащит в постель (где, в общем-то, позволено все при условии обоюдного согласия сторон) социальные предрассудки, «понятия», мракобесное ханжество и прочую муру. Расскажу случай. Мне тогда было семнадцать лет, и я влюбилась в двадцатипятилетнего парня. Загорелый такой, с руками. Играл в футбол и читал Кафку, представляете? Матвеем звали. Буквально соткан был из противоречий. Мягкий и жесткий, страстный и холодный, внимательный и равнодушный. Не скучный, короче. То ли Дарси, то ли Хитклиф, если вы понимаете, о чем я. А еще он был жутко умным и красиво говорил. Я ему перед сном звонила, и он рассказывал мне сказки. Реально — сочинял на ходу. И так гладко — закачаешься. Через две недели мы остались наедине в пустой квартире. То есть я наврала родителям (мама, надеюсь, ты это не прочтешь!), что буду ночевать у подружки, а сама убежала к нему. Мы, конечно, уже кучу раз целовались, и я даже много чего напредставляла в горячей ванне, но все равно страшно волновалась. А еще я чуть-чуть порезала киску, когда готовилась к свиданию. Ничего особенного — обычная царапина, но мне киска казалась уродливой (этакий профиль старушечьего носа). Короче, когда я поднялась к Матвею, меня нехило потряхивало. Теперь представьте: я в юбочке, на шпильках, макияж, конечно, в животе — ком, звоню ему в дверь. А он открывает в халате и с заспанной рожей. С кружкой чая в руке. Ну, я, понятно, зыркнула и говорю холодно: — Извините, видимо я ошиблась дверью. А Матвей глаза выпучил и удивленно так: — Ты о чем, Ева? — Как о чем?! Я шла к Матвею — умному, тонкому, интересному мужчине, а дверь мне открыла какая-то Обыденность. Тут Матвей не растерялся и сказал: — Подожди. Я его щас позову. И убежал в квартиру. Делать нечего — стою жду. И бесит все, и любопытно. Через пять минут вышел. Рубашка, джинсы, фиалку из горшка выдернул, перед собой несет. — Это же узамбарская фиалка! — И что? — Ты ее погубил! Как ты мог?! Убийца! А сама оттолкнула его и прошла в квартиру. Пофиг мне была фиалка. Просто хотела ему показать, что в цветах разбираюсь. Узамбарская фиалка. А такие вообще есть? До сих пор не знаю. Вечер. Мы с Матвеем расположились на диване. Типа фильм смотрим. А на самом деле целуемся как сумасшедшие. Я вообще-то целоваться не очень люблю. Мне раньше все время какие-то неправильные губы попадались. То жирные слишком, то сухие, то, наоборот, наводнение. Один раз и вовсе попались потрескавшиеся. Все равно что отцовский напильник целовать. Или вот язык. Целовалась я как-то с одним, так он мне его чуть не в горло засунул. Буквально проломился сквозь губы и давай у меня во рту орудовать без капельки такта. И почему парни никак не поймут, что любовь — это нежность? Правда, Матвей не такой. У него губы мягкие, упругие. И будто, знаете, бархатистые. И слюней в самый раз. А язык... Прямо нежность в квадрате. Так бы и обсасывала всю ночь. Но тут Матвей перешел к решительным действиям. Сначала впился в шею, а потом ловко опрокинул меня на спину. Стал медленно раздевать. В нос чмокнул. Так мило! С первой попытки расстегнул лифчик. Поласкал грудь. Опустился ниже. Припал к животику. Здесь я заволновалась. Неужели куннилингус? Как неприлично, в первую-то ночь. И действительно — одним движением Матвей стащил с меня юбку и трусики. Медленно погладил ноги. Развел их в стороны. В голове пронеслось: «Старушечий профиль! Старушечий профиль!» Но было уже поздно. Горячий язык прижался к моему бугорку. Обшарил окрестности круговыми движениями. Вдруг — сосущий поцелуй. Глубокий, затяжной. Мурашки по коже. А потом — прямо между губок. Скользнул. Проник. Вглубь. И там задрожал. Честное слово, я чуть с ума не сошла. А еще его руки на моей груди (и как он дотянулся?). Вскоре я кончила. Реально — приплыла. Даже уши заложило. А когда Матвей вытер рот и спросил: «Можно, я в тебя войду или ты хочешь полежать?» — я ощутила такую благодарность, что просто опрокинула парня на диван и набросилась на его член. Он оказался еще более бархатистым, чем губы. Угомонились мы только часа через два. Волшебная получилась ночь. И хотя потом Матвей изменил мне с моей подругой, я ни о чем не жалею. А все потому, что женщины любят, когда им лижут. Вот так.В поисках «таракана»
Начала я встречаться с Борей. Ну, ты знаешь, мне на парней не везет. А тут Боря. Высокий, руки сильные (и не только руки). Короче, все как я люблю. Брюнет. Ну, это не важно. Не сидел, ничего, не то что Стас. И не алкаш. Помнишь Женю? Он еще мой ноутбук нечаянно продал. А Боря не пьет. Я тоже сказала, что не пью. Девушка не должна каждую пятницу нажираться, если ее парень не пьет. Ну, то есть она, то есть я, вообще ничего никому не должна, но как-то неудобно просто. Ну вот. Я не пью, он не пьет, мы такие оба не пьем, зато спим. Спать с Борей — это как в порнофильме сниматься. Я ему, кстати, про порнофильмы ничего не говорила, так что не проболтайся. Вначале мы, конечно, встречались. Ну, кино там, ресторанчики, один раз в боулинг играли. Конфетно-букетный период. Я не очень люблю этот период, потому больно много надо прикидываться. Я прямо такая губки бантиком в этот период. Ни рюмки в рот... Ну, ты понимаешь. И Боря такой же. Про книги все, в трусики не лезет, фильмы умные пересказывает. Не нудно, интересно, я смеялась два раза. Даже фамилию одного режиссера запомнила: Таракановский. Или Твардовский. Какая-то такая, короче. Ну вот. А потом мы, наконец, переспали, и так у нас это хорошо получилось, что вообще. Я, если честно, не думала жить с Борей, а он думал, прикинь? Говорит такой: Тома, давай жить вместе. Я сначала хотела отказать, потому что посремся ведь. А потом согласилась и вот почему. За четыре месяца я у Бори ни одного «таракана» не нашла. НИ ОД-НО-ГО! Вот как такое возможно, скажи? Не пьет, матом не ругается, водит аккуратно, сладкого не ест, не курит, ходит в спортзал, прилично зарабатывает (у него бизнес какой-то). Он даже эту сучью бороду, которую сейчас все отрастили, и то не отрастил. И это я молчу про наркотики, торговлю оружием (помнишь Олега) или БДСМ (Славик, гнида такая, до сих пор шрамы от него не сошли). Короче, идеальный мужчина. Но я-то знаю, что идеальных не бывает. И тут мне страшно стало. Что это, думаю, за «тараканы» такие, если Боря их так прячет? Неужели, думаю, маньяк? Но это я не всерьез, конечно. Чтобы нервы пощекотать. Но мысль, знаешь, засела. Я с этой мыслью и тремя чемоданами к нему переехала. В сентябре того года. Пермская осень. Хочется трахаться и спать. Больше ничего не хочется. Первую неделю я за Борей почти следила. Может, он зубную пасту не закрывает, может, стульчак не опускает, может, носки раскидывает, может, посуду плохо моет, может, приборку не любит, может, гвоздя вбить не может, может, ну... смывает не тщательно. Тщательно. И все остальное тоже. Не человек, а набор достоинств. Точно, думаю, маньяк. Потом я вот что вспомнила. Все люди пукают. Если я проживу с Борей достаточно долго, ему придется пукнуть в моем присутствии. А я на него прозрачно так, как матушка, посмотрю, он смутится, и я пойму, что он живой человек. Я сама давно могла бы пукнуть в его присутствии, но он должен это первым сделать, он же мужчина. Нет, я понимаю, гендер-шмендер, бла-бла-бла, но, сука, у него вообще человеческая физиология? Три месяца, прикинь? Три месяца я прожила с Борей, а заветного пука все нет и нет. Тут ноябрь. Ночь. Я сплю. Боренька меня ублажил, и я буквально в отключке. И вдруг просыпаюсь от того, что его рядом нет. Он обычно ногу на меня закидывает. Я сначала думала: что за фигня, парень? А сейчас без этой тяжести и не спится уже. Короче, проснулась я и вышла в коридор. Смотрю, из гостиной свет доносится. А на часах пять утра. Вот что можно делать в пять утра в гостиной тайком от подруги? Если честно, я сразу Декстера вспомнила. Ну, маньяка из морга, я тебе про него рассказывала. Думаю, войду сейчас в комнату, а там везде клеенка, стол, на столе голый мужик, а рядом Боренька стоит с тесаком. Согласись, не такого ждешь от бойфренда? Тут я на себя прикрикнула: не загоняйся, типа чё как маленькая! Тапочки сняла и тихонько подошла к двери. Толкнула. Шагнула за порог. Замерла. Боря сидел в кресле. Не в халате сидел. Не в трусах и футболке. Не голым. В костюме, прикинь? В клеточку такую, как такси. Рядом журнальный столик. На столике кофе и шашки расставлены. А у нас плазма. За сорок тысяч взяли. Восемьдесят первая диагональ. «Самсунг». Боря хотел Эл-Джи, но я настояла на «Самсунге». Все-таки качество есть качество, считаю. Ну вот. По этой плазме шла трансляция. В центре экрана шашки и два парня сидят. Я когда вошла, Боря меня даже не заметил. Я у стеночки встала и смотрю то на него, то на плазму. Десять минут стояла. За эти десять минут вообще ничего не произошло, прикинь? Те двое как сидели за шашками, так и сидят. И Боренька сидит. И все трое молчат. Тишина такая, что прямо мурашки. Я не выдержала. Боренька, говорю, что здесь происходит? Почему ты не спишь? Кто эти люди? Ты можешь мне все-все рассказать, я пойму. Боря встрепенулся. Привет, говорит, Тома. Ничего не происходит. Монарх играет. Какой, говорю, монарх? Свен Магнус Карлсен. Понятно, говорю. А самой ничего не понятно. Шашки, спрашиваю, любишь? Боренька побледнел. Что, говорит, ты сказала? А я поняла, что что-то не то сказала, а что не то, не поняла. В таких ситуациях надо молчать и мило улыбаться. Лучше с ямочками. А Боря завелся и понес белиберду. Какие, говорит, шашки, когда это ШАХМАТЫ! Магнус Карлсен с Фабианой Каруаной играют за звание чемпиона мира. Третья титульная защита норвежского монарха! Я костюм шахматный специально купил! Классический контроль! Одна битва до семи часов! Фланги, видишь, фланги! На эф-4 слабость! Гибкая пешечная структура. Челябинский вариант Сицилианской защиты! Острота! Король не искренний! Весь мир сейчас жертву на цэ-3 считает! И я считаю. Хочешь, вот у меня тут... Что у него тут, я слушать не стала. Я очень обрадовалась. Камень прямо с души. Наконец-то Боренькин «таракан» нашелся. Не маньяк он, а просто любит шашки. То есть шахматы. Ну, любит и любит, с кем не бывает. Я вот «Секс на пляже» люблю, и чего теперь? Короче, чмокнула я Борю в губы и ушла спать. Надо будет ему карту Земли подарить. Челябинск находится не в Сицилии, это русский город, географию все-таки надо знать.«Родинка» Макара Стахова
Все — литература. А что не литература, то литература не для всех. Литература, литература... Кому и Донцова литература! У всех свои критерии. У меня их три: нежность, смачность, полнокровие. В этом смысле мне очень симпатичен рассказ Макара Стахова «Родинка». В основном он симпатичен мне главным героем, который жестокий человек, потому что ему так нравится. Не потому, что его папа в детстве бил. Или не потому, что его дядя Коля за коленку трогал. Или не потому, что он на войне людей убивал, а просто он считает, что жалость оскорбляет естественный ход событий, а до милосердия пока не дорос. Это хорошо иллюстрирует сцена в начале, когда к нему долбится пьяная соседка, а он выворачивает ей руку и долго смотрит, как женщина трезвеет от боли, а потом смачно плюет ей в рожу, чтобы она запомнила унижение и больше никогда к нему не заходила. Героя зовут Егор, а «Егор» очень похоже на «Макар», что как бы намекает. Вся суть рассказа сводится к сексуальной подоплеке человеческой жизни. Одинокий жестокий сорокапятилетний Егор каждый месяц вызывает на дом проститутку. Понятное дело, всякий раз ему привозят новую девушку, потому что разнообразие — мать удовольствия. Девушки — не дешевки, а очень даже дорогие, которых можно везде целовать. Гейши прямо, гетеры древнегреческие, только из Перми. Это внешняя часть рассказа. Внутри же Егор любит девушку из далекой юности и постоянно ее вспоминает в мельчайших подробностях, но такими, знаете, отрывками, что читатель понимает: мужик на грани. То он ей волосы за ухо заводит, то затылок нюхает, а то и вовсе лижет киску, нацеловывая родинку в форме звездочки на лобке. Автор тут интересное словосочетание употребляет: «пизденочка моя сладенькая». Чувствуете, как смачно? Мог бы написать: «влагалище», «куночка» или «киска», как я. А он — «пизденка», «пизденочка». Потому что Егор грубый, но в нежном ключе. Потому что он так чувствует, языком так многосмысленно ощущает. К Егору приезжает проститутка. Он встречает ее в халате и как бы с остатками пизденочки в душе. Он немного сам не свой, потому что сегодня воспоминания как-то особенно на него накатили. Герой полнокровен, понимаете? Он не постоянно жесток или еще чего-нибудь постоянно, он разный, переменчивый, парадоксальный, как и все живые люди. А проститутка, конечно, красивая. Такая, знаете, Энн Хэтэуэй, только Алиса. Проститутки любят быть Алисами, Дианами и Жаннами, эту прозу жизни автор очень точно подметил. Зато описание квартиры, которую мы видим глазами Алисы, у него не очень получилось. Трафаретно, понимаете? Все эти «рамки без фотографий», «дохлый фикус в кадке», «голый лаковый стол», «комочки носков у кровати» выглядят набором штампов. Это как будто ты шел по девственной Амазонии и вдруг наткнулся на пьяных мужиков с мангалом и в тельняшках. Ну вот зачем они в Амазонии? Дальше — эротика. Егор безвольно сидит на диване, а девушка перед ним медленно раздевается до нижнего белья. А Егор не просто так сидит. Егор копит страсть, то есть собирает ее в кулак, потому что потом он бросается на Алису и буквально начинает кусать ее губами. Автор так и пишет: «Сорвал лифчик, полоснул губами по соскам, зачавкал кожей». Заметьте, не бархатной кожей или там шелковистой кожей, а обычной кожей, среднестатистической. Потому что не важно, какая она, лишь бы чавкать. И вот Егор и Алиса уже в кровати. Ласки безудержные. Бормотание. А у Алисы низ живота жирненький, как холодец, а Егору это нравится, и он там надолго застревает. Он вообще в бреду и будто бы даже не Алису целует, а ту девушку из далекой молодости, потому что у него в голове опять всякие отрывки пляшут, а Стахов их нам телеграфной строкой показывает, словно надписи на памятниках зачитывает. Наконец Егор добирается в самый низ. Трется носом о тонкие трусики. Туда-сюда, вверх-вниз, вправо-влево. Он как бы не решается, как бы медлит, как бы боится узреть. А потом грубо, словно ему грубость для решительности нужна, сдирает трусики и уже хочет лизать, но вдруг застывает и тихо говорит: «Пизденочка...» Потому что у Алисы родинка в форме звездочки на лобке. Точно такая же, как у той девушки, из Егоровой молодости. Почему? Откуда? Тишина. Часы старые на стене тикают. Алиса пытается прикрыться, сдвинуть ноги, но Егор не дает. Он прижимает ее к кровати, нависает над ней и спрашивает: «Как зовут твою мать?» Алиса отвечает: «Елена». Лицо Егора лопается по швам: губы прыгают, веко дергается, судороги... Тут автор употребляет очень точное словцо «перекосоебило». Потому что Егорову любовь как раз Еленой звали. Потому что он только что лизал соски собственной дочери. Потому что, как сказал автор, «пиздец ебаный в этой квартире творится!». Егор одевается. Одевается Алиса. Герой атакует девушку вопросами. Где Елена и все такое. А девушка не отвечает, а только говорит: «Ты какой-то странный. Зачем тебе это?» А Егор не может ей руку вывернуть или на голову наступить, он вообще перед ней беззащитен, потому что дочь. Бессилие, понимаете. Бессилие слабого человека, который всю жизнь считал себя сильным. Дальше — диалог. Егор жалко молит Алису рассказать ему про Елену. А она чувствует свою власть и куражится, и хохочет, и спрашивает его: «А может, ты импотент?» А Егор сидит на диване в своем глупом халате и чуть не плачет. И вот это «чуть» автор очень хорошо придумал, потому что если бы герой заплакал, получилось бы мелодраматично, а нам такого не надо. В конце концов, Алиса жалеет Егора и говорит, что с мамой все в порядке, она замужем и живет в Соликамске. Тут всплывает мамина фамилия. Это, оказывается, вообще не та Елена, а какая-то левая, чужая совершенно женщина, к пизденке Егора никакого отношения не имеющая. Прикиньте? А родинки по наследству не передаются. Это миф. Ну, или медицинский факт. У Егора от таких раскладов в глазах зарябило. Он сначала по комнате побегал, как курица с отрубленной головой, а потом сел на кровать, ведь у него внутри два мычания столкнулись: облегченное, потому что не дочь, и огорченное, потому что не дочь. Автор это состояние коротко описывает: «охуел». Собственно, рассказ так и заканчивается: Алиса уходит, Егор лежит на диване, Пермь, вечер и ничего впереди. Даже проституток. Потому что как их теперь снимать, когда дочь чуть не... Пусто у Егора в груди, гулко, как в бочке. Последняя отдушина схлопнулась. Как ему дальше жить — хрен его знает. Молчит Макар Стахов. И я помолчу. Герметическая такая концовка. Хочется в лес весенний выбежать и воздухом там дышать, пока не пройдет. Нежно, смачно, полнокровно. Вот это вот все.Котенок
Никита был кристально честным. Это качество развилось в нем благодаря генам и воспитанию. Он был бы рад соврать, но не умел. В юности он искренне пытался овладеть этим искусством, однако всякий раз что-то шло не так. В школе у всех его приятелей было два дневника. Один — для двоек, другой — для родителей. У Никиты тоже поначалу было два дневника. Афера закончилась саморазоблачением уже через неделю. Парень так переживал, что обман вскроется, что с облегчением вскрыл его сам, предъявив маме оба экземпляра. С курением произошло то же самое. То есть Никита начал курить тайком, но тайна была жгучей, и он от греха подальше бросил курить. Еще парень легко говорил правду о других. Прямые вопросы его обезоруживали. «Кто разбил окно?» — «Витя мячиком». «Кто сломал унитаз?» — «Это Антон петарду бросил». «Почему Димы нет на уроке?» — «Он в кино ушел, но просил сказать, что заболел». Как вы понимаете, в школе парень жил не очень хорошо. Окончив школу, Никита поступил в Политех и стал строителем. Инженерные дела привели его на завод. Мужики невзлюбили его сразу. С годами к Никитиной честности добавился перфекционизм. То есть парень вникал буквально во все, что лежало в сфере его ответственности, и не допускал никакой халтуры. Не халтуры в смысле качества, а халтуры в смысле соответствия нормативам, что, согласитесь, не всегда одно и то же. Честность и перфекционизм угнетали не только мужиков, они действовали и на начальство. Например, субординацию Никита соблюдал с каким-то протестантским рвением. Упорно называл на «Вы», держал дистанцию, был неизменно вежлив, ровен и трудолюбив. Плюс он совсем не пил спиртного, что само по себе превращало его чуть ли не в иностранца. В двадцать пять лет Никита женился. Может быть, подсознательно, может быть, потому, что у Нади был легкий нрав и потрясающие бедра, но женился он на филологине. Если говорить религиозным языком, то идейный протестант женился на кокетливой католичке. На самом деле, такую невозможность объяснить просто. Человек в человеке ищет двух вещей: то, что в нем и так уже есть, или то, чего в нем нет вовсе. Брак — это всегда вопрос либо самолюбования, либо самосовершенства. У Никиты и Нади монетка упала в пользу самосовершенства. То есть они были достаточно умны, чтобы вникать во внутреннее устройство друг друга, отчего их отношения напоминали путешествие по незнакомой стране, а такое, согласитесь, редко бывает неинтересным. Надя работала в Горьковской библиотеке, обожала котиков и стихи Бунина. В каком-то смысле она была творческим человеком. «В каком-то», потому что ее творчества хватало только на творческий беспорядок и ни на что больше. Но даже эта подробность казалась Никите милой, ведь ему нравилось делать уборку. Они жили в двухкомнатной квартире, которая досталась ему от бабушки. Забавно, но решение отказаться от свадьбы было обоюдным и необыкновенно их сблизило. В сентябре 2011 года Надя забеременела. Это случилось не в порыве страсти или потому, что презерватив прохудился, а вполне сознательно. Почему бы не завести ребенка, когда двадцать пять, любовь и двухкомнатная квартира? Девять месяцев беременности молодая пара провела в фантазиях. Сначала они выбирали в Интернете кроватку и погремушки. Читали вслух книгу Януша Корчака «Как любить ребенка». Януш казался им убедительным не столько в силу текста, сколько в силу биографии. Потом родительский инстинкт унес их вдаль. Мальчику (а УЗИ показало, что будет мальчик) было придумано имя: Владислав. За именем последовали детсад, школа и спортивная секция (плаванье). В какой-то момент Никита и Надя перешли невидимую грань. Их ребенок стал их экзистенциальным «центром тяжести». Они постоянно говорили о нем, как бы сидя в облаке нежности, из которого тянулись канаты, накрепко швартующие их к сыну. Перед родами Никита специально взял отпуск, чтобы не отходить от жены. Надо ли говорить, что он присутствовал на родах и даже перерезал пуповину. Ни с чем не сравнимый опыт пронзил его насквозь. В этом пронзенном состоянии парень пробыл три дня. Через три дня ему позвонила Надя и сказала, что ребенка увезли в больницу на Баумана, потому что он странно срыгивает и надо кое-что проверить. Никита сразу поехал туда. Надю должны были выписать на следующий день. Она волновалась за сына, но не паниковала, потому что не может же с ним ничего произойти? На Баумана к Никите вышел глава детской экстренной хирургии Олег Иваныч. Он был мрачен и держал в руке медицинскую шапочку. — Вы отец Владислава? — Да. Что с ним? — Анастомоз. Перевитие кишечника семьсот двадцать градусов. — Что это значит? — Кишечника практически нет. — Почему его нет? — Это врожденное. На УЗИ проморгали. — И что теперь? — Будем шить. Но шансов почти нет. Вам лучше думать о втором ребенке. — О каком втором ребенке? Что вы несете? — Хотите его увидеть? — Хочу. Олег Иваныч повел Никиту по коридорам и привел в маленькую комнату, где в саркофагах из оргстекла лежало трое младенцев. Одним из младенцев был Владислав. От его тельца тянулись провода. Вокруг стояли непонятные приборы и мигали огоньками. — Он как здоровый. — Мужайтесь. — Он дышит. Я вижу, как он дышит. — Я вам говорю: мужайтесь. Шансов — один из ста. Но и в этом случае он навсегда останется тяжелым инвалидом. — А если в Израиль? Если я найду деньги и увезу его в Израиль? — Даже в Израиле не научились отращивать новый кишечник. С первыми детьми такое бывает. Это надо пережить. Стиснуть зубы и пережить. Мужайтесь. — Вы достали со своим мужайтесь! Что я жене скажу? Что я... Никита задохнулся и заплакал. То есть не так заплакал, как обычно плачут люди — с гримасой, а как бы просто позволил слезам течь. Олег Иваныч тронул его за плечо: — Вы курите? — Что? — Вы курите? — Нет. — А я очень хочу покурить. Пойдемте со мной на воздух. Олег Иваныч взял Никиту за локоть и вывел из комнаты. На улице хирург закурил. Никита стоял рядом и напоминал амебу. Вдруг он очнулся и, ни слова не говоря, пошел на остановку. На остановке он сел на лавку и стал думать о Наде. Она этого не переживет. Сойдет с ума. Наложит на себя руки. Просто умрет на месте. Никита чувствовал себя карликом, который заменил атланта. Атлант нашел бы слова, чтобы сказать жене правду, карлик отдался вранью. В эту минуту Никита напоминал сумасшедшего игрока, поставившего на зеро все свое состояние. «Я дам врачам время. Скажу Наде, что Владику нужна маленькая операция на кишечнике. Но как не дать ей приехать на Баумана? Скажу, что к нему пока не пускают. Скажу, что только через три дня можно, а через три дня расскажу ей правду. Подготовлю почву. Но как мне врать, если я не умею врать? Можно ли вообще здесь врать? А если не врать, то как сказать? Позвонить и сказать: знаешь, наш сын умрет, думай о втором ребенке? Мужайся! При чем тут мужество? Что за идиотизм? Надо поверить, надо изо всех сил поверить, что Владику действительно нужна маленькая операция на кишечнике! Как люди верят в Бога. Точно так же поверить. Многие ведь верят в Бога? А как мне подготовить почву? Есть здесь хоть какая-то почва?..» Никита вступил на скользкий путь перерождения прямо на остановке. Приехав домой, парень позвонил жене и умеренно-грустным голосом рассказал о «маленькой операции на кишечнике». Рядовой случай. Завиток кишок. Со многими первыми детьми такое случается. Это был вторник. В среду Надю выписали из роддома, и она вернулась домой. Новость об операции привела ее в смятение, однако Никита был убедителен и уверен в себе, и Надя ему поверила. Разумеется, она не находила себе места и очень хотела увидеть сына, но муж старательно сдерживал ее порывы. Надо сказать, порывы были сильными. Разлучить мать с новорожденным ребенком — это то же самое, что... Подходящих сравнений у меня нет. Но не только усилиями Никиты я объясняю относительное спокойствие Нади. Наверное, не последнюю роль сыграли и роды, после которых она еще не вполне отошла и была как бы в легкой прострации, когда желание передоверить себя другому граничит с потребностью. Эту потребность Никита удовлетворял в полной мере. Первый день дался ему легко. Зато второй (четверг) почти доконал диалогами. — Давай Владика на такси забирать поедем? — Конечно, на такси. — Смотри, какая распашонка! Мама твоя принесла. Быстрей бы его одеть! Ты звонил в больницу? — Утром звонил, пока ты спала. У них все идет по плану, новости будут завтра. (Никита действительно звонил в больницу каждый день. За три дня Владик перенес уже две операции, но ни одна из них ситуацию не изменила.) — Я тут про плаванье читаю... — Чего? — Пишут, что плаванье — это самый нетравматичный вид спорта. Ты знал об этом, когда плаванье предлагал? — Не знал. Теперь знаю. После каждого такого разговора Никита уходил в ванную и грыз кулак. Он решительно не понимал, как ему подготавливать почву для страшной новости. Более того, он все меньше контролировал ситуацию. В его глазах то закипали жгучие слезы, то он вдруг переставал слышать, то мучительно хотел в туалет, как при «медвежьей болезни». Ночью Никита не спал. Он лежал в темноте, положив левую руку на Надю, и придумывал речь. Речь не придумывалась. Никакие прелюдии и вводные обороты не могли завуалировать «выстрел». Утром он должен был «застрелить» супругу, чтобы тут же склониться над ее раной. Наступила пятница. Под утро Никита уже не придумывал речь, а казнил себя за ложь. «Идиот! Зачем я это сделал? Надо было сразу сказать Наде правду. Как мне ее теперь сказать? Извини, про маленькую операцию я соврал. Наш сын умирает, и шансов на спасение мало». С другой стороны, он продолжал надеяться на чудо, ведь врачи боролись, а значит — еще не все потеряно. Никита был на кухне, а Надя еще спала, когда зазвонил телефон. Парень сорвал трубку как чеку. Звонили из больницы. СамОлег Иваныч. — У вашего сына агония. Все кончено. Приезжайте. Поплыли стены, окна, потолок. Из-под ног ушел ламинат. — Как агония? Был ведь шанс! — Один из ста. Он оказался не наш. — Но ведь он был! — Был. Мне пора. Приезжайте. В трубке затрепыхались гудки. Никита стоял и смотрел в окно. Сзади раздался Надин голос. Он был глухим и каким-то чужим, словно с Никитой заговорила незнакомка: — Я все слышала. Владик умер? — Умер. Анастомоз. Перевитие кишечника семьсот двадцать градусов. Врожденное. На УЗИ проморгали. У нас был шанс. Небольшой, но был. Прости, что я соврал. Я... Надю вырвало. Никита отвернулся к окну. Парень как бы раздвоился: один Никита оцепенело не думал про сына, а другой развернул свою жизнь, как свиток, и вдруг понял, что нет никакой правды и никогда не было, а всегда была только его трусость. Одна его трусость и больше ничего. Перерождение завершилось. Надя отерла рвоту. — Ты все правильно сделал. Отвези меня к сыну. Никита вызвал такси, и они поехали на Баумана. Их брак не распался. Надя стала чуть-чуть мертвой, а Никита бросил козырять правдой и стал больше заботиться о Наде. А еще он купил котенка. Маленького, пушистого, здорового. Рост — 15 см. Вес — 470 граммов. Теперь ему восемь лет: он сам открывает двери, умеет спускать воду из смывного бачка и любит сидеть на краю ванны и смотреть на Надю, когда она в ней лежит.Боксер
Егор, Коля и Вадим в Турцию полетели. Они все были друзьями детства, а потом все нечаянно женились, все нечаянно взяли ипотеки, все не специально родили детей и совершенно случайно превратились в работяг. Как вы понимаете, им казалось, что они сделали все это неслучайно. Им не очень нравилась их жизнь. То есть это такой общий дискурс работяг — ворчать на жизнь. Я не пишу «жизни», потому что какие тут жизни? Калька сплошная. Даже удивительно наблюдать такое в наш индивидуалистический век. Егор, Коля и Вадим были тридцатилетними отцами семейств. Егор работал автомехаником. Коля — формовщиком. Вадим копал могилы на кладбище. Еще с ними полетел одноклассник Гена. Гена жил в браке, но без детей. Он подвизался на ниве журналистики, однако подвизался как-то вяло, потому что зарабатывал мало. Его содержала жена Ольга. Она уже год была архитектором в крупной айтишной компании. Иногда Гена произносил Ольгину зарплату шепотом перед сном. Он никак не мог поверить в это шестизначное число. У Егора, Коли и Вадима жены ходили по струночке. И они сами ходили по струночке. Их судьбы напоминали гитарный бой Цоя. То есть ни они сами, ни их жены и никто вокруг от ребят ничего нового не ожидали. Зато им было легко, потому что на фоне друг друга они не выделялись (собственно, как и песни Цоя). Быть среднепролетарской семьей хоть и сомнительное, но удовольствие. Вот завод. Вот автосервис. Вот кладбище. Ехать никуда не надо. Вот лесок, где шашлычок на Первомай славно сварганить. Вот бар, где большой телевизор, по которому футбол можно посмотреть. Школа вот. Вот садик. Больница рядом. Стоматология. Даже торговый центр отгрохали. Раньше за шмотками в город приходилось наезжать, а теперь прямо на районе отоваривают. Мир, закольцованный как античная философия. Жизнь без душевных травм. Натурально — не с кем себя сравнивать, кругом люди схожего достатка, мировоззрения, судьбы. Одинаковые. Все как у людей — главная мантра среднепролетарской семьи. Среднепролетарская семья не хочет лучшего или просто хорошего, она хочет не хуже, — именно не хуже! — чем у соседей. Соседи хотят того же самого. Это ли не основа для крепкого гармоничного сообщества? А Гена полез в эмпиреи. Ушел с завода и подался в журналистику, потому что ему поблазнились в себе некоторые писательские задатки. Пока он работал на заводе, жена училась на программиста. После трудоустройства ее карьера стремительно взлетела вверх. Генины писательские задатки так и остались задатками. Финансовое неравенство между супругами вылилось в зыбкое молчание. То есть на поверхности души Гена был современным мужчиной. Он спокойно относился к тому, что в их с Ольгой семейном дуэте солирует она. Однако в глубине он был патриархален, что если и не объяснялось его врожденными качествами, то средой произрастания уж точно. Вскоре Гена понял, что деньги — это не просто эквивалент труда, но стихия, вроде земли, воды, воздуха и огня. Ольга управляла этой стихией, Гена ее не понимал. Плюс жена все чаще уходила на корпоративы и деловые свидания. В такие вечера муж сидел на кухне, пил кофе и ревновал. Причем это была не ревность к мужчине, а ревность к образу жизни. Иными словами, это была зависть. Однако ловить себя на зависти чуть более паршиво, чем ловить себя на ревности. Зависть — чувство однозначно постыдное. Ревность имеет коннотации. В таком смысле: а чего она ходит, чего ходит, а? Вообще, Гена немножко напоминал японца, потому что к стыду относился трепетно. То есть всячески старался его в себе не признавать через непризнавание зависти. Пропасть между супругами ширилась. Тут надо сказать, что от финансовых перемен Ольга и сама испытывала головокружение. Гена был ее первым и единственным мужчиной, а тут такие окна возможностей. Возможностей не в смысле сексуальной подоплеки (Ольга была нравственна в классическом, то есть античувственном плане), а в смысле нового быта. Ну, если допустить, что для подавляющего большинства российских жен их мужья — это и есть быт. Конечно, она не рационализировала свое желание пожить с более подходящим ее новому статусу мужчиной, однако не всякое желание надо рационализировать, чтобы оно расположилось в судьбе. Брак Гены и Ольги не то чтобы накалялся, скорее он затухал, когда способность поболтать вечером на кухне полностью зависит от интеллектуальной изобретательности. Мы привыкли, что как-то особенно трудно переживается неуспех. Но оказалось, что успех переживается еще труднее. В августе 2017 года Ольга объявила Гене, что улетает во Францию на неделю. Там пройдет айтишная конференция, которую она не может пропустить. «Как будто ты можешь пропустить Францию!» — сказал Гена. Через три дня ему позвонил Коля и позвал его в Турцию. Гена согласился мгновенно. Он хотел взглянуть на свой брак издалека, потому что он казался ему большим делом, а большое лучше видится на расстоянии. Ольга была не против: «Поезжай, развейся. Может быть, это придаст импульс твоему писательству?» Гена поморщился. Последний год он ежедневно терял уверенность в себе, а без такой уверенности не бывает хороших текстов. Потеря уверенности распространилась на все сферы его жизни. Даже в постели, где обычно он был напорист и изобретателен, Гена изрядно поскучнел. Раньше он мог овладеть женой на кухонном столе. Довести ее до оргазма языком. Постоянно сочинял ролевые игры. Доминировал. Надо сказать, Ольга с радостью подчинялась. Однако примерно полгода назад она вдруг полюбила позу всадницы. А потом вообще села ему на лицо, чтобы он ее полизал. А еще засунула ему пальчик в попу, когда они были в ванной. Все это не то чтобы смутило Гену с физиологической точки зрения, просто он почувствовал переход инициативы, которую не мог не оплакивать. Каждый вечер он искал в себе прежнюю уверенность и не находил. Это как опереться на поручень и промахнуться. Или подумать, что ступенька есть, а ее нет. Гена ощущал себя на палубе во время шторма, причем галера была рабовладельческой. Ольга, сама того не ведая, вглядывалась в горизонт, пытаясь отыскать алую точку. Егор, Коля, Вадим и Гена выехали из Перми в Екатеринбург пятничным утром. Они вылетали в Мармарис из аэропорта «Кольцово», потому что так было дешевле. Ребята не только учились в одном классе, но и вместе занимались боксом в клубе «Локомотив» у знаменитого тренера по прозвищу Сатана. Гена не дрался уже десять лет. Он был достаточно образован, чтобы ему претило насилие. За школьными и боксерскими воспоминаниями пролетело четыре часа дороги. — Ну, как ты? — Да я... — А ты... — Я, знаешь... — Журналист? — Ну, как сказать... — А Де ла Хойя? Де ла Хойю помнишь? — Джонни Тапия. — Гатти против Уорда... — Могилы все? — Они, проклятые. — Триллер в Маниле... — Это была смерть. — Четырнадцать раундов, представляешь? — Не представляю. Я и трех уже не представляю. — Паркинсон. — А ты бы подписался? — Под чем? — Выиграть бой в Маниле и заболеть Паркинсоном. Гена задумался и кивнул: — Да. — Серьезно? — Да. Это бессмертие, понимаешь? На подъезде к Екатеринбургу друзья заехали в кафешку и взяли бутылку коньяка. Общие воспоминания настроили их на пронзительно-душевный лад, а пронзительно-душевный лад требует возлияний. Плюс они все были как бы в самоволке, как бы снова восемнадцатилетними, только сбежавшими не от родителей, а от жен. Егора, Колю и Вадима отпустили в Мармарис со скандалом, хотя их дети были уже взрослыми (семь, восемь и девять лет соответственно). Этот мальчишник они втроем лелеяли много лет. Пацанское братство, которое было разорвано узами брака, требовало вернуть должок. Иногда дух улиц мешал им спать по ночам. Эта поездка должна была окончательно упокоить их беспокойное прошлое. В «Кольцово» ребята чуть не опоздали, потому что приехали раньше и решили посмотреть Екатеринбург, где попали в пробку. В самолет они зашли последними. При электронной регистрации друзья пожертвовали местами у иллюминаторов, чтобы сидеть всем вместе, пусть и посередине салона. В полете было хорошо. В полете их доверительность приобрела глубокий характер «одноразовых друзей». Вадим рассказал про простату. Егор заговорил о том, что жена сильно растолстела, а он не знает, как подвигнуть ее к физкультуре. Коля признался, что снова подсел на анашу, потому что тело не вывозит заводских нагрузок. Гена рассказал о карьерном взлете жены и потере уверенности. Коля: Номер, конечно. Кайфуй просто и все. Это ж бабки. Егор: Нашел в натуре проблему. Да если б моя меня содержала, я бы вот так улыбался. Вот так, смотри. Егор широченно улыбнулся с придурковатым видом. Вадим: Давай махнемся? Гена: Что на что? Вадим: Мой простатит на зарплату твоей жены. Все заржали. Вдруг Егор посерьезнел. Егор: Тебе надо вернуть уверенность в себе, а то жена от тебя уйдет. Или ты хочешь, чтобы она ушла? Гена: Я не знаю. Коля: Совсем плохой. Гена: А вы прямо своих жен любите, да? Пацаны переглянулись. Им было неловко. За всех ответил Вадим. Вадим: Ты как маленький, Гена. Любите, не любите. Мы же не подростки. Что это вообще за категория? Гена: Нормальная категория. Если нет любви, зачем это все надо? Вадим: Если нет любви, надо разводиться? Так, что ли? Гена: Это честно. Вадим: Кому нужна такая честность? Егор: Я каждые полгода буду разводиться тогда. Коля: А я каждые три месяца. Гена: Я о том и говорю. Стоит ли тогда жениться? Вадим: Ты в натуре подросток. А дети? А хозяйство? А родной человек рядом? Гена: Ну да. Наверное. В Мармарис ребята прибыли в шесть часов вечера по местному времени. Выбравшись из аэропорта, они отыскали укромную лавку и переоделись, потому что уральский август выдался прохладным. По дороге в отель разговор свернул в русло оживления Гены. Пацаны рассуждали о том, как вернуть ему уверенность в себе. Егор: Тебе нужно переспать с девушкой. Прямо дрянь какую-нибудь «царапнуть». Коля: Напиться! Напиться как следует! Вадим: Плавай. Мой тебе совет: плавай как сумасшедший. Физическая форма — она здорово с башкой согласуется. Гена вздыхал по-вдовьи и покорно кивал. Рецепты казались ему неубедительными. Он представил первое, представил второе, представил третье, но ничего не почувствовал. Может, это кризис среднего возраста? Бывает кризис среднего возраста в тридцать лет? Ухватившись за это психологическое клише, Гена не торопился его отпускать. С клише ему было не так одиноко, потому что кризисом среднего возраста страдает целая армия людей, а значит, с ним не происходит ничего из ряда вон выходящего. Он как все. Надо просто потерпеть. Не в жене дело. Пройдет. Как вы понимаете, эти рассуждения происходили на поверхности Гениной души, потому что в глубине он чувствовал себя потерянным. То есть не потерянным где-то, а как бы потерянным в самом себе. Будто вы жили и мнили себя свободными, даже мнили свободу своим основанием, а потом вдруг поняли, что несвободны, что нет никакого основания и теперь вообще не ясно, кто вы такой. Такие вещи очень неприятно про себя узнавать. Такое знание хочется куда-нибудь деть, куда-нибудь пропить, ну, или обозвать его кризисом среднего возраста. В отель ребята заселились парами: Гена с Вадимом, Егор с Колей. Их номера находились через стенку, и друзья могли перестукиваться, вспоминая позабытую морзянку. Это показалось им забавным, потому что знание морзянки было одним из кирпичиков их общего прошлого. В каком-то смысле ребята шли в будущее спиной, потому что прошлое волновало их больше. Будущее казалось им (кроме Гены) настолько предсказуемым, что о нем было неинтересно думать. Дальше потек обычный турецкий отдых. Днем — пляж, прогулки и экскурсии. Вечером — пиво и застольные беседы. Несколько раз пацаны пытались навязать Гене девушку. Гена был холоден. Он ковырялся в себе и внутренне разговаривал с Ольгой. Иногда он наговаривал ей кучу гадостей. Иногда просил прощения. Иногда пытался путано объяснить, что с ним происходит. Один раз друзья напились виски до беспамятства, но обошлось без инцидентов. Один раз Гена уплыл за буйки и с трудом доплыл до берега. Уверенность в себе не возвращалась. В минуты отчаянья Гена думал, что распадается не его брак, что распадается он. «И они обретали его. В виде распада материи». Дома работа отвлекала Гену от рефлексии. В Мармарисе он в ней растворился. К концу восьмидневного отдыха он почувствовал, что друзья стали им тяготиться. Пацаны этого не говорили. Они уважали Гену и за то, что он Гена, и за то, что он единственный из них выполнил норму кандидата в мастера спорта по боксу. Они часто вспоминали его гайвинский бой с Рябичевым. Это действительно были три красивых кандидатских раунда на встречных скоростях. Гена победил по очкам с минимальным перевесом. Накануне отъезда друзья упаковали чемоданы и спустились в гостиничный бар. Взяли пиво. Тут в бар вошел парень: — Бесплатный трансфер на улицу баров! Выезд через пять минут! Кто хочет развлечься? Весь отдых пацаны игнорировали этот призыв. Гид казался им педиковатым и каким-то противным. Но то ли завтрашний отъезд сыграл роль спускового крючка, то ли всем хотелось как-то отвлечься от Гениной грусти... В общем, Вадим вскинул руку и заорал: — Мы хотим развлечься! Мы хотим! — Отлично, мои хорошие! Едем на улицу баров! Гена поморщился: — Пацаны, я, наверно, не поеду... Уговаривать его никто не стал. Опорожнив стаканы, Егор, Коля и Вадим убежали в машину. А Гена зло заговорил с собой: «Ну вот что с тобой не так? Хватит уже хандрить! Езжай давай на улицу баров. Выпей и повеселись. Наплевать вообще на все. Сколько можно, в конце концов?! Или не ехать? Или спать пойти? Или тут еще посидеть? С другой стороны... Хотя...» Пока он рассусоливал, пацаны уехали. Побродив вокруг отеля, Гена заприметил такси. До улицы баров можно было доехать за шесть долларов. Объяснившись с таксистом на ломаном английском, Гена сел на переднее сиденье и воткнул в уши наушники. Запел Боно. Боно разбавлял слащавый Мармарис ирландской брутальностью. В злом, взвинченном, маскулинном состоянии Гена приехал на улицу баров. Повсюду сновали пьяные парни, полуголые девушки и даже трансвеститы. Маленький турецкий Таиланд. Вначале Гена зашел в бар «СССР». Пропустил там стопку «Белуги». Пацанов в баре не было. Они отыскались в конце улицы. Разумеется, их понесло в самый крутой клуб Мармариса — «Арену». Гена нашел друзей за столиком в обществе трех девушек. То есть он их увидел, но подходить не стал. Надо, конечно, подойти. Чуть позже. Он подопьет тут, они — там, и больше никакой грусти и неловкости. Забыли и проехали. Гена наблюдал за друзьями, попивая «Секс на пляже», когда к их столику подошли четверо. По виду дагестанцы. Один из них схватил девушку Вадима под локоть и вздернул на ноги. Вадим вскочил. Дагестанец толкнул его в грудь. Вадим толкнул в ответ. Егор и Коля подхватились. О чем-то переговорив с дагестанцами по-тихому, пацаны пошли с ними на улицу. Гена тихонько пошел следом. На улице дагестанцы повели пацанов за клуб. Полиция на фейс-контроле проводила их равнодушными взглядами. Гена завернул за угол. До него донесся разговор Вадима и старшего дагестанца: — Ты бессмертный, что ли? Я тебя убью щас здесь, понял? — Не бессмертный. Просто чё ты себя так ведешь? — Ты черт, понял? Черт вонючий! — Я не черт. Зачем ты просто себя так ведешь? Гена стиснул зубы. За «черта» надо сразу бить, а Вадим сдрейфил. Прогнулся. И Коля с Егором голову повесили. Работяги. Дети. Семья. Даги здоровенные. Можно понять. Жгучий стыд и обида за друзей накрыли Гену с головой. — Ты извиняйся передо мной, понял? Или давай один на один биться! — Не хочу я с тобой драться... Вадим давал заднюю уже со всей очевидностью. Господи, до чего же гнусно! Гена вышел из тени и подошел к пацанам. По его венам неслась молодящая злость. — Здорово, пацаны! Друзья опешили. А потом стали прятать виноватые глаза. Дагестанцы подобрались. Гена был тяжеловесом и производил впечатление. — Ты кто? — А ты кто? — Ты к нам подошел! — А вы подошли к моим друзьям. Ты один на один хотел? Давай. Я готов. Егор схватил Гену под руку и зашептал: — Гена, это даги. Они звери. Ты чё творишь! — Уйди нахуй от меня. Гена достал телефон и отдал его Вадиму. Затем немного подумал и снял футболку. Дагестанец смотрел на него удивленно. — Слушай, уважаемый... Мы с тобой не ссорились. — Замнем, что ли? — Давай замнем. Гена протянул руку. Когда в его ладони оказалась ладонь дагестанца, он дернул его на себя и воткнул левый кулак в бороду. Дагестанец упал. Гена налетел на оставшуюся троицу. Очнулись Егор, Вадим и Коля. Расправа была короткой. Такого восторга Гена не испытывал десять лет. Как все-таки приятно делать то, что ты по-настоящему умеешь! Когда друзья уходили, первый дагестанец все еще лежал без сознания. На следующий день пацаны улетели в Россию... Гена зашел в квартиру и нашел Ольгу на кухне. Ее круглые бедра смотрели прямо на него. Приблизившись вплотную, он погладил округлости и впился поцелуем в губы. Ольга задохнулась. Гена излучал какой-то животный магнетизм. Он был загорелым. У нее ослабели колени. Муж рванул скатерть и стряхнул ее со стола вместе с чашкой. Положил Ольгу на стол. Задрал халатик, стащил трусики, потянул губами набухший клитор. Вошел. — Ты... прости... — За что... — Я психовал из-за твоей зарплаты... — Я знаю... А теперь... — Теперь нет. На бокс вернусь. — Да. — Что да? — Трахай. — Трахать? — Трахай! — Вот так? — Да... Пожалуйста. В Гениной голове было пусто. Он весь ушел в ощущения, в движения, в мякоть момента. Ничто другое не имело значения. Даже деньги.«Золотой» укол
Тридцатитрехлетний Марамыгин сидел на лавке жарким августовским днем и ничего не делал. Это занятие удавалось ему лучше всего. В молодости Марамыгин посидел в лагере, где поседел и потерял пригоршню зубов. Потом, то есть в тридцать лет, он подсел на «план» и окончательно распрощался с идеей трудоустройства. Он немного шабашил по евроотделке, но в основном жил мелким криминалом и «скорой помощью». Под «скорой помощью» я имею в виду посредническое участие в приобретении наркотиков. Иногда Марамыгин брал за эту услугу деньги, иногда — товар. Его жизнь протекала ни шатко ни валко, но достаточно терпимо, чтобы он на нее не жаловался. Амбиции Марамыгина простирались куда-то в район Сочи, где подходило время бархатного сезона. Денег на Сочи, как вы понимаете, у парня не было. Тридцатипятилетний Артюхин, который появился из-за угла и пошел к приятелю Марамыгину, точно знал, что денег у того нет, хотя про Сочи и не догадывался. Он знал, что бросит свое предложение на благодатную почву, но не знал, что попадет им в нерв. В противоположность Марамыгину, Артюхин в лагере не сидел, криминальными наклонностями не отличался, однако имел свою собственную полнокровную трагедию — ВИЧ. Артюхин заразился им по пьяни, когда ему поднесли заряженный шприц «соли», а он взял да и укололся. Этим уколом Артюхин вышел на марафонскую дистанцию, которую пробежал за три недели, чтобы очнуться под капельницей, а через полгода узнать диагноз. С диагнозом Артюхин кое-как смирился и стал принимать антиретровирусную терапию. Не смирился Артюхин только с одиночеством. Старая подруга от него ушла, а новую завести не получалось, потому что Артюхин честно говорил понравившимся девушкам о своей болезни. Девушки реагировали однообразными исчезновениями. Три с половиной года исчезновений надломили Артюхина. Он жил в однушке вдвоем с кошкой, мучился депрессией, злоупотреблял онанизмом и частенько хотел вышагнуть из окна, но не вышагивал, потому что жил на третьем этаже. Два месяца назад Артюхин встретил Петухову. Тридцатилетняя Петухова была брюнеткой с полными плечами и мягкой улыбкой. Но самое главное — она была доброй. Добрая Петухова сходила с Артюхиным на три свидания, а на четвертом узнала про болезнь. Новость ее потрясла, и она ушла от Артюхина с таким выражением лица, вслед за которым девушки обычно исчезали. На следующий день она написала Артюхину в соцсети «ВКонтакте» и сама назначила четвертое свидание. После него уже Артюхин шел домой с интересным лицом. На свидании Петухова рассказала ему про Васюкова, который был ее гражданским мужем, а полтора года назад попал в страшную аварию и теперь влачит существование овоща и живет с ней, потому что нуждается в круглосуточной заботе, вроде кормления через трубочку и смены подгузников. Матери он не нужен, а Петухова бросить его не может из нравственных соображений, хоть и прожила с ним один год. Иными словами, доброта Петуховой оказалась явлением двойственным, и если в адрес своей болезни Артюхин ее приветствовал, то в адрес Васюкова она ему решительно не нравилась. Артюхин думал, что наличие Васюкова может продлить его одиночество, помешав отношениям с Петуховой. Артюхину хотелось, чтобы Васюкова не было. Ну, или доброта Петуховой на него не распространялась. Сама Петухова, поначалу тяготившаяся заботой о гражданском муже, вдруг отыскала в ней героический рефрен. Внутри себя она совершала подвиг и через этот подвиг утяжеляла свою жизнь в экзистенциальном смысле, что всегда приятно доброму человеку. Артюхин с Петуховой непрестанно думали о Васюкове, который вообще ни о чем не думал. Васюков лежал в специальной кровати, пускал слюни, вращал глазами и даже не мог один раз моргнуть вместо «да» или моргнуть два раза вместо «нет». Основной вопрос, который интересовал Артюхина к шестому свиданию, это поправится ли когда-нибудь Васюков. Потому что если Васюков поправится, а Петухова уйдет к нему, Артюхину, то ему будет затруднительно это пережить. Мнение врачей на этот счет было однозначным: Васюков может поправиться, но это неточно. К этому времени Артюхин прикипел к Петуховой. Ему нравилось переписываться с ней в соцсети «ВКонтакте», сидеть на лавке, есть пиццу, ходить в кино. Ему даже нравилось молчать в ее присутствии. Обычно скаредный Артюхин возил Петухову на такси, засыпал цветами и подарками. Он решил, что наконец-то встретил родственную душу. И чем крепче он утверждался в этом мнении, тем сильнее его раздражало существование Васюкова. Артюхин не был нравственным человеком, не был он и человеком тонким, а был он человеком прямого действия из тех опасных людей, у которых между желанием и его воплощением если что-то и есть, то в лучшем случае зазор. Собственно, именно поэтому Артюхин подошел к приятелю Марамыгину и рассказал ему все то, что я сейчас рассказал вам, — только в выражениях более емких и с упоминанием ста тысяч рублей, скопленных им на покупку автомобиля. Эту сумму Артюхин предложил Марамыгину в обмен на следующую операцию: Артюхин дает Марамыгину ключи от квартиры Петуховой, уходит с ней гулять, Марамыгин проникает в квартиру и всаживает Васюкову «золотой» укол — три грамма героина, после чего уходит восвояси, а Артюхин и Петухова констатируют смерть. Как ни странно, нравственным оправданием этой операции послужило милосердие. Артюхин солгал Марамыгину, что Васюков никогда не поправится, а держать человека в таком состоянии бесчеловечно. Соблазнившись деньгами и милосердием, Марамыгин принял от Артюхина три тысячи рублей на покупку героина и согласился отпустить в мир иной бедного Васюкова. То есть вначале он согласился, а потом представил свои действия в подробностях и содрогнулся. У Марамыгина была слабая фантазия, и процесс представления потребовал от него усилий и начатков эмпатии, которых до этого он в себе не обнаруживал. Марамыгина смутил не сам факт убийства, а роль палача, потому что в кабацкой драке он мог пырнуть человека преспокойно, но вот так вот... деловито... по-медицински подойти и вколоть... Известно, всякая смута подталкивает к костылям морали. В этом же направлении пошел и Марамыгин. Он решил доподлинно узнать, точно ли Васюков никогда не поправится. Это казалось ему очень важным. Таким же важным, как разница между милосердием и палачеством. Марамыгин понимал это не умом, а предельно обострившимся звериным чутьем, ведь раньше убивать ему не доводилось. Чтобы разобраться в ситуации, он создал левый аккаунт в соцсети «ВКонтакте», написал Петуховой, представился одноклассником Васюкова, прочел о его бедственном положении, а потом вскользь спросил про лечащего врача. Заполучив фамилию и номер больницы, Марамыгин курнул две ляпки «плана» и поехал по адресу. Врача ему удалось найти в ординаторской. Отрекомендовавшись родственником Васюкова из Ульяновска, он повел разговор о лечении в Израиле и так узнал, что больной вполне может поправиться. Эта информация в корне меняла дело, потому что Марамыгин искренне считал, что никому и никогда не позволял использовать себя «втемную». Да и палачом ему быть совсем не хотелось. Беспокоился и Артюхин. Заказав мужа своей подруги, он совершил действие, то есть сделал то, что делать привык, однако потом впал в сомнения. Действие освободило его от потребности действовать и обременило потребностью думать. К тому времени дубликаты ключей уже были готовы (парафиновые слепки, знакомый ключник...) и даже назначен день «икс». Сомнения Артюхина носили серьезный характер, но давать заднюю он не привык, да и договоренность с Марамыгиным налагала обязательства, поэтому в день «икс» все пошло по плану. Ровно в девятнадцать ноль ноль Артюхин и Петухова встретились у подъезда Петуховой и пошли с Грузинской в сторону Драмтеатра. Погода стояла жаркая, но и для жаркой погоды Артюхин вспотел противоестественно. Когда пара перешла улицу Екатерининскую, из недр двора появился Марамыгин, вошел в подъезд, поднялся на четвертый этаж и проник в квартиру. В квартире он заглянул в дальнюю комнату: Васюков лежал с трубкой в горле и мирно спал. Марамыгин прикрыл дверь и расположился в гостиной. Включил телевизор. «Барселона» играла с «Реалом». У Марамыгина был свой план — дождаться возвращения Артюхина и Петуховой, чтобы разоблачить первого перед второй. Аванса Артюхин не заплатил, а главное — солгал, и Марамыгин считал себя свободным от договоренностей. В это же время, то есть через пятнадцать минут после начала прогулки, Артюхин осознал собственную неправоту и побежал. Он не знал, как объяснить свое бегство Петуховой, и поэтому побежал таинственно и бессловесно. Артюхин бежал на Грузинскую, чтобы остановить Марамыгина, а Марамыгин рылся в холодильнике Петуховой, отыскивая пиво. Когда разгоряченный Артюхин ворвался в квартиру, Марамыгин уже лежал на диване. Пиво он не нашел. За немой сценой последовал тяжеловесный разговор. — Убил? — Нет. Тебя щас убью. Ты почему напиздел, что он не поправится? — А ты откуда знаешь? Я тебя остановить прибежал. Не знаю, почему напиздел. Ебан. — Ебан. Я у врача был. Хотел за тебя подружке твоей рассказать. — Нельзя его убивать. Пусть будет, как будет. — Нельзя, конечно. Как оно будет, так и пусть будет. — А это чё? «Барса», что ли? — Ага. «Реал» возит. — Месси играет? — А то! Иньеста голевую отдал. Ты чё сел-то? — А чё? — Подруга твоя где? — Ой, блядь! У меня от жопы отлегло, я все забыл! — Ты как ее оставил-то? — Убежал просто... — И чё скажешь? — Не знаю. — Скажи, что в сортир приспичило, а говорить было неудобняк. — По-большому типа? — Ну да. Шаурму мотанул днем, вот дно и пробило. На том и разошлись. Артюхин побежал искать Петухову, а Марамыгин поехал сидеть на лавке.После пикника
На Пролетарке есть сосновый лес, а в лесу карьер, где ЗСП песок добывает. Там на дне вода какая-то, а теперь сосенки маленькие растут, потому что экскаваторы весь песок выбрали и сейчас в другом месте роют. На этом карьере пролетарцы шашлык варганят, когда Первомай и весне порадоваться охота. А пока не Первомай, пока апрель, там нет никого, и только обрыв голый и вороны иногда летают. На днях подсушило чуток, и я Юлю в поход сгоношил. Бутербродов навертели. Термосок. Рюкзаки снарядили. Ножик-спички. До речки Гайвы. Пехом. Там лесной массив трасса прорезает, а по центру трассы отбойники стоят. Промеж отбойников — столбы. А в одном месте столба нет. Щель метровая зияет. Это единственный участок, где дорогу можно перейти, чтобы через отбойник не перелезать. Перелезть, конечно, плевое дело, только очень уж грязно. Машины на огромной скорости несутся и прямо брызжут из-под колес гнусью всякой. Мы с Юлей из дома в пятницу поутру вышли, часов в девять. План был такой: до Гайвы, там пикничок — и обратно. Неторопливым шагом. Нам не так уж обязательно было до Гайвы доходить, потому что главное — лесом надышаться, головой повертеть, по земле походить, а не по снегу. Я вообще заметил, что за год как бы четыре жизни проживаю. Паша-летний, Паша-осенний, Паша-зимний и Паша-весенний соответственно. Летом, например, я загорелый, болтливый и уверенный. Осенью — молчаливый, лицом серый и на подъем труден. Зимой нервным становлюсь. Меня будто невидимый лед сковать пытается, а я на него то грудью бросаюсь, то прогибаюсь обессиленно. А весной оттаиваю. Думы всякие стремительные внутри зарождаются. Я их пока не воплощаю, но уже собираюсь. Улыбаюсь, как вдова, у которой муж нашелся, когда его все утопшим считали. Это непросто на самом деле. Человек — существо консервативное. Не любим мы перемены, мы про них только говорить любим. А тут они еще и нечаянные. То есть предначертанные. Мы порой и сами не замечаем, какими разными в течение года бываем. Можно сказать, четыре человека в одном теле живут и промеж собой никогда не встречаются. Конечно, это не совсем разные человеки, потому что недра личности их как бы пуповиной связывают, но все равно отличия есть. О такой вот ерунде я думал, когда мы с Юлей из подъезда вышли, чтобы в походик идти. Пролетарка в апреле блеклая. Дома пошарпанные стоят, некрашеные. До Девятого мая время-то есть, вот Демкин и не спешит своих маляров на фасады напускать. А числа двадцать девятого обязательно напустит. Меня одна промышленная малярша в том году чуть до инфаркта не довела. Я у окна стоял и кофе пил, а она спустилась резко с десятого этажа и как бы внезапно напротив меня материализовалась. С той стороны окна. А ты ведь никак не ожидаешь увидеть человека, когда на девятом этаже живешь. Птичку еще куда ни шло. А тут целая девушка с валиком. Я и кофе пролил, и вскрикнул даже подранком от такого явления. Целый день потом вспоминал, похохатывал. Ладно. Вышли мы с Юлей из подъезда и в лес двинули. А на пятаке возле бывшего «Вивата» Генка стоит. Генка плохой совсем, потому что «медицину» пьет. У него батя лежачий, и Генка через это еще больше пьет. Я с Генкой всегда за руку здороваюсь, потому что мы с ним раньше вместе «медицину» пили. Я теперь не пью, конечно, но с Генкой все равно здороваюсь и мелочь ему даю, чтобы никто не подумал, будто я зазнался. Я даже его чуть-чуть люблю, ведь он незлобивый и малахольный. Ему как бы ничего от жизни не надо, и от этого равнодушия в нем доброта образовалась. Генка не живет, а словно пикникует на обочине, где мимо жизнь проносится, а он на нее глядит прозрачными глазами и улыбается деликатно, чтобы, видимо, не вспугнуть. Юля Генку не любит. Она вообще алкашей не очень. Я ее не виню. Юля алкашом никогда не была и поэтому за Генкиной алкашностью Генку не видит. Так богатые за чужой бедностью бедняка не замечают. Или пуритане какие за гейством человеческим человека не признают. Общемировая проблема, чего тут. Даже Драйзер, говорят, о ней писал. Генка меня шагов за двадцать приметил. Не то чтобы оживился, но глазками заблестел. Как же — мелочь пожаловала. Поздоровались. Смотрю — у Генки губа нижняя раскурочена. Да так, знаете, раскурочена, что губы будто бы три. Юля подходить не стала. Неподалеку тормознула, спиной выражая недовольство. «Чего, — говорю, — с губой?» А Генка лыбится малахольно и рукой машет. Пустое типа. Я мелочь выгреб, сыпанул Генке в руку. Тот принял, но без энтузиазма. В аптеку даже не ринулся, как обычно. Опустил мелочь в карман и спрашивает: «Ты куда пошел?» «В лес, — говорю. — Пикниковать. Бутеров навертел. До Гайвы». А Генка вдруг: «Можно с тобой?» И тут же, пока я отказать не успел: «У меня батя помер». Я аж сглотнул. На Юлю посмотрел тоскливо. Будет мне дома за такого попутчика. «Отмучился, — говорю, — батя твой. Мои соболезнования». Может, думаю, Генка пить бросит? Все-таки за лежачим стариком ухаживать тяжко. А Генка свое гнет: «Можно с тобой или нет?» «Можно, — говорю. — Пошли». А он: «А жена твоя чего скажет?» А я: «Да уж чего-нибудь скажет, будь спокоен». Сбегал Генка за фунфыриком, и двинули мы в лес. Пока он в аптеку ходил, я Юле ситуацию обсказал. Типа не отшивать же его, когда у человека отец помер? Она, конечно, обломалась, но ругаться не стала. Пошли. Вначале по зээспэшному тротуару чапали, где люди бегают. Потом к дачам свернули. Там промеж ними проход есть, который аккурат на карьер выводит. Обычно Генка чего-нибудь болтает, а тут всю дорогу молчит. И фунфырик бодяжить не думает, хотя у меня бутылка воды из рюкзачного кармана торчит. Юля тоже к беседам не расположена. Дуется на меня, что я Генку взял. Позади идет. На правах слабосильной девочки. А на самом деле она резвее меня шагать может. Странная такая прогулка. Вроде втроем идем, а вроде — по одному. Неуютно как-то. Чтобы разбавить атмосферу, я сам с Генкой заговорил. — Когда похороны, Ген? — Две недели назад были. — Ясно. Как прошли? — Не ожил. — Чего? — Не ожил, говорю. — Дерзишь, приятель. — Как прошли, как прошли... Закопали, и все! Дальше я говорить не стал. Когда говоришь, чтобы атмосферу разбавить, всегда плохо получается. Нельзя специально молчание нарушать, оно само должно нарушиться. А я полез, потому что всегда мне больше всех надо. Так и помру, наверное, дураком. Пока это все происходило, мы к карьеру подошли. К карьеру подойти — это все равно что из окна по пояс высунуться, когда в квартире блины пекли и дымно. Деревья расступаются, и перед глазами симпатичная пустота предстает, как стадион «Камп Ноу», только с сосенками по краю. Мы все втроем к обрыву подошли и давай вдаль смотреть. Большое дело — смотреть вдаль, когда всю зиму в потолок пялился. Тут я вниз глянул. Прямо под нами лужа была, а из нее арматура торчит, как заградительные колья. А Генка, балбес, к самому краю подошел и давай на носках качаться. Раз качнулся, два качнулся, три качнулся. Гляжу — земля пошла, вот-вот сползет. Отпихнул Юлю назад, метнулся, сгреб Генку за шкирку, отволок. «Жить, — говорю, — надоело, придурок!» А у него глаза блестят, как у нарика «солевого». «Чего, — спрашиваю, — с тобой такое творится?» А Генка бурчит: «Ничего. Пусти». Пустил. Не век же мне его за шкирку было держать? Дальше двинули. В обход карьера по левой стороне, где сосны обгоревшие стоят. Я Юле рядом велел идти, потому что тут стаи собачьи попадаются. Когда по семь псов, а когда и штук по тридцать бывает. У меня на этот случай шокер в рюкзаке. Не чтобы собак бить, а чтобы стращать разрядом издалека, потому что они его боятся и не подходят. В этот раз собак не оказалось. А тропка, конечно, живописная. Сосны обгоревшие Стругацкое настроение создают. Будто ты не по Перми идешь, а по Зоне, где все что угодно случиться может. Я тут люблю ходить и про зомби-апокалипсис думать, где я как героическая личность себя проявлю. Когда тропка кончилась, мы вышли на Камазную дорогу, а потом на просеку, которая в трассу упирается аккурат в том месте, где через отбойник можно пройти. До трассы метров тридцать оставалось, когда Генка меня догнал и воду попросил. У него стаканчик пластиковый всегда с собой, потому что никогда ведь не знаешь, где нальют. «Медицину» бодяжить просто: пятьдесят на пятьдесят. То есть полстакана «медицины», полстакана воды, пальцем пошурудил и пей себе на здоровье. Не на здоровье, конечно. Какое уж тут здоровье, просто выражение такое. Собственно, так Генка и поступил. Весь фунфырик двумя стаканами опустошил. Обычно он между стаканами промежутки делает, а тут друг за другом проглотил, с надрывом. Проглотил и говорит: — Умер у меня батя... И так говорит, что не поймешь: утверждает, спрашивает или на вкус пробует. Я вдруг даже подумал: а не сам ли Генка отца уходил? Десять лет повыноси-ка дерьмо из-под лежачего человека — не известно, что с твоей душой станет. И на карьере он как-то подозрительно ломыхался. То ли дурака валял, то ли в арматуру целился. Совесть, может, заела? Или я просто детективов перечитал и гоню, как сивый мерин? Пока у меня все это в голове крутилось, Генка стаканчик сполоснул, а Юля с бревнышка встала и уже выказывала нетерпение. К трассе пошли. Очень бойкая трасса. Так сразу хрен перейдешь. Водилы, как космонавты в капсулах, мимо проносятся. Кто сотку едет, а кто и того больше. Вжих-вжих. Только их и видели. Вылезли мы втроем с просеки, встали на обочине, ждем. Улучаем момент. А я все за Генкой смотрю, потому что мои детективные подозрения не желают проходить. А он с ножки на ножку переступает и медленно так, потихоньку приближается к трассе. И я тоже приближаюсь. Одна Юля стоит, ничего не понимает. Тут фура несется. Генка ее увидал и будто изготовился. А я бесшумно за ним встал и жду. На расстоянии вытянутой руки. Здесь-то Генка под фуру и дернулся. Сцена на карьере дубль два. Самоубийца хренов. Ну, думаю, щас ты мне все расскажешь! До самой просеки за шкирку его волок. Точнее, швырнул просто с кручи, он и скатился. Юля обалдела. Только головой вертит. А я вниз спустился и сразу Генке на грудь ботинком наступил. — Ты почему себя порешить хочешь, Гена? Отца ты завалил, блядь синяя? — Ты дурак, что ли? Ничего я не хотел! Тебе показалось. — Ты под фуру только что шагнул, идиот. Про отца говори. Подушкой задушил? — Нет! Он сам умер. А мне теперь заботиться не о ком. Я вообще не нужен больше, понимаешь? В пустой квартире сижу. Говорить, блядь, не с кем! Одни алкаши вокруг. А батя не пил... Соступи уже, больно. Соступил. Не век же мне на Генкиной груди стоять? Закурили. Юля при диалоге присутствовала, но молчала. Она вообще старается не лезть, когда я кому-нибудь на грудь наступаю. А Генка заплакал. Поплакал чуть-чуть и на Пролетарку побрел. А мы на просеке остались. Костерок разожгли. Бутерброды, чаек. Хорошо! А Генка оклемался. Я с ним про четырех сезонных людей поговорил. Типа это Генка-весенний хочет под фуру шагнуть, потому что у Генки-зимнего силы закончились, еще когда он Генкой-осенним был, а ты Генку-летнего жди, всегда Генку-летнего жди, и тогда всех остальных Генок пережить сможешь. А еще я ему щенка из приюта подарил. Двортерьера обычного. Для нужности. Собаки — они ведь как дети. Им постоянно от людей чего-то нужно. Генка, конечно, пьет, как раньше. Мелочухе радуется. Но уже, знаете, без надрыва.В метро
Петербург. Метро. Наши дни. Я сел в Девяткино. Это короткое предложение говорит обо мне больше, чем хотелось бы. Ну, да пусть. В метро, тем более петербуржском, есть этикет. Например, там не принято разглядывать лица людей, сидящих напротив. Ноги — можно. Пол — можно. Поверх голов не возбраняется бросить взгляд. В глаза — ни-ни. Поэтому обычно я смотрю на ноги. Как известно, я невысокого мнения о человеческих ступнях. Слава богу, что сейчас весна и они надежно прикрыты. Много ли можно сказать о человеке по обуви? Наверное, немного. Зато нафантазировать можно сколько угодно. Сегодня передо мной сидело четыре пары обуток. Справа налево: стоптанные туфли из натуральной кожи на низком каблуке, балетки из кожзама, кеды с отслаивающейся подошвой, мужские ботинки, шершавые, словно коровьи губы. Без сомнения, туфли принадлежат полноватой женщине под пятьдесят, которая много ходит. Скорее всего, она музейный работник или экскурсовод. С этим более-менее понятно, однако есть странность. Когда-то эти старомодные туфли были вполне модными и дорогими. Это чувствуется и в том, как благородно они состарились, и в колодке, что по-прежнему держит ступню. Интересно, что пошло не так? Пожалуй, Низкий Каблук подкосил развод. Муж зарабатывал, а она сидела с детьми. Потом муж нашел вариант поинтересней. Ей же пришлось вспомнить о своем историческом образовании и пойти в музей. Или все было иначе? Может быть, она убила мужа, отмотала срок где-нибудь в Мордовии, потом освободилась, пришла в пустую квартиру и достала из шкафа туфли, которые купила незадолго до фатальных событий? Есть и скучный расклад: передо мной старая дева, разжившаяся дорогой обувью лет семь назад в последней попытке заполучить женское счастье. Если это правда, то мне жаль ее, потому что счастья она, судя по всему, не заполучила. С другой стороны — а кто заполучил-то? Мне захотелось посмотреть женщине в лицо, но я сдержался. Вместо этого я перевел взгляд на балетки. Из них росли белые ноги, обтянутые на щиколотках черными джинсами. Продавщица. Студентка-заочница. Набоковская нимфа с зелеными глазами. Угловатость. Несуразность. За такую хорошо умирать в темной подворотне, защищая ее от пьяных насильников. Кнопарь в руке. Вывеска бара брызжет неоном. Грудь свистит, как кузнечные меха. Так вот, суки! Таким вот образом! А может, и не нимфа. Может, ей лет тридцать, просто она в девочку не наигралась, а самателефоны продает и пьет как лошадь. Сумбурная, темпераментная, хаотичная. С кем не сойдется — либо подонок, либо нахлебник. Совсем плохо, если она еще и дочку воспитывает. Какую-нибудь Анечку или Софочку. Анечка (или Софочка) только к дяде Валере привыкнет, а уже к дяде Никите надо привыкать. Но дядя Никита хороший. Он ей шоколадки покупает и в ванне губкой моет, когда мама на работе. Под неоновую бы вывеску этого дядю Никиту. По-свойски. Тет-а-тет. По заветам бессмертного горца. Хотя нет никакой Анечки. И Софочки нет. Все-таки студентка. Нимфа все-таки. Жирные амбиции в худощавом теле. Вертихвостка. Парням, наверное, голову кружит. Грешница, наверное, с глазами Рафаэлевой Мадонны. Какой-нибудь Витя по крупицам себя собирал, а она их за пять минут голубям скормила. Мне вдруг опять захотелось поднять глаза. Стоп! Кеды с отслаивающейся подошвой. Бахрома джинсов клеш. Хипстер? Музыкант? Бродяга? Вряд ли хипстер. Эти кеды не делают вид, что они потертые. Они на самом деле потертые. Скорее всего, это музыкант. Из тех несчастных околотворческих людей, что всю жизнь поют чужие песни в переходах, читают Фромма и убедительно критикуют мировой порядок, когда жизнь сталкивает их с нимфами в балетках. В известном смысле они дети бардов. В том же смысле они их предтечи. То есть барды хотя бы поют свои песни. Эти же пошли значительно — назад? вперед? — и поют хорошие песни, но чужие. Если в Высоцком Бродского не устраивала гитара, в Отслаивающихся Кедах его бы не устроило все. Маленькие люди, всю жизнь пытающиеся быть большими. А самое паршивое — они чуют это несоответствие и поэтому пьют, как обывателям и не снилось. Обыватели пьют ради дешевых эмоций. Эти пьют, чтобы забыть себя. Ощупывать мир анемичными фибрами — это ведь все равно что титьку культей ласкать. Хотя я могу ошибаться. Может, передо мной русский Курт Кобейн, под завязку набитый новыми песнями, которые через год будут петь стадионы. Маловероятно, конечно. Один шанс из тысячи. Однако, в пику девятьсот девяноста девяти обломам, мне охота, чтобы этому парню выпал именно он. Кеды-шмеды. Ну хоть кто-то, мать вашу, должен взять этот мир за глотку?! Смотреть в лицо Отслаивающимся Кедам мне не хотелось. В глубине души я понимал, что один шанс из тысячи не выпадает никогда. Ботинки мужские, шершавые, словно коровьи губы. Высокая шнуровка а-ля Джек Ричер. Брюки-хаки заправлены внутрь. Какой-нибудь любитель Эм-Эм-Эй. Убежденный бородач. Жертва школьных хулиганов, в восемнадцать лет открывшая для себя спортзал. Не удивлюсь, если у него в кармане лежит какая-нибудь псевдопатриотическая лабуда. Например, нагайка. Навскидку мужику лет тридцать. Сидячая тихая работа. Потому что когда воюешь или херачишь мешки без продыху, как-то не до спортзала и брутальных штучек-дрючек. Поспать бы. Женщину поиметь. Мяска жареного заглотить. Кстати, тогда и ботинки покупаешь, чтобы ходить, а не бить возможных гадов по предполагаемым почкам. Правда, это всего лишь ботинки. Может, мужику лет пятьдесят и он просто играется в Джека Ричера с российским вывертом, а сам во сто раз опаснее, чем я допускаю. Как профессиональный боксер Микки Рурк играется в байкера, а на деле может вынести любого, потому что техника и годы тренировок. И даже эта поездка в метро — игра. Не от бедности или ради скорости сидят тут Коровьи Губы, а чтобы не выделяться, чтобы на нормального человека походить. Типа мне есть куда ехать, еду вот, я такой же, как вы, не обращайте на меня внимания. А в глазах равнодушие стынет, как в глазах Шакала, который чуть Де Голля не убил. А баронессу убил. Она тоже думала, что он обыкновенный брутальный англичанин. В эту минуту я едва не глянул Ботинкам в лицо, чтобы запомнить его на всякий случай. Однако привычка смотреть в пол взяла свое, и я сначала уперся в него, а потом стал рассматривать собственные обутки. Отстраненно. Почти по-честному. С детективным нахрапом. Синие полутуфли-полукроссовки. Настолько заурядные, насколько это вообще возможно. Такое чувство, будто хозяин этих «полу-полу» не выбирал их долго и скрупулезно, а вбежал в магазин, как мародер в горящее здание, и выбежал с тем, что под руку подвернулось, то есть с ними. Великовозрастный балбес, заигравшийся в нонконформиста. Такая, знаете, наивная попытка сохранить себя в эпоху потреблядства через мнимое равнодушие к вещам. Почему мнимое? Ну, «полу-полу» все равно ведь их покупает. Тут меня осенило: если я такой бунтарь, почему бы не наплевать на этикет? Что вообще случается, когда люди плюют на этикет? Ты смотришь на человека, человек это чувствует и поднимает глаза на тебя. Происходит встреча. Встреча тел — это столкновение. Только встреча глаз — это встреча. За встречей должно что-то последовать. Вариантов три: встретившись взглядами, вы оба заржете, что довольно тупо, но происходит чаще всего. Второй вариант и логичней, и противней. Вы испытаете взаимную неприязнь. Она (он) будет думать: «Чего он пялится? Чего он пялится, бога ради?!» А ты такой: «Почему ей неприятен мой взгляд? Что со мной не так?!» Как будто ты питон Каа и бандерлог одновременно. Третий вариант совсем уж правдив. Она (он) будет смотреть сквозь тебя, словно ты Почти Безголовый Ник (привидение из «Гарри Поттера»). Ментальная плата за нарушение метроэтикета. Дальше — развилка. Либо ты снова смотришь в пол, либо с таким интересом озираешься по сторонам, будто это не вагон метро, а как минимум Эрмитаж. Смотреть до конца отваживаются немногие, заговорить — единицы. С другой стороны, я вынес обутки из горящего здания, чего мне терять? Как бы решившись и с шейным скрипом, я поднял голову и уставился на Низкий Каблук. Потом на Балетки Из Кожзама. Потом на Отслаивающиеся Кеды. Потом на Брутальные Ботинки. Я смотрел украдкой, не желая привлекать внимания. Смотреть можно по-разному, вы замечали? Это как с рукой. Можно едва касаться, а можно мацать напропалую. Я — касался. Касался породистого лица с полными губами и высоким лбом, на котором не было и следа Мордовии, зато на пальце блестело обручальное кольцо. Касался девичьих скул, усеянных веселыми конопушками. Черты девушки дышали обыкновенной молодостью, простой как три рубля. Если Анечка (Софочка?) и появится на свет, то очень не скоро. Зря я набил девчонку амбициями, как чучело опилками. Она не чучело. Едет себе и едет. Пускай. Предположительный музыкант, пьяница и околотворческая личность читал Чехова. Мне стало стыдно. Мне всегда стыдно, когда кто-то читает Чехова, а я в этот момент сочиняю про человека гадости. Вот интересно, где грань между «не суди, и не судим будешь» и выдумкой о другом? Есть ли она вообще? Мужик в брутальных ботинках оказался без бороды и лет пятидесяти. С кубиком Рубика в руках. Я собирал кубик Рубика. То есть подсмотрел технику в Интернете, а потом уже собрал. Когда знаешь технику — это просто. Мужик в Интернете не подсматривал. Он медленно вертел кубик в руках, силясь самостоятельно смекнуть принцип сборки. Стоик. Я бы так не смог. Ну, я и не смог. Полчаса повозился и полез в Интернет. А этот, видать, сам хочет дойти. Можно ли носить в одном кармане кубик Рубика и казачью нагайку? Тут в вагон зашли продавцы ширпотреба. Даже не ширпотреба. Я затрудняюсь обозвать эти товары одним словом. Пока я думал про обувь, пассажирам успели предложить вертолетики, которые запускаются в небо рогаткой и светятся, китайские бумажные фонарики, карты звездного неба и лупы с подсветкой. В этот раз крикун оказался не продавцом. Утвердившись в центре вагона, потрепанный мужик выдержал мхатовскую паузу и жутким голосом заорал: «Рак! У моего ребенка обнаружили рак мозга! Нужна операция! Помогите! Кто сколько может! Он умрет без вашей помощи!» Я вздрогнул. Какой-то запредельный уровень цинизма. Захотелось встать и заорать в пику, как орал чувак на абхазском пляже: «Трубочки, чурчхела... Ра-а-аки!» Вдруг я почувствовал на своем лице чужие глаза. Заозирался и встретился взглядом с конопатой девчонкой. У нее были голубые глаза, в которых плясали бесята. Я забил на крикуна и стал в них смотреть, как бы пробиваясь сквозь отчуждение. Мы с ней, конечно, немножко улыбались, но не ржали. А потом я приехал на «Площадь Восстания», поднялся из метро и пошел по Невскому. А Оля мне полчаса мозг выносила. Чё я на рыжую девку пялился и все такое. Вот, Оля, объясняю. Надеюсь, достаточно развернуто, чтобы ты почувствовала себя в безопасности.Счастливый Пушкин
Виталий и Анжела сошлись два года назад. Она работала в «Евросети» продавцом-консультантом и обожала Инстаграм. Ни то, ни другое в двадцать три года не считается преступлением. Еще Анжела любила дискотеки и необременительное веселье. Уважала шампанское «Боско». Курила тонкие сигареты «Вог». Раз в месяц посещала маникюрный салон. Мечтала о пышной свадьбе. Смотрела телепередачи аналоговых телеканалов. Сдобная, кипучая, чуть нагловатая — от нее исходила вулканическая энергия. Виталий был иного замеса. Созерцатель и молчун, он мог часами читать исторические книжки, размышлять о смысле жизни, гулять по осеннему лесу в декадентском настроении. Его витиеватая речь изобиловала внезапными цитатами из Овидия, Библии, Венечки Ерофеева. Он искренне не считал, что ему должно быть хорошо всегда. Такие закидоны вполне простительны двадцативосьмилетнему парню. Главной заковыкой Виталия было его происхождение. Исторгнутый из рабоче-крестьянской среды в осмысленное существование, он захватил с собой некоторые дурацкие привычки. Например, парень выбирал девушек исключительно по внешности, самому себе не отдавая в этом отчета. Так нувориш продолжает держать нож левой рукой, искренне не понимая, почему королева морщится. Собственно, причин, по которым Анжела и Виталий съехались, было четыре: Виталий любил пышных девушек, Анжела любила высоких брюнетов, Виталий жил с мамой в однокомнатной квартире, Анжеле влетал в копеечку съем однушки. Иными словами, молодые сошлись не потому, что были духовно близки, и не потому, что противоположности притягиваются, а потому, что у нас ипотека дорогая. Ну, и секса хочется. Визуально совместный быт Анжелы и Виталия протекал гладко. Она торговала телефонами, Виталий реставрировал ванны. Вечерами они встречались на кухне. Ужинали. Занимались любовью. Иногда ходили в ресторан. Иногда ходили в кино. Иногда просто ходили. Например, по городу. Приглядывались. Притирались. Через месяц Виталий пукнул в присутствии Анжелы. Еще через месяц Анжела пукнула в присутствии Виталия. Их связь окрепла. Маски сползали с лиц. Спустя полгода они сползли совершенно. Виталий осознал это внезапно. Он читал новый роман Мариши Пессл, когда в комнату вошла Анжела и включила телепередачу «Давай поженимся!». — Анжела, я читаю. — А я смотрю телевизор. Виталий промолчал и ушел в ванную. Вскоре он стал проводить там целые вечера. Прошла неделя. В полной мере ощутив, что что-то идет не так, парень стал звать Анжелу на всякие свидания. Например, они сходили на спектакль и в киносалон «Премьер». Оба мероприятия показались Анжеле скучными. Чтобы познакомить Виталия с яркой жизнью, она повела его в «Май тай» и «Блэк бар». Оба заведения парень нашел глупыми. Виталий был на том этапе человеческой жизни, когда отвечать на все вечные философские вопросы уже не хочется, а вот ответить хотя бы на парочку просто необходимо. Он уже побродил по клубам, уже попил до рассвета, уже переболел творчеством Курта Кобейна. Анжела находилась посреди этого заболевания. Философию она именовала шмаласофией, а Виталия все чаще называла нудным. В общем-то, к десятому месяцу совместной жизни никакой особой совместной жизни между ними не было. Анжела каждую неделю врала про корпоративы и уходила на дискотеки. Виталий читал книжки и гулял в лесу. Даже покупка кота не смогла их сблизить. Собственно, когда дело уже шло к мирному расставанию, в силу вступили секс и практицизм. Общеизвестно: когда семейную пару не связывает ничего, кроме секса, секс становится потрясающим. Секс — это объективация. То есть объективированная попытка преодолеть отчуждение. Соответственно, чем сильнее отчуждение, тем яростней эта попытка. Это как пытаться вытащить кусок мяса спичкой — ты как бы одновременно его и вытаскиваешь, и заталкиваешь глубже, при этом остановиться нет никакой возможности. С практицизмом еще проще. Виталий не хотел возвращаться к маме, а снимать квартиру одному, будучи реставратором ванн, не получилось бы. Анжела самостоятельно платить за квартиру тоже не могла. Молодые стали ссориться. Страстно мириться. Виталий ударился в просвещение. Его изощренные попытки наградить Анжелу святой народной простотой все чаще увенчивались успехом. Например, ее нежелание читать книги он объяснял мудрой фразой «Во многом знании — много горя». А влечение Анжелы к тупым передачам оправдывал способностью черпать душевную пищу даже из неглубокого. В ответ на просвещение Анжела хрипло смеялась и поводила грудью. Темпераментные стычки между молодыми перемежались многодневным молчанием. Он и она потихоньку смирялись с нелюбовью. На двенадцатом месяце жизни оба пришли к ясному пониманию, что совместный быт и привычка достаточные основания для брака. Виталий и Анжела напоминали алкоголиков, для которых самое главное — уважение. Я не сомневаюсь, что роковой брак был бы заключен, если бы не случай. Аспирант Миша Касатонов, школьный приятель Виталика, неожиданно нагрянул в Пермь из Петербурга. Друзья встретились в «Центральной кофейне». Они оба были смущены, потому что много лет не виделись. Миша тоже читал Маришу Пессл. За обсуждением книги и Петербурга пролетело три часа. Под занавес встречи Виталий искренне недоумевал, почему Миша Касатонов не женщина. Или почему не женщина он. Хотя бы по этим фантазиям можно судить о глубине мучений молодого человека. Уже прощаясь, Миша подарил другу петербургские юмористические сувениры: гипсовый бюст Пушкина размером с два кулака и «Повести Белкина». Пушкина Виталий очень любил. Он совершенно не разделял мейнстримное к нему отношение и считал его чуть ли не единственным русским писателем, способным передать оттенки нежности и счастья. И хоть бюст был штамповкой, а «Повести Белкина» Виталий читал много раз, подарок он принял с трепетом и придал ему даже слишком большое значение. Смешно, но когда он поставил Пушкина на телевизор, то вдруг осознал, что перед ним самое родное лицо в квартире. Вечером, когда Виталий реставрировал ванну, это лицо было раскрашено красным кислотным маркером. Анжела нарисовала «смешному кудряшу» усы, вампирские клыки и шрам на шее. Потом отошла, полюбовалась и добавила внушительный фингал. Когда Виталий вернулся домой и все это увидел, он вдруг встал перед Анжелой на колени и страшно заорал: — Ну почему? Почему тебе это смешно? Я не понимаю! Это ведь Пушкин... Ну, Пушкин. Пушкин. Пушкин... Анжела была лаконична: — Пушкин-шмушкин. Виталия будто бы стеганули кнутом по глазам. Он резко зажмурился и как бы завис. А потом быстро промчался по квартире и побросал вещи в большую спортивную сумку. Полетел туда и бюст Пушкина. В тот же вечер парень вернулся к маме. На следующий день он остыл и захотел помириться с Анжелой. Уже потянувшись к телефону, Виталий мазнул взглядом по комнате и снова увидел разрисованного поэта. Вернул руку. Через два месяца он встретил одну филологиню и теперь очень счастлив. Анжела тоже не внакладе. Она сошлась с коллегой по работе, на которого давно поглядывала с интересом. Видите, как Александр Сергеевич все хорошо устроил? Сейчас вместо одной несчастной семьи в Перми живут две счастливые.Переписка Шлихтера
Семен Абрамович Шлихтер, мой давний знакомец, писал книги и преподавал в университете. Он был женат на Зое Шлихтер. То есть в девичестве она была Розенблюм, а Шлихтер, понятное дело, стала потом. Чисто визуально их пара вызывала во мне улыбку. Семен Абрамович был высоченного роста, кадыкаст, сухопар, а ходил дергано, будто ежа проглотил. Зоя, наоборот, была маленькой, округлой, с такими, знаете, плечами, про которые принято говорить, что девушка ими поводит. Внутренне они различались едва ли не в большей степени. Семен Абрамович предпочитал быть серьезным мужчиной с поджатыми губами и прищуренным взглядом. А еще он был эгоистом, как и все писатели. Это уже не зависело от его предпочтений, а злонамеренно прилагалось к профессии. В молодости этот эгоизм можно было списать на непосредственность. В старости он приобрел характер вредных закидонов. Такой, знаете, деспотизм, припорошенный высшим образованием. Зоя была хорошей. Такой смешливой, а потом ироничной женщиной, которая даже над евреями могла посмеяться, а не обидеться за них на весь мир. Как бы в унисон округлой внешности, внутри Зоя тоже была округлой, то есть смягчала мужа да и вообще любую ершистость. Она всю жизнь проработала в школе, а в свободное время радела о карьере Семена Абрамовича. Ну как радела. Она была его улыбчивой прислугой. Не сказать чтобы Семен Абрамович был бесконечно талантлив, однако он был достаточно талантлив, чтобы воспринимать Зоину жертву как должное. До сорока лет (муж и жена были ровесниками) они жили весьма сносно в нравственном смысле. Родили двух сыновей — Германа и Якова. Читали друг другу книжки перед сном. Вообще, в их трехкомнатной мотовилихинской квартире было уютно. Уютно не в плане расстановки стульев, а в плане атмосферы. Они даже девяностые пережили с достоинством и пониманием, как приезд сумасшедшего родственника. А вот после сорока Семен Абрамович впал в легкое кобелячество. Писательский талант истончался, и его надо было подпитывать голой эмоцией. В каком-то смысле Семен Абрамович в этом не виноват. Главным образом он был не виноват в своем собственном смысле, потому что в Зоином смысле он был виноват полностью. Человек порядочный, Семен Абрамович не мог не рассказывать жене о своих похождениях. Это такой особый вид порядочности, когда после согрешения охота покаяться, чтобы, видимо, уровнять. Этот драматический театр продолжался десять лет. Не ежедневно десять лет — Семен Абрамович все-таки не конь, — а десять лет с приличными перерывами. Оба, конечно, измучились, но в ту пору Семену Абрамовичу писалось исключительно хорошо. Правда, этот факт не сильно согревал Зоино сердце. То ли из-за этой нервотрепки, то ли еще из-за чего, но после пятидесяти здоровье Зои накренилось. Эти затруднения, плюс возраст, положили конец писательским выкрутасам Семена Абрамовича. Он остепенился, и семья, наконец, зажила нормальной пожилой жизнью. Яков и Герман к тому времени кончили уже университет и вовсю жили отдельно, совершая карьеру. В шестьдесят три года у Зои вылез рак. Сначала он вылез в груди, а потом, как лесной пожар, распространился по всему организму. Семен Абрамович переехал жить в больницу. Держал Зою за руку. Молча задыхался в туалете. А умирающая Зоя смотрела на него и вспоминала его измены. Когда постоянно больно или невесомо, если морфий, в голову лезет либо дрянь, либо самые яркие моменты жизни. Так уж получилось, но самыми яркими моментами Зоиной жизни стали измены мужа. Перед смертью она позвала к себе сыновей, выставила Семена Абрамовича за дверь и о чем-то долго говорила с Яковом и Германом. Семен Абрамович не придал этому значения. Он был убит горем, чтобы теряться в догадках. Через три дня Зоя умерла. В тот год «Северное» было закрыто на расширение, и ее похоронили на «Банной горе». Через год сыновья поставили маме мраморный памятник. Они взяли его на себя и не позволили Семену Абрамовичу вмешиваться. Когда памятник был установлен, муж купил четыре гвоздики и приехал на кладбище. Был июль. Погост цвел липой и ромашками. Походкой снова безутешного мужа Семен Абрамович подошел к Зоиной могиле. Поднял глаза. Прочитал надгробную надпись. Вскрикнул. На памятнике было написано: Здесь лежит Зоя Моисеевна Шлихтер, она была отличной матерью, хорошей женой, но замуж могла бы выйти и поудачнее. Оскорбленный Семен Абрамович стал звонить сыновьям. Сыновья сказали, что надпись — мамина предсмертная воля и цензуре не подлежит. Расстроенный вдовец убежал с кладбища и провел бессонную ночь, изобретательно ворочаясь в постели. Утром он вернулся на могилу с гвоздем. Присев у надгробия, Семен Абрамович нацарапал: Зоя, ты не права. Если подумать, я тоже мог бы жениться поудачнее. Прошел месяц. Семен Абрамович немного успокоился, купил богатый венок и снова приехал к жене на могилу. Под его надписью красовался ответ: Если бы молодость знала, если бы старость могла... Суеверный ужас охватил Семена Абрамовича. На кладбище не было ни души. Тихо качались липы. Мир вдруг показался ему таинственным, как в детстве. Сбегав в машину за отверткой, он постоял над могилой и решил промолчать. А потом нанял гравера и убрал переписку. А надпись жены оставил. Пусть будет. Чего уж теперь...Анютины глазки
Евгений Борисыч любил гулять где попало. Не все любят гулять где попало. Некоторым подавай культуру, парки ухоженные, досуг и архитектуру. «Зарядье» какое-нибудь, Петербург, столичные штучки. Есть такие, знаете, морщеносые люди, у которых на лице провинция, а в душе — Москва. Евгений Борисыч был иного заквасу. Ему нравилась Пермь, как собственная левая рука. Левая, конечно, не правая, многого не умеет, но без нее как-то неуютно. Кто-то может подумать, что такое отношение к городу Евгений Борисыч из чего-то вынес. Например, в Перми с ним случился невозможный роман, и поэтому Евгений Борисыч любит везде гулять и всем любоваться. Или наоборот, тут у него умер самый дорогой человек, и город превратился в памятник не художественного, а экзистенциального значения. А может, он в Перми просто всю жизнь прожил: юнел, молодел, зрел и старился. Пшеничный такой колосок, тем более что Евгений Борисыч был русоволосым. Однако хоть с ним случилось и первое, и второе, и третье, Пермь Евгений Борисыч полюбил издалека. Он уехал в Петербург и через три дня полюбил Пермь. Петербург показался ему объектом, а Пермь — субъектом. Но это если философски, а если без экивоков, то в Перми Евгений Борисыч действовал с городом заодно, а в Петербурге — как бы на его глазах. Евгений Борисыч думал так: «Если из Перми удалить всех людей, то никакой Перми и не будет, а если из Петербурга удалить всех людей, то Петербург станет только краше». Конечно, петербургскую архитектуру он оценил высоко, вы не подумайте, что герой идиот, но все-таки он оценил ее двусмысленно. Ему показалось, что красота, в отличие от утилитарности, требует некоторого соответствия. Как бы исподволь налагает обязательства. В каком-то смысле Петербург походил на стихи, а Пермь напоминала крепкую прозу. Читать стихи долго Евгений Борисыч не мог. Хорошие стихи пронзали его насквозь, а пронзаться насквозь три часа кряду противоестественно. Зато прозу, если это какой-нибудь Ли Чайлд или Акунин, легко читать сколько угодно. Можно сказать, Евгений Борисыч убрал Петербург на пыльную полку, где лежали Пушкин и Федерико Гарсия Лорка. Это как с фильмом «Гражданин Кейн». Все согласны, что фильм великий, но смотреть предпочитают «Мстителей». Евгений Борисыч вернулся из Петербурга в Пермь гулятельным человеком. Он гулял по городу с тем чувством, с каким человек ощупывает левую руку, когда шел по правой обочине, а рядом машина на скорости просвистела. Так уж вышло, но к пятидесяти пяти годам Евгений Борисыч совершенно осиротел: старший сын уехал в Америку, жену сожрал диабет, младшенький разбился в аварии. Понятно, что это все произошло не одномоментно, а в течение десяти лет, и поэтому Евгений Борисыч не только не подвинулся рассудком, но захотел перемен. Путешествие в Петербург было частью этих самых перемен. Всю свою жизнь Евгений Борисыч проработал на заводе «Три семерки» химиком-технологом. Вторая сетка вредности вытолкнула его на пенсию на пять лет раньше обычного срока. Собственно, пенсия стала четвертой драмой его жизни. Пустая трехкомнатная квартира встретила пенсионера равнодушным молчанием. Вскоре он в него погрузился. Как известно, тонущий человек хватается за самые неожиданные предметы. Евгений Борисыч схватился за перемены, то есть он провернул их в жизнь. Продав квартиру, он купил однушку, а на оставшиеся деньги (миллион с хвостиком) решил попутешествовать. Первой точкой на карте, как вы уже знаете, стал Петербург. Но вернемся к прогулкам. После Петербурга Евгений Борисыч ходил по Перми немного ошалелым. То есть он вышел из дома и побрел куда глаза глядят. Из какого бы дома вы ни вышли на Пролетарке, ваши глаза будут глядеть в лес. В лес Евгений Борисыч и пошел. Он привык к разговорчивой тишине отеля и немую тишину квартиры по приезде переносил плохо. Вскоре ноги вынесли его на знакомую тропку. Она вела на улицу Красноборскую, а потом на «Северное» кладбище, за которым и стоял завод «Три семерки». Видимо, сработала мышечная память. В молодости Евгений Борисыч часто ходил на завод пешком ради талии. Правда, мышечная память сработала не до конца. Дорога проходила мимо кладбища, а наш герой взял да и завернул. После леса, после домов выйти на «северный» простор бывает очень необыкновенно. Двести тысяч покойников создают особую тишину, в которой думаются высокие мысли, но без пафоса, а как-то запросто. Прогулка по «Северному» заняла Евгения Борисыча на полдня. Он побывал на могилах жены, сына, прораба Виктора Палыча, однокашника Егора, бывшего «красного директора» Максима Степаныча, учительницы Зои Моисеевны и даже обошел знаменитую бандитскую аллею. На могиле жены он неожиданно рассказал ей про Петербург и что квартиру продал, хотя они там всю жизнь прожили и, наверное, не стоило. На могиле сына Евгения Борисыча обуяло философское настроение, и он пустился в пространные рассуждения о загробной жизни. С прорабом герой немного повздорил, а потом обернул вздор в шутку, потому что «чего теперь-то уж?». С «красным директором» Евгений Борисыч завел разговор о политике. Зоя Моисеевна выслушала монолог о несправедливой тройке по истории. Бандитам-черногранитникам достались поговорки про синицу, скорость езды и бессмысленность денег. Нет, вы не подумайте, что Евгений Борисыч спятил, просто он всегда был склонен к театральности, к легкой рисовке, а тут она вроде как сама напросилась. Ну, напросилась и напросилась, с кем не бывает. Однако домой Евгений Борисыч ушел с облегченным сердцем, будто он не разговоры разговаривал, а гирьки выплевывал. С того дня наш герой стал гулять по кладбищу регулярно. Поначалу он смущался этой привычки, но смущаться было не перед кем, и он перестал. Кладбищенских праздников Евгений Борисыч не любил. То есть он их не знал совершенно, презирал толкотню и на дух не переносил суеверия. Он даже за могилками не ухаживал. Ему это просто не приходило в голову, настолько это было мимо его натуры. Кроме кладбища, Евгений Борисыч бывал в университетском городке, сиживал в сквере у Оперного, ходил на Каму (бережок напротив порта) и пил кофе в «Кофейной чашке». Все эти места будто бы заменили ему опустевший дом. Целый год курсировал Евгений Борисыч по этим маршрутам, пока в пятьдесят шесть лет не встретил Надежду Геннадьевну. Надежда Геннадьевна была старше его на два года и тоже пила кофе в «Кофейной чашке». Она была городской дамой в шляпке, с маникюром, манерами, обязательной книжкой и яркими губами. Не сказать чтобы Евгений Борисыч влюбился, но компания Надежды Геннадьевны была ему приятна. Вскоре эта приятность освободила их от отчеств, а потом и вовсе превратила в Женю и Надю. Тогда в Перми витийствовал июнь, и он действительно витийствовал, а не прикидывался октябрем. Погода плюс незамысловатая близость людей, вместе пьющих кофе, подтолкнули Женю и Надю к прогулке. Зачем сидеть в помещении, когда по Компросу можно, мимо Оперного, у фонтана и куда угодно вообще? Однако больше всего Евгению Борисычу хотелось прогулять подругу по кладбищу. Я знаю, как это звучит. В голове нашего героя это звучало значительно лучше. Может быть, потому, что это звучало лучше, а может быть, еще почему-то, но Надежда Геннадьевна на кладбищенскую прогулку легко согласилась. — Давайте съездим на «Северное» кладбище, Надя. Там у меня жена и сын. Там такой простор, знаете... Можно очень хорошо погулять, размять ноги. — Женя, вы ухаживаете за могилками? Это так мило. Я поеду. Когда вы хотите? — Можно завтра. Я совершенно свободен. Если хотите, мы можем встретиться здесь и вместе поехать на такси. — Но вы ведь живете недалеко? — Я живу в трех километрах. Полчаса пешком. — Не стоит вам сюда ехать. Я вызову такси и приеду на кладбище из дому. — Но я думал... — Нет. Давайте встретимся у входа. Во сколько бы нам встретиться у входа? — Давайте в одиннадцать утра, чтобы потом вместе пообедать. Только не отпускайте такси. — Почему? — Ну, как же. «Северное» огромное. Вы устанете идти. — Ничего я не устану идти. Вы меня плохо знаете. Как видите, Надежда Геннадьевна была немного строптива, а Евгений Борисыч немного старомоден. Однако ни то, ни другое не помешало им встретиться на следующий день. Евгений Борисыч пришел на кладбище без четверти одиннадцать. Он надел светлую рубашку в тон брюкам, легкую кепку и бежевые сандалии. Погрузив ладони в карманы, он застыл у входа, предвкушая Надю и встречу с родными людьми, которых не ощущал в себе уже неделю. Без двух одиннадцать к кладбищу подъехало такси. Евгений Борисыч воззрился. Из такси выбралась Надежда Геннадьевна. Она именно выбралась, потому что в одной руке у нее была пузатая плетеная корзина, с какими обычно ходят за грибами, а в другой — обрезанная пятилитровка с рассадой. За спиной у Надежды Геннадьевны висел холщевый рюкзак бурозеленого цвета. Одета она тоже была нестандартно. Видавший виды трикотажный спортивный костюм. Какие-то комки в карманах. Резиновые калоши. Поблекшая от солнца панама. Поначалу Евгений Борисыч подумал, что это приехала какая-то старуха, и отвернулся. А когда Надя его окликнула и он ее узнал, ему стало нехорошо. Это все равно что ждать Катрин Денёв, а дождаться Линдсей Лохан (ну, если представить, что они ровесницы). — Здравствуйте, Надя. Позвольте я... — Корзину бери. Надо рассаду туда пристроить. — А там что? — Землица жирнючая. Подсыпать чтобы. Тут-то песок. А ты с пустыми руками пришел? — Да я, собственно... — Такую красоту навел, что уже и брать ничего не надо? Ну, пойдем. Поглядим, чего там у тебя. Евгений Борисыч сомнамбулически кивнул и зашагал к жене. Надежда Геннадьевна пошла следом, как бы дыша в затылок. Прошагав полтора километра, парочка углубилась в квартал и остановилась возле небольшого мраморного памятника. — Вот. Жена моя. Любовь Михайловна. Ну, здравствуй, Любушка. Как ты тут без меня? — С цветником что? — Что с цветником? — Земля ушла. Ты почему не подсыпаешь? — Да я... — Понятно. Надежда Геннадьевна стряхнула с плеч рюкзак. На свет появились совочек и тяпка. — Чего стоишь? Ставь корзину. Вырядился одно что... Брови Евгения Борисыча уползли вверх и стали постаментом короткой челки. Он растерянно поставил корзину и замер в полупозиции. Надежда была деятельна. Опустившись на колени, она вонзила совок в песок и быстро наполнила цветник. «Жирнючую» землю Надежда клала руками. Комочки в карманах оказались свернутыми перчатками. — Вот так вот. Таким вот образом. Под рассаду лучше землицы нет, ты уж мне поверь. Евгений Борисыч верил. То есть он верил и не верил одновременно. Что стало с мадам Надеждой? В каких кондовых недрах она запропала? — Пошли. — Куда? — К сыну твоему. — Не стоит. Поедемте лучше пить кофе? Я страшно проголодался. Там круасаны... — Потерпишь, не мальчик. Жену изобиходили, а сына как не изобиходить? Пошли-пошли. И они пошли. Сын лежал ощутимо от матери. Километрах в двух. Всю дорогу Евгений Борисыч молчал. То есть он шел и громко думал: при чем тут земля, разве дело в земле, что за чушь?! Сын лежал под памятником из мраморной крошки. Крошка плохо разбавляла общее цементное настроение стелы. — Ты почему березку не прокрасил? — Чего? Какую березку? — Женя, ты как слепой. Вот же, сбоку. Красочкой золотой шик-шик. А лучше вообще мрамор воткнуть. Хотя мрамор, конечно, баловство. Черный гранит или змеевик надо. У моих у всех или гранит, или змеевик. Завтра съездим к моим-то. Уж там и цветники, и землица — и знаешь, цветов весной насадила! Ярко, как в телевизоре. Не могилки, а прямо иллюминация. В глазах Надежды Геннадьевны блеснули слезы. Она встала на колени и стала рыхлить цветник кухонным ножом, который припасла в рюкзаке. Евгений Борисыч стоял не двигаясь. Он боялся двигаться, потому что ему казалось, что если он двинется, то просто уйдет. — Женя, зря ты руками не работаешь. — Что?! — Тяпку бери. Легче на душе-то, когда поработаешь. Я вот мужа весной изобиходила, и так мне легко стало, хоть летай. Ты попробуй. А то стоишь тут как Набоков... Упоминание Набокова поразило Евгения Борисыча. Он как бы зашел в прокопченный сарай и увидел там Брейгеля. «Господи, да она просто избавляется от гирек! Я их ртом выплевываю, а она руками бросает. И как я сразу этого не понял?» Ему стало стыдно. То ли поэтому, то ли потому, что с Надеждой Геннадьевной действительно было приятно, но Евгений Борисыч вдруг опустился на корточки и взял тяпку. — Ямку делай. — Тут? — Да где хочешь. Цветы посадим. Рассаду то есть. — А что за цветы? — Анютины глазки. — Анютины глазки... Красиво. — Они спокойные, как море. Ковер получится. Неожиданно Евгения Борисыча понесло: — А поехали на море? — Чего? — Ну, на море. Как друзья. На Средиземное, например. — Это как-то неожиданно. Мне надо подумать. — А чего тут думать? Средиземное море, оно знаешь какое? Евгений Борисыч отбросил тяпку, сел на лавку и жарко заговорил о Средиземном море, где, признаться, ни разу не был, зато много о нем читал. Так они до обеда и провозились: он выплевывал гирьки, она швыряла их руками. За обедом Евгений Борисыч рассказал Надежде Геннадьевне про гирьки. Она назвала его выдумщиком, но внутренне согласилась. А потом они вдвоем залезли в Надин планшет, где стали читать про всякие дальние страны, моря и курорты, что само по себе всегда замечательно, даже если за этим и не последует ничего.В Эрмитаже
Пермь. 2018 год. Май. Хотя совсем не важно, что май. И даже что Пермь не очень важно. Про год промолчу. Год вообще не имеет никакого значения. Эта история где угодно и когда угодно могла произойти. То есть она нигде не могла произойти, хотя история самая обыкновенная. Ну, положим, не самая. Положим, это очень удивительная история. Нет. Как бы это поточнее — последовательная. Ну да ладно. Не могу я в двух словах объяснить. Слушайте целиком. Володя Филимонов женился на Кате Альбатросовой в конце апреля 2018 года в Ленинском ЗАГСе Перми. Они были малопримечательными людьми, и их свадьба не оставила глубокого следа в истории города. Если честно, она никакого следа не оставила, разве что тесть дядя Коля напился и упал лицом в бутылочные осколки. Но и тут последствия были незначительными, потому что дядя Коля ни на йоту не подурнел, а заживает на нем как на Росомахе. После свадьбы новоиспеченные молодожены поехали в медовый месяц. На самом деле это были медовые десять дней в Санкт-Петербурге. Если уж совсем правдиво, то просто десять дней, без медовости. Медовость — это всегда преувеличение. А когда холодный балтийский ветер с утра до ночи по городу шебуршит, а ты на него идешь беззащитным лицом сквозь Невский, ни о какой медовости не может быть и речи. Володя и Катя прибыли в Питер самолетом. Уже при подготовке к полету проницательный наблюдатель сумел бы четко уяснить для себя разность их характеров. Катя была весела, хороша, глумлива. Она играла с котом и аппетитно ела. Володя звонил друзьям и просил прощения. Ласково говорил с бабушкой. Внутренне договаривался с апостолом Петром в смысле пропуска в рай. Володя боялся летать. Он знал, что самолет — это самое безопасное средство передвижения. Однако его смущал не сам факт гибели. Его смущала беспомощность. В автомобильной аварии все-таки есть шанс проявить себя — выпрыгнуть на дорогу, сгруппироваться, тупо оказаться пристегнутым. В самолете шансов нет вообще. Ты можешь быть тренированным, сильным, ловким, каким угодно, короче. Все это не имеет ровно никакого значения, когда ты падаешь на землю с высоты восьми километров. Именно эти секунды абсолютной беспомощности, когда все предрешено, но ничего нельзя поделать, и пугали Володю. Прибыв в город на Неве в разном настроении, Володя и Катя поселились в Поварском переулке и составили план. Привожу его целиком (орфография и пунктуация сохранены): ПЛАН: 4 мая — Эрмитаж, обед, Эрмитаж. 5 мая — экскурсия в Кронштадт. 6 мая — Кунсткамера, Васильевский остров, Адмиралтейство. 7 мая — экскурсия в Петергоф. 8 мая — лофт-проект Этажи, Дом книги, Русский музей. 9 мая — парад, водная экскурсия по каналам Петербурга. 10 мая — Финский залив. 11 мая — Смольный, Заячий остров. 12 мая — возложение цветов к обелиску Декабристов. Гуляние по Невскому проспекту. 13 мая — Ленфильм. 14 мая — покупка сувениров, вылет в Пермь. Нас интересует только первый пункт плана, потому что всем остальным сбыться оказалось не суждено. Эрмитаж, обед, Эрмитаж. Зачем люди ходят в Эрмитаж? Как правило, люди ходят в Эрмитаж по двум причинам — на конкретные экспонаты и все сфотографировать. Первых я называю неженками, потому что это люди тонкой душевной организации и зарождающегося вкуса (они узнали о Санти еще до посещения Эрмитажа). Такие люди не могут потреблять прекрасное в неограниченном количестве просто потому, что действительно способны ощутить силу его воздействия на человеческую душу. Как вы, наверное, догадались, Володя был «неженкой». Собираясь в Эрмитаж, он собирался посмотреть две картины Рафаэля, две картины Леонардо, античные скульптуры, коллекцию Матисса и коллекцию Пикассо. Катя была «криминалистом». Все «криминалисты» чуть-чуть опасаются Альцгеймера и поэтому фотографируют все подряд, как будто попали на место преступления. Такие люди живут одним днем в том смысле, что повторный визит в Санкт-Петербург, за которым последует повторный визит в Эрмитаж, они для себя даже не рассматривают. Еще с вечера Катя твердо решила любоваться искусством до закрытия музея, а потом пойти в кафе и обсудить все увиденное с Володей. О таком ее намерении муж ничего не знал. Они не обсуждали стратегию хождения по Эрмитажу, потому что у каждого она была единственной, а стало быть — общеобязательной и само собой разумеющейся. В Эрмитаж молодожены прибыли с утра, нежно держась за руки. Однако уже на кассе между ними наметились разногласия. Катя хотела билеты за семьсот рублей, чтобы посмотреть все. Володя хотел билеты за четыреста, чтобы увидеть запланированное. Возле кассы разыгралась небольшая сцена: — Катя, пойми — не надо смотреть все. Давай купим билеты по четыреста и посмотрим то, что предлагаю я. — Нет. Я хочу посмотреть все. Вот когда мы еще тут побываем? — Не важно, когда мы тут побываем. Искусство — это как еда. Его нужно принимать порционно. Глаза — они как рот, понимаешь? — То есть прошлой ночью я тебя глазами ублажала? — Катя, тише! Что ты такое говоришь? — Ну, Володя... У нас медовый месяц. Сделай мне подарок. Давай купим билеты по семьсот и будем бродить тут до самого вечера. Здесь такие потолки, посмотри! Катя задрала голову, а Володя купил два билета за семьсот. Одиссея началась. Примерно с одиннадцати утра до двух часов дня молодожены бродили по первому этажу. Рассматривали гробницы, вазы и шумерские письмена. Два раза Володя садился на скамью, намереваясь больше никогда с нее не вставать. Два раза к нему подходила Катя, целовала в щеку и брала за руку. Володя покорялся и вставал. На втором этаже дело пошло веселей. Катя обязала утратившего волю мужа ее фотографировать. Он фотографировал супругу возле Рафаэля и Леонардо, больших и малых голландцев, малозначительных итальянцев, аляповатых французов, греческих и римских статуй. Сам Володя смотрел по сторонам. Особенно долго он смотрел на Рафаэля. Потом молодожены стояли очередь в эрмитажное кафе, где съели по салату и десерту, всего на 1800 рублей. Володе было уже наплевать. Его душа, набитая под завязку прекраснейшими произведениями мирового искусства, погрузилась в туман. В этом тумане мелькали причудливые разноцветные образы, а над ними, как плодородное солнце, висела «Мадонна» Рафаэля. Уже после Египетского зала Володя накрепко замолчал. Катя же щебетала без умолку. Она совершенно ничего не понимала в искусстве, зато по достоинству могла оценить богатство рамы и дороговизну люстры. Ее щебет докатывался до Володи, как волны слабого прибоя до ног путника, обутого в дорогие туфли. Когда с обедом было покончено, молодожены кинулись на штурм Генштаба. Перейдя Дворцовую площадь и разоблачившись, они медленно побрели по залам, непрестанно фотографируясь, чтобы закончить культпоход четвертым этажом, где были собраны коллекции Матисса и Пикассо. Изрядно переевшим римлянином прибыл Володя на встречу с французом. Яркий Матисс бросился Володе в лицо и буквально потряс его до глубины души. Беда была в том, что у Володиной души никакой глубины не осталось. Портрет Делекторской, где жизнелюбие и депрессия отлились в красках, стал последней каплей. К тому времени молодожены ходили по музею уже шесть часов. На глиняных ногах Володя побежал от Матисса прочь и вскоре вбежал в зал Пикассо, где тут же напоролся на «Девушку с мандолиной». Упав на колени, переполненный до краев молодой мужчина страшно завыл, а потом разразился рвотой. Со всех сторон его обступили смотрители музея и посетители. Подбежала взволнованная Катя... Володя блевал разноцветными красками. Желтая, зеленая, синяя, красная, белая краски извергались из его горла надсадным потоком, превращая пол Генштаба в причудливую абстракцию. Иногда в красках можно было различить кусочки мрамора, гранита, гипса или нефритовую бусину. Катя закричала: — Володя, что с тобой! Господи, что с ним происходит?! Тут к блюющему Володе подбежала пожилая смотрительница, нацепила ему на голову наушники и плотно закрыла глаза дряблыми ладонями. — Тихо, тихо, маленький мой! Вишь, как оно бывает... Отдавило фибры-то. Поблюй, поблюй. Щас Бузову послушаешь, душа опустеет и легче станет. Володя слушал Бузову полчаса и все полчаса блевал в принесенные смотрителями ведра. Через полчаса краска иссякла. Посрыгивав немножко нефритом, молодой мужчина утер губы имедленно поднялся на дрожащих ногах. Катя плакала в углу. Пожилая смотрительница нашептывала ей что-то грозное прямо в ухо. С повязкой на глазах и под белы руки Володю вывели из музея. Смотрители рекомендовали ему покинуть Санкт-Петербург в кратчайшие сроки, иначе от видов города блевание краской может возобновиться. Молодожены последовали доброму совету. В ту же ночь они вернулись в Пермь, а потом улетели в Анталию, где в смысле искусства блевать, прямо скажем, нечем. Единственная загадка гложет меня во всей этой истории: почему Володя не бросил к чертовой матери Катю? Хотя... Может быть, она действительно ублажала его далеко не глазами. А когда не глазами, это, знаете ли, большое дело. Когда не глазами, и Эрмитаж можно как-нибудь потерпеть. Конечно, в истории Перми этот случай тоже никакого следа не оставил. Было бы странно, если бы он его оставил. В Перми блюют исключительно по другим поводам.Всюду жизнь
Толстый, лысый, больной человек смотрел в окно. За окном была дорога и сосновый лес. Между ними стоял ржавый овощной киоск. В нем работала продавщица Надька из второго подъезда. Толстый, лысый, больной человек знал, что на работе она мочится в ведро, и поэтому покупал фрукты с некоторым усилием. Чуть поодаль, в каше грязного снега, скрипела пустая качель. Ее раскачивал шквальный ветер, потому что на улице происходила ранняя весна и зима возвращала долги. Рядом с качелью расположилась свора собак. Они прижались друг к другу и лежали неподвижно, напоминая мертвых. Толстый, лысый, больной человек скучал. Все у него было позади. Он прожил сочную жизнь и ничего больше не хотел. Разве что яблок. Скинув халат с рыхлого тела, мужчина надел джинсы и презрительно посмотрел на жир, который свесился поверх ремня. Так же презрительно он посмотрел на турник, который мог бы подернуться пылью, но почему-то этого не сделал. На улице толстый, лысый, больной человек поежился. Он давно не дышал воздухом, потому что жил на сбережения, а в магазин старался выходить не чаще одного раза в неделю. Когда-то мужчина любил бегать по лесу, но забросил это занятие, сам не зная почему. Смешным торопливым шагом он пересек дорогу и подошел к киоску. — Килограмм «симиренко». — Кило? — Килограмм «симиренко». — Заместо «симиренко» лучше «голды» возьми. — Вместо «симиренко» мне ничего не надо. — Прямо ничего? А миллион долларов? А машину? А... — Уймись, Надька! — Как напьешься — так сразу Наденька. А как трезвый — Надька. Вот что ты за мужик? Толстый, лысый, больной человек возвел глаза к небу. Потряс авоськой. Предупредительно покраснел. Надька усмехнулась и взвесила яблоки. Рассчитавшись, мужчина заторопился домой. Около качели его правая нога угодила в снежную жижу и заскользила вбок. Авоська взлетела вверх. Несколько яблок укатились к собакам. Рухнув на карачки, мужчина тут же вскочил и кинулся их собирать. Свора пробудилась. В ту же секунду толстый, лысый, больной человек оказался в эпицентре лая. Перепугавшись, он попробовал пнуть одну из собак, но промахнулся. Снова рухнув на землю, мужчина покатился вбок, но больно врезался в качель. Обхватив голову руками, он поднялся и побежал что есть сил. Задыхаясь, толстый, лысый, больной человек завернул за дом и ринулся по прямой. Через двести метров его тело заволокло испариной. Еще через двести метров закололо печень. Хватая ртом холодный воздух, мужчина остановился. Своры нигде не было. Подобрав палку, толстый, лысый, больной человек зашагал домой. Он не потел уже пять лет, а сейчас вспотел и почему-то воспрял духом. У качели стояла Надька и кормила собак. Эта картина поразила мужчину. Он отбросил палку и неуверенно сел на лавку. Надька подошла и села рядом. Сунула авоську с килограммом яблок. — Резво ты припустил. — Я раньше бегал. — Оно и видно. — Да иди ты! Они меня чуть не загрызли. — Ага. Гнались прямо за тобой. — А что — не гнались? — Да кому ты нужен, господи! — Никому. Позади все. Как рак живу. — Это как? — Пячусь, только пятки сверкают. — Да ничего ты не пятишься! Нормально же от собак-то бежал. — Ну, спасибо. Ладно. Пойду я, Надька. Не надо меня утешать. — В пятницу зайдешь? — Зайду. Трезвый зайду. Обещаю. Толстый, лысый, больной человек скрылся в подъезде. Дома он помыл яблоки с мылом и разложил их на блюде. Подошел к турнику. Повис. Попытался подтянуться. Ничего не вышло. Разозлившись, он ударил себя в живот и матерно выругался. Залез в шкаф и отыскал там кроссовки и спортивный костюм. Потом решил, что это перебор, и убрал все обратно. Пройдясь по коридору, толстый, лысый, больной человек немного успокоился и съел яблоко. Ночью ему приснились Надька, свора и собственное брюхо. А утром чуток отпустило. А днем вообще все стало хорошо, и толстый, лысый, больной человек снова сел у окна, чтобы вспоминать сочную жизнь и глядеть на улицу, где дорога и лес, а между ними киоск и скрипучая качель.Один день
Пермь. 2012 год. Я пил, как бедуин, только водку. Не знаю. Помереть, наверное, хотел. Но я трус. Все трусы так помирают — от непрямых действий в свой адрес. Если честно, я даже не знаю, почему пил. Катя не любит? Ну, так она меня никогда не любила. Сын умер? Я его и не знал совсем. Перспектив в жизни нет? А у кого они есть? Призвания своего не знаю? Боже мой, а есть ли оно вообще? Я сначала в Бога верил. Мне бабушка в детстве Библию читала. А потом перестал верить. Повзрослел. Не знаю, как это связано, но ушла из меня уверенность, что все непременно сложится и гармония придет. Гармония на призвание похожа. Слово есть, а за ним ничего не стоит. Пустое, в сущности, слово. Как бутылка водочная, когда утро понедельника за окном. У меня все пустое, на самом деле. Жена даже ушла, чтобы не терпеть моих пустот. Она меня любит, но все равно ушла, потому что ей больно смотреть на то, что я с собой делаю. Я только три дня способен не пить, а затем снова пью. У меня рекорд есть. Я два часа на новой работе проработал. Жена меня в этом винит. А чего меня винить? Я не могу жить. Не умею просто жить, не получается у меня. Я по-разному пробовал жить. Криминально пробовал. Продавцом-консультантом пробовал. Вахтовиком пробовал. На заводе пробовал. Охранником в магазине пробовал. И внутренне тоже по-разному пробовал. Пробовал рыбалкой. Пробовал книжками. Пробовал фильмами всякими. Пробовал в спортзале пропадать. Не пропал. Нигде буквально не пропал. Как какаха в проруби болтался. Будто меня из Эдема выгнали и я слоняюсь. У меня даже к деньгам несерьезное отношение. Жену это особенно бесит. Но я ее люблю. Мне перед ней стыдно. Когда она от меня уходит, я выкарабкиваться начинаю. Три недели назад вот начал. Жена ушла, а я протрезвел и работу полез искать. Нашел. Два через два. Охранник в магазин вина и сыра «Ля Кав». Солидное место. На табуретке надо целый день сидеть и книжки читать. Я когда от пьянки отойду, имею товарный вид. У некоторых алкашей есть такая особенность — прилично выглядеть. А я еще говорить могу. Работодатели на это покупаются, потому что я сам на это покупаюсь. Я в такие моменты искренне верю, что завязал с водкой и теперь буду работать с утра до ночи, чтобы иметь благосостояние. Но это все выдумка от начала до конца. Плевать я хотел на благосостояние. Просто мне перед женой стыдно. Я это все для нее делаю, а не для себя. А знаете, в чем главная подлость? Ничего-то мы не можем сделать для других, если нам самим этого не хочется. А стыд — очень зыбкое чувство и быстро проходит. Я когда в «Ля Кав» устроился, прилично себя вел. С девчонками-продавщицами подружился. Они меня порядочным таким мужиком считали. Сыром угощали и хамоном. Я неделю проработал, пока не почувствовал, что конец близко. С хамона все началось. Там такой порядок был: продавщицы ногу дорезали, а кость забирали себе, чтобы с нее остатки мяса срезать. По очереди забирали. А тут мне предложили. Для них это большая ценность была, и они как бы совершили жест. А я проигнорировал. Мне вдруг впадлу стало за толстосумами подъедать. Предвестник всех моих срывов — выкаблучиваться там, где другие радуются. Тут, правда, я стерпел. Не пригубил ничего. Отказался и все. А на следующий день дегустация была. Вечером девчонки остатки по бутылкам слили и пошли в камору пить. Они весь день из-за этих остатков тряслись, потому что вино дорогое, а попробовать хочется. Меня, конечно, позвали. А мне стремно оденки допивать. И смотреть, как девчонки целый день богатеев облизывают, тоже неприятно. Мне вдруг вообще все в этом магазине стало неприятно. Как будто я не на своем месте нахожусь, и от этого у меня внутри болит, потому что мироздание вроде как выдавливает меня отсюда. Томление прямо такое, предобморочное. Пройтись решил. Смотрю, кальвадос за две тыщи стоит. Повертел в руках. А пока вертел, крышку нечаянно открыл и отпил треть. Вы не подумайте — я не идиот. Знал, что рискованно мне в алкогольный магазин устраиваться. Просто других вариантов не было, а мне перед женой очень хотелось исправиться. Исправился. Едва от горлышка оторвался, сразу Витальке позвонил. Тот через час подвалил. А я уже бутылку кальвадоса даванул и закурил посреди магазина на радостях. Девчонки набежали. Поздняк метаться. Я уже неприличный, уже с матерком, по фене ботаю, нигде не работаю. Они обалдели, а мне смешно. Речи обличительные в духе Герберта Маркузе говорю. Цицеронствую во всю ивановскую. На губах смехуечки да пиздохаханьки. И даже как-то стыдно, что перед женой было так стыдно. Освобождающая какая-то фигня. Как будто по трезвянке все святое, а ты этого святого не достоин. А по пьяни ничего святого нет, и ты тут в самый раз получаешься. Виталька когда пришел, я еще бутылку кальвадоса взял, и мы к Оперному двинули. В счет зарплаты типа. Аккурат недельный оклад выходил за две-то бутылки. У Оперного мы с девушкой познакомились. Мара зовут. Она «Сплин» любила, а Виталька гитару взял, чтобы рок базлать. Побазлали. Допили кальвадос. Тут Мара говорит: я на Компросе хату снимаю, айда ко мне. А я такой: не боишься? А она: чего? А я: ну как? А она: да брось! Пошли, короче. По дороге два флакона водки зацепили. Угорать так угорать, хули ветру титьки мять. Это присказка такая. Я когда под мухой, из меня присказки так и прут. Тянет, видимо, к народности. Чтобы под метафорическими ногами появилась метафорическая почва. Мара снимала двухкомнатную хату. Вообще, когда из компросовских окон на Пермь смотришь, то это какая-то другая Пермь, не Пролетарская. Я все время в окно смотрел, пока мы водку пили. И в форточку курил, у Мары это запросто. А потом мы все зачем-то разделись до нижнего белья. Я разделся. Виталька разделся. Мара разделась. Не для эротики, а потому что жарко, наверное. А может, чтобы стать племенем. Или чтобы преодолеть власть пола над личностью. Не знаю. Мы так и уснули полуголыми на диване, когда водку допили. К Маре даже никто не приставал, потому что она своей в доску оказалась. Я ночью проснулся. Луна взошла. Смотрю, Виталька Мару обнимает. И главное, платонически так, нежно, как сестру. Я аж залюбовался. Жене сразу захотел позвонить. Но не позвонил. На часы посмотрел и не позвонил. Три часа ночи все-таки. А надо было. Прогуляться пошел. То есть брюки пошел искать. Нашел. И ключи еще нашел от машины. Я свою-то продал, чтобы долги за квартиру заплатить. А Мара «Дэу Матиз» водила. Я всегда хотел на такой маленькой машинке прокатиться. Они с Виталькой так сладко спали, что я не стал будить. Дверь тихонько притворил и на улицу спустился. Отыскал машину. Красненькая такая, вызывающая. Сел. Завел. Выехал задом. Коробка автомат, между прочим. Я когда подшофе, очень люблю водить. Меня ответственность будоражит. Я сначала по Компросу ездил туда-сюда, а потом в Мотовилиху двинул. Если честно, я поэтому машину и взял, чтобы в Мотовилиху съездить. На Рабочем поселке Катя жила. Вот к ней я и поехал. Думал, встану под окнами и буду на них смотреть. Приехал. Встал. Смотрю. А там везде свет горит, словно случилось что-то. Не утерпел — поднялся. Полчаса, наверное, у двери мялся. Потом позвонил. Лучше б жене позвонил. Бессовестный я человек. А главное, понимаю, что бессовестный, но ничего с собой поделать не могу. Дверь открыла Катя. В халате зеленом. «Чего пришел?» — говорит. «Не люблю тебя», — говорит. «Уходи», — говорит. А я молчу и лицом ее любуюсь, запоминаю. Я когда ее лицом любуюсь, мне Бог мерещится, которого я в детстве видел. А Катя такая: хочешь посмотреть, как я живу? А я: хочу. Я не знал совсем, как она живет. Откуда мне знать, как она живет, если я ей до этого только по телефону пять раз пьяный звонил? Я и адрес ее у знакомых ментов недавно только узнал. Зашел. Коридор тусклый. Обои. Повсюду книги старые. Нечеловеческое какое-то количество книг. «Зачем, — говорю, — тебе столько книг?» А она: «Это муж притаскивает. Он болен. Все буквально с улицы тащит. Я “газелями” эту макулатуру вывожу». «Понятно», — говорю. А самому ничего не понятно. Зачем она с ним живет, если можно жить со мной? Или со мной нельзя? Я вообще жену люблю или Катю? А как ей со мной жить, если, предположим, жить, когда я тоже не подарок? А кто подарок? Пока я все это думал, мы в гостиной оказались. Там девчонка какая-то сидела лет восьми. Агу, ага, в слюнях вся. Катина дочь. От собирателя книг. Сюр похмельный. «Ты зачем, — говорю, — это все мне показываешь? Почему ночью не спишь?» А Катя: «Чтоб ты перестал мне звонить и в любви признаваться. У меня дочь больная и муж больной. Если я слабину дам, их по интернатам рассуют. К нам психолог раз в месяц приходит и спрашивает дочку: а не бьют ли тебя, не ругают ли, всем ли ты довольна, все ли у тебя хорошо? А Настенька бестолковая. Все агу да ага. И за электричество долг. Отключить могут. Вот как мне стирать без электричества? На Каму ходить? Камнем белье мутузить? А не сплю я потому, что дочка не спит. И муж пьяный полночи по квартире ходил и окна руками крестил от бесов». Я молчал. У меня от ее слов пелена с глаз спала, и я вместо Кати потасканную тридцатипятилетнюю бабу увидел. А потом мне стыдно стало, потому что пока я ее любил безответно и призвание искал, и оплакивал перспективы, она тут книги «газелями» вывозила. Пойду, говорю. Чего тут еще скажешь? А она: иди. И вдруг села на диван и заплакала. Я тоже сел. Люстра пыльная. Штабеля книг. Дочка сопли жует. Донцова на столе с «ослиными ушами» лежит. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Ничего-то мы ни про кого не знаем. И про себя не знаем. И любить не умеем, а только прикидываемся. Тошно стало, хоть заново бухай. Только толку-то. Не о чем мне больше пить. Не прощаясь, ушел. Дверь затворил, как будто склеп запечатал. Вернулся на Компрос. По дороге думал педаль давануть и в столб въехать. На скорости. Подушек-то нет. Не въехал. Я только думать могу надрывно, а действовать — кишка тонка. Аккуратно доехал. Поднялся к Маре. Ключи на место положил. Спят, родные. Брат Виталька и сестра Маринка. Пусть спят. Домой поеду. Вот под липами посижу, первого автобуса дождусь и поеду. Не о чем мне больше пить. Делать что-нибудь буду. Не знаю пока что, но что-нибудь делать буду. Авось перемелется. Все ведь проходит. И это пройдет. Вот как-то так я и стал писать рассказы.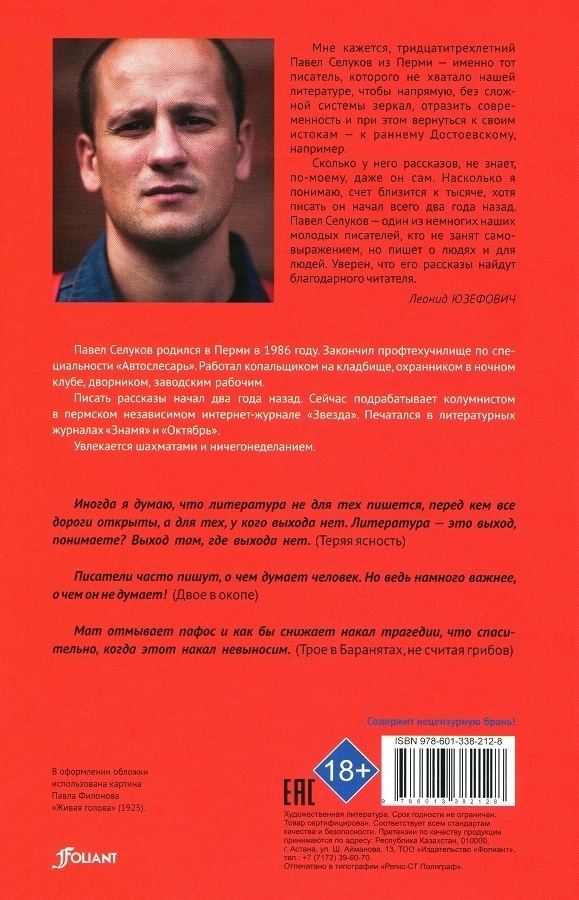

Последние комментарии
3 часов 50 минут назад
3 часов 52 минут назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 14 часов назад
2 дней 16 часов назад
2 дней 17 часов назад