ПЕЩЕРА СМЕРТИ В ДРЕМУЧЕМ ЛЕСУ Два готических романа


 Мэри Анн Берджес
ПЕЩЕРА СМЕРТИ В ДРЕМУЧЕМ ЛЕСУ
Мэри Анн Берджес
ПЕЩЕРА СМЕРТИ В ДРЕМУЧЕМ ЛЕСУ
— Какое внушает почтение приближение ночи под сими мрачными тенями! — вскричал мужественный Родольф, проходя часть самую дикую Черного Леса.
Солнце едва свершило половину своего пути, когда кавалер вошел в сию ужасную пустыню, и до сей минуты были первые его слова, которые у него вырвались. Его оруженосец Мориц, который составлял всю его свиту, не без удовольствия их услышал; давно уже горел он желанием начать разговор, но почтение до того времени заграждало ему уста. Томное молчание сих мрачных уединений было иногда прерываемо криками ночных птиц или биением их крыльев; унылый и печальный шум, который, как казалось, присоединялся к страху сей ужасной пустыни, и впечатлевал в душе робкого оруженосца чрезмерный ужас, который взошел уже на самый верх, хотя причина тому не была еще видима и решительна.
— Ах! кавалер, — вскричал он, — непременно должно иметь мужество столь же неустрашимое, как ваше, дабы осмелиться презирать неизвестность сих путей и впускаться столь смело в самые мрачные сего обширного леса.
— Я тебя видел, Мориц, — отвечал Родольф, — оказавшего твою храбрость в сражениях; какую же столь великую опасность находишь ты в сем уединенном месте? Какая же и моя неустрашимость, когда никакого неприятеля не является?
— Ужасное зрелище, нас окружающее, — возразил оруженосец, — не довольно ли сильно, чтобы привести в трепет душу самую твердую? В пустынях, подобных сей, царствуют воздушные привидения, и духи смерти владычествуют.
— Совесть моя, — перервал Родольф, — не укоряет меня ничем, что бы могло устрашить меня мщением адских духов; я полагаюсь на небесное покровительство, и ангелы света защитят меня против злых духов тьмы. Что же касается до человеков, я никого не страшусь, потому что имею оружие.
— Дай Бог, — вскричал оруженосец, — чтоб я возвратился назад, прежде вступления в сие злосчастное место!
— Ах! как мог бы ты сего избегнуть? — сказал кавалер.
— Не сам ли ты вызвался служить мне проводником до замка Дорнгейм?
— Я полагал в него приехать до захождения солнца, — говорил Мориц, — но вы столь медленно ехали…
— Это правда, — перервал его речь Родольф, — между тем, как вся моя душа предавалась сим столь приятным размышлениям, о коих ты один известен, я желал, проезжая сей лес, дать моей усталой лошади несколько времени отдохнуть.
Кавалер начал опять впадать в свою обыкновенную задумчивость, но оруженосец, который приметил, что звук человеческого голоса рассеивал несколько ужасные привидения, коими воображение его было одержимо, не имел желания совсем прекратить разговора. И, так как он ведал уже о любви своего господина, и знал удовольствие, которое кавалер находил всегда распространяться в таковой материи, он воспользовался сим удобным случаем.
— Если я не ошибаюсь, — сказал он, — то мне кажется, сударь, что я от вас слышал, будто бы тому уже три года, как вы не видали девицы Констанции?
— Гораздо более, — возразил влюбленный кавалер, — и если я должен верить моему сердцу, целый век протек уже с тех пор, как я с нею разлучен. Ах! чего бы я не дал, дабы узнать, как она меня примет!
— Конечно, невозможно, сударь, — сказал оруженосец, — чтобы она была нечувствительна к достоинству столь же отличному и к постоянству столь же редкому, как ваше.
— Сколько я ни жил в отдаленности от нее, — отвечал Родольф, — я всегда себя так ласкал; собственное мое сердце само мне льстило. Я знаю, это правда, что Констанция хотя не изъявляла мне никогда никакого благосклонного чувства; но знаю также, что она и ко всем оказывала равнодушие самое приметное. Я мог бы даже вывесть лестное заключение из стараний, которые она часто прилагала убегать меня. Поистине предполагая за верное, что если б нежность моя была для нее тайною, она не могла б иметь никакой причины поступать со мною ласковее, нежели с другими; и если она открыла чувствия, столь бережно скрытые, как мои, любовь одна могла б обнаружить сию тайность. Какая другая побудительная причина, говорил я сам в себе в своих приятных мечтаниях; какая другая побудительная причина могла бы приводить ее в столь сильную краску, когда я бросал на нее взор, может быть, слишком страстный, нежный; какая другая побудительная причина могла бы произвесть беспокойство и смятения, которые она оказала при отъезде нашем? Если бы она взирала на меня равнодушно, не простилась ли бы она по крайней мере со мною, когда я был столь долгое время близ нее? Но слова замирали на ее губах; и как она ни прилагала старания скрыться от глаз моих, однако ж, я приметил несколько слез, которые вырвались из ее глаз.
Родольф остановился, и был несколько времени как бы рассеян в своих нежных размышлениях; но скоро потом пришедши в себя, сказал:
— Вот рассуждения, кои принудили меня сносить жизнь, пока я был изгнан от ее глаз, но ныне, как я приближаюсь к месту, в котором она обитает, теперь, как ожидание ее увидеть заставляет трепетать мое сердце с чрезмерною силою, я не осмеливаюсь более льститься сими сладостными химерами. Если же я обманулся, как будет для меня жестоко выйти из заблуждения; и даже, хотя бы драгоценная моя надежда была на чем-нибудь основана, хотя бы моя нежность была награждена некоторою взаимностию, смел ли бы я верить, что после толико долгого отсутствия, я был ею еще не забыт; другой любовник, достойнее обладать ею, не мог ли бы истребить меня из ее сердца?
— Я часто бывал, сударь, приводим в изумление, — сказал Мориц, — что с столь сильною страстию к девице Констанции могли вы решиться оставить город Прагу, в котором она пребывала, не открыв ей ваших чувствований и не приложив всех усилий для получения благосклонного признания.
— Я тебе сказал уже, Мориц, — возразил Родольф, — что я соглашусь лучше умереть, нежели принудить Констанцию, которой благополучие дороже мне было моего собственного разделять счастие человека, который видел в будущем столь мало средств возвесть оное в степень, приличную ее достоинствам. Я и теперь даже не имею столь дерзких намерений; я хочу только ее видеть, и если мои желания слишком блуждаются, сердце мое в том не участвует; может быть, что с того времени, как меч мой доставил мне несколько славы, и когда я получил Рыцарский Орден из рук императора Фридерика Барберуса, и как сделались мне друзьями знатные, которые предлагали мне свои услуги; может быть, мог бы зреть в отдаленном виде состояние, которое… Но я тебе только повторяю, я не хочу останавливаться на сих лестных идеях.
Сколь велико расстояние, Мориц, от замка Герцвальд, в котором она теперь обитает, до замка барона Дорнгейма?
— С небольшим миля, — отвечал оруженосец. — В то время, когда я жил в замке Дорнгейма, я часто бывал в герцвальдовом. Тогда владел им дядя девицы Констанции, а ее отцу достался в наследство тому назад несколько месяцев.
После сего разговора наступило вторичное молчание, но Мориц, стараясь всегда оное прервать, спросил у своего господина, говаривал ли он когда о любви своей Фридерику Дорнгейму.
— Нет, никогда, — отвечал Родольф. — Это правда, что с той минуты, как я имел счастие спасти его жизнь во время одной баталии, он всегда оказывал ко мне живейшую привязанность; но жестокость и нечувствительность его характера не позволяли мне в сем случае ему открыться с таковою же довереностию, с каковою мог бы об другом предмете. Некогда приглашая меня, как он часто то делывал, ехать в замок Дорнгейм, уведомил меня нечаянно, что он будет иметь у себя в соседях Констанцина отца; и я после размышлял, что если бы он почувствовал когда страсть, подобную моей, смятение, причиненное его приглашением в ту минуту, конечно, обнаружило б тайну моего сердца.
— С самого его малолетства, — возразил Мориц, — Фридерик оказывал нрав надменный и жестокий.
— Скажи лучше, неприступный к сожалению и нежности; и, хотя я получил от него многие доказательства дружбы, хотя я еще более уверен в покровительстве барона, отца его, я казался быть благополучным, удаляясь от… Но что это за неожидаемое сияние, которое разливает сильный свет по нашей дороге? Не луна ли это, которая выступила из облака, коим была покрыта?
— Луна теперь скрылась, — отвечал оруженосец, чувствовавший возобновляющийся свой страх.
Родольф поднял глаза, но сплетенные древесные ветви изображали в сем месте тень, чрез которую свет не проницал; он приближается несколько к месту, более открытому, и тогда примечает небольшое черное облако, отделенное от остатка атмосферы, колеблющее над его головою, с частыми взад и вперед движениями, и которого полукруглые края бросали лучи света и молний, довольно сильные, чтобы рассеять глубокий мрак, покрывавший тогда землю. Кавалер смотрел на то с сим изумлением и смятением, от коих душа не может защищаться при виде воздушного явления, удивительного и сверхъестественного. Мориц, объятый ужасом, с согнутою спиною, ожидал в безмерном страхе некоторого злосчастного происшествия.
Тогда услышали они ужасный в воздухе вопль, который, казалось, превосходил человеческие силы. В ту ж минуту облако лопнуло; части его, самые густые, рассеиваются и смешиваются с окружающим его воздухом; все лучи света, которые оно бросало, соединяются в один большой огненный шар, который скоропостижно стремится к земле. Он упал в средину группы деревьев и продолжал еще сверкать сквозь их ветви. Кавалер понуждает немедленно свою лошадь, и старается приближаться к тому месту. Тщетно отчаянный Мориц кричал ему трепещущим голосом остановиться. Невзирая на его страхи, Родольф скакал во весь опор, прочищая дорогу себе сквозь хворост; он приметил висящее воздушное явление над входом мрачной и глубокой пещеры, которая казалась вся освещенною его лучами; но в ту минуту, когда он приближается, огненный шар стремится в пропасть и по маловременном его сиянии наступает мрак темнее еще прежнего.
Родольф колебался несколько времени в том, что должно было ему предпринять. Стремительная его храбрость, ввергающая всегда его в глубину опасных происшествий, побуждала сильно броситься в пещеру. Тайное и неизобразимое предчувствование соединялось с видением воздушного явления для обнадеживания его, что он достигнет до того, что откроет в глубине сего подземелья тайну, которая была предметом его любопытства; но, с другой стороны, темнота ночи, казалось, препятствовала ему в таковом открытии. Пещера, вероятно, могла быть логовищем свирепых и ядовитых зверей. Долженствовал ли он подвергать себя их ярости и без славы погибнуть в сей ужасной пропасти жертвою непростительной дерзости? Напоследок, он решился отложить предприятие до утра, в намерении прибыть к пещере вместе со днем; но, смотря по времени, он рассудил лучше продолжать свой путь к замку Дорнгейм, в который он уже страшился поздно приехать, чтоб быть в нем приняту.
Итак, он соединился с Морицем, над коим страх произвел столь сильное впечатление, что он лишился разума. Бедный оруженосец рассказывает своему господину, что он был преследуем духом, что слышал страшный рев, происходимый из пещеры.
Родольф, хотя и был тихого и кроткого нрава, потерял наконец терпение, воспалился гневом на трусость своего оруженосца и укорял его за глупые басни с такою силою, что постепенно возвратил ему рассудок и привел в себя.
Лишь только двое наших путешественников сделали несколько шагов, как увидели сквозь деревья великий свет. Мориц вдруг затрепетал и хотел повернуть лошадь, ибо явление огненного шара возмущало еще его воображение и заставляло позабыть, что он находился близ замка Дорнгейм. Кавалер заключил, что сей свет происходил оттуда, и его мнение было справедливо. Приближаясь более, увидел, что вся фасада замка была иллюминована; а сквозь шум, слышанный в его окружности, различил он приятный звук превосходной музыки.
Хотя сердце Родольфово было мало расположено увеселяться сими наружными празднествами, однако он с удовольствием приметил, что моста еще не подняли и что привратники, стерегущие вход замка, еще не ушли; ибо намерение его было, если бы замок нашел он запертым, лучше провести ночь в лесу, нежели будить всех в столь неприличное время. При звуке рога, привешенного к воротам, они тотчас отворились. Сенешал[1] приблизился и пригласил благосклонно кавалера войти, сказав ему, что в сей день доступ всякому был свободен. Родольф спросил немедленно у него, какое счастливое происшествие подало случай к увеселению, которое он находит в замке. Сенешал отвечал ему, что в нем праздновали будущий брак барона с девицею, в которую он влюбился недавно; и что он учредил в сие самое утро, чтобы чрез три дня она вступила во владение замка. Потом кавалер требовал позволения говорить с Фридериком, и его повели в огромную залу, куда Фридерик не замедлил появиться.
Родольф приподнимает несколько свой шлем и к нему приближается; но Фридерик прежде, нежели совсем узнает кавалера, и не давая времени ему говорить, обнимает его с доказательствами живейшей нежности.
— Возможно ли, — вскричал он, — любезный друг, что я вас здесь вижу! Ваш приезд в таковое время был предметом живейшего моего желания; но я не осмеливался надеяться такового благополучия.
— Сей приятный прием, дражайший Фридерик, — отвечал кавалер, — есть для меня новое доказательство ко мне вашей дружбы; он усугубляет удовольствие, которое я имею вас видеть.
— Не приписывайте восторг мой единой дружбе, — возразил Фридерик, — выгода моя участвует в нем много. Видеть вас, конечно есть великое удовольствие для меня всегда; но ныне храбрость, подобная вашей, может соделать благополучие моей жизни; ваш приезд в сии места исторгает меня из ужасов отчаяния.
— Какой столь злосчастный случай, любезный друг, может вас привести в отчаяние? Какой услуги ожидаете вы от меня? И довольно ли я благополучен, чтоб рука моя могла быть для вас полезна?
— Теперь не время более мне изъясняться. В средине толпы, которая без разбора входит во все покои замка, могут нас услышать; завтра поутру мы пойдем вместе в лес. Между тем, я поведу вас в гостиную; после путешествия толико многотрудного, несколько отдохновения может быть для вас необходимо нужно; пойдемте, но в средине беспутств и глупостей подлых льстецов отца моего, пускай воспоминание прежней нашей дружбы займет ваше сердце, и что я вас нахожу таковым же, каким казались вы мне всегда, другом, на коего могу положиться.
Сии слова Фридерика, а более еще смятение и внутреннее беспокойство, которые были приметны в его виде, изумили и встревожили Родольфа; однако он повторял предложения своей услуги, и они пошли вместе в большую залу замка. Фридерик представил друга своего отцу своему, окруженному в то время великим множеством гостей, прибывших брать участие в празднестве. Едва барон услышал произнесенное имя Родольфово, он поспешно оборотился к нему; но вместо того, чтоб сделать приветствие при таковом случае, он смотрел на него несколько времени с великим вниманием, не говоря ему ни слова.
Родольф, который не ожидал такого приема, остался в изумлении и смущении, а Фридерик казался чувствительно тронут холодностию своего отца в рассуждении друга, которому был он столько обязан.
— Государь, — сказал он барону, — я уже вас предуведомил, что это был сей великодушный кавалер, который подвергал свою жизнь опасности самой очевидной, дабы исторгнуть меня из неприятельских рук в минуту, в которую, будучи в усталости и слабости от потери крови, я не мог защищаться.
После сих слов барон, проснувшись как будто от глубокой задумчивости, сказал:
— Я буду всегда стараться, сын мой, всеми удобными случаями доказать ему, так как и всем, какую цену полагаю я за сию жизнь, которую он спас.
Потом, обратясь к Родольфу:
— Храбрый кавалер, — сказал он ему, — прошу простить мне сие неумышленное рассеяние мыслей; в ту минуту, когда вы вошли, разум мой погружен был столько во множестве различных размышлений, чаю, имя ваше не вдруг воспомянуло мне неоцененное благодеяние, которым я вам обязан. С чистосердечною радостию объемлю избавителя моего сына и изображаю чувствия почтения и благодарности, которые он давно уже в меня внушал. Я весьма рад видеть вас у себя в замке. Осмеливаюсь себя ласкать, что вы мне докажете долгим вашим пребыванием, сколько вы будете уверены в удовольствии, причиненном вашим присутствием.
Родольф сделал на сие приветствие приличный ответ, и после некоторых учтивостей барон предложил ему скинуть его оружия; кавалер отказался, но, будучи убеждаем усильными прошениями, он напоследок согласился и удалился в особливую комнату; он нашел в ней своего оруженосца и одного из слуг замка, который поднес ему, по приказанию барона, весьма богатую одежду, дабы он в оную оделся, когда скинет оружия.
Между тем, как Мориц скидывал перевязь, Родольф приметил, что рука его дрожала.
— Как, — сказал он, — ты еще не оправился от ужаса, коим был ты объят в лесу?
Оруженосец в том признался.
— Разве с вами случилось какое-нибудь печальное приключение в сем лесу? — спросил баронов слуга.
— Мы проходили близ входа одной пещеры, — отвечал Родольф. — …Но никто не может тебе пересказать обстоятельнее, как сам Мориц, об ужасных привидениях, кои, он утверждает, будто бы видел.
— Вход пещеры! — вскричал слуга. — И близ сего замка?
— Едва ли будет полмили расстояния, — отвечал кавалер.
— И вы в ней ничего не видали? — сказал слуга.
— Что же бы мог я в ней видеть? — спросил Родольф с некоторым содроганием.
— Столько ужасных предметов оказалось в сем злосчастном месте, — отвечал слуга, — что с давнего времени уже никто не осмеливается к нему приблизиться. Сия пещера, конечно, есть жилище злых духов; часто слыхали выходящие из недр ее томные стенания или мучительные вопли, иногда шум, подобный источнику или грому, угрожающему издали в тучах. Всеобщее мнение есть то, что в сем месте было учинено смертоубийство и что душа умершего приходит обитать в место, где она была разлучена с своим трупом.
— Мориц, — сказал Родольф, — сей слух носился ли здесь, когда ты жил в замке?
— Я о том нечто слышал, сударь, — отвечал оруженосец, побледневший больше еще прежнего.
— А сколько тому, как сии слухи и видения начали делать сию пещеру страшною? — спросил кавалер.
— Мне сказывали, сударь, — отвечал слуга, — что первое чудо, поражающее взоры, было сияющий свет, который окружал вход пещеры тому двадцать пять лет, около того времени, как теперешний господин сего замка прибыл получить оный в наследство. Впрочем, я не могу ничего сказать вам в сем случае вероятнее; ибо едва ли будет три месяца, как я живу здесь, и все происшествия столь давней эпохи были мне различно рассказаны разными особами, живущими в сем замке.
— Но ты, Мориц, — перехватил Родольф, — приехавший жить сюда с теперешним господином, не можешь ли вспомнить о подробностях явственнее оных? Не имеешь ли какого познания вернее о том, о котором говорят, что был убит? Не знаешь ли, какая бы это была особа?
— Вероятно, какой-нибудь путешественник, проезжающий сей лес, — отвечал оруженосец. — Впрочем, сие смертоубийство было не что иное, как неосновательный слух; а сия пещера была уже страхом для всех соседних деревень гораздо прежде того, как барон поселился в сем замке.
— Сия пещера имеет ли какое особливое имя? — спросил кавалер.
— Ее называют Пещерою Смерти, — отвечал слуга.
Родольф перестал более вопрошать и пребывал в мрачном молчании. То, что с ним самим приключилось, чудо, которому был он свидетелем, не позволяли ему слышать без содрогания всего того, что ему сказывали о сем лесе, и повествование слуги живо впечатлевалось в душе его; желание, которое он имел, проникнуть в самые глубокие пропасти пещеры, возгоралось от часу более; он рассудил, что будет благоразумно не открывать намерения, которое он желал произвесть, не знавшего, берет ли кто участие противиться ужасным открытиям, которые долженствовали быть заключением при его входе в пещеру.
Когда он оделся, то возвратился в большую залу, в которой барон и его сын приняли его с новейшими доказательствами радости. Великолепный пир был приготовлен. Барон посадил Родольфа подле себя на самом высшем месте, обходился с ним, как с гостем самым отличнейшим. Между тем, кавалер примечал, что барон почасту устремлял глаза свои на него с весьма приметным вниманием, и их отвращал поспешно, когда он с его глазами встречался. Что же касалось до Фридерика, его унылый и мрачный вид показывал довольное смятение его души; он не принимал никакого участия в разговоре, и если иногда маловременная улыбка проникала мрак его глубокой меланхолии, это только тогда, когда взоры его обращались на нового гостя.
Когда кавалер положил руку на стол, сияние перстня, который был у него на руке, поразило взоры барона; он хвалил богатство оного и просил позволения рассмотреть оный вблизи. Родольф скинул его немедля и ему представил; он сделан был из большого рубина и осыпан бриллиантами. Барон смотрел на него с величайшим вниманием и уверял, что никогда столь хорошего он не видывал.
— Я весьма знаток в галантерейных вещах, — присовокупил он, — и не сомневаюсь, кавалер, чтоб вы сами не имели весьма тонкого и знающего вкуса в сем случае; я сужу о том по выбору, который вы сделали в столь совершенном камне.
— Уверяю вас, сударь, — отвечал Родольф, — что я весьма мало способен ценить его; а что делает в глазах моих сей перстень столь драгоценным, то не богатство, которому я очень худой судья; но потому, что он есть единое наследство, оставшееся после отца моего, коего лишение я всегда оплакиваю.
Барон распространялся еще в похвалах перстня, и вручил его напоследок в руки Родольфовы. Пир продолжался во всю ночь, и заря начинала уже появляться, когда гости встали и разъехались довольными великолепным приемом. Барон повел сам Родольфа в комнату, которую он для него приготовил, и после самых ласковых приветствий, он в ней его оставил. Возвращаясь, он встретился с Морицем, который шел к своему господину. Он его знал особенно и изъявил удовольствие, которое он имел, увидя его в своем замке.
— Я весьма сожалел, — примолвил он, — что ты нашел некоторую причину неудовольствия в службе моего сына, и хотя ты его оставил, однако ж всегда можешь положиться на мою дружбу и покровительство.
Оруженосец его благодарил, и барон сказал ему, что, желая с ним более поговорить, желал бы, чтоб он пришел завтра поутру в его комнату, как скоро он встанет.
Мориц пошел потом к своему господину, который скоро его отпустил, и лег спать; но много протекло времени прежде, нежели он закрыл глаза. Таинственные слова Фридерика, меланхолия, в которую казался он погруженным: все споспешествовало придать кавалеру живейшее беспокойство о роде тайны, которую он должен был ему вверить. Но он был еще гораздо нетерпеливее войти в пещеру, о которой рассказывали столь странные повествования. Он блуждался в тщетных мнениях в поводе к шуму, которым утверждали, что слышали, и удивительных предметах, которые, как сказывали, видали; и он был легко уверен, что сия пещера была театром какого-нибудь ужасного смертоубийства. Однако, если бы сам не был свидетелем происшествия, которое он почитал за чудное, то счел бы сию молву за простонародную сказку, которая была основана некоторыми суеверными и легковерными крестьянами.
Наконец мысли его, которые редко отвращались столь долгое время от предмета нежной его любви, обратились опять к нему с обыкновенными размышлениями. Удовольствие видеть себя столь близко от жилища Констанции вселилось в его сердце и отвлекло все прочие мысли. Уже воображение его, как казалось, истощило все приятные обстоятельства, которые могли бы провождать столь трогательное свидание, и он не переставал приводить себе на память и углубляться в каждую из сих приятных мыслей, когда наконец, будучи в усталости, он предался сну.
Сновидения его были весьма разнообразны от приятных мыслей, в коих он заснул; они, конечно, были злосчастны, таинственны и ужасны. Ему казалось, будто он был за столом барона; очаровательные звуки музыки раздавались еще в его ушах, радость блистала в глазах гостей, а свет великого множества факелов придавал ночи сияние лучшего дня, как вдруг сия живая ясность затмилась от явления густой тени, которая то пробегала по всему столу, то оставалась висящею посредине. Родольф и все гости поднимают глаза; они видят гнусное страшилище вроде исполина, который медленным полетом переправлялся по воздуху над их головами. Его страшный и унылый вид объял ужасом все сердца; и между тем, как гости устремляли на него томные взоры, некоторый голос, исходящий из-под земли, произнес сии слова:
Роковой час приблизился; исполнители мщения готовятся разить виновного.
После сих слов, замок колеблется до основания; страшилище машет своими крыльями, и в тот же миг густой туман поднимается и покрывает всю залу. Родольф не мог более различать предметов; но в средине сего густого мрака, три раза ужасные вопли поражали его слух. Вдруг быстрый луч света, происходящий с востока, освещает место, которое занимал кавалер; он подымает глаза и примечает облако, подобное тому, которое в лесу показывало дорогу к Пещере Смерти. Скоро потом различает он среди залы воина, покрытого блистающими оружиями и имеющего на своей груди знак Креста. Сияние, его окружающее, рассеивает туман, и Родольф примечает, что из всех гостей, собравшихся на пир, остался он только один. Гнусное страшилище также исчезло при приближении сего, не столь уже ужасного привидения, который, сходя с облака и смотря на кавалера очами, исполненными небесною благостию, простер руки, дабы облобызать его. Родольф, будучи в содрогании, какового он еще никогда не чувствовал, силится приближаться к нему; но он не успел еще дотронуться до привидения, как все его вещество исчезает; блистающая его броня пропадает, и кавалер, увидев, что он не что иное прижал к своей груди, как скелет, трепещет и отступает от ужаса назад, отверзая руки. Привидение, однако ж, не поверглось на землю; но, делая движение в воздухе окровавленною шпагою, которою сначала не действовало, оно произнесло сии слова слабым и томным голосом: Из сей оледенелой руки прими сию шпагу, которая должна отплатить за мою смерть, и привести тебя в принадлежащие тебе права. И тотчас оно исчезло.
Трепет и ужас разбудили Родольфа; члены его были покрыты холодным потом; во время нескольких минут едва осмеливался он поднимать глаза, страшась повстречаться с каким-нибудь ужасным предметом, и страх, который вкрался в его сердце, был для него, может быть, самое трудное беспокойство, потому что в первый раз почувствовал он оного прикосновение. Однако постепенно он увидел, что все сие было ни что иное, как сон; но как он ни прилагал старания, да бы отвлечь себя от сих ужасных воображений, душа его чувствовала еще впечатление оного; он приписывал сему сновидению скрытую важность и не верил, чтоб это могло быть пустое мечтание, произведение разгоряченного воображения, которое причиняло ему столько живое содрогание.
Утро уже весьма приблизилось. Родольф встает, садится к окну и предается размышлениям. Слова сего привидения, которое вдруг потом приняло столь гнусный вид, раздавались еще в его ушах, и он твердо уверился, что скоро некоторое происшествие откроет ему смысл сего оракула. Все его догадки не позволяли ему отгадать, кто бы был тот, за которого привидение, казалось, принуждало его к мщению, а иногда он принужден был думать, что это был тот, который, соображаясь с простонародными слухами, был убит в Пещере Смерти.
Он предавался еще сим размышлениям, как увидел присланного от барона, который приглашал его завтракать в свою комнату; он пошел и застал барона одного, который принял его весьма отлично, и осыпал его всеми похвалами, какие только самая лестная учтивость может произвесть. Он хвалил его характер, а особливо его героические деяния; но все сии приветствия причиняли более кавалеру горести, нежели удовольствия, коему чрезмерная скромность соделывала наказанием похвалы самые истинные. Он немедленно воспользовался случаем обратить разговор на другие предметы, и старался отвечать на все вопросы, которые барон делал об землях, которые он проезжал во время своего путешествия. Барон спросил его наконец, какое было его отечество.
— Я родился в городе Праге, сударь, — отвечал кавалер.
— Посему отец ваш был из Богемии? — спросил барон.
— Вам покажется, может быть, странно, сударь, — отвечал Родольф, — что я истинно не знаю, какое было отечество отца моего. Изабелла фон Глацдорф, мать моя, была из самой древней богемской фамилии; но я потерял в малолетстве родителей моих, и не могу ничего о них помнить. Я не знаю их несчастий, как токмо некоторую часть, и то из повествований дяди, которому должен я воспитанием.
— Вы возбуждаете мое любопытство, — сказал барон. — Могу ли вас спросить, какие сии несчастия, в коих вы находились столь молоды, и вас окружали?
— Я не могу вам сделать точного повествования, — отвечал кавалер. — Дядя мой в своей молодости принял на себя Орден Мальтийского Кавалера и обязался служить у Бодуина II, короля Иерусалимского, притесняемого тогда всеми своими неприятелями. В сражении, на котором принц имел несчастие сделаться пленником турка Эмира Балака, всеобщая молва объявила, что дядя мой был убит. Но судьба оставила его на мучения, гораздо жесточайшие. Он впал живой под власть неверных, которые держали его в жестоком невольничестве одиннадцать лет; напоследок он выдумал некоторое средство для своего спасения; но при возвращении в Прагу, в минуту, в которую ласкал себя позабыть свои несчастия в объятиях своего семейства, он жестоко обманулся в своем надеянии. Отец и мать его умерли так, как и старший его брат. Младший, будучи уверен, что он более не существовал, отказал все его имение в завещании дальним родственникам, не сделав никакого в его пользу исключения в предположении его возвращения.
Сестра его была одна из всей его фамилии, которая еще жила; но он употребил многие дни к открытию убежища, в которое она удалилась; когда же искания его получили некоторый успех, какое беспокойство почувствовало великодушное его сердце при воззрении на сестру, лишенную разума и оставленную на пропитание посторонних! Он узнал от них, что сия несчастная, после смерти своих родителей, оставшись в зависимости своего брата, заслужила немилость замужеством своим с Альбертом фон Фаренбахом, молодым чужестранцем, о котором они другого ничего не могли сказать кроме того, что он отличился в ратоборстве с одним благородным богемцем, его соперником.
Спустя несколько времени, взявши ее за себя, он принял крест и отправился сражаться с неверными, дабы совершить желание, которое он имел еще прежде, нежели думал жениться. После двухлетнего отсутствия, слух о его смерти распространился. Супруга его не могла противиться жестокости своей горести: она занемогла горячкою с бредом, которая чрез несколько дней довела ее до крайности. Она избегнула, однако, смерти; но никогда не могла возвратить употребления разума. Уже несколько было месяцев, как она в плачевном положении находилась, когда брат ее приехал к ней; он взял нас потом к себе в дом, мать мою и меня, который родился после отъезда моего отца. Он призывал самых искуснейших лекарей и не жалел ничего, дабы вылечить от сумасшествия свою несчастную сестру; но старания его были бесполезны. Глубокая меланхолия, в которой душа ее была беспрестанно погружена, привела ее во гроб. Она умерла с год спустя после возвращения своего брата, жертвою несчастной любви и отчаяния.
С того времени, вся нежность дяди моего, которую он к ней имел, обратилась ко мне. Он делал все усилия, дабы иметь некоторое сведение о родственниках моего отца, в намерении доставить мне их покровительство; но он никогда не мог открыть, в которой части Германии они обитали. Мать моя в сумасшествии сожгла письма, которые получала от моего отца, и следовательно, истребила единые доказательства, которые бы могли дать некоторое об нем познание. Она сохранила сей только перстень, оставшийся после него, который вы в прошлую ночь рассматривали с толиким вниманием: это был первый подарок, который она от него получила, и до последней минуты ее жизни носила его на своей руке.
Но, хотя дядя мой не имел никакого успеха в изысканиях, которые он делал о моих родственниках, впрочем, милости его не дали мне чувствовать их потерю. Доход его был весьма умерен; но он уменьшил некоторые свои собственные расходы, дабы доставить на издержки моего воспитания. Коль скоро был я в состоянии носить оружия, он хотел сам быть моим вождем на стезе славы. Будучи довольно несчастен, не зная отца, дарованного мне природою, я всегда имел к сему великодушному дяде сыновние чувствования. Увы! несколько тому лет смерть у меня его похитила; но почтение и любовь впечатлели в моем сердце его образ неизгладимыми чертами, и до последнего моего издыхания признательность будет представлять его благодеяния в моей памяти.
Барон слушал сие повествование с великим вниманием, и различные движения лица его казались предвещающими участие, которое он брал в несчастиях злополучной Изабеллы. Кавалер то приметил, и был доволен его чувствительностию. Они разговаривали еще несколько времени вместе; но Родольф, вспомнив желание, которое Фридерик оказал особенно говорить, вознамерился пойти к нему. Он встал, простился с бароном, и их разлука была сопровождаема выражениями самыми лестными учтивости.
При выходе из комнаты барона, он шел по длинной галерее, где нашел Фридерика, прохаживающегося большими шагами.
— Какой привлекательный разговор, — сказал ему сей стремительный молодой человек, — мог вас удержать столь долгое время у отца моего? Уже около часа, как я вас здесь ожидаю.
— Я для того долее у него остался, — отвечал Родольф, — будучи в надежде, что вы не замедлите прийти за мною; но видя, что вы не приходите, я подумал, что вас удержали в другом месте. Итак, я пошел к вам, совсем не воображая, чтоб вы меня здесь ожидали.
— Мне невозможно было предстать пред моего отца; душа моя находилась в сильном волнении, и я не мог себя к тому принудить. Но сие место неудобно для тайного разговора; пойдем в другое, где б мы могли избегнуть опасности быть услышанными.
После сих слов он берет Родольфа за руку и выводит его из галереи.
Пришедши к воротам замка, они нашли их отворенными и вошли в лес. Родольф следовал за Фридериком, и оба пребывали в глубоком молчании. Напоследок, когда прибыли они к месту, из коего замок был не видим, Фридерик оставляет руку Родольфову и, смотря на него пристально, сказал:
— Могу ли я вас всегда называть моим другом?
— Можете ли вы в том сомневаться, — отвечал Родольф, — и хотите ли вы меня обидеть, думая, что мое поведение в рассуждении друга, к которому я всегда оказывал привязанность, могло подать повод к такому вопросу? Нет, никогда я не забуду ласковостей, коими вы меня осыпали; и я еще в состоянии произвесть другие доказательства, кроме слов признательности чувствований, которые вы в меня внушили.
— Это правда, дражайший Родольф, — вскричал Фридерик. — Я не забыл, что вашей дружбе обязан я жизнию, между тем как моя не сыскала еще случая оказать себя иначе, как токмо в тщетных уверениях. Правда, я могу быть в состоянии изъявить вам наконец гораздо более основательных доказательств моей признательности; но прежде я должен еще прибегнуть к сей храбрости, которой я уже столь одолжен, и услуга, которую я от вас ожидаю, есть такова, что если вы мне оную откажете, то лучше бы для меня было, чтоб рука ваша не вооружалась для моей защиты; ибо без счастия что уже значит жизнь?
— Ах! какое же это, дражайший Фридерик, — сказал с живостию Родольф, — какое же несчастие возмущает спокойствие дней ваших? Ваши смущенные глаза, некоторые выражения, от вас вырвавшиеся, все заставляет меня страшиться самого злополучного несчастия.
— Так! — сказал Фридерик. — Если вы меня оставите, величайшее из всех несчастий готовится поразить меня. Я вижу любовницу, которую обожаю, впадающею в руки другого.
— Как! любезный Фридерик! — сказал Родольф. — Вы уже почувствовали силу любви? Кто такая сия столь прелестная любовница, и каким способом могу я для вас ее сберечь?
— Прежде, нежели я вам далее откроюсь, — сказал сей молодой человек, — должно, Родольф, чтоб я вас обязал формальною клятвою, дабы вспомоществовать моим намерениям.
— Совсем не надлежит мне, — возразил кавалер, — принуждать себя обещаниями, поелику и без сего обряда я готов исполнять как в сем обстоятельстве, так и во всех прочих, которые могут встретиться, то, что дружба и честь требуют от меня.
Фридерик неотступно требовал с живостию и чрезмерною ревностию, но Родольф был неумолим. Связь его с сим молодым человеком не была основана на сходстве нрава и мыслей: они находились вместе на войне, и сие нечаянное соединение похитило имя дружбы. Когда Родольф спас Фридерика от опасности, угрожающей дням его, сей, почитая своего избавителя, как храбрейшего из человеков, с великим старанием искал его дружбы, и при всех случаях оказывал к нему величайшее почтение; но хотя беспрестанные ласки и учтивости Фридерика соделали живейшее впечатление в чувствительном сердце кавалера, впрочем, он не был ни довольно слеп, ни довольно безрассуден, чтоб кинуться без размышления, не исследовав намерений молодого человека, коего неумеренность и стремление знал он, и который, без его разумных советов, был бы своими страстями увлечен в великие замешательства.
Когда Фридерик приметил, что друг его упорствовал в своем отказе и не хотел обязываться никакою присягою, тогда он перестал беспокоить его своими требованиями и сказал, что он хочет сделать ему новое доказательство доверенности, которую он имеет к его дружбе. Итак, приступил он к подробному описанию обстоятельств, которые принудили его просить у него помощи.
— Вы должны себе припомнить, — сказал он, — что, когда отец мой повелел мне оставить армию и прибыть к нему, это было для того, чтобы меня уверить, что он имел самую величайшую нужду в моем возвращении. Итак, я не медля поехал и спешил прибыть сюда. Я услышал по приезде моем о браке, который отец мой имел в намерении. Он старался о сем меня сам уведомить, опасаясь, что если бы я получил сие уведомление чрез другого, то не был бы я уверен, что интерес мой не будет оскорблен, и чтоб я не воспрепятствовал в его намерениях. Я был тем менее приведен в удивление, что сию сторону он принял; ибо я уже знал, что после смерти другого его сына, он видел во мне с огорчением последнего из своих отраслей; притом он был встревожен каким-то суетным пророчеством или сновидением, которое соделало впечатление над его разумом. Я слыхал только, что он почитал свое семейство как угрожающим великим несчастием до тех пор, пока оно будет состоять в одном наследнике мужеского пола. Он никогда не хотел откровенно мне изъясниться в сем пункте; и я не понимал, на чем беспокойство его было основано; а то, что знаю, он понуждал часто меня к женитьбе с жаром, который мне весьма опротивел; и всегда казался он весьма недовольным противностию, которую я оказывал к такому обязательству.
Когда же он изъявил мне, что желание его было представить меня супруге, которую он избрал, и ожидал видеть меня воздающим ему почтение и повиновение сыновнее, я последовал за ним к месту, в котором она обитает, будучи весьма доволен тем, что он возымел больше желания взять ее себе в супружество, нежели меня к оному принуждать. Но как вам изобразить, дражайший кавалер! внезапную перемену, которую вид сей несравненной красоты произвел в моем сердце! Сие сердце, до тех пор нечувствительное, почувствовало в минуту необоримую силу ее прелестей.
Я был столько равнодушен к сей женитьбе, что не осведомился о той, которая была оной предметом; я не думал даже спрашивать, пригожа ли она была. Посудите вы сами, любезный друг, если когда душа ваша, которая нежнее моей чувствовала влияние красоты, — посудите ж, какое было мое смятение, когда в особе, коей готовился я воздавать почтение, как мачехе, я увидел самое пленительнейшее и любезнейшее создание, какое только есть в свете! Я себе воображал, что супруга отца моего долженствовала б иметь лета, соразмерные летам его; но первые цветы юности блистали на ее лице… в ее чертах… глазах… Ах! кавалер, я тщетно буду вам ее описывать! Если вы не обманываете мою надежду, то в скором времени ее увидите и поверите мне. Не желая унизить вашей услуги, осмеливаюсь вас уверять, что образ столь редкой красоты была б единая достойная награда ваших великодушных стараний.
Когда я был ей представлен, она была украшена всеми убранствами, какие только искусство может выдумать, дабы придать новое блистание природным ее приятностям. Ей приказали почитать меня сыном того, коему рука ее была обещана; но при воззрении на меня, она смутилась и щеки ее, прежде довольно бледные, покрылись вдруг краскою. Как скоро она позволила мне взять ее руку, я оную прижал к моим с такою горячностию, которая заставила совсем позабыть, под каким видом должен был я делать ей приветствие. Сие действие слишком усугубило ее смятение; она старалась отнять руку; глаза ее наполнились слезами, и потом она скрылась.
Не для того, чтоб мне себя льстить, здесь присоединяю я сии знаки печали к действию, произведенному над нею моим присутствием. Она, конечно, сожалела, что моему отцу, а не мне обещали ее руку, и, опасаясь, чтобы ее смятение не обнаружилось пред глазами тех, которые могли бы ее в том винить, она старалась оставить положение, в котором, как я сужу о сем по собственным моим чувствованиям, было ей весьма трудно успокоиться. Это было, конечно, для меня счастие, что ее скромность, или, может быть, застенчивость превышала мою. Без сего, я изменил бы себя, без сомнения, пред глазами ее отца и моего в сем роде восхищения, в которое первый взор ее прелестей ввергнул меня; и я еще не пришел в себя, как рассудил, что самые сильные побудительные причины поставляли мне долгом содержатьмою новую страсть тщательно скрытою.
Впрочем, это было больше глупое ослепление с их стороны, нежели мое притворство, которое препятствовало им открыть сокровенные мысли. Я имею различные доказательства думать, что они совсем были сокрыты от их проницания. Правда, что глубокая задумчивость, в которую мой отец видел меня погружающегося, могла б обнаружить тому причину; но он присоединял ее к страху, чтоб мой интерес не претерпел слишком от союза, который он имел в намерении, и я признаюсь, что в рассуждении сего, душа моя не была освобождена от всех беспокойств. Поистине полагая намерение отца моего не весьма для меня полезным, если б случилось, что он имел других детей; не вероятно ли б было, что женщина столь молодая и прекрасная овладела бы его сердцем, дабы склонить его сделать в их пользу распоряжения, которые весьма уменьшили бы состояние, которого с давнего уже времени имел я право ожидать.
Но таковые причины весьма слабы, дабы привлечь теперь мое внимание. Богатства, почести, — я отказался бы от всего с радостию, чтобы иметь счастие обладать сею несравненною красотою. Когда я думаю, что она достается в руки другого, когда вижу ее пожертвованною старику, которому седые волосы запрещают желать руки столь прелестной женщины, бешенство приводит меня в ярость; сердце мое готово предаться в гнев и отчаяние. Если вы не имеете обо мне сожаления… ах! Кавалер, можете ли еще колебаться, можете ли вы отказаться мне в помощи!
— Я чувствительно тронут вашим состоянием, дражайший Фридерик, — отвечал Родольф. — Но меня наипаче сокрушает то, что вы предали свое сердце страсти, против которой восстают толикие препятствия.
— Ничем иным, — сказал с живостию Фридерик, — как вашею помощию могу я их преодолеть.
— Разве для похищения вашей любовницы просите вы моей помощи? — сказал Родольф. — Дайте мне несколько времени в обстоятельствах такового предприятия подумать.
— Все рассмотрено, — прервал его речь Фридерик, — и я знаю, что одним токмо способом можно удовлетворить мою любовь, не разрушая своего состояния. Барону Дорнгейму рука ее обещана честолюбивым видом. Когда б мне было возможно обмануть бдительность и похитить ее из его замка, — я весьма уверен, что буду лишен наследства отцом в ярости. Итак, должно, чтоб титул барона Дорнгейма принадлежал мне, чтоб имение его было мое… Ах! Родольф, можете ли вы не отгадать, друг мой, и не видеть, какая та услуга, которую я от вас ожидаю!
Родольф затрепетал и смотрел на сего разъяренного молодого человека с удивлением и ужасом, как будто бы искал на лице его подтвержения страха, который слова его в него внушили.
— Я желал бы быть сам бароном Дорнгеймом, — сказал Фридерик, несколько помолчав. — Слышите ли вы меня?
— Я не смею думать, что вас слышу, — отвечал кавалер, отворотясь от него с презрением.
— Любили ли вы когда, Родольф, — сказал Фридерик, — и чувствовали ли, что, когда человек есть наш соперник, все чувствия, которые к нему до тех пор имели, исчезают из нашей души? Вы меня слышали, я это вижу; вы знаете, что я хочу отдалить соперника; единая мысль священных уз, которые меня с ним соединяют, ужасает ваше воображение. Но он вам не отец. Я не думаю вознесть на него виновной руки. Но вы, — который есть мой друг, — вы, который не привязаны к нему ни узами крови, ни даже узами благодарности, — когда вы разберете, что для обнадеживания в счастии целой моей жизни, надлежит только ускорить роковой час, который в его летах не может быть весьма отдален…
— Что же такое приметили в моем характере, государь мой, чтобы могло подать вам повод так меня обижать? — сказал Родольф, устремляя глаза свои на него с суровостию. — Разве я убийца?
— Ах! любезный друг, — вскричал Фридерик, — можете ли вы думать, чтоб я был в состоянии вас обижать? Я знаю чрезвычайную вашу чувствительность к чести. Вы, может быть, думаете, что я хотел употребить вашу храбрость в предприятии, недостойном вас? Если б можно было сделать нечаянное нападение на барона, я никогда не прибегал бы к вашей руке, и между людьми моими я легко нашел бы некоторого, расположенного исполнить мои намерения. Но это было б невозможно! барон ни на минуту не бывает один. Я совершенно не знаю причины сей предосторожности; я не слыхал, чтоб он имел неприятелей, коих нападения мог бы страшиться; но это поведение весьма для меня подозрительно. Во время дня с ним беспрерывно бывают некоторые из его официантов; ночью священник и двое слуг ночуют всегда в его комнате. Вы видите при сих обстоятельствах, что он совершенно под кровом от всех нечаянных нападений, и если он имеет свободу защищаться, ваша храбрость одна может преодолеть его сопротивление. Вы, я чаю, слыхали, что он был в своей молодости один из знатнейших воинов Германии, и лета не ослабили еще его руки. Я знаю, что вы будете презирать равнять себя с столь слабым неприятелем, но будьте уверены, любезный друг…
— Не называйте меня более сим именем, — вскричал Родольф. — Я отказываюсь от дружбы отцеубийцы.
Сие слово слишком обидело Фридерика; но после приведения себя до такого пункта в поверенность Родольфа, он не осмеливался являть ему своего презрения и старался лучше привести его к своему намерению новыми просьбами.
— Если бы любовь моя была не столь горяча, — сказал он, — мои предприятия были бы не так безнадежны; но, будучи мучим сильною страстию, я желаю воспользоваться одним случаем, который представляется к получению счастия, которое чрез несколько дней должно быть навсегда в отдалении от моего достижения. Если бы я любил обыкновенную красавицу, можно б было от нее отказаться, но тот, который хотя раз обожал Констанцию…
— Констанцию! — вскричал Родольф с чрезмерным смятением. — Как! Это Констанция!
— Так, Констанция Герцвальд имя той, коея рука обещана отцу моему, — отвечал Фридерик. — Если из сожаления к ней и вашему другу, вы не освободите сию молодую красавицу от столь жестокого жертвования, дабы вручить ее любовнику, гораздо достойнее ею обладать…
— А Констанция отвечает ли на вашу любовь? — спросил Родольф слабым и трепещущим голосом.
— Я в том не могу сомневаться, — отвечал Фридерик. — Я никогда не получал из ее уст сего сладостного уверения, поелику не мог иначе с нею говорить, как в присутствии моего отца; но если я должен в том верить одной из ее женщин, которая есть единая моя поверенная, она имеет отвращение к замужеству, которое ей предлагают, и многие обстоятельства ясно доказывают, что сердце ее питает тайную любовь. Несколько времени я не осмеливался думать, чтоб я был предметом ее нежности; но последнее посещение, которое я ей сделал в замке отца ее, рассеяло все мои сомнения. Ее взоры, ее вид, все изменяло ее сердцу; и если кто примечал внимание, с которым она на меня смотрела, смущалась, краснела, и часто вырывались от нее взоры, которые означали еще живее нежные чувствования, коими душа ее была поражена.
В то время, когда Фридерик таким образом говорил, Родольф был порабощен тысячьми страстей, которые взаимно сражались. Два раза он подносил руку свою к шпаге, и два раза, несмотря на ярость своего ревнивого гнева, он помышлял, что это против своего гостеприимца вынимает он шпагу, и — что он имел оружие, а соперник его не имел. Сия мысль укротила его ярость.
— Фридерик, — сказал он ему, — мы можем еще повстречаться; если же это случится, помните, что мы более не друзья.
После сих слов он поспешно удаляется, и стремится к месту самого густого леса.
Фридерик пришел в странное изумление от такового поступка, коего истинной причины не мог он отгадать. Он не знал, что кавалер видал ли когда Констанцию. Итак, он остался несколько времени безгласен от удивления; ему хотелось его кликнуть, но Родольф, который шел скорыми шагами, был уже весьма далеко. Будучи воспален яростию, укоряет себя, для чего за ним не следовал, дабы истребовать изъяснения слов его, а особливо грозного вида, с которым он их произнес; но кавалер тогда скрылся в самой средине леса, и Фридерик тщетно его искал.
Родольф шел несколько времени, не заботясь о том, в какую сторону направлял он свои шаги. Он представлял себе, что любил без надежды; но когда услышал, что Констанция любила другого, кроме его, он весьма приметил, что до тех пор он внутренне ласкался обладать ее сердцем, Когда прибыл к месту леса, чрезмерно отдаленному от того, в котором он оставил Фридерика, бросился небрежно на траву и дал волю душе своей к безнадежным размышлениям, которые доверенность его соперника в него внушила.
«Итак, Фридерик любим Констанциею! — говорил он сам в себе. — Сия застенчивая и скромная красавица, коея глаза всегда потуплялись, когда мои обращались к ней с чрезмерною горячностию, бросала на него самые нежнейшие взоры! Ах, непостоянная… вероломная Констанция!.. Но для чего ее обвинять?.. Какое имел я право на ее нежность? Подала ли она мне когда надежду, и какую взаимность мог бы я от нее ожидать в любви, о которой я никогда не изъяснялся? Ах! для чего я уехал, не изъявив ей моих чувствований! Какую идею могла бы она представить себе из силы моей страсти, потому что и в самом ее присутствии был я довольно силен, дабы привести ее в совершенное молчание! Многие годы протекли уже, как я с нею разлучен. Может быть, в продолжении столь долгого времени не слыхала она произнесенного моего имени ни одного раза, а если она содержит меня в своей памяти, может быть, почитает за человека, над которым прелести ее сделали только маловременное впечатление; может быть, думает она положиться более на любовь первого обожателя, который ей сказал, что она прелестна, нежели на чувствования истинного любовника, который ею дорожит более своей жизни. Ах! Для чего уехал я, не изъявив ей своей страсти!»
Родольф продолжал питаться сими мыслями, наполненными тоскою и горестию. Он с удовольствием бы променял за все годы, которые оставались ему жить, возвращение некоторых из сих драгоценных минут, которые он провел с нею, — счастливых дней, в которых известен был в ее ко всем другим равнодушии. Влюбленный кавалер мог бы ласкать себя, что она имела к нему некоторое тайное предпочтение. Тогда, может быть, тогда, если бы ее великодушная нежность позволяла ему воспользоваться сим благосклонным расположением, мог бы получить сердце, которого он был более достоин, нежели гнусный злодей, который думал оное приобресть.
Родольф, размышляя о роковой доверенности Фридерика, почувствовал слабую надежду, постепенно возвышающуюся в его душе. Надменность и тщеславие сего гордого молодого человека соделывали для него мечтанием истинные чувствия Констанции; но удовольствие, производимое сими мыслями, исчезало вдруг, когда вспоминал, что Констанция, какие бы ни были расположения ее сердца, долженствовала чрез три дня дать руку барону Дорнгейму.
Он затрепетал при сей ужасной мысли, и, в движении отчаяния вставая с стремлением, остается несколько времени в безмолвии и окаменелым от горести. Скоро потом после сего уныния наступило живейшее желание видеть еще раз предмет его нежности прежде, нежели сей ужасный брак отымет от него навсегда всю надежду. Не в его власти было отказаться от сего наслаждения. Немедленно предпринимает он намерение предстать пред нее, дабы сказать ей, что последнее издыхание несчастного Родольфа будет желанием благополучия Констанции, — решившись наконец проститься навсегда с своим отечеством, и ехать в армию Крижаков, где надеялся найти, в средине батальонов неверных, кончину жизни, которая для него не что иное была, как наказание[2].
В восхищении, которое сия мысль ему производит, он идет скорыми шагами; но не знал совершенно дороги, ведущей к замку Герцвальда, и в сем диком лесу он мало надеялся повстречаться с кем-нибудь, кто бы мог показывать путь неизвестным его стопам; но что его приводило в отчаяние, думая, что он шел по тропинке, которая отдалит, может быть, его от желаемой цели. Однако он не переставал идти. Напоследок сквозь деревья увидел он некоторые башенки; но какая была его досада, когда, более приближаясь, он узнал замок Дорнгеймов! С презрением удаляется от гнусного жилища, в котором соперник его обитает, и бросается на другую дорогу.
По счастию, он не так далеко ушел; но, увидя крестьянина, который шел впереди его, он старается его догнать, и спрашивает у него дорогу, ведущую к замку Герцвальда. Сей человек, который должен был идти мимо, предложил кавалеру быть его проводником. Шедши вместе, крестьянин делал многие вопросы Родольфу; ответы были коротки и часто несообразны с предметами вопросов. Между тем, как вождь его спросил, где он думает ночевать в следующую ночь, — ему приходит в голову, что если б случилось, что он не имел благополучия получить в сей день свидания с Констанциею, ему надлежало б оставаться в лесу до утра. Вследствие чего он спросил крестьянина, близко ли он живет, и не может ли дать ему пристанища в своей хижине. Крестьянин отвечал, что жилище его недалеко отстояло от места, где он лишь только с ним повстречался; он ему предложил в своем низменном убежище все вспомоществования, которые будут от него зависеть. Когда замок Герцвальдов стал у них в виду, кавалер разлучился с своим провожатым, и приблизился к месту, которое заключало в себе то, что было для него на свете драгоценнейшего.
Он мало был знаем отцом Констанции, который, во время пребывания кавалера с нею, предпринял дальние путешествия. Мать ее, с которою она тогда жила в Праге, недавно умерла. Родольф совсем не знал, каким бы способом мог он ее посетить, как приметил слугу у ворот. Он его спрашивает, и узнает из его ответов, что барон Дорнгейм был тогда в замке, и что должен в нем обедать. Сие уведомление решило кавалера не являться прежде, как уже после его отъезда; ибо он никогда не был властен удерживать свою ярость при воззрении на соперника. Итак, он удаляется от ворот в намерении дожидаться вблизи замка. Идучи, он часто взглядывал с ревностию на окна, и весьма желал знать, которые были комнаты Констанции. Хотя он имел предосторожность быть в некотором расстоянии от стены, однако тень одного окна принимала иногда в его разгоряченном воображении человеческий вид. Он тогда с скоростию приближался, лаская себя всегда найти в сем химерическом предмете его дражайшую Констанцию; но наконец рассудил, что может быть увидим слугами, даст им некоторое подозрение, что его и принудило отдалиться от фасады и принять тропинку, ведущую позади замка.
Что касается до положения и крепости, замок Герцвальда был весьма отличен от Дорнгеймова. Строившие его имели не столько попечения к защищению, сколько внимания к виду и приятности. Позади замка простирались великолепные сады, загражденные от леса весьма высокою стеною, окруженною зубцами. Родольф прогуливался вдоль сей стены для препровождения времени, ожидая отъезда баронова. Благополучие, которое имел сей гнусный соперник наслаждаться зрением и разговорами Констанции, заставляло кавалера чувствовать все беспокойства ревности.
На одном из углов стены построена была четвероугольная башня, коея окна ударялись в лес. Родольф проходил мимо, как некоторый голос поражает его слух. Он смотрит, и в одном отворенном окне различает двух женщин, которые были в комнате, но сидели к нему спинами. Влекомый любопытством, от которого не мог отказаться, он приближается и может уже слышать, что та, которая говорила, старалась утешать другую, которая была вся в слезах; а чтобы обязать ее прекратить течение слез ее, она говорила ей все сии рассуждения, столь слабые против истинной печали.
— Позволь мне плакать, — отвечал наконец прелестный голос: это был Констанциин; сердце кавалера узнало вдруг пленительный звук.
— Для того только, — продолжала она, — чтоб плакать свободно, просила я с таким усилием позволения удалиться сюда…
— Но, сударыня, я никогда не видала вас еще предававшеюся в печаль столь сильную, как ту, которая теперь вас обременяет.
— Может быть, это последние минуты, в кои позволено мне будет в нее предаваться, — отвечала Констанция. — Грудь моя до сего дня была весьма успокоена надеждою, что я могла бы наконец преклонить сердце отца моего, и получить по крайней мере более отсрочки, дабы отдалить эпоху брака, коего страшусь более самой смерти; но теперь вся надежда исчезла.
— Но если сие соединение ужасно для вас, на что же ему подвергаться?
— Ах! Леонора, — вскричала Констанция, — можешь ли ты делать мне столь жестокий вопрос? Не делала ли я уже, дабы избегнуть сего ужасного союза, все, что скромность моего пола могла позволить? Есть ли какой способ, который печаль моя не употребила б в дело, чтобы отвратить отца моего от сего злосчастного намерения? Не приводили ли мои неутомимые просьбы часто его в гнев? Какой другой плод получила я, кроме того, что поступали со мною, несколько тому месяцев, с суровостию, которую не воображала я, чтоб могла пережить? Ты знаешь, сколь отец мой мало тронут моими слезами. Если теперь получила я малое снисхождение, дабы избегнуть глаз барона, то в том не должна я сожалению, которое мучения мои внушили, но боязни, чтоб мое необоримое отвращение к сему браку не оказывалось чрезмерно пред глазами барона. Впрочем, он не может того не знать; ибо я помню, что, собрав некогда всю мою смелость и силу, я ему сделала точное признание, надеясь, что в рассуждении его малой чувствительности, он первый отказался б от руки, за которой сердце не могло следовать; но я приметила из его характера весьма снисходительное мнение. Первое действие, которое произвело мое простодушие, было то, чтоб обязать его к скорейшему понуждению заключения брака, в страхе, чтоб время не подало мне какого-либо случая от него избегнуть.
— Я утверждаюсь в мысли, сударыня, — возразила Леонора, — что вы можете еще найти к тому способы. Вы не в глазах. Для чего не возьмете намерения уйти из замка?
— Ах! куда уйти? — отвечала Констанция. — Ежели б какое-нибудь убежище отверсто было для меня, будь уверена, что все шаги мои были бы подсматриваны. Но я не имею друга, который мог бы меня защищать и которому я могла б себя вверить. Если бы я сыскала убежище в каком-нибудь монастыре, барон Дорнгейм не замедлил бы оный открыть и из него меня исторгнуть. Ты знаешь всю обширность его власти. Коликим бы опасностям, еще ужаснее, нежели самая смерть, побег меня подвергнул! Слабая и без защиты девица может ли подумать без трепета ввергнуться в глубокую мрачность сего пространного леса?
— Прошу вас, сударыня, простить вольность, которую предпринимаю вопросить ваше сердце. Живейшее участие беру я в ваших несчастиях, которое одно внушает в меня подобные вопросы, и моя привязанность вам столько известна, что вы не можете их приписать к дерзкому любопытству.
Барон Дорнгейм, это правда, не такой человек, который мог бы привесть вас в чувствительность; однако простите, ежели я осмеливаюсь думать, что, будучи подвластны так, как вы всегда таковой были, приказаниям вашего батюшки, — вы не могли б никогда решиться изъявлять ему с толикою твердостию вашей противности в послушании ему, если б ваше отвращение к замужеству, которое вам предлагают, не имело сильнейших побудительных причин, кроме вашего омерзения к барону. Хотя он гораздо старее вас, — особа его не имеет, однако ж, ничего неприятного, вид его благороден, — я слыхала от вас, что разговор его привлекателен. Что же касается до его характера, вы судите, конечно, справедливо, в рассуждении поступка не столь благородного, который он вам оказал; но вы имели равное отвращение к сему браку, когда знали токмо барона по преимуществу, отдаваемому в разговорах вашим батюшкою, который старался преклонить вас на его сторону.
Итак, государыня, позвольте мне, чтоб я открыла вам здесь сокровенные мои мысли. Я давно уже догадываюсь, что если б любовь ваша не обещана была кому другому, барон Дорнгейм легче мог бы получить вашу руку. Посему осмеливаюсь вас просить удостоить меня вашею доверенностию; верность моя вам докажет, что я была не недостойна сей благосклонности. Открыв ваше сердце мне, вы почувствуете облегчение и весьма усладительное утешение; а может быть, подадите мне случай оказать вам важную услугу.
Леонора перестала говорить, а Констанция, пребывая несколько минут в молчании, наконец начала говорить.
— Ежели я, — сказала она, — сокрывала до сего времени в моем сердце такую тайну, — вот минута к ее открытию.
— Так, сударыня, — отвечала Леонора, — вот единая минута; другой, может быть, вам не позволят.
— Твоя правда, — сказала Констанция, заливаясь слезами. — Послезавтра… Небо! какая ужасная мысль! Послезавтра будет уже преступлением думать, что когда-либо я его видала.
— Итак, я весьма предузнавала, — вскричала Леонора; — но поелику, сударыня, вы благоволили дать мне сию первую доверенность, не могу ли же вас спросить, кто таков тот счастливый смертный, который соделал в вашем сердце столь глубокое впечатление?
— А какая тебе нужда его знать? — отвечала Констанция. — Я не могу… Уста мои не осмеливаются произнесть его имени.
— Позвольте мне самой, сударыня, — сказала служанка, — его наименовать.
— Этого совсем тебе невозможно, — возразила Констанция.
— Была, однако ж, такая минута, в которую, думаю, я его открыла.
— О небо! — вскричала Констанция. — Не изменила ли я сама себе? Разве вырвалось от меня какое неразумное слово?
— Нет, сударыня! — отвечала Леонора. — Ваши уста вам не изменили, но глаза ваши не были вам верны. Последний раз, как Фридерик был здесь, вы смотрели на него с живостию… с участием…
— Возможно ли, чтоб меня приметили? — возопила Констанция. — Ах! Леонора! осмеливалась ли я когда говорить с Фридериком? Могла ли я когда сделать ему вопрос? Некогда собралась я со всеми своими силами, — но повстречалась с глазами отца моего, и я осталась в безмолвии, в страхе, чтоб не подать ему некоторого подозрения. Мне казалось, что, если б я могла особливо говорить с Фридериком…
Родольф затрепетал, и бледность отчаяния покрыла лицо его.
— Нетрудно сыскать случая с ним говорить, — отвечала Леонора, — он часто будет являться.
— Так, в Дорнгеймов замок, — сказала Констанция с движением нетерпеливости, — но тогда будет уже весьма поздно. Я не могу, это правда, дать руки моей барону; но если бы когда я и могла решится на сие, то было б не тогда, когда душа моя занята мыслями о другом человеке. Ах, если бы могла я узнать только, жив ли он еще!
— Кто, сударыня? — сказала Леонора. — О ком вы говорите?
— Приметила ли ты шлем, который был сегодня на Фридерике? — сказала Констанция.
— Так, сударыня, не тот ли шлем, на котором вместо кисти дракон с распростертыми крыльями? — спросила Леонора.
— Я желала б… мне нужно знать, откуда достался ему сей шлем, — присовокупила Констанция.
— Почему же, сударыня, может это вас столько занимать? — сказала служанка.
Родольф затрепетал гораздо еще сильнее прежнего.
— Если я не обманываюсь, — сказала Констанция, — сей шлем принадлежал другому.
— Кому же он принадлежал, сударыня? — сказала Леонора.
— Человеку, которого ты никогда не видала, — отвечала Констанция, — человеку, коего не должна я более опять видеть.
— Любовник ли это был, который мог соделать вас чувствительною? — спросила служанка.
— Он прежде меня любил, — отвечала Констанция, — но не знал никогда чувствований, которые он в меня внушил. Я была уверена, что батюшка мой не согласится на наше соединение, то приняла намерение удалить его от себя для того, чтобы исторгнуть из его сердца страсть, которая могла б соделать его еще несчастнее. Тому уже несколько лет, как я его не видала, и после того времени он, конечно, меня забыл. Так… я надеюсь, что он меня забыл! Роковой брак, который мне назначают, был бы вдвое для меня жесточе, когда бы думала, что сия печальная новость могла сокрушить его сердце; но… невозможно, чтоб он меня не забыл — я, однако ж, его не забыла.
— Ах! как могли вы думать, чтоб мне было можно вас забыть? — вскричал Родольф, в восхищении своей радости и явясь сам перед окном. — Ах! любви достойная Констанция! Вы весьма мало знаете силу ваших прелестей, если думаете, что сердце, которое единожды ее почувствовало, может когда-либо быть отверсто к другим чувствованиям.
При звуке сего голоса, который она столь совершенно знала, Констанция летит к окну; но при воззрении на своего любовника, она трепещет, силы ее оставляют, тщетно намеревается ему говорить, — имя его единое токмо слово, которое уста ее способны произнесть. Родольф смотрел на нее с восхищением, которое не позволяло думать о препятствиях, противившихся еще его благополучию.
— Достойная обожания Констанция! — вскричал он. — Как сия усладительная минута платит мне за все беспокойствия, которые ваше отсутствие мне причиняло! В отдалении от вас, душа моя не знала никакого увеселения. Я не знал вашей благосклонности ко мне, и не думал быть их достойным; однако никогда никакое обидное подозрение, никогда никакая боязливая ревность не вмещалась в мое сердце.
— Но каким случаем прибыли вы сюда? — сказала она трепещущим и прерывающимся голосом. — Увы! В сей уединенный лес я вас не ожидала! Я думала, что вы весьма далеко отсюда. Каким случаем заведены вы в сии места?
— Желание вас увидеть, — отвечал он, — было единственною побудительною причиною моего путешествия. Я не мог сносить более горести, быть в разлуке с вами. И в какую же минуту счастливая моя планета завела меня сюда! В минуту, в которую любезная Констанция изъясняет своими собственными устами, что, сколько я ни недостоин занимать место в ее памяти, она, однако ж, меня не забыла.
— Небо! — вскричала Констанция. — Вы слышали слова, которые я имела неразумие говорить?
— Простите, о дражайшая Констанция! Я чаял слышать признание вашего предпочтения к моему сопернику. Сей страх не столь был маловажен, чтоб я мог более его сносить. Мог ли я решиться удалиться от места, в котором ваш голос поразил мой слух прежде, нежели избавился я еще от беспокойств столь жестокой неизвестности? Теперь судьба моя решена, и ужас видеть вас прогневанною дерзостию подслушивания есть единая забота, которая беспокоит еще мое сердце. Дражайшая Констанция, благоволите простить!
— Если вы мне причинили некоторое неудовольствие, — отвечала она, — это подозрением, которое побуждало вас меня подслушивать. Мне кажется, что я не желала бы, чтоб вы слышали, какие имею я к вам чувствования… если не для того, может быть, чтоб привести в стыд несправедливость, которая заставляла вас почитать меня способною иметь равные чувствования к другому.
Родольф, будучи приведен в восхищение сею непредвидимою встречею, думал токмо о свободном изъяснении, пред глазами Констанции, любви, сокрытой в его сердце столь многие годы; а Констанция, избавясь наконец от сей суровой скрытности, которая отвергала до того времени почтения самые невинные, чистосердечно изъявила всю нежность, которую Родольф давно уже умел в нее внушить. Она, однако ж, первая пробудилась от столь восхитительного сна — и, подумав о своем состоянии, залилась слезами.
Родольф старался узнать тому причины.
— Увы! — вскричала она. — Мы увиделись не для чего иного, как для чувствования еще жесточайшей печали о вечной разлуке.
— Никогда, — перервал он с живостию, — нет, никогда дражайшая моя Констанция не будет разлучена со мною!
— Но каким случаем избегнуть, — сказала она, — от жестокого жребия, который меня преследует?
— Укройтесь от ваших мучителей, — отвечал Родольф. — Сия рука может защитить вас от их преследования. Не польза моя, — присовокупил он, — заставляет предлагать вам такой поступок. Когда видел я вас окруженною почестьми и благополучием, я соглашался лучше умереть, нежели вас побуждать разделять малое счастие; и если бы вы подали мне причину думать, что вы могли б быть счастливою с моим соперником, — поверьте мне, Констанция! Отчаяние, в которое бы ввергнула меня сия столь ужасная мысль, никогда не внушила бы в меня намерения возмущать вашего блаженства. Но состояние, в котором вы теперь находитесь! Итак, для вашего избавления из величайшего несчастна, а не для обнадеживания себя самым совершенным благополучием, которого я мог бы искать, — приглашаю я вас сегодня спасаться со мною далеко от того, который хочет употребить во зло отеческую власть, дабы принудить вас соделать ужасные узы. Я знаю нежность ваших чувствований; ведаю также, сколь блистание достоинства, на которое барон может вас возвесть, для вашего благополучия маловажно. Я не могу вам предложить богатств, — даже и в сию минуту оного не желал бы; но, о божественная Констанция! Я требую вашей руки, ибо сие токмо право чести позволяет мне быть вашим защитником.
После сей речи Констанция познала великодушие кавалеровых чувств, и поведение его, в рассуждении ее, не подавало ей никакого сомнения в их искренности; однако она не могла решиться следовать его желаниям. До сей минуты она никогда не была в непослушании у своего отца. Против воли своей, так сказать, и скрытно от него, питала она любовь в своем сердце самую нежнейшую к человеку, который поистине был того достоин, но коего состояние не подавало ей никакой надежды получить когда-либо соизволение ее отца; а ныне, как надлежит явно преступить его приказания, освободясь от супруга, коего он избрал, дабы дать другому ее руку против воли его, — сия мысль ее страшила, и внутреннее чувствование ее долго противилось дражайшим ее желаниям.
Но Леонора, которая не мешалась еще в их разговор, начала тогда говорить, и самыми сильными выражениями настояла в предложении Родольфа. Она умела одобрить все доказательства, которые внушало в нее особое состояние Констанции, дабы привести ее к своей цели. Она ей представляла, что в столь малое время невозможно было избегнуть, чтоб не попасться в руки барона, и изобразила ей самыми ужасными красками все обстоятельства соединения, о котором она знала, что единая токмо мысль заставляла трепетать ее от ужаса. Она объявила даже, что могут ее обвинять в неверности и вероломстве, если б она приняла таким образом руку человека, между тем как внутренно не знала, сколь было для нее трудно исторгнуть из ее сердца первый предмет ее любви.
Против сих доказательств, против усильных просьб Родольфа, а наипаче против собственного ее сердца, которое клонилось в пользу кавалера, — Констанция могла ли сама собою защищаться? Она была принуждена преклониться, и согласилась быть под защищением своего любовника. Родольф, сверх своих желаний, хотел бы в восхищении своей радости, чтоб Констанция немедленно бросилась в его объятия. Окно, которое не весьма было высоко, казалось, позволяло ей отважиться без опасности на таковой поступок. Он был в нетерпеливости воспользоваться минутою, опасаясь, чтоб Констанция не переменила намерения, и не случилось бы какого либо происшествия, которое соделало б побег ее трудным; но Леонора сильно тому противилась.
Она говорит, что в сие время многие из слуг барона прохаживаются в лесу в ожидании отъезда своего господина; она изъявила некоторые другие препятствия, и Родольф сам вспомнил обстоятельство, которое принудило его принять сей совет. Он оставил лошадей своих в замке Дорнгейм, и вероятно, что Констанция не могла предпринять столь дальний путь пешком до первого города, где можно б было достать лошадей. Итак, должно было оставаться на распоряжении, Леонорою предположенном. Намерение ее было, когда все в доме уснут, ввести кавалера в сад, в которой комната Констанции выдавалась; коль же скоро увидит своего любовника, она сойдет в окно, и он поведет ее к месту, где оставит лошадей своих. Леонора просила у него позволение следовать ей в побеге, и Констанция с удовольствием на то согласилась.
Хотя все казалось расположенным, однако служанка, спустя несколько времени, вздумала, что гораздо лучше было бы, если б Родольф имел у себя ключ от сада, и чтоб он сам в него вошел; ибо она оставит свою госпожу в минуту, в которую присутствие ее могло бы быть ей столь полезно, дабы подкрепить ее смелость и утвердить в ее предприятии. Она не могла скоро достать ключа, потому что оставила его в комнате, которую занимал тогда барон. Но она их обнадежила, что, когда барон уедет, она легко может им овладеть, и что принесет его Родольфу к месту, которое он ей назначит. Кавалер дал ей нужные приметы, дабы найти хижину крестьянина, который предложил ему убежище — и сия женщина обещалась прийти к нему прежде захождения солнца.
Двое любовников занимались еще несколько времени вместе, и их разговор кончился взаимными обещаниями и величайшими обнадеживаниями в нежности и вечной верности. Наконец, нужда поспешить взять своих лошадей или достать других побудила Родольфа разлучиться с Констанциею. При его отходе, она сняла белое перо с своей головы и бросила к нему в окно.
— Вложите его в ваш шлем, — сказала ему она, — я узнаю его при свете луны, и предамся, не страшась никакой ошибки, в руки единого защитника, которому хочу я себя вверить.
Родольф взял перо и воткнул его в свой шлем.
— Дражайшая Констанция! — вскричал он. — Мои поступки могут вам беспрерывно являть новые доказательства моей верности; так, в том свидетельствуюсь честию, сей залог вашей любви будет для меня драгоценнее моей жизни. Пусть небесные ангелы пекутся об вас до той минуты, в которую мы соединимся — до минуты, в которую мы соединимся, о, восхитительная мысль! — чтоб более не разлучаться.
Красота сей мысли не могла, однако ж, утешить горесть, которую Родольф чувствовал, удаляясь от окна; но Леонора не переставала доказывать, сколь нужно не терять ему времени. Он предался наконец повторяемым усильным ее прошениям и простился с Констанциею.
Намерение его было идти к хижине крестьянина и достать в ней какого-нибудь вестника, который бы ускорил в замок Дорнгейм, в который он решился никогда не вступать ногою, дабы приказать от себя своему оруженосцу привести немедленно его лошадей.
Впрочем, он думал, что не весьма нужно делать извинения барону о своем скоропостижном отъезде. Фридерик, коего он особенно почитал своим гостеприимцем, мог бы легко заключить, что сей отъезд был следствием разговора, который был между ими в лесу, и он оставлял ему попечение описывать барону сей поступок цветами, какими ему заблагорассудится.
Но Морицев приезд предупредил исполнение сего намерения. Он еще не потерял из виду замка Герцвальда, как повстречался с своим оруженосцем, который оказал величайшую радость при воззрении на своего господина. Он ему рассказал, что, не видя его возвращающегося из леса с Фридериком, он был в величайшем беспокойствии; и что, ожидая его несколько времени, не получая никакого известия, догадывался напоследок, что он поехал к девице Констанции, зная живую нетерпеливость видеть ее, и вследствие чего принял он сию дорогу, дабы его искать.
Родольф хвалил его усердие и уведомил о счастливом успехе разговора, который он лишь только имел с Констанциею, которая обещала ему оставить в сию ночь замок и с ним скрыться. Он примолвил, что намерение его было привезть ее в Вену, и коль скоро неразрывный союз, совершенный перед алтарем, соединит его участь с участью Констанции, просить покровительства императора, от коего он получил уже многие знаки милости; не сомневался, чтоб сей принц не согласился употребить свою власть в его пользу, дабы воспретить преследования, которых барон не примкнет сделать, чтоб исторгнуть свою невесту из его рук, и ласкал себя, что столь могущественный посредник расположит отца Констанции к примирению гораздо скорее, нежели можно б было надеяться достигнуть того иным способом.
Между тем, как он занимался таким образом с своим оруженосцем, услышал топот лошадей. Он скрылся позади некоторых деревьев. То был барон с своею свитою, который возвращался в свой замок. Родольф почувствовал некоторое удовольствие от того, что барон оставил замок Герцвальд, не имея времени видеть Констанцию. Когда они проехали, он продолжал путь с своим оруженосцем, и когда у него спросил, где были его лошади, оруженосец отвечал ему, что он оставил их в замке Дорнгейм, не зная намерения, которое он предпринял более в него не возвращаться. Родольф приказал ему немедленно пойти за ними и привести их к хижине крестьянина, куда и сам спешил прийти, думая, что после отъезда барона Леонора не замешкается принесть ему ключ, долженствовавший отворить вход Герцвальдова сада.
Великодушное его сердце, всегда будучи сокрыто от недоверчивости, не позволяло ему сомневаться, чтоб сия служанка не брала участия в напастях своей госпожи. В восхищении своей радости он не вспомнил, что Фридерик сам ему объявил, что он имел преклонившуюся к себе одну из женщин Констанции, и когда он о том вспомнил, то никогда не думал, чтоб это была Леонора. Но была точная правда, что Леонора, развращенная подарками Фридерика, уведомляла его обо всех доверенностях, которые делала ей ее госпожа. Она была уверена до тех пор, что Констанция для того имела отвращение к отцу, что была склонна к сыну, и для того-то под видом, чтоб исторгнуть от нее сие признание, завела она разговор, коего заключение не соответствовало ее надежде; ибо она открыла в нем любовь Констанции к Родольфу. Сия превратность, а особливо внезапное явление кавалера, заставили ее с прилежанием слушать разговор сих двух любовников в намерении сообщить их предприятия Фридерику.
Сделавши сей план измены, долженствующий устроить ее благополучие, она взяла ключ и вышла, чтобы идти не к хижине крестьянина, в которой Родольф ее ожидал, но в Дорнгеймов замок. Она искусно прикрылась, опасаясь, чтоб некоторые из слуг барона не признали ее за служанку Констанции. Прибывши, она адресовалась, как то делывала в прочих своих посольствах, к одному официанту, о котором знала, что он был особенно привязан к Фридерику, и тотчас была им отведена в покой его господина.
Тщетно искавши Родольфа, Фридерик, возвратясь из леса, нашел, что отец его уехал в замок Герцвальд, куда сам он не был приглашен. И так он провел день, предаваясь единственно беспорядку своих мыслей и занимаясь злыми предприятиями. При воззрении на Леонору, луч надежды расправил нахмуренное его чело, и он спешил спросить ее, какую новость она ему скажет.
— Она такова, — отвечала Леонора, — что по выслушании ее, я ласкаю себя, вы будете мне одолжены благодарностию. Однако признаюсь, что первая вещь, о которой хочу вас уведомить, не имеет ничего такого, чтобы могло вам нравиться. Вы имеете соперника, о котором до сей минуты вы не помышляли.
— Кто такой? Какой это соперник? — вскричал он.
— Позвольте мне наперед, сударь, спросить вас, откуда у вас тот шлем, который вы носили, бывши в последний раз в замке?
— Это шлем одного кавалера, который в службе императора, — отвечал Фредерик. — Будучи принужден ехать для отправления непредвидимых дел, я взял у него оный, ибо он легче был моего; и, желая иметь его у себя, я с ним другим поменялся. Но какая тебе нужда до сего шлема?
— Сей кавалер не называется ли Родольфом? — спросила Леонора.
— Так, это его имя, — отвечал Фридерик.
— Итак, знайте, — сказала она, — что сей Родольф есть дражайший любовник Констанции.
Фредерик после сих слов встает с ярости, приводит себе на память конец разговора, который он имел сего утра с Родольфом, и удивляется, что не отгадал прежде того, что теперь досадно ему слушать. Ярость его испускает ужасные проклятия, и Леонора имела много труда воспрепятствовать ему бежать немедленно к ненавистному сопернику, над коим хотел он произвесть лютое мщение.
— Если бы вы были спокойнее, сударь, — сказала она ему, — я могла б предложить вам мщение гораздо вернее того, которого вы можете ожидать от вашей шпаги.
— Какое мщение? — вскричал Фридерик. — Говори мне о мщении, если хочешь, чтоб я тебя слушал.
— В сию ночь, — сказала Леонора, — Родольф должен похитить девицу Констанцию. Она бы, может быть, на то и не согласилась, если бы я не истребила ее недоумений. Я ей обещалась ввести Родольфа в сад, где способно будет ему ее принять.
— Разве в этом-то состоит, Леонора, — отвечал Фредерик, — доказательство приверженности, которую ты мне обещала?
— Вы так думаете, — отвечала Леонора. — Но вот ключ от ворот сада, и вот белое перо, которое вложите в ваш шлем: когда Констанция его увидит, она примет вас за Родольфа, и вы можете ее везти, куда вам угодно.
— Ах! дражайшая Леонора! — вскричал он. — Какая благоразумная уловка! Теперь я познаю твой превосходный талант; вот прекрасный способ к отмщению им обоим.
— Это еще не все, сударь, — подхватила служанка. — Помните ли вы, что некогда, не подозревая сердца Констанции в чувствительности к другому, я советовала вам предложить ей бегство с вами, чтоб освободиться от замужества, к которому я довольно знала ее отвращение? Вы мне тогда отвечали, что подвержены будете лишению имения таковым поступком, который воспалит против вас всю ярость вашего отца.
— Ах! теперь я более о том не беспокоюсь, — вскричал стремительный юноша. — Я лучше готов жертвовать моим благополучием и даже жизнию, если то будет должно, нежели лишиться столь драгоценного случая.
— Вы не имеете нужды, — отвечала служанка, — подвергать опасности ни того, ни другого. Я предложила Констанции следовать мне в ее побеге. Вам надлежит только возвратить меня в замок завтра поутру; я обращу сие приключение на счет Родольфа, и подкреплю мое повествование обстоятельствами, которые отвлекут вас от всех подозрений и принудят вашего и ее отца обратить на кавалера всю ярость, которую должно им внушить таковое поношение. Я в сию минуту пойду к вашему сопернику уведомить его, как будто бы со стороны его любовницы, что она иначе не может бежать с ним, как в преследующую ночь. Итак, завтра же он сам предастся в руки своих неприятелей, и представьте же себе, сударь: когда барон Дорнгейм увидит в нем соперника, похитившего у него его любовницу, не будет ли он сам ревностным к оказанию услуги вашему праведному гневу и к произведению над кавалером самого ужаснейшего мщения?
Хотя Леонора была весьма сверена, что таковой умысел, сделанный с великим вероломством, произведет великое удовольствие в Фридерике, однако восхищение, которое он изъявил, превзошло ее чаяние. Он делал ей знатные обещания и, сняв с руки весьма богатый бриллиантовый перстень, подал ей в знак его благодарности. Леонора приняла егос великим удовольствием, и делала Фридерику некоторые другие наставления, чтобы лучше обмануть Констанцию. Потом она его оставила и спешила к хижине, в которой Родольф давно уже ее ожидал с чрезмерною нетерпеливостию. Коль же скоро он ее приметил, то немедленно приблизился к ней и спросил, принесла ли она ключ, который обещала.
— Увы! Нет, — отвечала она с притворною горестию. — Констанция посылает меня, против моей воли, известить вас неприятным образом, что причинит вам живейшую печаль. Она не может оставить в сию ночь замка.
— Не может? — вскричал Родольф. — Ах, Леонора, какую ужасную новость принесла ты мне! Неужели Констанция пожелает уничтожить свое обещание?
— Это сделалось против ее воли, — отвечала она, — мужественный кавалер! и вы не иначе должны взирать на сию короткую отсрочку, как на случай, который касается до вашего благополучия. Вы можете положиться, что ночью, которая должна следовать за сею, Констанция непременно будет вашею.
— Ах! Для чего не в сию ночь? — вскричал он.
— Выслушайте меня, сударь, — отвечала Леонора. — Тотчас после отъезда баронова, я пошла за ключом, и не нашла на том месте; а Констанция узнала с превеликим неудовольствием, что отец ее, имея нужду выйти из замка за некоторым нечаянно случившимся делом и не зная точного часа, к которому мог бы он возвратиться, взял от сада ключ, воображая, что сим способом удобно может опять войти так, чтобы никто в доме не был принужден ожидать его.
— Но хотя он взял ключ, — вскричал Родольф в своей страстной нетерпеливости, — разве я не могу перелезть чрез стену?
— Увы! Не видите ли, сударь, что вы не можете избегнуть опасности быть задержану при его возвращении? Он повстречается с вами в бегстве с Констанциею, и следствие такового препятствия было бы лишением всей вашей надежды. Он, конечно, не преминет вырвать ее у вас силою, и если бы вы стали ее защищать, подумайте о положении, в котором она будет, когда увидит отца своего, упадшего под вашими ударами. Сия ужасная мысль, я уверена, произвела бы над ее сердцем столь глубокое впечатление, что все резоны, которые бы вы сами ей представляли, не могли бы ее уверить, что можно избежать опасности подобной сцены. Но завтра вам не должно будет так страшиться; завтра, будьте уверены, она последует за вами в бегстве от мучительства тех, кои пожелали б принудить ее сочетаться браком с человеком, к которому имеет она отвращение.
Родольф не весьма был расположен соглашаться на сию отсрочку в рассуждении своих нужд; но сия вероломная женщина говорила ему с толикою хитростию, оказывала столько стараний и чувствительности к его интересам, что наконец он предался, и решился вооружиться терпением до следующей ночи. Леонора обещалась ему прийти на другой день поутру, для уведомления его, если будет можно, чтоб в течение того дня имел он вторичный разговор с Констанциею, дабы решительно расположить меры, которые они должны предпринять в своем бегстве. Потом она оставила его и возвратилась в замок Герцвальд. Госпожа ее давно уже ожидала ее возвращения с живейшею нетерпеливостию. Дабы извиниться в ее долгом отсутствии, она сказала ей, что Родольф удержал ее своими многими вопросами обо всем, что случилось с предметом его любви со времени их жестокой разлуки. Легковерная Констанция была чувствительно тронута сими знаками участия, которое в рассуждении ее брал любовник.
Несмотря на сие, во время отсутствия Леоноры, намерение ее начинало колебаться. Ужас быть виновною в намерении заключить брак против воли своего отца склонил ее остаться и пожертвовать своему долгу своим счастием. Но убедительная речь служанки возбудила столь сильно в душе ее омерзение к барону и нежность к великодушному Родольфу, что она утвердилась совершенно в намерении исполнить свое предприятие; и потому с некоторым родом страха, чтоб продолжительные рассуждения не принудили ее от того отказаться, ожидала она назначенного часа к своему отъезду.
Она удалилась в свою комнату ранее обыкновенного; мысль, что делалась непослушною своему отцу, производила в ней в его присутствии все смятения преступления. Будучи мало способна к притворству, она воображала себе, что глаза ее изменяли каждую минуту тайне ее сердца. Если бы отец ее говорил с нею с тихостию, она никогда не была б в состоянии повелевать своею чувствительностию. Но он ей упрекал с большею еще жестокостию, нежели обыкновенно, за отвращение, которое оказывала она к человеку, коему он назначил ее руку, и увеличивал ей чрезмерную страсть, которую прелести ее внушили в барона, с выражениями, лишь только умножившими необоримое омерзение, которое она к нему имела. Она слушала его, пребывая в глубоком молчании, не осмеливаясь ему отвечать; но когда она оставила его, дабы удалиться в свою комнату, будучи поражена мыслию, что с ним разлучалась не на одну ночь, но может быть, навсегда, она залилась слезами. Пришедши же туда, несколько времени плакала без принуждения, между тем как Леонора была занята приуготовлениями всего, что нужно было к дороге.
Однако, когда в доме все легли, то при приближении часа, в который Родольф долженствовал прибыть, слезы ее унялись и сердце ее начало биться в ожидании роковой минуты. Она не замедлила видеть человека в саду, и чем больше он приближался, тем сильнее оружия его блистали при свете луны, и он был уже довольно близок, чтоб она могла различить белое перо, возвышающееся на его шлеме. Когда же приблизился он под окно, Леонора, страшась, чтобы госпожа ее не приметила, что голос его не был Родольфа, спешила сказать ему тихо на ухо, чтоб не говорить, в страхе, дабы он не был услышан никем из замка, кто еще не заснул. Фридерик понял ее мысль и сделал знак ей, что воспользуется сим советом. Что же касалось до Констанции, ее не надобно было принуждать к молчанию. В первый раз она намеревалась учинить поступок, которым совесть ее упрекала, и от сего-то поступка зависело благополучие остатка ее жизни. Смятение ее было столь сильно, что едва позволяло ей говорить. Она хотела даже еще отказаться от своего предприятия и остаться в замке; но Леонора укоряла ее в слабости, и представляла, что когда однажды упустит сей случай освободится от жестокого невольничества, и то она не может в другой раз его сыскать. Леонора имела благоразумие запастись веревочною лестницею, помощию которой робкая Констанция спустилась в сад.
Она не дотронулась еще до земли, как страстный Фридерик заключил ее в свои объятия. Констанция казалась обиженною дерзостию, к которой она не привыкла, и старалась освободиться немедленно из его рук, показывая ему тем свое неудовольствие. Фридерик, страшась заранее ее встревожить, укротил свою страсть и с самым почтительным видом отвел ее к воротам сада, где верный слуга ожидал ее с двумя лошадьми. Он вскочил на одну, посадив перед собою прелестную свою любовницу, о которой тогда наверно думал, что была уже его; слуга обременился таковым же образом Леонорою, и оба, понуждая своих лошадей, поскакали во весь опор.
Между тем верный Родольф, весьма отдаленный, чтобы воображать ужасное употребление, производимое тогда над его именем и пером его шлема, остался несколько времени в хижине после отбытия служанки, предаваясь горести, которую причиняло ему сие печальное посольство. Мориц еще не приезжал, и он весьма желал его возвращения, дабы вверить кому свою жестокую печаль; но наконец, не могши более противиться своей нетерпеливости, он встает и идет прогуливаться в лес. Он в нем бродил несколько времени, занимаясь возмущением своего воображения, идеями новых препятствий, которые могли б остановить исполнение его желаний на другой день. Ночь распростерла уже свое покрывало по всей природе, и сия темнота, казалось, приносила некоторое облегчение в скуке кавалера; ибо она приводила ему на память размышления, которые колебали его душу, как накануне в одинаковой час он проходил лес и когда помышлял, какую неоцененную награду имел он тогда в своих глазах, известность быть любиму Констанциею, которою он в ту минуту наслаждался, и точное обещание, которое она ему сделала следовать за ним на другой день. Он укорял себя с некоторым родом смятения, склонившись в таком случае на такую отсрочку; он старался отвлечь рассудок свой от печальных воображений, которые ему докучали, воссылал к небу усердные молитвы, и препоручал предмет своей любви под стражу ангелов, защитников добродетели и невинности.
Потом вспомнил, что между тем, как прогуливался столь поздно в лесу, великодушный крестьянин, предложивший ему убежище, ожидал его прихода для предания себя покою. Но он столь мало имел внимания к дороге, которою шел, что не знал, которая тропинка могла б привести его к хижине. Он был в сей неизвестности, как вдруг увидел свет, блестящий сквозь деревья. Он старался к нему приблизиться, однако скоро узнал, что сия ясность была сильнее, нежели та, которую может произвесть свеча сквозь окно крестьянина; свет, казалось, удалялся, чем ближе он подходил. Будучи приведен в удивление и поражен чувствованием ужаса, он не перестает за ним следовать, как вдруг сей свет ударяется к земле, и кавалер нашелся при входе Пещеры Смерти.
Тогда приводит на память сон, который он видел; странные повествования, которые слышал в замке Дорнгейм; намерение, которое он предпринял изведать тайну сей ужасной пещеры, о коей дневные происшествия заставили его позабыть; жестокая превратность, которая воспрепятствовала ему оставить в сию ночь лес, казалась ему произведением судьбы, которая для того соблюла его, чтоб открыть злосчастную сию тайну. Итак, он вознамерился предпринять отважность, к которой чувствовал себя влекомым внутренним и невольным движением.
Хотя ночь не так была темна, однако ветвистые деревья, коими место то было окружено, производили тень столь густую, что едва можно было различать предметы. Между тем, слабый луч света был отражаем чрез некоторое место; но быстрый ручей, взявший начало свое из глубины пещеры, пробирался сквозь скалы несколько пониже одного места, чрез которое можно б было проникнуть в сие ужасное обиталище. Сей вход, в который никто с давних уже лет не осмеливался проложить дороги, был засорен великим множеством терновников и весьма густыми кустами, служащими унылым нощным птицам убежищем. Кавалер предпринял сперва разделить сии кустарники, но мрак, окружавший тогда его, был препятствием его усилий, и подавшись несколько шагов в пещеру, темнота была непроницаема. Итак, он вознамерился идти к крестьянину взять факел; а как он знал уже, в которой стороне леса он находится, то сыскал без труда дорогу к хижине. У дверей он повстречался с Морицем, который приехал с лошадьми и удивлялся его отсутствию, зная точно, что приблизился час возвратиться в замок Герцвальд. Родольф уведомил его о превратности, которая разрушила его предприятия, и о намерении идти немедленно в Пещеру Смерти. Мориц казался сим встревожен и хотел было говорить о предосторожностях; но он его не слушал.
— Будь тем доволен, — сказал он ему, — что не требую от тебя того, чтоб ты следовал за мною. Если бы ты был не столь слаб и робок, твое сотоварищество в таковом случае могло б для меня быть пособием для рассеяния злополучных впечатлений, от коих самая твердая душа с трудом может защищаться; но трус таковой, как ты, будет для меня более тягостным, нежели полезным; останься лучше здесь с моими лошадьми и ожидай моего возвращения. Если небо благоволит споспешествовать моим намерениям, ты увидишь меня прежде зари.
Итак, вошедши в хижину, спросил он факела; но когда крестьянин узнал о причине, побуждавшей его просить оной, то объят был сим ужасом, который производим был во всех тех, кои слышали произносимое имя Пещеры Смерти.
— Увы! Мужественный кавалер! Какое отчаяние побуждает вас к такому предприятию? Знайте, что никогда человек, зашедший раз в сию пещеру, не может никогда возвратиться в обиталище живых.
Кавалер остался непоколебим в своем намерении, и крестьянин, хотя с сожалением, дал ему факел, и Родольф возвратился один к пещере.
Сердце его было хотя вооружено смелостию, превосходящею все опасности; однако вооружение его было приведено в содрогание от ужасных обстоятельств, кои сопровождали предпринимаемую им отважность. Слух его был хотя поражаем легким шумом листьев, или древесные ветви, раздуваемые ветром, колеблемы были при его проходе, он трепетал и думал видеть во всех предметах действие сверхъестественной силы.
Когда он прибыл к пещере, то старался опять пробраться сквозь густые кустарники, заглушившие вход; но, найдя в сем великие затруднения, вынимает свою саблю и помощию ее прочищает себе дорогу. Птицы, привыкшие столь давнее время смиренно покоиться под сею непроницаемою тенью, теперь, будучи потревожены в их убежище, спасаются в столь великом множестве, что Родольф счел за нужное отступить несколько назад, опасаясь, чтоб сии птицы, стремящиеся все к огню, не потушили его факела движением их крыльев. Видя их всех рассеянными, он приближается и, нашедши тогда свободный проход, просит помощи у Вышнего Существа и входит в пещеру. Несколько времени шел он с саблею в руках; но час от часу дорога становилась труднее, и, встречаясь с большими глыбами разбитых скал, по которым принужден был всходить с трудом, счел за лучшее вложить свою саблю в ножны, дабы иметь свободу действовать своими руками; и в самом деле, он не имел причины страшиться в сем месте, чтоб повстречаться с неприятелями, против коих сабля его могла б быть ему полезною.
По мере, как он вперед подавался, ужас сей мрачной темницы усугублялся в его глазах. Хладная влажность воздуха леденила кровь его. Молчание ничем другим прерываемо не было, как токмо каплями, временем падающими со свода, напитанного грубыми парами, до половины ссевшимися. Каждый шаг делал он с осторожностию, и когда случалось, что нога его наступала на какой-нибудь гладкий и скользкий камень, звук, им производимый, заставлял биться сердце его с чрезмерною силою. Постепенно приближается он к началу сего подземного источника, который он приметил и который протекал близ входа пещеры. Смертная тишина, царствовавшая в сем месте, была возмущаема шумом сего источника, который сперва, в некотором расстоянии, казался глухим журчанием, но когда к нему приближались, то были приводимы в страх ужасным падением его вод, которые с яростию стремились сквозь разбитые скалы, противящиеся их течению. Кавалер принужден был тогда ползти, а не идти, потому что свод был низок и делался таковым час от часу более по мере, как он шел; но, прошедши некоторое пространство, опираясь руками и коленями, свод вдруг возвысился, и он очутился в обширном месте, но не мог измерить мысленно его длину и вышину, ибо конец его терялся в непроницаемой темноте. В воздухе столь густом свет факела его не распространялся далее руки, которая его несла. Но, когда он взошел на край утеса, который висел над источником, седая пена вод его дала ему приметить, что она падала с одной весьма возвышенной скалы на обрушины и обломки, которые производили натуральный каскад. Приводящий в ужас шум сего источника наполнял душу кавалера страхом, какого он никогда еще не знал. Он с скоростию сошел вниз с берегов его и отошел к скале, которая, как казалось, была с одной стороны концом пещеры. Он остался несколько времени, опершись на ней, между тем как воображение его, не бывши облегчаемо явлением никакого видимого предмета, было совсем занято провождением ему на память вчерашнего сновидения, и представляло ему то гнусного пугалища, висящего на черном облаке, то лишенного тела воина, укрывавшегося его объятий и делающего движение роковою шпагою.
Родольф недолго допускал себя страшать сими печальными воображениями; но помощию размышления он старался принять сию непоколебимую твердость, которая в минуту опасности никогда его не оставляла. Он стыдился своей слабости, думая, что не повстречалось ему еще никакой опасности, которая могла бы оную оправдать. Удаляясь же от скалы, на которой он стоял опершись, располагается продолжать далее свои поиски, как вдруг чувствует, что кто-то сзади его тянет. Сердце его трепещет; он оборачивается, объятый страхом, и не видит никого около себя, смотрит по всем сторонам и заключает наконец, что это есть не что иное, как мечта испуганного его воображения. Он силится идти вперед; в другой раз кто-то сзади его тянет, и в ту ж минуту он примечает привидение, коему даже воображение его не может определить никакого образования, скрывающееся в расселине скалы, которую темнота препятствовала ему до тех пор видеть, но которая, когда он приблизился, открыла его взорам длинную и узкую тропинку, идущую покато и прекращенную сходом в утес, при конце которого приметил он красное пламя, подобное солнечному в знойные дни, когда оно садится багряно в туманистый горизонт. Родольф собирается со всеми силами души своей, и сходит по сей тропинке. До того времени земля, по которой он шел, была тверда и камениста, но после, при каждом шаге, нога его углублялась в кучах песка. Будучи водим пламенем, которое казалось обширнее и блистательнее по мере, как он приближался, он прибыл под небольшой свод, почти круглый, освещенный токмо его лучами, и за которым он не примечал уже никакой стези. В сем-то месте сверхъестественная сила так назначила, что Родольф возымел надежду найти конец сего происшествия. Он становится на колени и просит покровительства святых ангелов. Устремляя потом глаза свои на сие висящее в воздухе над его головою пламя, он примечает, что оно бросало лучи, которые падали, извиваясь, на небольшое возвышение, составленное из песка, и услышал около себя слабый звук, подобный шуму, производимому в некотором расстоянии биением крыльев птицы. Он смотрит на сие возвышение и примечает под его поверхности) нечто блистающее; он наклоняется, разрывает несколько песок и видит клинок шпаги. Какое ж было душевное его смятение, когда приметил, что оледенелая и иссохшая рука скелета оную держала!
Слова, произнесенные привидением, им во сне виденным, приходят тогда ему на память. Он падает на колени и вопиет:
— О! кто бы ты ни был, получивший обиду неизвестный, коего даже и имени я не ведаю, но который, конечно, привел меня сюда и который в сию минуту невидим: я принимаю сию шпагу и клянусь не давать себе покоя, пока не будет исполнено мщение, коего орудием должен быть я, и от коего, если я должен верить твоим оракулам, собственная моя судьба зависит по таинственным объяснениям, коих не могу еще проникнуть.
Едва он произнес сии слова с смятением, которое занимало почти его голос, то протянул руку, чтоб взять шпагу; в ту ж минуту иссохшие пальцы, которые ее держали, отверзлись сами, и оставили ее в его руке. В то время пламя исчезает с стремлением молнии. Порывистый ветер восстает, загашает факел и окружает Родольфа песчаным вихрем.
Душа его, взошедшая уже на самый верх ужаса, не могла снести сего последнего удара; он упал на землю в обмороке и так же почти бездушен, как и ужасный скелет, близ него лежащий. Он остался несколько времени без движения и разума, и, когда пришел опять в чувство, среди сей глубокой мрачности глаза его начинали открываться. Он почувствовал, что рука его была в скелетовой; он отдернул ее с живейшим чувствованием ужаса и, силясь еще возбудить свою смелость, он встает, слышит шум источника и ласкает себя, что шедши к стороне, откуда происходит звук, найдет проход между скалами, чрез которые он вошел в сию окружность. Но вдруг он его находит посредством света, который выходил из наружной части пещеры; он приближается и примечает многие сияния, кои колебались, следуя различному склонению, в окружностях первого входа. Ему кажется, что слышит человеческие шаги и звук оружия. В ту минуту ужасный вопль, составленный из многих вместе смешанных голосов, поражает его слух, и сквозь невнятные голоса некоторых он ясно слышит вопиющих: Кровь! Поток крови!
Пещера заколебалась тогда до своего основания: голоса теряются среди страшного шума, который, кажется, произведен был целым опровержением природы; эхи скал продолжаются и усугубляют во внутренности пещеры сей страшный шум, который потребляется и утихает постепенно; напоследок ничего более не слышно, кроме унылого журчания источника.
Сияния исчезли, но некоторый слабый свет, который еще оставался, направлял стопы кавалера. Держа непрестанно роковую шпагу, он пошел по тропинке, которая завела его в сию могилу, и когда он вышел, и был в одной части пещеры, более широкой и открытой, то увидел, что сей свет, примеченный им, происходил от факела, который остался на земле запогашенным. Будучи обрадован, нашедши огонь, он берет факел и немедленно открывает, что страшный шум, который он слышал, был произведен падением чрезмерной величины обломком скалы, под коим, смотря вблизи, увидел окровавленные члены двух раздавленных человеков. Будучи объят новым ужасом при сем страшном зрелище, он слышит позади себя глухие стенания, подобные человеческим, при последнем уже их издыхании; он трепещет. Несколько минут спустя, сии стенания опять начинают; он оборачивается и, смотря около себя, примечает вооруженного человека, распростертого на земле. При его приближении незнакомый испускал снова вздохи.
— Кто ты таков, — кричит ему Родольф, устремляя на него свои взоры, — и какое намерение завело тебя сюда?
При звуке человеческого голоса незнакомый поднимает до половины голову и открывает Родольфу черты барона Дорнгейма. Будучи в удивлении и едва могши верить своим глазам, он останавливается на минуту, смотря на него в молчании; между тем как барон, трепеща при его виде, бросается лицом к земле и поднимает руку, как бы силясь предохранить себя от вида какого-нибудь ужасного привидения.
— Куда хочешь ты меня увлещи, мстительный дух? — сказал он слабым и трепещущим голосом.
Родольф, называя его по имени, спросил, к кому относятся сии слова и кто б мог причинить ему сие столь странное внутреннее беспокойство. Но на все вопросы беспорядок его ответов заставил думать кавалера, что он лишился разума: напоследок барон, в судорожном движении, подымает еще голову и, облокотись на свою руку, неподвижным и смутным оком смотрит на Родольфа.
— Для чего бросаете вы на меня сии ужасные взоры? — сказал кавалер. — Разве вы меня не знаете?
— Я тебя знаю, — вскричал барон, — ах! я тебя весьма коротко знаю. А сию шпагу? Роковая минута, предсказанная привидением, настала, и семейство мое истреблено уже с земли.
— Сии слова, — прервал Родольф, — содержат в себе таинственный смысл, и в обстоятельствах, в которых я нахожусь, они меня слишком трогают, чтоб я мог позволить себе не принудить вас дать мне в них изъяснение. Встаньте ж и готовьтесь немедленно мне отвечать на вопросы, которые происшествия теперешнего дня дают мне смелость вам сделать.
Барон встает, как будто бы устрашенный вышнею силою, которая не позволяет ему противиться; но вдруг, снова пришедши в ужас, он вскрикивает:
— Ах, сей ужасный предмет… сия кровавая река… Спасите меня… избавьте меня ее вида!..
— Таковы-то суть ужасы преступления, — отвечал Родольф, — и вы тщетно стараетесь скрываться от страшилищ, произведенных вашею совестию, которая вас обвиняет.
— Так! это тщетно, — отвечал барон, — но если ты хочешь слышать пагубную тайну, которую должен я открыть тебе, выведи меня из сожаления с сей сцены ужаса. Здесь я не могу! Сего сделать мне невозможно! Они меня окружают — демоны мщения меня осаждают — немилосердые духи смерти, висящие над моею головою, в нетерпеливости схватить свою добычу.
Родольф весьма видел, что разум его был в величайшей расстройке, и что он не мог сделать ему порядочного повествования в сем ужасном месте, которое наполняло боязнию сердце даже и невинного. Итак, он приближается ко входу пещеры, а барон следует за ним колеблющими шагами.
Они прибыли к самому тесному проходу, как огонь от факела Родольфа осветил некоторую броню; он смотрит и примечает человека, который старается скрыться во впадине скалы. Сей несчастный, видя себя открытого, идет с трепетом к ногам кавалера, и просит жизни. Родольф пожелал знать, что побуждало его скрываться. Незнакомец признался, что он один из подданных барона Дорнгейма, и что господин его привел в сию пещеру его для погубления Родольфа.
— Правда ли это? — сказал кавалер барону, устремляя на него глаза свои с суровостию.
— Весьма правда, — отвечал барон, — это было мое намерение. Но невидимая сила забавлялась моими предприятиями, и я тщетно хотел противиться определению судьбы.
Родольф приказал сему человеку встать и следовать за ним; они все трое вышли из пещеры. Хотя лес был еще облечен мрачностию глубокой ночи, темнота оной для глаз, столь долгое время бывших в сем мрачном подземелье, имела почти сияние дня.
Уступая усильному прошению барона, кавалер отступил еще несколько шагов, прибывши к месту, откуда шум источника более не был уже слышим, и там остановились.
— Теперь, — сказал Родольф барону, — должно вам открыть мне таинство, сею пещерою сокрываемое, о котором я точно знаю, что вы совершенно известны. Но для чего ужасаетесь вы столько, когда смотрите на сию шпагу, и кто таков сей убитый воин, у коего в руках нашел я ее?
— Сей убитый воин, — отвечал барон, — был твой отец.
Родольф трепещет.
— И ты видишь во мне его убийцу.
Волосы от содрогания вздымаются на голове у Родольфа; ярость сверкает в его глазах.
— Отсрочь твое мщение, — сказал барон, — и слушай меня до конца. Я чувствую, что час наказания приближается, и что сверхъестественная сила принуждает меня открыть ужасную историю, которую желал бы погребсти в вечном забвении.
Альберт, барон Дорнгейм, был твой отец. Он был мой брат — мой старший брат. Он ехал из Святой Земли для получения наследства, которое после смерти нашего отца ему по праву принадлежало; но тогда, завидуя его благополучию и будучи ослеплен скупостию, я ему расставил сеть в сем лесу, под предводительством шайки разбойников, преданных моим интересам. Он был один; но с сею героическою храбростию, которою природа его одарила, с сею шпагою, которую часто омокал в крови неверных, он долго защищался против своих убийц. Наконец, угнетенный множеством, он пал; но в конвульсиях смерти, он столь крепко сжал ножны своей шпаги, что один из моих людей, не могши у него оной вырвать, решился отрубить ему руку, если б я ему в том не воспрепятствовал. Все храбрые кавалеры, бывшие на войне в Святой Земле, знали Альбертову шпагу. Ежели бы она находилась в моих руках или у одного из моих подданных, она могла б подать повод к открытию нашего преступления. Итак, я им приказал оставить их богатую добычу, и зарыть с телом в глубине сей пещеры. Слух распространился, что Альберт погиб во время своего путешествия. На меня не пало никакого подозрения; я наследовал без малейшего препятствия баронством Дорнгейма, которым был я до сей минуты, по мнению всех, миролюбивый владетель. Но не могши знать, что происходило в моей виновной душе, часто в торжественный час полночи, тень умерщвленного моего брата представлялась моим взорам, иногда в молчании, показывая мне свои раны и колебая окровавленною шпагою; иногда предвещая мне мщение разительным голосом, коего даже звук среди удовольствий и роскоши раздавался в моих ушах. Он-то предсказал мне смерть пятерых моих сыновей, коих я лишился; но величайшее несчастие, последний удар, долженствовавший довершить мое наказание, дополнит его мщение и разорит совершенно мою фамилию. По предсказанию его, должен я ожидать оное в то время, когда увижу шпагу его в руках законного его наследника. Не ожидал ли я с трепетом до теперешней минуты сего рокового часа? Сие могут знать одни токмо те, которые, подобно мне, пролили кровь невинную. Я имел, однако ж, слабую надежду избегнуть его угроз, и делал многие усилия, чтоб овладеть сею злополучною шпагою; но ужас подвергнуть себя видеть мое преступление открытым, не позволял мне употребить для исполнения моего намерения других людей, кроме моих соумышленников. Они покушались неоднократно в сем предприятии, но смелость их не была никогда в состоянии презирать ужасы сей пещеры. Между тем, я прибегал к разным способам для открытия сего наследника, коему шпага была назначена; но весь плод, который я получил из моих исследований, был тот, что я узнал о женитьбе Альберта в Праге прежде еще его путешествия в Святую Землю, под иным именем, в страхе, чтоб отец мой, который назначил ему другую супругу, не был уведомлен о его женитьбе; но я никогда не мог узнать, что сделалось с его женою и имел ли он сына. И так я остался в сем жестоком положении ужасной неизвестности до последней ночи, в которую думал видеть в вас при первом вашем приходе мечтательный предмет моих ночных боязней. Сын мой напомнил мне ваше имя, и я силился скрыть мое смятение; но поразительная ваша сходственность с благородным Альбертом наполняла душу мою пагубными предвещаниями, и все мои сомнения кончились при возрении на ваш перстень, который я весьма помню, что видал у моего брата. Сего утра повествование ваше изъяснило мне различные обстоятельства, которые оставляли во мне некоторое сомнение. С той минуты смерть ваша была определена, и я сделал уже план к вашему погублению, как услышал с содроганием, что намерение ваше было войти в Пещеру Смерти. Мне не надлежало терять ни минуты, чтоб воспрепятствовать вам овладеть шпагою вашего отца. Последним усилием моего отчаяния ласкал я себя еще отвратить несчастия, которые угрожали моему дому; мне казалось, что таинственная сила стремила меня к сему предприятию, и влекла оное к ужасу, который всегда внушал в меня даже отдаленный вид от театра моего преступления. Я вооружил многих из моих подданных, коим осмеливался себя вверить и, предводительствуя ими, вошел я в пещеру, надеясь найти вас заблудившимися в сем лабиринте прежде, нежели вы еще могли б овладеть шпагою, от которой зависела судьба моя. Ободренные сею мыслию, ни я, ни двое соумышленников в убийстве вашего отца, которые одни тогда жили, не чувствовали удара ужаса преступления, над коим до той минуты мы не были властны; но достигши сего обширного свода, в котором вы меня нашли, страшный шум источника объял души наши и возбудил все наши боязни. Мы всходим на берега, смотрим на сию ужасную реку — Небо! мы увидели кровавую реку. Другие из моей свиты, не участвовавшие в смертоубийстве Альберта, испускают вопль от ужаса при воззрении на сие страшное чудо, и пустились в бегство; но двое моих соумышленников, коих руки были, равно как и мои, обагрены кровию Альберта, остались, подобно мне, окаменелыми от удивления и ужаса, как вдруг чрезмерной величины скала, отделившись от свода, раздавила сих двух людей, из коих один был Мориц, ваш оруженосец, а другой давний мой подданный.
— Мориц! — вскричал Родольф. — Как! Мориц был изменник?
— С минуты, в которую открыл я ему ваше рождение, — сказал барон, — собственные его боязни, привязанность ко мне, а особливо награждение, которое я ему обещал, принудили его вам изменить; от него-то я узнал, что ваше намерение было проникнуть в пещеру.
Барон хотел продолжать, как вдруг был прерван топотом лошадей. Он остановился, и Родольф, смотря около себя, увидел собрание людей, которые, будучи привлекаемы огнем, бывшим у него в руках, спешили прибыть к нему. Когда они приблизились, то можно было различить, что четверо из них, которые были пешие, несли труп на носилках, сделанных из переплетенных ветвей. Барон, коего душа приведена была в движение рокового предчувствия, силился их спросить, и между тем, как они хотели отвечать, он сквозь них стремится, поспешает к трупу и познает бледное и обагренное кровию тело своего сына.
Носильщики сложили с себя бремя. Барон, не произнеся ни слова, бросается на носилки и с судорожным всхлипыванием дал свободное течение страстям, которые терзали его душу. Родольф приближается и смотрит с живейшим содроганием на лицо Фридерика. Вдруг барон оборачивается и прежде, нежели могли сомневаться о его намерении, вырывает из рук кавалера Альбертову шпагу, поражает себя в грудь, и падает умирающ на тело своего сына. Зрители окружают его, но было уже поздно ему помогать. Барон показывает им на Родольфа и слабым голосом повелевает им почитать его впредь своим законным господином; потом вынимает шпагу, оставшуюся в его теле, и виновная душа его исходит с потоками крови.
Родольф падает на колени и с трепетом молится грозному правосудию Бога, мстителя преступления.
Те, кои окружали носилку и которые все были подвластны барону, приведенные в уныние при виде кровопролитного происшествия, расспрашивают друг друга, что значил смысл последних слов их господина. Родольф в коротких словах, и не расспрашивая о преступлениях того, коего тело пред ними распростерто было, уведомил их о исследованиях, которые делал он в сию ночь. Повествование его было удостоверено тем, которого нашли кроющегося в пещере и который был при признаниях барона. Тотчас все они признали сына Альбертова за законного господина, и просили его позволить им проводить его в замок; он на то согласился и пошел с ними. Те, кои несли тело Фридерика, несли на той же носилке тело отца его.
Родольф спрашивал их о подробностях Фридериковой смерти; они признались ему, что барон послал их убить его самого; но что, обманувшись сходственностью платья и оружия, они напали на Фридерика, и не прежде узнали свою ошибку, как тогда уже, когда он пал под их ударами. Когда они прибыли к замку, в котором главные официанты и многие слуги ожидали возвращения своего господина, первые известия о его смерти разлили вдруг некоторую печаль. Родольф, собрав всех своих подчиненных в большую залу, сделал им краткую речь, но сильную, в которой доказал свои права над баронством Дорнгейма, и сообщил им свидетельства столь ясные, что никто не мог сомневаться, чтоб сие владение не принадлежало ему, как законное наследство его предков. Некоторые из старейших официантов не забыли еще господина Альберта и дорожили всегда его памятью. Они испускали радостные вопли, познавая его черты в его сыне, а как характер последнего барона не был столь силен, чтоб привлечь к нему всеобщую любовь, то и не было никого, кто бы не принял нового господина с доказательствами сердечной радости.
Родольф пожелал тогда быть один, дабы подумать хорошенько о чудных происшествиях сей ночи, и для успокоения своего сердца от сильных внутренних беспокойств, которые непредвидимые открытия ему причинили; но между тем, как шел он по коридору, который вел его к его комнате, Сенешал за ним следовал и спросил у него, что он ему прикажет делать с двумя женщинами, коих привезли в сию ночь в замок по приказанию старого барона. Родольф спросил, где они находятся, и, когда Сенешал отворил двери комнаты, которая выдавалась на одну сторону коридора, то новый барон увидел Констанцию. Удивленный и восхищенный, он к ней стремится; но изумление и радость Констанции, казалось, превосходили еще ее любовника.
— Какие чудеса возвращают вас моим молитвам? — вскричала она. — Какой дух, покровитель добродетели, избавил вас от убийц, среди коих я вас оставила, когда меня сюда привезли?
Родольф не понимал сначала смысла ее слов, но Леонора, уже видя невозможным, чтоб измена ее не была открыта, бросилась сама к их ногам и добровольно во всем призналась. Тогда Родольф узнал, что Констанция, обманутая хитростию служанки, отдалась во власть Фридерика, не имея ни малейшего подозрения в своей ошибке; и что они были остановлены в лесу толпою людей, посланных от барона, который был уведомлен изменою Морица о побеге Констанции с Родольфом. Фридерик видел себя принужденным сойти с лошади для защищения. Тогда двое людей из толпы, по приказанию, которое они получили, схватили Констанцию с Леонорою и привезли в замок, в который за час они приехали. Напоследок он узнал, что между сим временем Констанция не переставала предаваться чрезмерной печали и оплакивать мысленную смерть Родольфа.
Сии обстоятельства подали набожному кавалеру новые причины удивляться определению провидения Божия, Который обратил на главу жертв Его правосудия преступления, о коих они сами умышляли. Он не мог отказаться от некоторого удовольствия, видя, что неприятели его сами были орудиями собственного разрушения и что они избавили его печали мстить смерть своего отца над родственником, который был ему столь близким, как барон, — и спорить о своем наследстве с другом, столь искренним, каков был Фридерик до той минуты, в которую гнусные его предприятия открыли ему в лесу черноту его души. Констанция с восхищением узнала, каким образом судьба соделала оборот в благополучии ее любовника.
Заря едва начинала появляться, как Родольф отправил курьера к отцу Констанции. Он его уведомлял, что, по смерти последнего барона, он наследовал в его имении от начального владетеля, отца его Альберта; в то же время он уведомлял, что дочь его в замке, и приглашал его самого приехать к нему для получения сведения о многих подробностях, которые надлежало ему знать.
Отец Констанции прибыл по сему приглашению. Родольф весьма надеялся, что отец, который по интересным причинам был уже в намерении пожертвовать единою дочерью столь недостойному человеку обладать ею, будет так же стараться ее отдать ему, когда увидит его обладающим имением и почестями своего соперника. Предложения его были приняты с величайшими доказательствами радости, и в ожидании того времени, как брак мог быть торжествован с приличным великолепием, Констанция возвратилась с своим отцом в замок Герцвальда, где Родольф, будучи тогда признан за барона Дорнгейма, часто ее посещал.
Он велел похоронить без церемонии тело хищника владения его и сына его и, будучи провождаем своими подданными, он возвратился к Пещере Смерти для вынесения останков несчастного своего отца. Оплакав печальную его судьбину с выражениями, означающими нежность его и сыновнюю горячность, он велел его положить в домовую церковь замка со всеми обрядами, которые Церковь предписывает; велел торжествовать в честь его знатные похороны, и воздвигнул ему великолепную гробницу, над которой роковая шпага была повешена.
Несколько времени спустя, Родольф получил в супружество Констанцию, и рука той, которая была предметом нежнейшей его любви, довершила благополучие, коего добродетели его давали ему право требовать.
КОНЕЦ
Жак-Салиготен Кесне РАЗБОЙНИКИ ЧЕРНОГО ЛЕСА
Второго года в месяце флореале[3] достиг я той части Швабии, которая простирается вдоль по течению Дуная, и вообще известна под именем Черного Леса. Время было прекрасное; солнце в полном сиянии изливало лучи свои, и пары, восходящие из земли, подобно облакам тумана, поднимались к небу. Покрытый потом и выбившись из сил, я вошел в густоту сего дремучего леса, чтобы отдохнуть под сению древнего дуба. Утомившись от дороги, едва начал я засыпать, как вдруг услышал в пятидесяти шагах позади себя тихий шорох листьев. Я оборотился и увидел престарелого человека, тихо проходящего мимо и погруженного в глубокую задумчивость. Чело его, покрытое морщинами, его густые нахмуренные брови, седые волосы, впалые глаза, его физиономия, хотя суровая, но открытая и величественная — все сие привлекло мое внимание: высокий стан, несколько согбенный, важная походка, вид некоторого величия, распространяющийся во всех его поступках — произвели в душе моей некоторый страх и почтительное уважение. Как я с своей стороны сделал некоторое движение, чтобы подойти к нему, то и старик также приблизился ко мне; но вдруг, подобно устрашенному человеку, который убегает от взоров себе подобного, он желал скрыться от меня в густоте леса. Чрезвычайно удивившись такому странному поступку, я спешу за ним, не теряя его из глаз. Он останавливается; я подошел к нему и, побуждаемый внутренним некоторым чувством, начал разговор. — Почтенный незнакомец, — сказал я ему, — если присутствие мое для вас тягомотно, то я прошу простить моему, может быть, неблагоразумному любопытству; любовь и доверенность к человечеству произвели его в душе моей; скажите мне, здешней ли страны вы житель, или я имею счастие говорить с одним из моих сограждан? Я француз. Он взглянул на меня, и отвечал мне худым французским языком, — голосом холодной учтивости. — Германия мое отечество; я родился в одной из ее деревень и несколько времени путешествовал в странах ваших. Потом, как будто пораженный страхом и изумлением, он спросил меня с беспокойством: — Известны ли вам сии ужасные места? Не думаете ли вы, что можете быть здесь в безопасности? Или вы не страшитесь ничего в сей дикой пустыне? Глубокий вздох вырвался из груди его; он продолжал: — Ах! итак, вы не знаете того рокового, пагубного происшествия, случившегося прошедшею зимою в этом лесу! Бегите, послушайте меня, бегите отсюда; никто без ужасного наказания не может быть здесь. — А вы останетесь здесь? — сказал я. — Да, мне нечего бояться: жизнь для меня несносна. — Пойдемте отсюда вместе, и вы расскажете мне об этом неизвестном происшествии. — Не могу; не могу терзать души моей новыми мучениями. Я удвоил просьбы мои; он сомнительно смотрел на меня: мое удивление изображалось в моих взорах; мой голос прерывался. Он понял меня — и мы пошли оттуда. Идучи тихо, я изъявлял ему мое желание узнать чрезвычайную его горесть. Я горел нетерпением услышать историю, которая казалась мне очень важною — и при том столь нужною в моих обстоятельствах, что я должен был стараться узнать об ней. — Пойдем, — сказал он мне, — к подошве этого холма, который вы там видите. Мы сядем в тени его. Желание, с которым хотите вы узнать судьбу несчастного старца, принуждает меня удовлетворить вам. Так! Я расскажу вам ужасную повесть, от которой трепещет каждый германец. Мы сели; и он, помолчав несколько минут подобно человеку, который старается что-нибудь вспомнить, начал говорить таким образом: — Пятнадцать уже лет тому, как я, лишившись супруги, и трое детей моих (два сына и одна дочь) обрабатывали небольшое поле, и чрез то едва могли питаться честным образом. Смерть супруги, которую я обожал, поселила меня в недре моего семейства; уединение, которое делало меня задумчивым и печальным, и возобновляло всегдашнюю мою горесть; скука, которой несносное бремя начинало угнетать меня, — все сие требовало утешителя — нежного друга; но я не сыскал его; он сам пришел комне — и я прижал его к моему сердцу. Удалившись из внутренности Германии — наскучив жить в городах, утомленный их шумом — гонимый своими неприятелями — презренный вероломными друзьями, он решился навсегда оставить свет: он удалился в то место, где было мое жилище, я увидел его — говорил с ним — долго находились мы вместе, и произнесли обет вечного дружества. Тогда спала свинцовая тягость с моего сердца; тогда увидел я, что Небо послало сего незнакомца усладить горесть уединенной моей жизни, и сделался весел. Дети мои желали знать причину сей перемены; они прыгали от радости ко мне на шею, видя в первый раз улыбку на устах своего родителя — в первый раз с тех пор, как судьба лишила их матери. Всякий день я посещал незнакомца, когда сам он в этом не предупреждал меня. Однажды по вечеру, на дороге, находящейся подле дома его, он крепко прижал меня к груди своей, — лицо свое к моему лицу, — и орошал его слезами. Тогда вскричал он: — Наконец я нашел человека! — И верного друга, — отвечал я. Мы жили в совершенной неизвестности — позабыли о прошедшем несчастливом времени; наслаждались настоящим, не думая о будущем, которого неизвестность наполняет горестию душу человека. Любя так же, как и я, детей моих, он часто с жаром говорил, что дочь моя ангел красоты. Когда некоторые работы или нужды удерживали меня в поле, он занимал мое место среди моей фамилии, и когда мы были вместе — тогда нельзя было узнать настоящего отца. Его сердце было справедливо и добродетельно, душа его велика и благородна; с самого младенчества она испытала несчастия. Будучи сведущ в познании света и людей, проникнув в их вероломство, быв жертвою их коварных хитростей — он страшился только того, чтоб не быть принужденным жить опять с ними вместе. Всякий день говорил он: — Друг мой! Любезный брат! Как счастлив я был — как бы я благодарил Бога, если б Он позволил мне умереть в твоих объятиях. Пусть мирное спокойствие, которым мы наслаждаемся, еще более умножит наше блаженство! Одно желание моего сердца есть то, чтобы жить с тобою. Слезы лились из глаз его, — и я отвечал: — Будем жить, любезный друг; будем жить, и умрем вместе; дети мои примут последний вздох наш. Так протекали дни наши, исполненные счастия, которому ничто не могло равняться. Печаль казалась нам сноснее — радости восхитительнее. Однажды Горбак (так назывался друг мой) не пришел ко мне. Воображая себе, что, конечно, какие-нибудь необходимые дела задержали его, я с нетерпеливостию ожидал следующего дня. Нет моего друга! Я взял трость, положил в карман книгу и пошел к нему; я не нашел никого в его доме. Беспокойство начинало рождаться в душе моей. Однако я решился подождать несколько минут, и стал читать. Прошло четыре часа! Неизвестность устрашала меня; я возвратился в свое жилище — нет никакого известия о Горбаке. Пораженный сим случаем, я послал старшего моего сына наведаться в деревне и ближнем городе, куда он пошел. Я полагал наверное, что этот человек, вместо того, чтобы находиться в многолюдных селениях, убегал от всех взоров — и что он был совсем неизвестен там, где я старался об нем разведывать. В самом деле, мой сын прибежал весь в поту и запыхавшись; он сказал мне, что все его поиски были тщетны. Тогда горькие слезы полились из глаз моих — я оплакивал друга, которого лишился. Три месяца прошло после горестного приключения: я почитал друга своего умершим и охотно желал бы его участи, если б обязанности отца к детям своим и любовь их не заставили меня пещися о счастии их и казаться спокойным посреди моего семейства: я был уверен, что дети мои были бы неутешны, когда бы видели горесть своего родителя; и для того я казался довольным и веселым. Ласки их умножались, прилежность к трудам возрастала, детская их любовь проникала во глубину души моей; они плясали от радости при отце своем — и я платил за их горячность родительскою нежностию. До сих пор я был еще довольно счастлив, я осмеливался еще наслаждаться благополучием, как вдруг лютая судьба растерзала сердце мое, открыла опять жестокую рану мою и вонзила смертоносное железо в грудь старца, стоящего уже на краю гроба. Правосудный Боже! итак, это истина, что не одно только бедствие постигает нас. Ужасная истина, сколь она несносна! Какой острый, убивающий кинжал для чувствительного человека! В одну прекрасную лунную ночь я, мучимый ужасными сновидениями, которые лишали меня покою, вскочил поспешно и пошел в сад. Когда заря начала заниматься, я позвал Цефизу, мою дочь; я приказал ей идти скорее в городок Ринсельд[4], чтобы отнесть туда вещи, в которых там имели чрезвычайную нужду. Два брата ее встали также очень рано, и спешили работать. Цефиза не приходила назад. Что ее задержало? Где она теперь? Что с нею сделалось? Бесполезные искания, тщетная горесть, позднее раскаяние в моем приказании, чрезвычайное беспокойство, смертельный страх об участи любезной моей дочери — все сии чувства возмущали, — терзали мою душу. В чрезвычайной горести казалось мне, что я скоро паду под бременем моих злополучий — и в сей надежде я ожидал с радостию смерти так, как благодеяния. Сыновья мои, которые также сокрушались по потере сестры своей, тщетно хотели меня утешить, тщетно хотели осушить слезы мои. Каждой вечер я удалялся в темную рощу. Там произносил имя моей дочери, там с воплем призывал Цефизу; птицы, летающие вокруг, не внимали моим стенаниям, унылые крики их заглушали слабой голос старца! Эхо, одно эхо повторяло имя моей Цефизы. Возвратившись в печальную хижину, я бросался на постель моей дочери — и проливал горькие слезы. Я смотрел на ее платье, перебирал ее вещи, и сии предметы, умножая жесточайшую скорбь души моей, напоминали отцу, что у него нет больше дочери. Ничто не могло рассеять моей горести — истребить снедающей тоски. Однако в чрезвычайных несчастиях самая печаль была иногда сладостна моему сердцу; надежда, что скоро мои бедствия прекратятся, следовала за чувствами скорби, и смерть со всеми ее ужасами нимало меня не устрашала. Мы были в войне с вашими патриотами. Бесчисленные проигранные сражения поколебали трон императора. Он хотел на все отважиться — и новыми покушениями вознаградить чрезвычайные свои уроны. Оба сына мои — вся надежда моей старости — были в состоянии носить оружие. Я трепетал об их участи; я содрогался от опасностей, которым я еще подвергался, — и которые непременно должны были меня постигнуть. Исполнилось, чего я страшился: дети мои должны были служить отечеству. Я спешу к вратам судилища; просьбы мои были выслушаны; требования мои признаны справедливыми; но люди были необходимо нужны — и, сравнивая услуги, которые дети мои могли оказать отечеству, служа в армии, с тою пользою, которую мог я получить от них, живя в деревне, они по справедливости предпочли общественные выгоды смерти престарелого человека. Однако ж я не буду негодовать на сей жестокий поступок, отечество мое там, — всякий человек должен внимать его гласу; я совершил свое течение. Я готовлюсь оставить жизнь; несмотря на все это, отец всегда отец; и когда нам должно было разлучиться, я был в отчаянии; бедное сердце мое было так растерзано, что я лишился чувств. Можно ли изобразить горесть мою? Различные чувства, которые я должен был испытать, пришедши в себя: не сон ли это был? Ах! нет. Они в самом деле уехали. «Жестокие! — возопил я, — они меня оставили, с варварским бесчеловечием оставили они отца своего». Но чрез минуту говорил я сам себе: «Нет, они не жестокосерды. Честь, слава зовут их; исполненные мужества, летят они на поле Марсово, решившись везде отправлять тщательно свою должность». По крайней мере, если б они возвратились победителями, увенчанные лаврами, — возвратились закрыть мои вежды — тогда бы я умер спокойно. Вы француз, но вы простите мне слабый остаток, угасающую искру пламенного некогда патриотизма, который еще и теперь меня объемлет. Всякий человек при самом рождении обязывается свято чтить и защищать законы своего отечества, и я не сомневаюсь, что и вы то же чувствуете. Среди Черного Леса, со стороны деревушки, которую вы видите на высоте сих полей, есть пещера, которая простирается под землею на пятьсот шагов. Огромные столбы камней, соединенных самою природою в течение многих лет, поддерживают тяжесть земли, всегда готовой обрушиться. Самый неустрашимый человек не может без трепета взирать на ужасные камни, висящие во внутренности сей пещеры. Великие груды маленьких острых кремней, кажется, заграждают входы, и подвергают опасности жизнь неосторожных путешественников, которым неизвестен гибельный путь сей; чрез расселины, находящиеся в разных местах, и простирающиеся до самого дна пещеры, можно слышать малейший подземельный шум. Гробовые светильники озаряют сие жилище мрака и смерти. Прежде войны шайка разбойников, скрываясь в сем месте, укрепила оное двумя палисадами. Они окружили его частым кустарником, который скрывал пропасть сию от взоров человеческих, так что несколько раз случалось германцам идти мирно над пещерою, не помышляя, что около десяти шагов под ними ожидала их лютая смерть. В два сделанные там прохода скрывались всегда разбойники от преследующих воинов. Когда нападали на одну сторону, они убегали без шума и, укрываясь в бесчисленных путях, они до сего времени обманывали всякое старание сыскать их. В сию-то страшную пропасть низвергся мой друг, несчастный Горбак; сия ужасная пещера, могила мертвых, погибель живых, заключила милую мою Цефизу. Ах! позвольте мне отдохнуть на минуту, — чтобы мои слезы облегчили стесненное мое сердце… Как несносно для меня рассказывать вам сию повесть!.. Пять преступников, которые, освободясь от оков, сокрылись из темницы, — которые, будучи извержены из общества, поклялись разрушать его; и чтоб избежать казни, они прибегнули к великим злодействам и храбро овладели Черным Лесом. Тут производили они ужасные разорения и грабительства; там умерщвляли, терзали и изувечивали путешественников и соседственных жителей. Каждый день оскверняли новыми беззакониями. Тщетно хотели истребить их; скорая, неизбежная смерть достигала дерзновенного, который не имел долговременного опыта, которого мужество не было предводимо осторожностию. За несколько лет сие место было очищено добровольным набором, бродяги предпочли добычи войны разбойничеству, не слышно было о убийствах. Уже окружности не так были пусты, и соседственные деревни населялись более. Все спокойно спали в своих жилищах, не чувствовали более ужаса от рассказываемых злодеяний, учиненных в прежние несчастные времена. Мирное спокойствие заступило место всеобщего страха, странник безопасно путешествовал на полях во время ночи, и днем спокойно отдыхал под тению наших дерев. Убийцы, которых казнь устрашала тем менее, чем далее, казалось, отстояла от них, выбрали себе начальником человека, мало знающего свое дело. Они повиновались ему, как солдаты своему генералу. Многим убийствам и грабежам не допустила совершиться сия покорность. Его смелость не столь была отчаянна, его мужество не столь люто; его твердость, никогда почти непоколебимая, удерживала и устрашала его сообщников; его вид показывал разбойника, но он имел характер человека, рожденного для лучшей и не столь гнусной должности. Он был молодой, благородный человек, которого развратное подведение раздражило его родителей, принудило их изгнать его из отеческого дома. Без денег, без состояния, лишенный всякого пособия, он пошел в военную службу и принят в конный полк. Там, поссорившись с одним офицером, он заколол его, вызвав на поединок; страшась лишиться головы, он убежал из своего корпуса. Не имея уже прежних средств, он поступил так, как очень часто в таком случае поступают: он начал воровать, пойман, осужден на галеру и, убежав оттуда, сделался славным Родернодом, атаманом сих разбойников. Вдруг приносят жалобы, что пропадает скот и люди, но ужас объял только робкие сердца; нимало еще не думают о причине несчастия, умножающегося всякий день чрезвычайным образом. Никто даже не хотел верить бесчисленным ложным рассказам, которые только питают и умножают беспокойство. В сию-то роковую минуту любезный мой Горбак в один прекрасный вечер пришел к Черному Лесу. Несчастный! Он покоился на зеленой мураве; кроткий сон посетил его вежды; прелестные мечты, перенося его на крыльях воображения в неизвестные поля Елисейские, наполняли душу его мирным удовольствием. Сладостное восхищение очаровало, нежно пленило его сердце, умеряя быстроту парящего воображения, и тихий сон укреплял его силы; как вдруг два разбойника устремляются на него с пистолетами, держа во рту кинжалы. Горбак пробуждается, устремляет на них взор свой, вскрикивает от ужаса и падает без чувства к ногам сих злодеев, которые влекут его в адскую свою пещеру. Они хотя умертвить его, Родернод тому противится; он позволил только его сковать. Нещастный, изнемогающий Горбак тщетно старался подкрепить свои слезы. В ужасе едва осмелился он взирать на сии места, и первые предметы, представившиеся взору его, были два растерзанные трупа, немного далее оторванные руки, ноги и отрубленные головы. Кровь оледенела в жилах его, он с трепетом отступает назад. Он видит, что ему должно идти чрез груду человеческих трупов. Один убийца, издеваясь над его ужасом, подносит ему стакан водки, смешанной с дымящейся кровию. Горбак отвращается с трепетом, и отталкивает рукою сей адский напиток. Между тем, другие варвары пьянствовали чрезвычайным образом и пели самые мерзостные, развратные песни. Наконец вино победило их. Они все повалились без памяти и ужасно храпели в своей могиле. Прежде своего пиршества они призывали одного разбойника, которому должно было караулить; скоро переменялась очередь; но чаще выходили они все вместе. У сих варваров не было женщин. Родернод говорит им: — Друзья мои! мы наслаждаемся приятнейшими удовольствиями, не правда ли? Но самое лучшее от нас убегает. Вдруг загремел ужасный голос в пещере: — Женщина! Женщина! Между тем, как мой злосчастный друг, стеная под бремем жестокой участи, — в отчаянии желал освободиться из оков — и вырваться из сей ужасной пропасти, — чудовища на рассвете схватили на большой дороге бедную дочь мою. Они торжественно несли ее на руках и угрожали предать ее смерти, если она испустит хотя малейший крик. Цефиза в беспамятстве, с растрепанными волосами и почти мертвая, сходит в подземелье. Смрад трупов захватывает ее дыхание, она упадает в обморок. Один варвар, воспламеняемый неистовой страстию, хотел воспользоваться оскорбить ее стыдливость; но строгим голосом Родернод остановил его, который хотел, чтобы все имели почтение к его особе, и принудил разбойника пожирать только взорами прелести невинной Цефизы. Какое зрелище для несчастного Горбака, когда увидел он молодую красавицу, погребенную в недре сих пещер и готовую сделаться жертвою гнусных разбойников, которые стремились насытить над нею свою жестокость и зверское сладострастие! Как изумился он, когда по голосу узнал дочь своего друга — узнал любезную Цефизу!.. О солнце! Как могло ты озарять в сей день смертных? Как могло ты взирать на такие злодеяния?.. Нет! я заблуждаюсь: надгробные факелы затмевают твое сияние, и мерцающий свет их увеличивает ужас предстоящей смерти! Цефиза открывает глаза, приходит мало-помалу в чувство; обращая повсюду смущенные взоры, она видит Горбака, стенающего в цепях, называет его по имени, хочет говорить с ним, и чрезвычайное изнеможение лишает ее всех сил. Родернод примечает, что они знают друг друга, и повелевает одному варвару разлучить их. Она готовилась к смерти, она видела ее, предстоящую со всеми ужасами! Она видит уже те лютые мучения, которые должно ей перенесть. Наконец, воссылая мольбы к Небесам, она ожидает исполнения воли Всемогущего. Горбак, с своей стороны, пораженный ужасами смерти, тщетно умолял о жизни; тщетно просит он варваров освободить ее из сего адского жилища; тщетно устремлялся он броситься на их кинжалы, чтоб прекратить мучительную жизнь свою. Свирепое их презрение, притворное сострадание медлительно отравляли душу его убивающим ядом. Однако время и необходимость уменьшили ужас его, даровали ему некоторую смелость. Луч надежды озарил его душу; он думал, что своим терпением сохранит жизнь свою и исторгнет Цефизу из сей ужасной могилы. Он приметил меньше жестокости в Родерноде, нежели в других его сотоварищах. Он даже видел, что злодейства, им производимые, были чужды его сердца. Этот атаман во всем похож был на своих сообщников, но сверх того был умен и расторопен. Горбак, презирая жизнь свою, не видит никаких средств сохранить ее. Твердость его опять возвращается, и он осмеливается начать с Родернодом следующий разговор: — Ужасный разбойник сих мест, ты, который бесстыдно предпочитает твои жестокости честным поступкам; не думаешь ли ты, что твои злодейства останутся навсегда без наказания? Не думаешь ли ты наслаждаться всегда плодами твоих разбоев? Не страшишься ли ты казней, определенных злодеям? Непрестанное, угрызающее воспоминание о беззакониях не будет ли терзать души твоей? Сие врожденное чувство, отличающее с толикою поспешностию добро от зла, и которое мы называем совестию, оставит ли тебя на минуту в покое? Сие правосудное Божество, сие Существо, награждающее добрых и мстящее злым, которого мысль приводит тебя в трепет, несмотря на все твои усилия, с которыми ты стараешься отвергнуть Его и заглушить чувства твоего существования; Бог не удержит ли беззаконной руки твоей? Глас собственного сердца твоего, которое стараешься ты сокрыть под мрачною завесою и ожесточить его безбожием и ужасными злодеяниями, не вопиет ли против тебя тайно? Не обвиняет ли, не казнит ли тебя беспрестанным воспоминанием ужасных злодейств, приводящих в трепет природу? Послушай, позволь мне, хотя бы ты чрез тысячу твоих бесчестных деяний соделался стыдом рода человеческого; но еще есть время прийти в себя. Оставь сию одежду; выйди из сей пещеры и спеши повергнуться в объятия общества, не для того, чтобы устрашать новыми злодеяниями, но чтобы удивить его неусыпным старанием в похвальных делах и заслужить всегдашнее его уважение. — Постой! со мной ли ты столь дерзко говоришь! Ты, который стенаешь в моих оковах; ты, которого одним словом могу преобратить в прах! Ты дерзаешь так гордо говорить со мною? Знай, что Родернод не привык к такой смелости и несносным грубостям, и мои благодеяния для невольника… — Твои благодеяния! умертви меня, и я их узнаю. — Такая дерзость удивительна. Я признаюсь, что если бы ты казался мне и менее твердым, менее бы уважал тебя; но как ты дерзаешь приписывать мне такие похвалы, то я должен дать отчет на каждое слово. Ты хочешь, чтоб я работал; это средство изнежит меня. Работа свойственна подлым душам; но мне она неприлична: я не унижу себя столько, чтоб ползать из пропитания. Я признаю право равенства между людьми; но я вижу, что оно нигде не существует — и что много есть богатых, бедных еще более. Я вижу, что большая часть сих последних умирает от голода с хорошим намерением жить; они погибают от недостатка в деньгах, которые бы могли удовлетворишь их нуждам. Ну, почему ты мне столь хорошо говоришь о справедливости твоего Бога; я вижу, что Он к одним милосерд, к другим зол, несправедлив. Например: Он дает первым сто тысяч ливров дохода, а других повергает в ужасную нищету; одних наделяет красотою, а других безобразием; некоторым дает силу и крепкое сложение тела, а других изувечивает жесточайшим образом. Они подвержены всей наглости гордых богачей, которые, сидя в великолепной колеснице, насмехаются с презрительным высокомерием над дряхлым старцем, покрытым рубищем. Сидя в своих чертогах на позлащенных креслах, плавают в море сладострастных удовольствий; за пышным столом питаются драгоценнейшими яствами, и пьют самые дорогие напитки в то самое время, как другой стенает в жестокой судьбе своей, которая принуждает его посреди многочисленного семейства, осужденного разделять с ним ужасную бедность и есть черный хлеб, орошаемый горькими слезами. Один покоится на великолепной мягкой постели, а другой ложится на связке соломы. Жестокие болезни удручают более сего последнего, потому что он терпит во всем чрезвычайный недостаток. Богачи осыпают золотом гнусных людей, а бедному и в одной мелкой монете отказывают, и надменный богач, взирая на погибающего страдальца, говорит с язвительною насмешкою при последнем его издыхании: «Теперь он счастлив!» Одним словом, я не примечаю никакого порядка в том, что ты называешь гармониею вселенныя, и если б существовал Бог твой, тогда нашел бы я миллионы причин Его ненавидеть. — Как худо ты знаешь человеческое сердце! Не скажут ли, что ты заблуждаешься в ложных мнениях другого, когда ты позволяешь ложной, блестящей наружности ослеплять глаза свои? Нет, ты не думаешь, что твои доказательства столько ж слабы, сколько и заблуждения твои опасны. Ты воображаешь, что богатства вельмож составляют все их благополучие, не помышляя, сколько они несправедливы и надменны! Конечно, ты прельщаешься ложным весельем, которое сияет среди великолепных торжеств; но удовольствие бедного и трудолюбивого человека есть истинное удовольствие. Чтобы увериться в этом, должно представить и сравнить две сии противные стороны; тогда увидишь ты, что за чрезмерною радостию всегда следует тоска угнетающая, и что за минутою удовольствия спешат целые дни мучения. Тогда узнаешь, что печаль пресыщенного богача ни с чем не может сравниться; ибо превратность счастия для него столь несносна, что он предпочел бы преждевременную смерть продолжительному гонению фортуны. Когда приближается последний час его жизни, то горесть, тоска, что он сравнится с теми, которых презирал, оставит бесчисленные богатства, прекрасные зверинцы, прелестные сады, увеселительные павильоны, огромные и великолепные замки, жестоко терзает душу того, которой с жадностию желал его состояния. Знаешь ли ты, что чем больше они имеют, тем гораздо более еще желают иметь? Напротив того, бедный и добрый человек, ограниченный в своих желаниях, не опасается ничего подобного. Доволен своим состоянием, без зависти и высокомерия, без нищеты и пышности, он старается только доставить довольное пропитание своему семейству и разделяет с ним труды и удовольствия. Заключенный в кругу своем, он не стремится далее. Стократ блаженнее в своей бедной хижине, нежели цари на троне, он вкушает чистейшие удовольствия и меньше чувствует горести. Печали и неудовольствия убегают далеко от него: они не могут обитать в его сердце. Он находит лекарство в приятном препровождении времени, отвергая все непозволительные желания, влекущие за собою раскаяние. Всегдашнее здравие, цветущее на лице его, душевное спокойствие, сияющее в его взорах, рождающиеся от деревенской жизни, унижают бледные, болезненные лица — пагубные плоды роскошных столов. Скажи мне, не предпочитаешь ли ты сам состояние того, который доставляет все нужное своему семейству, и платит малую только дань, которую он может удобно снискать трудами рук своих — горестному счастию тех людей, которые должны втрое более, нежели сколько имеют, и которые, страшась всегда заимодавцев, предаются в отчаяние, с коим ничто не может сравниться? По крайней мере, если первый по неизбежному злополучию приведен будет в крайность, то ему остаются еще надежные средства; он наслаждается здоровьем и может пользоваться силою рук своих; но ежели другого поразит такой удар, тогда что может помочь? Не зная никакого ремесла, оставлен друзьями, которые любили богатства, теперь расточенные, в жестоком отчаянии он скрывается от всех взоров и медленно умирает от стыда и горести, чтоб не быть в тягость тем, чрез которых сделался он игралищем, и от которых претерпевает он ненавистное презрение. Сколько он был в счастии любим, столько в несчастий будет ненавистен; сколько он был надмен и горд, столько будет подл и гнусен. Теперь, принужденный раскаиваться в прежних своих поступках, он не желает уже быть таким, каков был прежде, и против воли своей испрашивает помощи у простого ремесленника, которого он презирал так нагло на верху своего счастия. — Все твои доказательства, друг мой! ложны; будучи больше смелы, нежели остроумны, больше слабы, нежели убедительны, они не могут меня уверить, и я всегда так думаю, что Бог твой несправедлив, если бы в самом деле существовал Бог, который столько же может быть во всеобщей гармонии мира, как круг может быть четвероугольником. — Ужасное богохуление! Мстительный небесный Перун поразил бы тебя в сию минуту, когда бы вечное Правосудие не было столь медлительно в наказании, сколь Оно поспешно и благодетельно в любви Своей! Как! Бог не существует! Ты не признаешь Его из всеобщей гармонии! Как, бытие Его неясно! Выйди из сей пещеры, обозри необозримое пространство сего леса, исчисли все деревья — все, которые он содержит листья, которыми покрыты их ветви. Посмотри, как они всякий год возобновляются непременным образом, и как времена года постепенно следуют одно за другим так, что зима никогда не занимает место лета, и осень весны! Вообрази себе приливы и отливы морей, которые в бурном стремлении не дерзают выйти из пределов, назначенных им Творцом природы. Посмотри на сии бесчисленные светила, текущие в стройном порядке — на сие пламенное солнце, оживотворяющее всю вселенную. Скажи мне, как сии невежды, которые, чтоб доказать несуществование Превечного, приводящего их в ужас, зымышляют тысячу систем, сколько безрассудных, столько же и обманчивых: извержения огнедышащих гор, частые землетрясения, которые погубляют тысячи невинных жертв, не свидетельствуют ли против Бога? Но ежели б сии безбожные хотя мало размыслили, то увидели б, что все сии происшествия служат в доказательство бытия Его, потому что все это есть непременный закон природы, которая разрушилась бы без сих различных перемен. Я согласен, что таковые несчастия вперяют сострадание; надлежит по справедливости оплакивать таковые бедствия; но должно ли в наше угождение порабощать Всемогущество, расстраивать Порядок вселенной? Нежели ее законы непременны, как и она, то не лучше ли сожалеть о некоторых частных потерях, нежели о разрушении целого мира, от которого мы исчезли бы в неизмеримом хаосе, из которого мы выходим. Знаем ли мы непостижимые таинства? Мы, которые не что иное, как миллионы насекомых на малой песчинке, теряющиеся в беспредельном пространстве? — Я на сие согласен: но позволь мне только напомнить, что Сам Бог в Священном Писании сказал некогда, что первая должность человека есть стараться о сохранении себя; ты не отвергаешь сего, не правда ли? Да и что ты скажешь об этом? Ничего другого, кроме того, что, последуя моему неведению заповедей Божиих в рассуждении смерти, принужденный судьбою умереть с голода, я должен взять хлеб, где бы его ни нашел. Богатый человек встречается со мною, это был прекрасный случай; я остановил его и, отнявши все у него честным образом, позволил ему из милости продолжать дорогу. Признаться, я знаю, что ты хочешь мне сказать, что это сделано против совести; однако ж моя, сколько я помню, ничего мне тогда не говорила; еще напротив, я внутренно радовался, что сей счастливый случай сохранил жизнь мою. Правду сказать, когда мне случилось умертвить одного путешественника, то при сем случае я почувствовал нечто подобное содроганию, которого я не могу изъяснить. — Как! и ты не устрашился обагрить рук своих против не только тебе подобного, но еще и лучше тебя человека!.. Ты мне прежде говорил, что должно более всего стараться о сохранении жизни, не наблюдая ни правил правосудия, ни выбора средств. Разве ты не признаешь сего закона, — закона, существовавшего во все времена, самою природою в сердцах человеческих напечатленного: «Не делай того другому, чего сам себе не желаешь»? Ну! и ты, конечно, не желал бы быть подвержен такой же участи, как и путешественник, а еще более быть умерщвленным. Из сего я заключаю, что ты или самый бессовестный человек, или величайший злодей. — Так, нас называют бродягами, потому что мы живем по лесам; но считают за честных людей самых опаснейших разбойников, которых преступления гораздо важнее, — но которых поступки не столько известны; они избегают казни, и сверх того приобретают даже почести, между тем как нас ожидает эшафот и земля разверзает свои недра, чтобы поглотить нас прежде времени. Если хорошая добыча будет стоить нам многих трудов или будет сильно противиться, то смерть ту же минуту приведет того человека в рассудок; но как ни говори, сие число умирающих, конечно, меньше в сравнении с тем, которое погибает по повелению тех, кои с улыбкою взирают на бедствия, ими учиненные. — Прекрасное рассуждение! Достойное, чтоб Родернод тому поверил. Ах! ежели земля рождает чудовищ, то тебе одному предоставлена слава не только идти по следам их, — сравняться с ними, — но даже превзойти их в лютости! — Средство сделаться добродетельным есть то, когда мы стремимся к славе; я не скажу о порочном, но о знаменитом убийце! Итак, человечество будет для тебя всегда чуждо! Ты навсегда погряз в злодеяниях! Твое снисхождение ко мне есть только хитрость, твой разговор одно притворство. Всякий раз, полагаясь на согласие твоего сердца, я вижу ясно, что тщетно проходит время, употребляемое мною, дабы извлечь тебя из ужасной пропасти, которая тебе столько нравится и в которой ты находишь безопасное для себя убежище! Ты своими насмешливыми ответами подтверждаешь чувство, пристойное, по моему мнению, одним убийцам, — чувство такое, что когда уже однажды вселится гибельная склонность, им управляющая, то почти уже невозможно внимать спасительному гласу зовущего нас на путь истины. Усилия, употребляемые в сем случае благородною душою, всегда почти тщетны. Не изыскивая средств уверить тебя в моей ревности, я хочу просто сказать тебе предвещание, в котором справедливая казнь тебя скоро уверит. Придет время, когда горесть твоя никого не тронет, и твое раскаяние будет очень поздно. Высочайшее Существо, утомленное ужасными злодеяниями, совершенными в сем мрачном жилище, излиет на тебя гнев Свой; ты испустишь дух среди палачей, тщетно будешь изрыгать страшные проклятия. — Не говори ничего мне более: ты хочешь устрашить меня казнью. Мое мужество истребило всякий ужас из моего сердца; ни страх, ни боязнь не могут овладеть им; я хочу жить по своему, оставь меня. Если бы твоя душа была неколебима, если б ты имел довольно твердости, я склонил бы тебя жить с нами — и принудил бы дать клятву никогда нас не оставлять. Ты участвовал бы в моих добычах и был мне равным; веселая жизнь, какую мы здесь проводим, как ты видишь, нимало не презрительна и имеет свои приятности. Если ты обещаешь, как честный человек, храбро вспомоществовать мне во всех предприятиях, то я в самую эту минуту разорву твои оковы. — Злодей, что дерзаешь ты мне предлагать — мне, который клянет жизнь твою, который содрогается от ужасных злодеяний? Ты с толикою наглостию предлагаешь мне погубить честь мою — покрыть себя вечным поношением, чтобы спасти остаток жизни, которую я презираю! Нет, нет, я не произнесу клятвы, принуждающей сохранять ненарушимо сие гнусное обещание, противное честности. Я знаю, что, нарушив свою клятву, мог бы легко обмануть тебя и освободиться из сей темницы. Мои уста в пятьдесят лет не произносили никакой лжи; и хотя в сих обстоятельствах, в которые приведен я судьбою, клятвопреступление могло бы быть простительно, но я лучше умру, нежели соглашусь нарушить правду: Горбак никогда не лгал, он никогда не думал изменить своей честности и подражать тебе. — Горбак! Небо! что я слышу? Это твое имя? Ты ли сын того Горбака, который славился по всей Германии, который чрез тридцать лет наслаждался благодарностию своего отечества, которой женат был на сестре моей матери? Ты мне родственник, — я нашел своего двоюродного брата! — Так, я сын славного Горбака, я хвалюсь этим, но тебя не признаю за родственника, я вижу разбойника: поди, несчастный, право! тебе приличнее говорить о чести и славе. — Слушай, брат, как скоро я тебя увидел, я почувствовал к тебе сожаление; мое сердце не обманулось — обними меня без околичностей. — Удались, я ненавижу, я гнушаюсь злодеяниями, хотя ты и брат мне, — но я лучше желаю от тебя смерти, нежели дружества. Но что меня более всего поражает, приносит душе моей смертельный удар, это страдания сей любезной дочери моего друга, подверженной опасности каждый час быть умерщвленной твоими сообщниками. Если еще последняя искра сожаления не погасла в сердце твоем, — если милосердие может хотя несколько проникнуть в душу твою: то не именем Бога, которого я призываю и которого ты поносишь столь ужасно, не именем человечества, которое ты оскорбляешь, — которого законы ты презрительно попираешь ногами, — но заклинаю тебя красотою, к которой имеешь ты еще некоторое уважение, освободи сию нещастную от оков, гнетущих нежное ее тело. — Не беспокойся об ней; она смирна, как овечка. Если она охотно заплатит за любовь мою своими прелестями, то я прозакладую голову за ее вольность. — Как! подлый развратитель! ты хочешь… — Нет, я хочу заслужишь ее любовь и потом ее освободить. Я запретил моим людям не делать ей никакого вреда. — Никакого вреда! Вот гроб, которой заключает ее живую. В сию минуту пришли уведомить Родернода, чтоб он был готов защищаться и что войско расположилось в окрестностях леса. Он поспешно уходит и стремится во все опасности. Между тем, уведомивший его разбойник схватывает сосуд и напивается; он идет к Цефизе, к которой долгое время горел сильною любовию, но присутствие других препятствовало гнусному его намерению. С ножом в руке приближается он, желая обнять ее; она его сильно отталкивает. Страсть разбойника усиливается; он хочет употребить силу, она поднимает крик, и разбойник в бешенстве вонзает ей нож в сердце. Осведомись о ложной тревоге, им объявленной, товарищи его входят в радости; Родернод за ними следует. Увидев издали распростертую женщину, пронзенную при ногах свирепого, он приближается с трепетом; он рассматривает и поднимает окровавленное покрывало Цефизы. Гнев и отчаяние его были неописанны. Он испускает ужасный вопль и произносит страшные проклятия. С пылающими от ярости взорами он сел возле нее — и его товарищи увидели в первый раз убийцу, плачущего о убийстве. Приносили жалобы в Ринсельде о тех бедствиях, которым подвергались путешественники. Давно уже жители просили войска у правительства для точного осмотра всего Черного Леса. Их выслушали с благосклонностию, однако не удовлетворили их справедливым и усильным просьбам. Наконец военная команда, где служили два мои сына, получает повеление отправиться в сие опасное место. Взошедши в лес, они осматривали все места и ничего не видали, кроме дерев и кустарников. Между тем, как они разошлись немного, один солдат нашел место, где приметил куски срубленного дерева и поваленные деревья. Он останавливается, видит на свежей еще земле следы человека. По сим следам он не сомневается найти предмет своих поисков. Немного далее видит он расщелины, слышит шум, слушает со вниманием и махает рукою, чтобы все наблюдали глубокое молчание: тогда явно услышали крики разбойников. Солдаты окружили пещеру со всех сторон, но никто не смел войти первый; старший сын мой презирает всякую опасность и тотчас бросается в пещеру, но он пал мертв от ружейного выстрела. Его брат хочет отмстить за него, но пуля попадает ему в левую ногу. Тогда гнев воспламенил всех: они устремляются на злодеев, которые стараются уйти другим выходом, но тщетно; наконец, все злодеи скованы. Солдаты прибегают к Горбаку, чтобы освободить его. Он обнимает их, плача от радости, и ведет к тому месту, где была моя дочь… О зрелище! О неслыханная свирепость! Он отскакивает от удивления и ужаса и испускает вопль: — Боже мой! Варвары ее умертвили! Несмотря на свою чрезвычайную горесть, он повелевает вынесть ее из пещеры, чтоб отдать последний долг. Когда выносили ее, мой младший сын следовал за нею. Он видит бледное лицо ее, узнает сестру свою. — Это она! это она! — вскричал он и упал в обморок. Горбак приказывает нести ко мне умерщвленных детей. Солдаты приходят… Ах! я падаю без чувств при сем лютом зрелище: кто мог бы устоять против сего убивающего удара? Должно ли было найти моего прежнего друга, и лишиться навеки моих детей. Великий Боже! Кто может лучше меня знать, как этот случай терзает сердце нежного родителя! Давши свободное течение слезам своим, я вскричал прерывающимся голосом: — Дети мои, любезные дети! Цефиза! Милая моя Цефиза! В последнее уже я вас обнимаю! Я более не увижу вас! Должно ли было вам умереть? Должно ли, чтоб смерть вас похитила в сих нежных летах, между тем как отец ваш, обремененный злополучием и старостию, жив еще? Разверзнись, земля, и поглоти несчастного старца! Два тела погребены были близ моего дома, простой памятник стоит на гробе их. Чрез три дня, и другой сын умирает от своей раны посреди ужаснейших страданий. Чудовища брошены в тюрьму и осуждены погибнуть в лютых мучениях. Прежде казни Родернод говорил важным голосом собравшемуся народу: — Я родился не для беззакония, мое сердце было сего чуждо. Нужда и пример сделали меня разбойником. Безрассудство овладело мною в юности, и пагубные следствия, которых я не мог избегнуть, ободрили меня к злодеяниям; я не страшился ничего более, я искренне в том каюсь. Я заслужил смерть, я это знаю, я ее ожидаю. Да будет она полезна, который покусился бы мне подражать. Палач сие подтвердил. Одно утешение мне оставалось, что Горбак основал свое жилище в моем доме. Но все его усилия, чтобы утешить мою печаль, все его старания, чтобы залечить мою рану, сделались бесплодны. Я желал смерти — и не мог умереть. Я мало принимал пищи, спал еще менее, и мое иссохшее тело представляло отвратительный скелет. Я редко выходил, и когда по случаю случалось мне взглянуть на горестный памятник, я тогда плакал, кричал, как нежная мать, у которой вырывают из рук ее дитя. Иногда я походил на сумасшедшего и в беспамятстве проклинал своего друга, который все сие сносил очень терпеливо. Все злополучия, все бедствия, самые несносные для чувствительного сердца, на меня обратились. Я все претерпел: голос страстей моих умолк; я сделался ко всему нечувствительным; но я должен был подвергнуться новым несчастиям; наконец вся ярость жестокой судьбы излилась на несчастного старца. Горбак около двух недель жаловался на жестокую боль во всем теле. Прискорбное следствие его заточения нечувствительно изнурило моего друга: он очевидно слабел. Я предвидел, что скоро-скоро разлучусь с ним навеки. Так! Я в последний раз видел моего друга; он собрал все силы, чтобы встать на постели, и обнял меня в последний раз. Я его лишился. Сей редкий человек, пример в добродетели, образец великих сердец, превосходный друг, оставил сей свет с твердостию героя и надеждою мудрого. Теперь, в изнеможении души, в горести, с растерзанным сердцем, готовый испустить последнее дыхание, я противлюсь всем болезням без ослабления тела; но я предчувствую, что судьба скоро расторгнет цепи, меня угнетающие. Пусть сие желание, питаемое надеждою и укрепляемое ожиданием, столь драгоценное для моего спокойствия и нужное для моего счастия, нравится тому, который по своей воле распоряжает все происшествия. Я хочу возвратиться и себя заключить в горестном моем жилище; я выходил из него, чтобы удалиться в средину дремучего леса и бродить там в уединении с жестоким отчаянием в душе своей. Таким образом он окончил печальную свою историю, и в продолжение ее часто горькие слезы орошали лицо старика, — слезы, исторгнутые воспоминанием о его бедствиях. Рыдания часто прерывали его повесть, и я сам содрогался от ужаса. Там, обняв его сердечно, я изъявлял ему все уважение, которое имел к старикам, особливо к тем, коих угнетает бремя злополучия. Потом я расстался с сим человеком, коего горестная и ужасная история наполнила живейшим состраданием мое сердце. КОНЕЦПримечания
Сочинение ученой шотландской писательницы Мэри Анн Берджес (1763–1813) «Пещера смерти в дремучем лесу» было впервые опубликовано без имени автора в газете «The True Briton», а затем вышло отдельным изданием в Лондоне в 1794 г. под заглавием «The Cavern of Death: A Moral Tale» («Пещера смерти: Моральная история»)[5]. В 1799 г. в Париже был издан французский перевод, и уже с него неким С. Р. был выполнен перевод на русский язык («Родольф, или Пещера смерти в дремучем лесу. Аглинское сочинение»), напечатанный в Москве в 1801 г. Очевидно, роман пришелся по душе читателям: в 1806 г. было осуществлено второе издание, причем роман был на сей раз приписан А. Радклиф («Пещера смерти в дремучем лесу: Аглинское сочинение. Сочинение г-жи Радклиф»). Такая практика была обычна в те времена: к примеру, в газетных объявлениях о продаже первого издания романа автором его указывался достаточно известный Ф. Дюкре-Дюмениль. Любопытно, что книга вышла одновременно в двух типографиях — Селивановского и Решетникова. Здесь, как и в третьем издании 1835 г., на с. 3 было проставлено заглавие «Родольф, или Пещера смерти». Упомянутое третье издание вызвало, как и можно было ожидать, презрительную отповедь В. Белинского: «В 1835 году, когда всякому грамотному и читающему человеку известны романы Вальтера Скотта, роман покойницы г-жи Радклиф! Это должна быть спекуляция кого-нибудь из наших досужих Лавока. Перевод этой книги, вероятно, был сделан во время оно, а теперь просто перепечатан. Странное дело, неужели эти вздоры находят еще читателей? В таком случае, хвала нашим Лавока, нашим букинистам, нашим ярмаркам и особенно нашим добрым провинциалам! В самом деле, если бы эти добрые люди не покупали таких книг и не читали их во здравие, то что бы осталось делать на белом свете книгопродавцам Никольской улицы и толкучего рынка?.. Что бы осталось делать на белом свете таким авторам, каковы гг. Орлов, Сигов, Кузмичев, Свечин, Чуровский, автор „Ольги Милославской“, „Графини Рославлевой“ и т. д.?.. Итак, пишите, переводите и продавайте, почтеннейшие!»
«Неистовый Виссарион», выступавший как «-он -инский», не пожалел даже очаровательный гравированный фронтиспис, отметив, что книга издана «с плохою картинкою, а под нею — с безграмотноюнадписью»[6]. В 1838 г. на роман откликнулся Б. Федоров, исправивший ошибку Белинского (по-видимому, искренне считавшего, что «Пещера» принадлежит перу Радклиф): «„Пещера смерти“, небольшой роман под именем госпожи Радклиф, напечатан третьим изданием. Должно заметить, что славной английской писательнице, которой Вальтер Скотт торжественно отдал справедливость в своих жизнеописаниях романистов, не посчастливилось у нас от книгопродавцев, переводчиков и журналов. Первые, превознося ее знаменитость, издавали под ее именем чужие сочинения, одно другого хуже, напр.: „Пещеру смерти“, „Живой мертвец“ и проч., а журналисты, подшучивая над ее замками и аббатствами, не были справедливы к ее достоинствам и несколько раз порицали ее за чужие романы, особенно за „Францисканского монаха“, изданного у нас под ее именем и сочиненного англичанином Левисом»[7]. Впрочем, «Пещера смерти» отнюдь не лишена литературных достоинств, критиков же, безусловно, мог отталкивать зачастую безграмотный перевод. Как справедливо (и щадяще) отмечает В. Вацуро, «перевод <…> архаичен уже для начала века, что особенно сказывается в любовных диалогах, где рыцарь изъясняется на странной смеси приказного и галантерейного языков. Иногда беспомощность переводчика полностью затемняет смысл фразы»[8]. «Автор романа», — пишет он далее, — «еще не мог знать высших достижений готического жанра. Из сочинений Радклиф он[9] почти наверное читал „Лес“ и, возможно, „Сицилийский роман“; зато ему, без сомнения, были известны „Замок Отранто“ и следовавший за ним исторический роман. Сюжетообразующий мотив „Пещеры смерти“ — родовое проклятие, как это было и у X. Уолпола. <…> Наказание совершается фатальным движением событий: сверхъестественные явления указывают Родольфу путь к пещере, где скрыта роковая шпага; сын Дорнгейма Фридерик готовит убийство отца из ревности — но сам гибнет от подосланных им убийц, принявших его за Родольфа; барон в отчаянии вонзает себе в грудь шпагу Альберта. „Сии обстоятельства подали набожному кавалеру новые причины удивляться определению провидения Божия, Который обратил на главу жертв Его правосудия преступления, о коих они сами умышляли“, став таким образом „орудиями собственного разрушения“ и избавив героя от необходимости совершать казнь своих родственников.

Этот центральный мотив „Замка Отранто“ окружен побочными, также, возможно, восходящими к роману Уолпола: так, узурпатор Дорнгейм, движимый желанием продолжить род Дорнгеймов, собирается взять в жены невесту[10] своего сына — совершенно так же, как уолполовский Манфред. Этого мало, — вся техника, образность, сама мировоззренческая концепция „Пещеры смерти“ — „уолполовская“, а не „радклифианская“. Это рыцарский роман, действие которого относится ко времени Фридриха Барбароссы, и „суеверие“ — фантастический и сверхъестественный элемент — выступает в нем не как потенция, но в предельно вещной и обнаженной форме. Анонимный автор в трактовке фантастических мотивов словно продолжает Уолпола: так, привидение отца Родольфа в пророческом сне произносит загадочные слова: „Из сей оледенелой руки прими сию шпагу, которая должна отмстить за мою смерть и привести тебя в принадлежащие тебе права“ — и вслед за тем, проникнув в Пещеру смерти, Родольф находит скелет, сжимающий шпагу; он произносит клятву мщения, и „в ту ж минуту иссохшие пальцы, которые ее держали, отверзлись сами и оставили ее в его руке“. Все это — довольно близкая вариация пророчества в замке Отранто, также связанного с обретением меча, погребенного в земле. Число сходных мотивов можно было бы умножить: так, призрак отца Родольфа, преображающийся в скелет, — едва ли не реплика знаменитой сцены в главе 5 „Отранто“, где скелетом оказывается „молящийся“ отшельник. В эту „сказочную“ поэтику уолполовского романа органично входят сцены, соприкасающиеся с ранними романами Радклиф; прежде всего это описание леса и „ужасного места“ — Пещеры смерти. <…> Подобные ландшафты будут характерны и для романов Радклиф».
«Разбойники Черного Леса», анонимно изданные в Москве в 1803 г. — творение плодовитого французского беллетриста Жака-Сальбиготона Кесне (Quesne, 1779–1859). Английская критика не преминула поднять на смех этот странный гибрид конспективно изложенного готического романа и морализаторской брошюры, вышедший в Париже в 1799 г. под заглавием «Les Cinq Voleurs de la Forêt-Noire» («Пять разбойников Черного Леса»). «Большую часть данного тома, — писал критик The Monthly Magazine, — занимает диалог между капитаном banditti и одним из его пленников, который тщетно пытается убедить разбойника, что его нынешний образ жизни равно противен Богу и человеку. Будучи полностью лишено повествования, что является обычным недостатком такого рода композиций, данное сочинение, разумеется, представляется скучным и пресным»[11].

«Пещера смерти в дремучем лесу» печатается по изданию 1835 г., «Разбойники Черного Леса» — по изданию 1803 г. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам; в случае диалогов, как правило, введено деление на абзацы; исправлены очевидные опечатки. Фронтиспис взят из издания «Пещеры смерти» 1835 г.
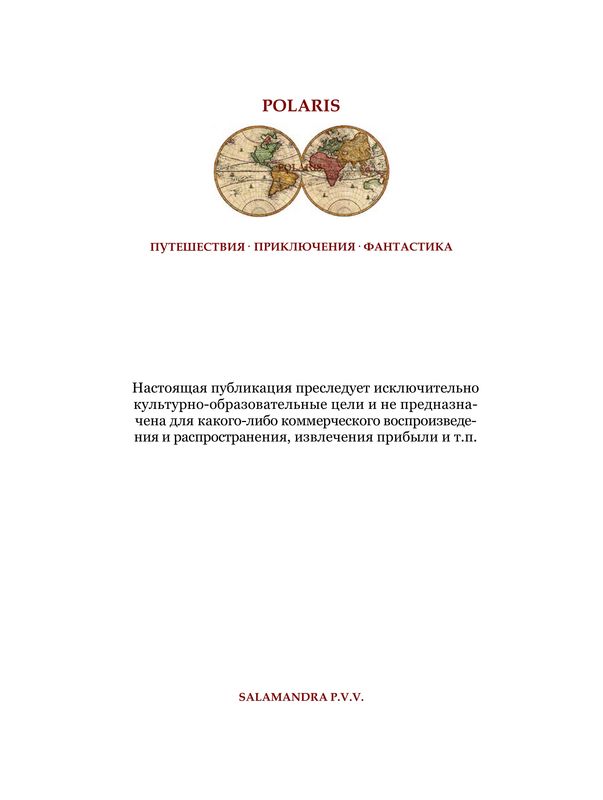
Последние комментарии
7 часов 7 минут назад
7 часов 20 минут назад
7 часов 54 минут назад
8 часов 26 минут назад
23 часов 56 минут назад
1 день 6 минут назад