ВЛАДИМИР ШАРОВ
Искушение революцией

Все, что пойдет ниже, сложено из вещей, над которыми я работал почти двадцать лет, правда, с большими перерывами. Так вышло, что каждый раз лишь с течением времени я понимал, что в итоге у меня получилось. Не в том, конечно, смысле, хорошо или плохо, а в том, какие выводы следуют из написанного, и еще: что все это – части чего-то одного.
Первым, что случается нередко, был трактат самого общего свойства (книга начинается не с него), а дальше – вопросы, которые продолжали оставаться для меня темными и неясными, по мере сил разбирались и уточнялись. Я тогда уже писал прозу, был уверен, что с остальным в моей жизни покончено, однако со спасительной регулярностью, стоило основному занятию зайти в тупик – история вдруг приходила на помощь.
Необходимо сказать еще об одном. Собирая «Искушение революцией», я в очередной раз убедился, что число тем в русской истории, которые меня занимали, достаточно ограничено. Из-за этого работы нередко друг на друга налагаются. Конечно, пересечения, самоцитаты можно было убрать, но тогда пострадала бы цельность отдельных эссе. А ведь с самого начала я писал их, а не книгу. В общем, тут есть проблема, с которой, что поделать, я не знал тогда и не знаю сейчас. Поколебавшись, я все решил оставить, как было, а за повторы просто попросить прощения. Если же будет добрая воля – счесть их чем-то вроде рефрена.
Владимир Шаров

МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ
(Андрей Платонов и русская история)
Книга начинается с двух работ, так или иначе связанных с самым важным для меня писателем в русском ХХ веке – Андреем Платоновым.
Думать о тех темах, которым посвящена первая работа – «Между двух революций (Андрей Платонов и русская история)» – я начал после платоновской конференции 2004 г. (ИМЛИ, сентябрь). Попытка понять судьбу автора «Котлована», «Джана» и «Чевенгура» (большинство докладов были связаны именно с последним романом) получилась довольно объемистой. Мне кажется, что, кроме прочего, она неплохо дополняет и «Верховые революции», которая вопреки хронологии публикуется во второй части этого сборника. Второе эссе – «О записных книжках Андрея Платонова» – было написано для журнала «Дружба народов». Позже оно еще дважды публиковалось в посвященных Платонову сборниках «Страна Философов» (М., 2003).
В сентябре 2004 года я принял участие в конференции, посвященной Андрею Платонову, по преимуществу роману «Чевенгур». Услышанное на ней плюс прочитанное в томе нового собрания сочинений (в него вошла публицистика 20-х годов, очень подробно и качественно откомментированная) и в очередном сборнике «Страна философов» неожиданно легко соединилось с представлениями о русской верховной власти, взаимоотношениях Москвы и провинции, которые бродили во мне лет двадцать назад, когда я еще профессионально занимался историей. Многое было дополнено до целого, так что стало казаться, что можно связно объяснить и то, чем была советская власть при своем зарождении – 17 – 18-е годы ХХ в. – и то, какой она сделалась к 25-му году, попав под контроль Сталина. Понять ее корни и эволюцию (имеется в виду направление и скорость последней), а отсюда – один шаг до ответа: почему и Платонов и эта власть, несмотря на явное, вдобавок обоюдное, желание сотрудничать, расходились дальше и дальше.
Известно, что христианство, каким оно появилось на свет Божий, было религией «конца». Первые поколения христиан, видя, что чаша человеческих грехов давно переполнена, верили, что второй раз Христос ступит на землю уже при их жизни, уже при них придет время Страшного суда и торжества праведных. Потом за столетия большинство, хотя шаг за шагом и смирится, привыкнет к тому, что знать час Его нового явления не дано никому – пути Господни неисповедимы, – эта загнанная в подполье начальная вера то и дело будет вырываться на поверхность в виде разного рода ересей и церковных смут.
Жизнь была так страшна и безнадежна и так тяжело ожидание, что на Западе и без них в большие юбилейные годы – 1000-м, 1500-м от Рождества Христова – уже успокоившаяся, уже вошедшая в колею канона вера вдруг вспыхивала прежней страстью и напряжением. В некоторых городах бюргеры, чуть не поголовно вспомнив слова Христа о том, что легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное, будто и не было прежнего скопидомства, принимались не раздавать – навязывать каждому встречному и поперечному нажитое.
К XVI столетию, стартовавшему этим самым 1500-м годом, было потрачено уже несколько веков и таланты тысяч и тысяч лучших теологов и юристов, чтобы хоть как-то совместить высшую правду и реальность земного, насквозь греховного бытия – Божественное и гражданское право. Но одно и другое было так далеко друг от друга, так друг другу враждебно, что сшить их удалось в лучшем случае на живую нитку. Доказательство – начало проповеди Лютера.
Лютер, а вслед за ним Цвингль, учили в мире, где каждый знал, что пусть он не пропускает ни одной мессы и, отнимая у семьи последнее, щедро жертвует на храм, пусть всякую неделю ходит к исповеди, на которой священник отпускает ему грехи, вокруг столько зла и ненависти, что проще не замараться, искупавшись в бочке с нечистотами, что возит по улице золотарь, чем спастись, оставаясь в миру. Ты можешь честно жить и работать, можешь искренне молиться Создателю и, сколько есть сил, не грешить ни в делах ни в помыслах, все равно каждый прожитый день лишь вернее ставит крест на твоем спасении. Если хочешь спастись, бросай жену, детей, дом и беги не оглядываясь, как от Содома и Гоморры. Иного пути нет и не может быть.
Это была очень горькая жизнь, и вдруг пришли новые учителя и сказали, что все не так. Бог хочет от человека другого. Чтобы сподобиться вечного блаженства, монастырь не нужен: для спасения души достаточно твоей веры и смирения. Надо просто верить в Христа, быть справедливым, милосердным, и тогда, даже если ты напрямую, без священника, обратишься к Нему, Он тебя услышит. Он любит тебя и готов сторицей воздать за твое добро.
Со времени рождества Христова, если не считать тех, кто уходил в пустыни и в монастыри, лишь в краткие периоды веры, что Христос и впрямь придет не сегодня – завтра, да в праздники люди забывали, что до конца дней обречены жить в юдоли страданий. Теперь же этот камень был с человека снят. Облегчения, какое слова Лютера и Цвингли дали каждому, кто за ними пошел, хватило на многие века. Источник этот не иссяк и сейчас.
Подобного рода комментарии знала и Россия. Их специфика определила, выстроила русскую историю, вообще нашу цивилизацию, ее особенности, характерные черты. Основные субстраты, составившие русский народ – славянские и угро-финские племена – жили на восточно-европейской равнине многие тысячелетия; династия Рюрика правила ими непрерывно с IX века по конец XVI, то есть больше семи веков, что по любым стандартам очень и очень долго. Уже в силу этого Рюриковичей трудно счесть нуворишами, однако с середины XV века, во всяком случае на взгляд извне, – времени с другой логикой, другими знаниями – первенствующих среди них великих князей Московских будто подменяют. Конечно, наш подход ущербен – культуру надо судить по ее собственным законам и установлениям, однако изменения слишком разительны, резки, чтобы оставить их без внимания. На те десятилетия падает сразу несколько важных событий, главные из которых – отказ Москвы утвердить унию католической и православной церквей, подписанную на Ферраро-Флорентийском соборе главой русской церкви архиепископом Исидором, и захват турками столицы православия – Константинополя. Принято считать, что именно под их влиянием Русь пересматривает весь комплекс отношений между собой и миром. Но и Константинополь, и собор были лишь внешним кругом, обрамлением для перемен, начавшихся куда ближе. Быстро слабеют татары. Двумя с половиной веками ранее их бесчисленные конные отряды – «тьмы» – огнем и мечом прошли по Руси, оставив после себя сожженную, опустошенную страну. Тогда все пришлось строить наново. Травма была столь сильна, что теперь просто вернуться к положению, которое существовало прежде, казалось немыслимым.
В 30-е годы уже прошлого столетия издательство «Академия» опубликовало книгу, названную «Любовь людей 60-х годов», в основе ее переписка Чернышевского и Шелгунова с женами. Издание во всех смыслах примечательное, позволяющее понять самое нутро, корень революций. Похоже, он, причем без исключения, – в не лишенном убедительности тезисе, что если палка долгое время была насильственно согнута, надеяться, что стоит ее отпустить – и она сама тут же выпрямится, наивно. Чтобы вернуть палку в первоначальное состояние – прямое, равное, справедливое – это все синонимы – надо немалое время, и, главное, тоже насильно гнуть ее (народ, рабов, женщин, пролетариат) в противоположную сторону. Иначе ничего не получится. Чернышевский и Шелгунов ставили опыт на себе и своих женах, но пару-тройку десятилетий спустя наступила очередь стран и континентов. Церковные литераторы XV века над подобными вопросами вряд ли задумывались, однако дорога, на которую они поставили русскую историю, в сущности, вела туда же. Увидев в происходящих событиях ясное, не допускающее сомнений свидетельство, что настали не просто последние времена, а самый их конец, Христос и вправду повернулся лицом к тонущим в грехах и страданиях потомкам Адама, они сказали московским князьям, что именно им суждено возглавить поход к добру, сыграть главную роль в спасении и распространении истинной веры. Они сказали это князьям, которые – и века не прошло, как ели землю перед троном золотоордынских ханов, вымаливая себе ярлык на великое княжение; ища ее смерти, оговаривали ближайшую родню – других претендентов на этот самый ярлык. Значение двух появившихся в те годы доктрин – одна из них известна под названием «Москва – Третий Рим» (суть ее, что показал еще Н.И. Ефимов, лишь отчасти соответствует заглавию, куда правильнее было бы именовать ее «Москва – Второй Иерусалим». См. Ефимов Н.И. Русь – новый Израиль. Казань, 1912), авторство концепции приписывается старцу Елеазорова монастыря Филофею, примерная датировка – 1520 – 1530 годы; вторая – как «Сказание о князьях Владимирских» (оно принадлежит перу тверского монаха Спиридона – Саввы и возводит род Рюриковичей к племяннику римского императора Августа, легендарному Прусу. Написанное не позднее 1523 года, то есть тогда же, что и послания Филофея, Сказание вскоре приобрело официальный статус, сделавшись вступительной статьей к «Государеву родословцу» и для русского общества мало уступает перевороту, сделанному Коперником для общества западного. Только вектор его противоположный. Коперник умалил и землю, и весь человеческий род, убрав его из центра мироздания; монастырские же книжники, наоборот, поставили русскую историю в центр мира. Это был взгляд, с одной стороны, совершенно очевидно обращенный к концу, а с другой – неслыханно, к самому престолу Господню возносивший и русскую землю – новую Святую землю, и русский народ – единственный независимый народ, сохранивший истинную веру, новый народ Божий, а также русских царей – Его наместников на земле. Введение в чин венчания на царство обряда помазания (впервые при Иване IV) и вовсе уподобило русских царей Христу (См. Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России. – В кн.: Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 50).
Прежде чем мы перейдем к дальнейшей судьбе этих двух учений, наверное, стоит добавить несколько вещей: страна, по-видимому, потому все это так естественно и сразу приняла, что, затерянная среди лесов и болот огромной восточно-европейской равнины, почти отрезанная при татарах от остального мира, и сама чувствовала себя, словно монах в скиту. Доктрина «Москва – Третий Рим», настаивающая, что дальше не будет уже ничего, этот Рим – последний, на нем и кончится земная жизнь, цельность и жесткость учения Филофея именно от заброшенности и одиночества, от ненужности никаких компромиссов с окружающим миром. От убеждения, что другого мира, во всяком случае, правильного, угодного Богу, нет и быть не может.
Второе: Русские князья, подобно другим смертным, с трепетом ожидали предстоящей встречи с Творцом и на смертном одре, как правило, принимали постриг. Но и до этого, едва вступив на престол, они щедро жаловали монастырям деньги, землю и разного рода льготы. Известно, что ни один добрый поступок не остается без ответа – молясь о милости за гробовой доской, однажды они уже здесь, на земле получили дар, который до них мало кому давался. Но и тут все было не просто. Зазор между вчерашним и сегодняшним был слишком невелик, слишком стремительна была метаморфоза, и, согласившись принять монашеское подношение, русская власть сразу попала на площадку, которая отличалась фантастическим перепадом высот. На ней не то что строить – нелегко было стоять. Но династия Калиты ничего не боялась.
Способность церковных писателей несколькими страницами текста возвеличить тебя сильнее, чем сотни выигранных битв, сделать из последних первыми, была тогда оценена по достоинству и по достоинству же оценена мгновенность, революционность того, что произошло. С тех пор у русской верховной власти надолго пропала тяга к спокойному, лишенному катаклизмов и бурь царствованию. Наоборот, она запомнила, что можно разом, одним ударом решить проблемы, которые иначе кажутся неразрешимыми.
Прежде чем мы продолжим разговор, сделаем небольшое отступление и отметим, что те, кто занимаются лесом, различают два вида пожаров – низовые: тогда горит по преимуществу трава, кустарник, сухостой, скорость распространения огня обычно невелика, соответственно, невелик и урон, и верховые: фронт такого пожара, часто раздуваемого ветром, движется с огромной скоростью, выжигая подчистую все, даже самые большие деревья. После себя он оставляет лишь пепелище. Лесные пожары – простая, но довольно точная метафора двух традиций русской революционности – народной и другой, идущей непосредственно от верховной власти. Роль обеих в отечественной истории исключительно велика. Как мне кажется, миновав эту тему, нам не понять и судьбу Андрея Платонова. Филофей и Савва вольно или невольно соблазнили, искусили верховную власть революцией. Именно после них в России революция «сверху» навсегда вошла в арсенал верховной власти, ими были оправданы, получили высшую санкцию новые и новые перевороты. Революцией была попытка Грозного с помощью опричнины кардинально изменить самый характер связи между собой и служилым сословием. Через полтора века после Грозного на полный слом государственного устройства пошел Петр; еще через два века – Сталин, о нем речь ниже. Все они отлично сознавали родственность с предшественниками и свою революционность трактовали как традиционную и законную.
Но Филофей и Савва, когда писали свои послания, думали не только о верховной власти. Люди своим личным выбором заживо себя похоронившие, целиком обращенные к вечной, лишенной греха и страданий жизни, пусть их адресатом и были светские владыки, создали учение по сути, как и раннее христианство, вполне антигосударственное. В итоге услышано было все, не пропали ни их слова, ни настроения.
Корень и той, и той русской революции – в разных, друг другу бесконечно враждебных толкованиях учения Филофея. Впоследствии они на века разделили русский народ. Власть и те, кто за ней пошел, а таких безусловно было большинство, легко добавила к этой доктрине комментарий, сводящийся к мысли, что, по-видимому, Христос не придет на землю и не спасет погрязший в грехах человеческий род раньше, чем весь мир не сделается Святой землей, то есть не подпадет под высокую руку Московских князей (позже царей, еще позже императоров). Их противники прочитали другое. В посланиях монахов они поняли главное – мы живем при конце последних времен и ждать осталось недолго. Они не сомневались, что, чтобы достойно подготовиться к приходу Спасителя, надо уже сейчас немедля уничтожить то царство зла, которое их окружает, и на его месте, взявшись всем «миром», выстроить царство добра и справедливости. Они ждали прихода Христа с напряжением, которое вряд ли с чем бы то ни было можно сравнить.
Каждая из трактовок породила множество следствий, определивших, выстроивших не только отечественную историю, но и судьбы наши и наших предков. Некоторые выводы, во всяком случае, сейчас, на расстоянии кажутся и очевидными и предсказуемыми; другие были, возможно, столь же неизбежны, но сформулированные, напечатанные на бумаге, выглядят парадоксальными. Начнем с верховной власти и той части народа, которая ее поддерживала. Многие иностранцы отмечали, что на Руси на царя смотрят как на главу церкви или даже на земное воплощение Бога, московские же митрополиты, позже – патриархи играют подчиненную, зависимую роль. Власть монарха понималась как абсолютная, безграничная и целиком обращенная к Высшей силе. Главной, а по сути единственной ее задачей было расширение территории истинной веры. О правильности такого толкования учения Филофея свидетельствовали беспримерные продолжавшиеся из века в век победы русского оружия на юге, западе, севере и востоке, то, что другие цари, другие народы и другие веры склонялись перед русским царем, как некогда посохи магов – перед посохом Моисея (кстати, отсюда взгляд на ратный труд как на служение и столько князей, причисленных к лику блаженных: их подвиг – пролитие крови за Святую землю – чисто религиозный). Во всем этом было трудно не увидеть благословение Божие, и на протяжении почти пятисот лет народ, как бы ни было ему тяжело, тянул лямку и преданно шел за верховной властью.
В результате распространение пределов Святой земли, официально всегда оставаясь в статусе средства, необходимого условия для вторичного прихода на землю Иисуса Христа, очень скоро сделалось самоцелью. Потому для русских князей ни прежние заслуги, ни вера, ни кровь не играли никакой роли. Верховная власть при Василии Темном, сколько бы ни возмущалась старая московская знать, отдавала явное предпочтение татарам. Начиная с Петра I и до Александра III, всячески подчеркивавшего свою «русскость», то есть почти два века ее фаворитом были прибалтийские дворяне – немцы; советская империя поначалу с той же страстью обратилась к российским и зарубежным евреям. В XX веке, когда стало окончательно ясно, что расширение Божьей земли в старом православном ее понимании себя исчерпало, что для дальнейшей экспансии оно, да и вообще христианство – помеха, к власти – причем надолго – пришла группировка, напрочь порвавшая с прежней верой. Пала она лишь тогда, когда, как и ее предшественница, стала отступать, терпя одно поражение за другим. Убеждение, что, коли русская держава прирастает новыми и новыми землями, верховная власть истинна и благословенна, в «Табеле о рангах» стояло выше всего. Из-за этого советские властители от Ленина до Брежнева, но особенно, конечно, Сталин, начавшие еще во время Гражданской войны возвращать утраченные территории и дальше, при поддержке Коминтерна сделавшие Советский Союз старшим братом для десятков народов и стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, воспринимались в России как правильные, законные цари. И не важно, как они пришли к власти и как правили своими подданными. Они могли убивать их миллионами, могли тысячами разрушать храмы и расстреливать священников – это мало что меняло: легитимность русской верховной власти была связана не с тем, что происходило внутри страны, а с военными победами вовне.
Нельзя сказать, что в России не было людей, хорошо понимавших уязвимость безграничной царской власти. Свидетельства ее непрочности были более чем убедительны. Так, конец правления каждого из русских властителей ближе всего подошедших к абсолюту (Иван Грозный, Петр I, Сталин), означал фактически и конец династии. Без преувеличения можно говорить о явном стремлении абсолютной власти к суициду: Иван IV и Петр I своих наследников убили, а Сталин фактически вынудил к самоубийству сына Якова, в 41-м году, как и миллионы других солдат, попавшего в немецкий плен. Опасность любых военных неудач, утрата даже небольшой части Святой земли была для подданных ясным знаком, что царь, который ими правит, не благословен, а значит, не истинен и не законен. Сколько бы близкие к трону люди ни доказывали, что власть передана правильно, все большее число людей скоро начинало склоняться к мысли, что в обличье царя на троне сидит «вор» и самозванец. Иначе почему Господь от него и от своей Святой земли отвернулся?
Даже теснейшая связь верховной власти с Богом таила в себе угрозу. Она породила особую, встречавшуюся только в древности ответственность царя перед народом, по сути и на современный вкус весьма парадоксальную. Никакие собственные деяния ему поставлены быть в укор не могли, царю можно было предъявить счет лишь за то, что приписать никому, кроме Господа Бога, не получалось. Еще Кюстин, ездя по России, с удивлением отметил, что цензура не дает газетам информировать общество о Петербургском наводнении, в котором обвинить Николая I, казалось, было трудно. То же и в Советской России: например, крайняя скудость и неполнота сообщений о землетрясениях в Ашхабаде, Ташкенте, потом – в Спитаке.
На самом деле, исходя из российского понимания сущности верховной власти, она была совершенно права. Случавшиеся в стране землетрясения, наводнения, засухи могли означать лишь одно: на троне сидит ложный царь и Бог, насылая свои казни, ясно, недвусмысленно указывает на это святому народу. Так был разоблачен как узурпатор, после чего убит вместе с сыном Борис Годунов, при котором страну постиг трехлетний голод. В данном контексте ответственность верховной власти за любые техногенные катастрофы, даже столь трагические, как Чернобыль, представлялась народу меньшей – здесь вина была не царя, а бояр, земских начальников.
Попыток хоть как-то исправить ситуацию, сделать более устойчивыми и саму верховную власть, и весь государственный порядок было немало, и наиболее успешной из них была сложнейшая система правил и отношений, получившая в России название «чин царского двора». Именно «чину» иногда на целые столетия удавалось ввести абсолютную власть в жесткие рамки. Он делал это ласково, подобострастно, но от того ничуть не менее крепко.
С первых дней каждый, кто жил во дворце, воспитывался в уважении к этому институту, который четко и ясно говорил царю, какие его поступки и какие проявления его власти лепы, «чинны», а какие наоборот нелепы и только унижают власть, полученную им от отцов, дедов и, главное, от Господа Бога. То есть власть ограничивалась не потому, что должна была быть меньше, не потому, что абсолютная власть сама по себе разрушительна, а единственно во имя ее неслыханного величия. Ее предостерегали, что, столкнувшись с нами, грешными, с нами, маленькими и ничтожными людишками, она может унизить себя, замараться и уже хотя бы этой грязью стать с нами вровень. То была демагогия, неслыханная по хитроумию, но она действовала, и государство, пока «чин» чтился и соблюдался, процветало.
Благодаря подобной огранке в мире, где все мы друг от друга зависим, где так тесно, неограниченная власть не делалась слоном в посудной лавке, и с ней, под ней худо-бедно удавалось существовать. Цари-революционеры понимали это лучше кого бы то ни было и при первой возможности, спасаясь от «чина», бежали куда глаза глядят. Они бежали из своих стольных городов и кремлей: Андрей Боголюбский из Ростова и Суздаля в Боголюбово, Иван Грозный из Москвы в Александровскую слободу, Петр из той же Москвы в невские топи. Победить «чин» иначе, нежели собственным бегством, не получалось. Он был сильнее, но тогда, когда тот, ради кого он жил, исчезал, «чин», будто верный пес, умирал.
Думаю, что основная причина бегства царей – в страшном дискомфорте, который рождали в них ощущение своего всевластия и одновременно обычная человеческая слабость. Возможно, мы его даже недооцениваем. Совместить одно с другим, все время и с тем и с тем жить было слишком трудно, и верховная власть, как алкоголик, однажды снова сходила с катушек. Она вдруг опять вспоминала, что ей никто не указ и, распоясавшись, выдавала этакую революционную свечку.
Теперь вернемся к другой части народа. Как уже говорилось выше, были и те, кто все эти пять веков побед считал не более чем искушением, а государя не истинным православным царем, а сатаной, антихристом. Тот, как известно, должен был завладеть властью в последние времена, перед самым приходом Спасителя, и соблазнить, совлечь в грех многих и многих. Пока думавшие так были малочисленны, они, пытаясь спасти от греха себя и своих близких, уходили в леса, бежали в глухие окраинные места, если надо – и за пределы государства. Когда власть и там их доставала, и они видели, что зло – везде, ждать помощи неоткуда, эти инако понимавшие мир люди, чтобы предстать перед Господом незапятнанными, в белых одеждах, коли они были из староверов, нередко целыми деревнями превратив избы в домовины, от старика до только что родившегося младенца сжигали себя в них во славу Божию. Отростки того же корня – скопцы, опять же потому, что настали последние времена, холостили себя, чтобы спастись от похоти. В XVIII и в XIX веках сотнями насчитывались и вот такие, считавшиеся уголовными, дела (см. Владимир Соколовский. Криминальная летопись Урала. – ж-л «Уральская Новь», 2000, № 8. С. 123).
Докладная записка: «Содержащийся в Пермском тюремном замке арестант Федор Клементьев, причастный к делу об вновь открытой в Лысьвенском заводе секте морельщиков, 10 числа сего месяца снял со стены находящийся в его камере образ в киоте, ударил его об пол и разбил на три части. Осколки бросил в ведро, в которое он испражнялся. На вопрос смотрителя тюремного замка, пришедшего в камеру, он с азартом заявил, что не хочет поклоняться звериному изображению. Он находился в тюрьме по обвинению в зарезании 6 человек, был найден полицейскими. Клементьева за убийство 6 человек, в том числе своей дочери, и этот случай присудили к 70 ударам и, наложив клейма, сослали в каторжную работу вечно. Клементьев рыдал на книгах Ефрема Сирина об оскудении священства. Как установить Время Благочестия? Надо посылать к Господу своих родных и молить Его о всех благочестивых. Федор установил шесть человек, которых надо послать к Господу. Вдова Марфа Гаврилова изготовила им саваны, и их посадили в пещеру, обрекая на голодную смерть. Спустя некоторое время Клементьев пришел к ним и умертвил тех, кто еще был жив».
Но однажды и для народа, который обычно шел за царем, тяготы, потребные для ведения новых и новых войн, делались невыносимыми, и он тоже начинал склоняться к мысли, что при истинном царе жизнь здесь, на земле, не может быть такой несправедливой и страшной. Тогда число тех, кто ждать царствия Божия уже больше не мог, безмерно умножалось и огромные ватаги воровских разбойных людей (казаков), крестьян, холопов, посадских людей вместе со своим «правильным» царем (отсюда все российское самозванчество) шли на Москву – новый Иерусалим. Между сторонниками разных трактовок учения Филофея разгоралась настоящая гражданская война. Редко долгая, но до безумия жестокая и кровавая. В ней до 17-го года в конце концов всегда побеждал прежний царь и те, кто оставался ему верен.
Кстати, особая ненависть староверов к Петру, их убеждение, что он антихрист, была связана с тем, что именно при первом русском императоре произошла окончательная секуляризация учения Филофея. Петр попытался навсегда изъять из русской истории обещание и надежду на скорое пришествие Христа, на близкий Страшный Суд и торжество праведных. Казалось, что тем самым основание, фундамент верховной власти был значительно укреплен, и два века она, кто бы и как ни получал престол, легко обходилась без дополнительных подпорок. На самом деле петровские достижения на этом фронте не стоит преувеличивать. XVIII и XIX вв. с точки зрения расширения империи были баснословно успешными, и власть судя по всему, как и раньше, держалась именно ими. Во всяком случае, когда победы сменились поражениями, Романовы недолго оставались на троне. Добавим, причем без ранжира, еще несколько замечаний, небесполезных для разговора об отечественной истории.
Понимание себя как святого народа и своей земли тоже как святой придало русской истории уникальное чувство правоты и, соответственно, неправоты тех, кто становился у нее на пути. То есть когда бы и на кого бы мы ни нападали, это всегда было правильно и во имя «всешнего», в том числе и наших жертв, блага. Ведь мы и их готовы были сделать частью Святого народа. Другое дело, если нападали на нас или даже не нападали, а просто, защищаясь, наносили нам поражение. Отсюда неслыханная обидчивость и твердое убеждение, что мы со всех сторон окружены врагами, которые только и ждут нашей гибели.
Отличие, подчас весьма контрастное, нашей и прочих империй нового времени, например, Британской и Французской: если там голый меркантилизм, то у нас, хотя завоеванные земли, конечно, приносили огромный доход (меха, позже – руды, нефть, хлопок) – весь он без остатка тонул в море самых возвышенных идей, в которые все мы от первого до последнего верили. Очень четкое понимание цели и смысла своей истории. Эта ясность помогла сэкономить немало сил, средств, и все они были направлены на внешнюю экспансию. В результате к 50-м годам XX века мы контролировали, разумеется, с разной степенью жесткости, чуть ли не половину территории и такое же количество населения земного шара на четырех континентах, за исключением Северной Америки и Австралии. Тогда многим казалось, что скоро падет и другая половина – столько у нас там было друзей.
От Филофея и все, что мы думаем о земле: например, считаем, что там, где мы когда-то были (вне зависимости от того, что раньше и позже нас там были и другие), все это наша земля, потому что она полита нашей святой кровью. И ненависть к Столыпинской реформе: Святая земля может быть только в общинной собственности, частное владение ею, возможность ее продавать, покупать – безумие, кощунство. Мы никогда не простим Александру II продажу Аляски, даже верим, что эта сделка, пусть юридические формальности и были соблюдены, незаконна. Подобно майорату, Святая земля вообще не предмет торга.
Кстати, на Руси в западном понимании этого термина никогда и не было частной собственности на землю. Была некая система разных и соответственно неполных прав ею распоряжаться и пользоваться. Они были вложены «одно в другое» будто матрешка. Верховным собственником был царь – наместник Бога на земле. Вотчинное и дворянское владение так или иначе, но жестко было связано со службой царю. Крестьянская община, «мир», тоже имела все основания утверждать, что хозяин земли именно она. В этом смысле колхозы больше соответствовали представлениям крестьян о «правде», чем та система, которая начала складываться при Столыпине и еще десять лет до коллективизации просуществовала при большевиках.
Возвращаясь к совместной жизни двух народов, отметим, что и отношения, и внутренние границы между ними были до крайности неровными, нервными и подвижными. То, что они боялись и ненавидели друг друга, несомненно. Временами напряжение было такое же, что и в Святой земле накануне прихода Спасителя. Отказываться от него власть не хотела и не могла, здесь было и ее собственное основание, собственная санкция, в то же время она очень страшилась этой стихии, прекрасно понимала, что, как некогда под ее напором пал первый Рим, так же легко может рухнуть и нынешний третий. Народные восстания и бунты, убеждение тех, кто в них участвовал, что они живут в антихристовом царстве, не давали поводов для сомнений. Наиболее яростных проповедников другого светлого царства власть или казнила, или вытеснила на окраины, где они постепенно укоренились. Дальше они были уже тихи и подпольны, но их корабли – в сущности, ковчеги, на которых спасались праведные – управлялись не хуже современной эскадры. В XIX веке все это будет повторено ячейками каждой социалистической партии. В конце концов территориальное разделение двух народов стало одной из главных задач русской верховной власти.
Вообще надо сказать, что связка «народ и земля» была вечной проблемой для любой империи. Издревле миф об Антее был для их строителей емким и точным руководством. Если завоеванную землю ты хочешь не просто ограбить, а удержать надолго или даже навсегда, от нее следует оторвать народ, который здесь родился, вырос, и переселить его как можно дальше. Лишь так можно избежать новых и новых восстаний. Восточные империи дружно шли этим путем, их опыт переняла и Россия. Грозный чуть ли не подчистую вывел из Новгородской земли всех тамошних служилых людей (как тогда говорилось, «перебрал» их); Сталин наполовину убил, наполовину переселил в Среднюю Азию почти десяток кавказских народов и татар из Крыма. Мечта империй – полная однородность и гомогенность, перемешивание населения очень этому способствует: каша и впрямь получается без комков. Отсюда же – боязнь всякого рода многообразия и диссидентства, любых отклонений от установленных правил и образцов.
Все же империи однажды сочли, что переселение целых народов чересчур дорого и трудоемко, после чего конструкция их стала меняться. Если прежний прототип был рожден Востоком, то новый нашли в политике греческих полисов и Рима. В результате империи превратились в нечто вроде волчков, которые, как хорошо известно, чем быстрее крутятся вокруг своей оси, тем устойчивее. Центробежная сила, создаваемая этим вращением, позволяла легко удалять на окраины или даже за пределы государства все инородное, враждебное, чуждое и тем самым поддерживать монолитность. Империи сделались по-буржуазному тароваты и расчетливы, человеческий материал, даже самый плохой, берегли, как только могли, инакомыслящих ставили к стенке лишь в крайнем случае, а так предпочитали заселять ими новые территории. Политика эта и на Западе и у нас оказалась до крайности выгодной: очень часто всего за поколение два старых врага превращались в восторженных апологетов и защитников.
Для России самый яркий из подобных примеров – казачество. В большинстве своем оно составилось из людей, согнанных с мест обычной оседлости голодом, огромными податями, произволом власти, которой всегда не хватало денег на себя и на новые войны. Стоило центру хоть немного ослабеть, их отряды возвращались обратно и с беспримерной жестокостью, не разбирая правых и виноватых, грабили и убивали. Они словно хотели в еще большем зле утопить это царство греха. Вольница продолжалась два с половиной века, а потом то ли карательные походы (Петр I подавил восстание Кондратия Булавина, а еще через семьдесят лет Екатерина II – Пугачева), то ли время и пространство изменили, смягчили их взгляд на империю. Ведь не новость, что извне, со стороны многое видится по-другому. В результате казаки стали потомственным военным сословием, надежным и боеспособным оплотом империи, ее пограничной стражей и ее замечательными конными корпусами.
До середины XIX века, когда Россия окончательно вышла на свет Божий и увидала большой сложный мир, еще удавалось верить, что все, что вокруг, за ее пределами – иллюзия, фантом. Но куда страшнее был другой удар: иные страны, народы никак не были готовы признать в ней своего вождя и учителя. Последовавшие вскоре военные неудачи, в первую очередь, Крымская война лишь подтвердили, что чувство правоты, которое было даровано народу учением Филофея, на исходе. Правота – великая сила, особенно если это правота и перед собой, и перед Богом. Достаточно посмотреть, с какой отвагой мать защищает свое дитя. В том, что произошло, славянофилы винили Петра, сравнявшего с землей чуть ли не всю традиционную культуру, завезшего без счета и разбора море западных новшеств, единственным прибытком от которых для русского человека был комплекс неполноценности. Но кто бы ни был виноват, сути дела это не меняло.
У человеческой гениальности два источника – предвиденье и мастерство. Некоторым дано и то и другое, но достаточно и одного ингредиента. Философ Николай Федоров начал писать вскоре после Крымской войны, когда в обществе шло ее осмысление. Он был из первых, кто понял, что старое основание русской экспансии себя исчерпало. Оно треснуло и больше не держит нагрузки. Разделение святого народа, разное в нем понимание, куда и как должна идти страна, зашло слишком далеко, лишило его силы. И вот, Федорову, дав новый комментарий к Евангелиям Христа, пусть пока только на бумаге, но удалось преодолеть прежний раскол. Прочно скрепить обе враждебные части – имперскую и народную, сектантскую. Соединило их его «Общее дело».
Не просто сохранив – бесконечно усилив обе трактовки Москвы как третьего Рима, он нашел точку, где они наконец сошлись. Верховной власти он указал путь, идя по которому она найдет, вернет и подтвердит свою санкцию на жизнь – неразрывную связь с Господом. Дорогу, где в считанные годы она одного за другим сокрушит внешних врагов и ненавистников, включая и наиковарнейшего – Англию. То есть свершится главное – вся земля станет уделом русского царя и тем в мгновение ока обернется единой, неделимой Святой землей. Землей, какой она была до грехопадения и изгнания Адама из Рая. Он указал и потребные для этого средства. Одно из них верховная власть и без Федорова прежде уже держала в руках, но тогда по неумению или от робости не преуспела. Я имею в виду военные поселения.
Федоров видел перед собой власть, которая безмерно устала, едва справлялась с собственными независимыми и вечно фрондирующими служивыми людьми, со всегда готовой восстать деревней и глухо недовольными мещанами, устала от бесконечного сопротивления окраин – от Польши и Финляндии до недавно присоединенного Туркестанского края. Она изнемогала от сложности жизни, от тщетности попыток хоть как-то согласовать и примирить интересы подданных, столь непоправимо друг на друга не похожих. На это, а не на выполнение своей коренной миссии – завоевание и превращение новых и новых кусков мирской земли в Святую – у нее уходили силы и ресурсы. Федоров, причем разом, готов был ей помочь со всеми бедами. Достаточно, сказал он, невзирая на чины, звания и лица, на происхождение, вероисповедание и кровь, на образование и склонности от первого до последнего сделать всех воинами-пахарями. Одинаково одеть и обуть, отдавать им одинаковые приказы, которые они будут одинаково и точно выполнять, и тогда с этим несчетным войском не справится ни один неприятель. Даже дьявол, даже человеческий грех спасует перед ним и, как и повелел Господь, на земле опять воцарится равенство и справедливость. Не меньше он посулил и крестьянам – будущему бесчисленному войску империи. Зная, как ненавистна им рекрутская служба, помня всегдашнюю готовность восстать, стоило только правительству заговорить о переводе их в военные поселенцы, Федоров приготовил для земледельцев целый мешок подарков. При нем свыше девяноста процентов населения России жило по деревням. Главным событием в жизни поколения были происходившие раз в несколько десятков лет переделы земли. Их назначение – дать на каждую душу равный по величине и по качеству (чернозем, глина, песок), а значит, справедливый надел. Но сколько ни делили землю, ее, особенно в центральных губерниях, катастрофически не хватало. На своей земле люди работали с восхода до заката, а по воскресным дням и просто, когда выдавалась свободная минута, молились. Просили Бога, чтобы зима была снежная и не погибли озимые. Чтобы весна – теплая и дружная. Чтобы не было поздних заморозков и ранних морозов, из-за которых осыпалось зерно. А главное, чтобы летом дожди не обошли стороной и хлеба не посохли.
Иногда такое ощущение, что Федоров их молитвы слышал лучше Господа. Во всяком случае он ясно понимал и сказал, что невезение тут ни при чем, корень куда глубже, он в несовершенстве мира, который Бог создал и отдал людям. Кроме всего прочего этими словами он оправдал человеческий род, очистил его от грехов. Чтобы землю приспособить для жизни, нужна коренная ее реконструкция. Справедливый передел всего и вся. Ясно, что когда человек смотрит на высокую, величавую гору, а у ее подножья видит переполненную гадостью болотистую низину и знает, что и гора, и болото – дело Одних рук, ему кажется неизбежным, что в миру есть большие высокопоставленные люди, а есть те, кто, как и он сам, принадлежит к низшему, «подлому» сословию. Не равны даже живущие в соседних избах: у одних дети родятся на загляденье – сильные, умные, красивые, а у других хилые недомерки и дураки. О каком порядке, разумности мироздания может идти речь, коли даже река течет, например, где и куда хочет: то на восток, то через несколько верст вдруг повернет на юг – и все это, нанизывая одну излучину на другую. И воды в ней весной в половодье выше крыши, а летом, когда земля иссохла и пошла трещинами – межень, везде по колено, даже брода искать не надо.
И вот Федоров сказал, как это можно исправить, причем всерьез, по науке. С природой следовало сделать следующее. Подчистую срыть горы и оставшейся породой засыпать овраги, впадины и болота так, чтобы вся земля превратилась в одно ровное, удобное для пахоты поле. Дабы каждый надел получал влаги вровень с другими, реки следовало превратить в каналы, регулярной сеткой покрывающие страны и материки. Если же и в этом случае воды не хватит, должно приказать армии без устали палить в небо из пушек. И не для того, как могут подумать глупцы, чтобы запугать Господа, а по естественно-научным соображениям. Еще во время войн с Наполеоном многие обратили внимание, что после больших сражений, после грохочущей сутки напролет канонады обязательно идет дождь.
Но в первую очередь Федоров обращался к тем, кто до последней степени изнемог, ожидая Спасителя, Его царства. Он сказал им – и это воистину была Благая весть, – что больше ничего и никого торопить не надо: человеческий род может и должен сам построить царствие Божие. Причем не на небе, а прямо посреди океана греха, то есть здесь, на земле. У человека есть на это силы. Ему дано не просто исправить нынешнюю свою жизнь – Тот, кто был распят за каждого из нас, благословляет его и на воскрешение всех, когда-либо живших на земле людей со времен Адама.
С чего человек должен начать? Прежде другого – сравнять с землей города и запахать то место, где они когда-то стояли. Города – вместилище заразы, со всем, что в них есть: фабриками и заводами, дворцами, театрами, кабаками – источник искушения,
неравенства и разврата, лжи, ненависти и человеческой мерзости. Хорошего, того, что стоило бы пожалеть, в них нет ничего. Нужно также отказаться от семьи, вообще от любого соития с женщиной. И дело тут даже не в похоти и не в тех страданиях, боли, муках, которыми Господь наказал праматерь Еву и ее дочерей. Просто так получилось, что женщина, рожая дитя, рождает нового грешника. Плодит и плодит грех, уводя человеческий род дальше и дальше от Бога. На этой дороге следует поставить решительный крест. Выбрать добро и, повернув назад, наконец снова пойти не от, а к Господу.
Учение Федорова, снова вернув русской истории безграничное чувство правоты, сыграло в ней не меньшую роль, чем Лютер и Цвингли в западноевропейской. С Федоровым кончилось и безнадежное, изнуряющее до последней степени ожидание, кончились никогда не сбывающиеся надежды. Он дал один из тех гениальных ответов, в которых удалось совместить Бога и земную человеческую жизнь, и это высвободило море энергии, породило невероятный подъем, которым страна жила и питалась еще почти столетие. Федоров – волшебный ключик, с помощью которого можно понять и ту жизнь, которую Россия уже прожила, и ту судьбу, что предстояла ей дальше.
Пожалуй, именно в его «Философии общего дела» наиболее четко и полно сформулирован комплекс представлений России о себе самой. О своей истории, о путях, которыми она должна идти и, главное, о предназначении, миссии, на нее возложенной. Вообще, прежде чем продолжить, наверное, стоит отметить, что истинных, так сказать, полноценных федоровцев, было, конечно, не слишком много. Но из тех, кто числил его среди своих учителей, были несущие для русской культуры люди: Толстой, Достоевский, Владимир Соловьев, Богданов, Хлебников, Маяковский, Филонов, Циолковский и другие. Нет сомнения, что через них идеи Федорова разошлись очень широко.
Не знаю, согласятся ли со мной, но Октябрьский переворот не представляется мне столь уж значимым событием. Захватить власть в столичном городе, где было столько вооруженных солдат, ни под каким видом не желавших попасть на фронт, а вслед за городом – в приученной к послушанию стране, было не так трудно. Другое дело – победить в долгой, изнурительной гражданской войне. Что, кто и почему помог большевикам одержать в ней верх? Кто пошел в Красную армию, когда под ее контролем осталось лишь несколько центральных губерний, и, казалось, что фронт вот-вот рухнет и белые займут Москву?
Конечно, в наши планы не входит дать цельный очерк смуты начала ХХ века, но сказать о вещах, которые обычно остаются на периферии или вообще не упоминаются, думаю, стоит. Парадокс в том, что взгляд на Гражданскую войну у нас до сих пор (отчасти в силу численного превосходства) почти чисто марксистский. Хотя для тех, кто делал и успешно сделал революцию 17-го года, было очевидно, что она произошла не там и не тогда, когда должна была по Марксу. Потом понадобились многие тысячи докторских и кандидатских диссертаций, чтобы худо-бедно свести концы с концами, в частности, объяснить, почему, например, она не победила ни в Германии, ни в Англии, и как одинокой Российской Федерации удавалось существовать так долго в ненавистном капиталистическом окружении.
Пытаясь с этим разобраться, надо начать с того, что к 17-му году русская монархия с точки зрения и народа, и ею же самой установленных принципов утратила легитимность. Идущие чередой, причем без перерыва, начиная с Японии, военные поражения, потеря огромного куска Святой земли на западе (практически вся Польша) однозначно свидетельствовали, что власть не благословенна, а значит, не истинна и не законна. Надо сказать, что прежде чем рухнуть, власть сделала все, чтобы многократно умножить тех, кто считал земную жизнь юдолью горя и страданий. Правящие монархи Европы, связанные и близким родством, и дружескими отношениями, часто и нежно друг другу писавшие, ни с того, ни с сего затеяли войну, в которой погибли десятки миллионов молодых, полных сил мужчин, войну, в которой ни для кого не было ни смысла, ни выгоды и которая ни одной стороне – ни победителям, ни проигравшим – не принесла ничего, кроме разрухи.
Мне уже приходилось говорить, что основанием русского понимания жизни было учение Филофея. Когда выяснилось, что «старший» (монархический, императорский) извод этого учения ложен и ведет к погибели, немалая часть населения страны естественным образом, по праву наследования должна была связать свои надежды с другим «младшим» толкованием, которое мы условно называем окраинным и сектантским – со всем тем комплексом верований, надежд, упований и представлений о мире, хранителем которых оно было.
Несмотря на это и на царящий в стране хаос, разброд, империя просуществовала слишком долго, успела приобрести множество верных защитников, еще больше сочувствующих, и, казалось, что в долгой войне, когда те, кто так или иначе был с ней связан, опамятуются, шансов у противной стороны не останется. В конце концов никаким крестьянско-казацким войнам и посадским бунтам побеждать раньше не удавалось. Однако Гражданская война показала, что империя прогнила куда глубже и куда сильнее ослабела, чем это можно было себе представить. Выяснилось, что подорвана не только ее идеология – разрушен сам механизм функционирования.
Нет добра без худа. XVIII и XIX века были для империи очень успешными, и это замедлило, лишило обычной правильности вращение, которое раньше позволяло ей без труда избавляться от всего чуждого, инородного и враждебного. Территория государства увеличивалась настолько стремительно, что многие прежде заселенные изгнанниками земли вновь фактически оказались в центре страны, и поделать с этим никто ничего не мог. Так было с засечной чертой, пересекающей Рязанскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую губернии, с Поволжьем и Уралом, с границей Руси и Польши, давно облюбованной староверами. Эти давешние изгои уже обжили новую родину, а вслед за ней и большие города, научились неплохо таиться, маскироваться, скрывать свою ненависть. Поймать их за руку и выслать еще дальше не удается, и власть смиряется. Довольствуясь формальным изъявлением лояльности, в остальном она ничем им не мешает. Однажды это отзовется. Еще больше усугубила ситуацию война, перемешав всех и вся и, как на ковре-самолете, в виде мобилизованных солдат сотнями тысяч перенеся окраину в Москву и Питер.
Общество, (постскриптум, в учебниках истории) исправляя деяния своей элиты, вычеркивает из истории ее ошибки и наоборот преувеличивает дальнозоркость, прозорливость. Мы очень нуждаемся в доверии к тем, кто нами правит, а его без подобного рода подтасовок достичь трудно. В итоге, если наши надежды не оправдались, они уходят в небытие. И не важно, что эти упования были главным конструктивным элементом истории, когда же их благополучно вымарали, она превратилась в бред и бессмыслицу. Так было с революцией осенью 17-го года и с последующей Гражданской войной.
Мы никогда не поймем победы большевиков без разлитой от края и до края страны веры в то, что со старой жизнью должно быть покончено раз и навсегда, настолько она страшна. Что человек может и должен сам разрушить прежний мир, сам разобрать завалы и начать созидать мир новый; веры в возможность скорого и уже здесь, на земле, установления полной справедливости и равенства, построения рая, радикального продления, а дальше просто вечной жизни, воскрешения мертвых. В то, что людей можно воспитать так, что все они будут настоящими гениями, соответственно ускорится и прогресс. В полное и максимально благоприятное для человека изменение климата. С этой целью Андрей Платонов, например, предлагал руками человека исправить розу ветров в Восточной Сибири, чтобы, согрев тамошние земли, сделать их пригодными для земледелия. В то, что в грядущих войнах человеческая кровь проливаться не будет – вражеские армии мы обратим в бегство с помощью ультразвуковых сигналов или даже с помощью внушения. Отсюда основанные в 20-е годы институты, изучавшие условные рефлексы и человеческий мозг, на которые нищая страна давала огромные деньги. Мозг вообще неодолимо притягивал к себе власть. Казалось, что этот путь сделать из обычного злого, порочного человека новое совершенное существо – самый короткий.
Все это прямо проистекало из убеждения Филофея, что коли третий Рим вот-вот развалится, рассыплется в прах, а четвертому не бывать, мы и впрямь живем при конце последних времен. Идущее от него русское понимание сути жизни в XX веке было не просто так же незыблемо, наоборот обновлено, на равных усилено учением Федорова, его словами, что святой народ, вновь сделавшись заодно, сможет без помощи Христа спасти весь человеческий род, – и коммунизмом, с его идеей всемирного пролетарского государства и построения рая на земле.
То есть в стране, целиком и полностью основанной на вере, что обычная, земная жизнь человека вот-вот должна завершиться, это неизбежно, хорошо, правильно, на готовности денно и нощно молить Господа, чтобы он ее не длил, на согласии с радостью принять любые страдания, любые муки, в такой стране революция не могла не произойти. Раньше или позже, но вообще не произойти не могла. Ее необходимость, ее безусловная обязательность была вписана в сам устав русского государственного порядка. Люди, подобный взгляд на мир исповедующие наиболее фанатично, как уже говорилось, были изгоями, отщепенцами и по большей части селились на старой окраине государства. Революция 17-го года стала их революцией, революцией окраины всей Святой земли от Сибири, Урала, Поволжья, Черноземного края до Цюриха, Лондона и Парижа.
Коалиция, которая составилась, была весьма многоликой. Никто никогда не пытался ее оформить, скрепить договоренностями и соглашениями. В сущности, она заключалась лишь в том, что когда надо было и была возможность выбирать, в какую армию идти – Белую или Красную – эти люди, кто поколебавшись, кто сразу, записались в красноармейцы. В нее вошли, во-первых, разного рода социалисты и им сочувствующие, мечтавшие о построении коммунизма – светского варианта царствия Божьего на земле; сектанты, несколько веков, как только можно торопившие второе пришествие Христа, готовые в жертву за него отдать свою жизнь; просто все те, включая крестьян, рабочих, кадровых военных из дворян, кто считал, что царь не истинный, коли Святая Русь терпит одно поражение за другим. Самые образованные из них догадывались, что дело здесь не в одном царе – выдохлось, сделалось неспособным к экспансии само православие. Победив в Гражданской войне, эта коалиция так же легко, как собралась, распалась.
Кстати, нечто похожее было и в Смутное время XVII века. И тогда Москву, захваченную неправедной, не благословенной Богом властью (поляками) спасла провинция. Отряды, которые объединились, чтобы освободить стольный город и посадить на трон «правильного» царя, – их союз, на взгляд современников, был странен, чтобы не сказать больше. Хоть и не доверяя друг другу, против поляков вместе действовали, с одной стороны, вполне законопослушное ополчение северных городов во главе с Мининым и Пожарским, а с другой – казаки, воровские, разбойные люди, еще недавно подручники тех же поляков. Сделав дело, избрав на царство Михаила Романова, они тут же разошлись в разные стороны. России после 17-го года, чтобы окончательно определиться с тем путем, которым она дальше пойдет, понадобилось еще почти десять лет.
Вообще эсхатологический характер коммунизма, каким он победил в Гражданской войне, различим и без лупы. Он – в верованиях о прекрасном, лишенном зла мире, но главное – в убеждении первого поколения коммунистических вождей, что Советской республике во враждебном капиталистическом окружении не выжить. Отсюда «перманентная революция» Троцкого. Идея ее прямо напрашивалась, ведь представить себе мирно соседствующими два царства: одно – добра и счастья, другое – зла и греха, – не мог никто.
В частности, за два десятилетия до Троцкого не мог и Федоров. Идея перманентной войны вплоть до полной и окончательной победы царства добра (России) – одна из ключевых в его «Общем деле». До крайности схожи с первыми годами правления большевиков, то есть военным коммунизмом (реальным и тем, о чем тогда мечтали такие близкие к ВКП(б) философы, как Богданов и Гастев) и многие федоровские представления о светлом царстве. Почти полная военизация населения, жесточайшая уравниловка (продразверстка, карточки, расстрелы мешочников), совсем не по Марксу – упадок и вымирание городов, закрытие заводов и фабрик, возвращение рабочих, мещан, чиновников обратно в деревню, их занятие землепашеством и огородничеством. Наряду с этим – восторженное обсуждение коренных вопросов бытия: каким должен быть новый человек и как его таким воспитать, как исправить почву и климат, сделав всю землю пригодной для человеческого расселения. Что надо делать, чтобы не просто продлить человеческую жизнь, но и вообще избавить нас от смерти. Как воскресить тех, кто умер прежде победы коммунизма.
Без сомнения, Федоров искренне считал себя православным христианином. Но даже церковная политика коммунистов почти что напрашивается из его учения. У Федорова, конечно, был отказ от Бога (от Его помощи) во имя Бога, но так или иначе это было началом удаления Господа из нашего мира, из-под юрисдикции Которого было изъято даже воскрешение мертвых. Так что деятельный, жизнеутверждающий атеизм большевиков с не меньшим основанием, чем из Маркса, я бы выводил и из федоровской «Философии общего дела». И впрямь, если ждать Христа больше не нужно, все необходимое для спасения человеческого рода он уже дал – остальное мы можем и должны сделать сами, своими руками, зачем тогда ходить в храм, что-то по-прежнему бесконечно вымаливая. Надо работать, денно и нощно работать, а не ждать милости ни от Бога, ни от природы. Однако к 21-му году стало ясно, что с мировой революцией пока ничего не получается: несмотря на огромные усилия и огромные деньги, революции в Германии и Венгрии были разгромлены; военный коммунизм, во всяком случае, если большевики хотят удержать власть, тоже надо отменять.
Первое поколение коммунистических вождей было поколением доктринеров и начетчиков. Большую часть своей взрослой жизни они провели в писании статей и в дискуссиях, развивающих разные положения Маркса. Признать, что революция произошла не там, не тогда и не туда идет, как должно по Марксу, значило публично объявить себя ревизионистом – страшное обвинение, приговор в их среде. То, с какой безнадежностью они один за другим сошли в могилу, объясняется именно утратой чувства правоты. Их будущий конец – судьба Чевенгурских апостолов: убили всех неправедных, потом их семьи; увидев, что, хоть мир и очистился, царствие Божие не наступило, в свою очередь дали убить себя. Правда, в 30-м году Платонов еще думал, что просто так, без боя они не сдадутся, однако у соратников Ленина, как раньше у царя, а позже у Горбачевского политбюро просто опустились руки и власть выпала из них сама собой.
Кстати, немудрено, что к 27-му году победил тот из большевиков, кто в этих теоретических разработках был слабее, соответственно, меньше от них и зависим. Тем не менее Сталин, отправивший их в подвалы Лубянки, не спешил отказываться от Маркса. Многомиллионный Интернационал коммунистов стал золотым фондом, готовой пятой колонной для нового этапа расширения Российской империи. Кажется, первый, кто назвал то, что делал Сталин, Термидорианским переворотом, контрреволюцией, был Троцкий. Потом его мысль подхватили некоторые эмигрантские организации, самыми активными среди них были «возвращенцы». Они верили, что Сталин и вправду изменил делу большевизма и скоро все более или менее вернется в прежнее русло. Не думаю, что Троцкий был прав, хотя сходство между Сталиным и политикой некоторых русских царей несомненно есть. Под Термидором мы обычно понимаем постепенный откат, демонтаж революции как таковой. В сталинской же России произошло другое: низовая провинциальная сектантская и эмигрантская революция сменилась верховой революцией центра. Еще более жестокой и кровавой.
У Сталина, если сравнивать его с другими русскими владыками, был целый ряд преимуществ и целый ряд недостатков. В отличие от своих непосредственных предшественников из числа царей, он не преувеличивал силу, организованность, решительность революционеров, их умение планировать операции и, когда никто не ждет, нанести разящий удар. Прекрасно зная сильные и слабые стороны тех вождей революции, которые были его современниками, он расправился с ними в мгновение ока. С другой стороны, он, по-видимому, переоценивал возможности, во всяком случае, потенциальные, монархии; с юности запомнив ее огромной, мощной, а себя маленьким, пугавшимся любого шороха беглецом, он думал, что, будь она хоть чуть умнее, то и сейчас спокойно жила и здравствовала. Коренную причину ее слабости, а в итоге – гибель династии он видел в том, что к XIX веку власть русских императоров сделалась чересчур хорошо воспитана. Ее парализовал накопившийся за последние два столетия хлам – тысячи и тысячи никому не нужных обязательств перед сословиями, недавно присоединенными народами и отдельными лицами, обязательств, от которых она панически боялась отказаться. Брать за образец последних Романовых он, естественно, не стал. Равняться нужно было на других, сумевших раз и навсегда порвать эти путы.
Исторические параллели – вещь опасная и обычно мало продуктивная, уж больно изменчива жизнь. У этого правила есть, однако, исключение. Часто власть, не умея иначе объяснить народу ни то, что она хочет, ни свою правоту, – все это ей надо не меньше, чем любому из нас, – сама поднимает на щит некоторых из своих предшественников. Те как бы должны засвидетельствовать, что она не просто взялась один черт знает откуда и не известно, что творит, а законная наследница, продолжатель их дела. Таким образом, террор, убийства ни в чем не повинных людей, разом легализуясь, становятся политикой. Встраиваются в определенную, причем давно известную традицию. Не доверять историческим параллелям, которые власть провела лично, оснований нет. Думаю, что здесь она честна, как нигде. Все это напрямую относится к возвеличиванию при Сталине Петра I и особенно Ивана Грозного.
Неважно зная историю, Сталин понял суть империи утрированно, почти карикатурно, но главное ее оправдание в глазах народа – безграничное расширение территории – разглядел точно и сохранял, никого не жалея. В этом корень и его нынешней популярности. Сталин не сразу встал на тот путь, по которому потом шел до конца своей жизни. Несколько лет он лавировал, заключая союзы то с левыми, то с правыми. Но едва вожделенная власть оказалась в его руках, определился достаточно быстро.
Надо сказать, что дорогу наверх Сталину проложило отнюдь не только природное коварство и безжалостность. Он сформулировал два важнейших для будущей истории страны тезиса, которые позволили преодолеть стагнацию в руководстве ВКП(б). Справиться с энтропией, деградацией коммунистических идей, сохранить в СССР напряжение «последних времен» ему удалось, если так можно выразиться, территориально его (напряжение) ограничив. Знаменитое положение о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране – в этом тезисе с немалой интуицией были сплавлены две коренные для русской истории вещи, по внешности жестко друг другу противоречащие. Тяга к экспансии (новое и новое расширение Святой земли) была дополнена прежней тягой к изоляционизму, железному занавесу (он – от страха смешать сакральное с «тварным»).
Еще эффективнее оказался второй тезис, утверждавший, что по мере продвижения к социализму классовая борьба лишь обостряется. Он породил самую настоящую гражданскую войну (на нее пошли огромные запасы энтузиазма, подготовленные для мировой коммунистической революции). Вообще XX век показал удивительную легкость превращения войн мировых в гражданские и наоборот. По-видимому, в способности человека убивать другого человека есть нечто универсальное, а кровь ближнего – сильнейший наркотик. Раз ее пролив, остановиться очень и очень трудно. Вторая (сталинская) гражданская война оказалась куда продолжительнее и кровавее, чем первая (ленинская). В ней погибли многие миллионы людей, десятки миллионов прошли через плен (лагеря). Победили и на этот раз «большевики».
Среди других причин ее патологической жестокости сделанная Сталиным ставка на поколение коммунистов, выдвинувшееся в годы Гражданской войны. То есть и для него, и для них подобное состояние общества было естественно, привычно. Они были замечательно к нему приспособлены, чувствовали себя легко и комфортно. Так, похоже, впервые в истории (прототип разве что – опричнина) было построено весьма прочное государство, главным конструктивным элементом которого, его несущей балкой стала перманентная гражданская война.
В сущности, вся сталинская политика сводилась к радикальному упрощению и самой страны, и системы управления ею. При царях и казачьи земли, и те, что были по преимуществу населены инородцами, имели свои законы, в их внутренние дела, если они были лояльны, старались не вмешиваться. Сталин с этим покончил. При нем государство впервые полностью закрепостило крестьян (колхозы), посадских людей (рабочих) (тюремные сроки за опоздание на работу и запрет увольнений) и даже дворян (служилых людей, советскую номенклатуру). Получилось нечто вроде суперимперии, в которой не то что бунтовщики – любые недовольные или сразу убивались, или гибли в лагерях от голода и непосильной работы.
Созданная Сталиным система власти (ее принято называть командно-административной) в силу своей чрезвычайной жестокости была способна управлять только очень простым народом. Начисто не умея меняться сама, чтобы выжить, она должна была изменить общество. Государство было большим и сложным (разные этносы и веры, культуры, традиции, стили жизни), а коммуникации редки и растянуты. В этих условиях, пытаясь совладать со страной, власть решила сделать ее однородной, перемешать, подстричь под одну гребенку всех и вся. Цель сталинских репрессий, расстрелов и депортации народов, лагерей, ссылок – не столько покарать настоящих и мнимых его врагов, сколько расправиться с каждым, кто имел лица не общее выражение.
Сталинская система оказалась способной просуществовать несколько десятков лет, но дальше неизбежным результатом форсажа, основанного на энтузиазме и убийствах, стал надрыв страны. Нынешний откат русской империи, его скорость и безнадежность целиком и полностью – дело рук Сталина.
И последнее, о чем прежде, чем перейти к Андрею Платонову, мне кажется необходимым сказать. В юности я слышал немало рассказов о сталинском времени, и меня всегда поражало, насколько часто в них попадались слова «весело», «счастливо». Я не понимал, как жившие тогда могли говорить о своей вере, о горении, искренности, энтузиазме. Ведь чуть ли не в любой семье кто-то был репрессирован, да и из рассказчиков эта участь не миновала, наверное, каждого пятого. И вот они говорили о всеобщем страхе, о том, что и сами, боясь ареста, до рассвета не ложились спать, и тут же – о радости, о полноте жизни. И другое не укладывалось у меня в сознании. Откуда у народа, потерявшего миллионы жизней на фронтах Первой мировой войны, народа, столь уставшего, столь изнемогшего в окопах, что в 17-м году он не выдержал и, оставив позиции, толпами побежал в тыл, домой, дальше вдруг хватило сил и на яростную Гражданскую войну, и на то, чтобы пережить коллективизацию, голод на Украине. Несмотря на бесконечные расстрелы и лагеря, достало воли, чтобы построить тысячи фабрик, заводов, электростанций, чтобы победить нацистскую Германию и вслед за тем не просто восстановить страну, но так или иначе поставить под свой контроль добрую половину земного шара.
Конечно, этот энтузиазм мог оказаться просто неким спасительным кругом, маской, которая направо и налево кричала: я свой, меня не в чем подозревать, я «наш» до последней капли крови; и все же мне кажется, что он был настоящий, не деланный. И шел от Федорова. От возвращенного им в русскую жизнь чувства правоты, веры в то, что мы идем туда, куда и должно идти. Это было бесценное чувство, и отказаться от него не был готов никто. Люди были согласны на любое количество жертв, на любое количество невинных людей, которых убивали рядом с ними, радостно соглашались ничего об этом не знать и не слышать, только бы снова его не потерять. В конце концов никто не мешал совсем скоро, когда будет построен коммунизм, вновь воскресить убитых.
Судьба федоровского дара, последних остатков которого хватило и на Хрущева, трагична и безнадежна. В тридцатые годы были сделаны тысячи операций лоботомии. Больным смертельными формами эпилепсии и шизофрении рассекали связывающий левое и правое полушария мозжечок: в нем обычно и начинались припадки. При этом жизнь человеку спасали, но мозг его, в котором продолжала работать лишь одна доля, его понимание мира становилось плоским и убогим. Нечто подобное происходило и со страной.
Думаю, что главными адресатами федоровского послания «Философии общего дела» были разного рода сектанты: они и стали грибницей, инкубатором всей этой радости, энтузиазма, силы. Так, они жили, веруя в светлое царство, а потом Сталину удалось отнять то, что они выносили и породили. Сами сектанты по его приказу почти поголовно пошли под нож, а их веру и радость, привив к древу русской империи, он, как свои, использовал еще почти тридцать лет и в основном для зла. То есть, если первая революция была наступлением окраины на центр, то Сталинская империя – контрнаступлением центра, а потом и уничтожением людей окраины и шедших оттуда идей.
Обращаясь к судьбе Андрея Платонова, сделаем пару необходимых ремарок. Я прочитал «Котлован» еще в школе, но и тогда, и сейчас, по прошествии сорока лет, не думаю, что кроме него и «Чевенгура», написаны книги, после которых было бы яснее, что коммунизм даже в самой чистой, самой детской и наивной своей оболочке ведет во зло. Власть понимала это не хуже меня и лишь при последнем издыхании, потеряв интерес к жизни, дала санкцию на публикацию обеих вещей. Второе. Есть классическое определение романа как «эпоса частной жизни», но я думаю, что оно если и правильно, то лишь для начальной, зачаточной стадии, может быть, для первых глав, а дальше персонажи, вне всяких сомнений, обладают правом решающего голоса. Едва мы пытаемся навязать им то, что они не хотят делать и думать, текст становится непоправимо фальшивым. С ними как с детьми, где мы стараемся, мечтаем, что они вырастут такими и такими, а они растут совсем в другую степь, пока однажды нам не достанет ума понять, что от этого никуда не деться и, главное, – просто сохранить с ними отношения. В итоге согласившись с тем, что они гуляют сами по себе, удлиняешь и удлиняешь поводок.
Обе ремарки напрямую относятся и к «Котловану», и к «Чевенгуру», и к тем цитатам, что идут ниже. Для Платоновской публицистики 20-х годов они не исключение – норма.
1. (о вечной жизни): «Мы сами отдадимся миру на растерзание во имя его целей. Его же цели (теперь это ясно) – создание бессмертного человечества с чудесной единой разумной душой; и через человечество – создание нового, неведомого, но еще более, чем человек, мощного, всепознавшего существа». (Здесь и далее цит. по кн.: Андрей Платонов. Сочинения, т. 1, кн. 2. – М., ИМЛИ РАН, 2004. С. 67. Далее в скобках в тексте указаны страницы.)
2. «Христос всю свою жизнь стоял на последней ступеньке перед совершенной, невозможной жизнью. Крест толкнул его через эту ступень – он ожил, убитый, и опять умер и исчез, но не от слабости тела, а от того, что его тело не вместило всей вошедшей в него вдруг бесконечной пламенной жизни – от силы». «Революция – явление жажды жизни человека. Ненависть – душа революции». (С. 75–76)
3. «У пролетариата тоже будет бог, но этого бога он будет так ненавидеть, что ненависть станет благом и наслаждением (бог – тайна)». (С. 100)
4. «Равноправие мужчин и женщин… истиной никогда не будет. Человечество – это мужество, а не воплощение пола – женщина. Кто хочет истины, тот не может хотеть и женщины». «При коммунизме будут не классовые, а «профессионально-производственные деления», «коммунистическое общество – это общество мужчин по преимуществу». (С. 107)
5. «Как нам начать битву за свою голову, мысли, я напишу, когда увижу все яснее, чем вижу сейчас». (С. 115)
6. Из комментариев видно, что это в русле идей Гастева и Уэллса: «Создание путем целесообразного воспитания строго определенных рабочих типов. С первого вздоха два ребенка должны жить в разных условиях, соответствующих целям, для которых их предназначает общество. Если один ребенок будет со временем конструктором мостов, а другой механиком воздушного судна, то и воспитание их должно соответствовать этим целям, чтобы механик… чувствовал себя… в своем специфическом трудовом процессе счастливым, как в рубашке по плечам. …Был в своей полной органической норме, в психофизиологической гармонии с внешней средой».
Трудовая нормализация «членов общества – в их нарочном воспитании, искусственном изменении характеров, соответствующем производственным целям общества». «Дело социальной коммунистической революции – уничтожить личности и родить их смертью новое живое мощное существо – общество, коллектив, единый организм земной поверхности, одного борца и с одним кулаком против природы». (С. 132)
В отличие от прозы, во многих своих статьях Платонов, конечно, и федоровец, и ультракоммунист. Честен он там и там, просто в публицистике договариваться ему ни с кем было не надо. Язык, наверное, самый искренний и самый независимый свидетель, какую революцию Платонов ждал и к какой с радостью присоединился. Раньше мы уже говорили о шорах, в которых русских самодержцев держал «чин» царского двора. Нечто вроде своего «чина» имеет, как известно, и язык.
Кажется, что мы самовластны и всеми словами языка можем распоряжаться свободно, ни у кого и ничего не спрашивая. На самом деле нас чуть ли не с пеленок держат в той же строгости, что и «чин» – наследников престола. С первого класса школы наказывая двойками и вызовами родителей, нас учат грамматике, учат всякого рода ограничениям, связанным с разными литературными стилями, с тем, что речь устная совсем не равна речи письменной. В нас вбивают, что то, что могут сказать одни люди, совсем не обязательно могут сказать другие, и что можно сказать в одних обстоятельствах, вряд ли уместно в других. Сам тысячекратно наказанный за пренебрежение этими правилами в школе и при попытке поступления в университет, я сознаю действенность, жестокость этих запретов более чем ясно.
Некоторые из них давно описаны, формализованы и, как уже говорилось выше, попали в учебники, стали их основой, но есть и такие, что по-прежнему гуляют на свободе. Все же, когда одно слово оказывается рядом с другим, мы, как правило, способны сказать, лепо это или нет. То есть язык состоит из множества пересекающихся словарей и, думая, говоря, записывая, мы можем употреблять слова лишь одного из них, а отнюдь не всего языка. Из-за этих ограничений количество доступных нам слов в каждом конкретном случае уменьшается во много раз и для того, чтобы речь зазвучала свежо, нужен талант или даже гениальность. Эти хорошо поставленные рядом слова мы запоминаем и повторяем друг другу с радостью. Конечно, литературные и языковые нормы тоже меняются, но в общем они куда консервативнее жизни. В любом обществе они явно – один из оплотов стабильности.
Теперь вернемся к Платонову. Разумеется, большевики как всякая новая элита стремились упрочить свои права и привилегии. Для этого наряду с захватом мостов, банков и телеграфа необходимо было создать отдельный язык – первую внешнюю границу между собой и остальным миром. Способ раньше любых мандатов, удостоверений и пропусков распознать – кто свой, а кто враг, чужой. В этом новом языке, благо он возник лишь вчера, слова еще не были обкатаны. Им еще не успели сделать макияж, подкрасить их и подмалевать, подобрать суффиксы, префиксы и окончания так, чтобы они хоть издали выглядели родными. Им еще не успели объяснить, что в том языке, в который они попали, им хотя бы из вежливости стоит склоняться перед старыми коренными словами. И вот, попав в чужой монастырь не по злобе, а по незнанию его устава, не умея ни к чему приноровиться, ни с чем согласоваться, они ломают, разрушают нормы и правила.
Считается, что именно широкое использование этих не прошедших огранку, по-чужому звучащих слов, делает прозу Платонова столь не похожей на прозу его современников. Мне, однако, кажется, что две другие вещи играют большую роль. Во-первых, Платонов без какого-либо страха ставит рядом слова из очень далеких словарей. Язык один, новоязом тут и не пахнет, просто мы не привыкли, что одними и теми же словами можно говорить о самом тонком, эфемерном, о страданиях человеческой души и таком грубом, материальном, как функционирование всякого рода машин и механизмов. Корень возможности, естественности подобной речи – в убеждении Платонова, что нет границы между человеком и зверем и между живым и неживым тоже нет; все, что движется и работает, – все живое и смело может обращаться к Господу.
И, по-моему, главное, что рвет грамматику в Платоновских текстах: 17-ый год – это время смыслов и вер. Вся страна сделалась неким огромным котлом, в который было брошено чуть ли не все, что думалось людьми за последние две тысячи лет. Это неслыханным напряжением до кипения разогретое варево вдобавок приобрело необыкновенную валентность; не стало никаких запретов, все могло и соединялось со всем. Именно напряжение и плотность сделали платоновскую фразу.
Смыслы же смяли, разрушили этикет, который раньше существовал между словами. Их было столько, что они, даже не заметив, походя, вообще изничтожили литературу как изящную словесность, уничтожили правила и законы, по которым такая литература жила. Платоновская проза, скорее, сродни проповеди, причем не простой, а той, с какой обращаются к людям в последние времена, при их конце. Отсюда же, кстати, целомудренность, аскеза его героев. В обычной прозе необходимы пустоты и воздух, много воздуха, иначе задохнутся сами слова, у Платонова же фраза вся целиком состоит из надежд и упований, она буквально захлебывается ими, потому что ждать осталось самую малость, а столько важного, решающего надо сказать, чтобы помочь спастись всем, кого еще можно спасти.
Платонов, как и многие другие, был участником одной и жертвой другой революции, но переход между ними был слишком стремителен, а главное, скрыт верой и энтузиазмом. Тем же энтузиазмом, с которого, которым революция и начиналась. Его было столько, что невозможно было усомниться, что он не от изготовленности к концу, не от того, что спасение и воскресение уже у порога, вот, рядом. Но сколько бы Платонов ни хотел верить, что все идет правильно, его конфликт со сталинской Россией был глубок и безнадежен. Будучи родом из первой революции, он в новой, уплощенной, упрощенной стране так и остался чужаком.

О «ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ»
АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
То, что последует ниже, лишь отчасти можно назвать рецензией на вышедшие недавно “Записные книжки” А. Платонова, скорее это – несколько мыслей и соображений, с этими записками да и вообще с Платоновым и его временем связанных.
Мне в руки Платонов впервые попал, кажется, в 67-м году. Отцу на день рождения подарили слепую копию “Котлована”, я, пятнадцатилетний, прочитал ее и до сих пор помню свое тогдашнее ощущение от этой вещи, тем более что впоследствии оно изменилось совсем не сильно. К тому времени через мои руки прошло уже немало всякого рода самиздата, советскую власть я давно на дух не принимал, и все равно эта вещь показалась мне тем окончательным, не подлежащим обжалованию приговором, которые власть сама так любила. Я, как и другие, никогда не смог бы простить советской власти разные и совсем разновеликие вещи, среди которых и миллионы расстрелянных и погибших в лагерях, в том числе две трети моей собственной семьи, и вездесущая фальшь, бездарность; ко всему прочему она была мне настолько неинтересна, что я даже не понимал, что и кому может быть в ней любопытно. Она казалась мне удивительно холодной, без свойств, без признаков, без эмоций. Некий груз, который давит тебя и давит.
И вдруг я прочитал вещь человека, для которого это было совершенно не так, для которого все в этой власти было тепло, все задевало и трогало, заставляло страдать и вызывало восторг от самой малой удачи. Который – это было ясно – очень долго ей верил, еще дольше пытался верить и всегда был готов работать для нее денно и нощно. То есть он во всех отношениях был мне не пара, для него эта власть была своей, или он безумно мечтал, чтобы она для него своей стала, и вот он выносил ей приговор, причем такой, с каким я еще не сталкивался, потому что более страшной, более антисоветской рукописи мне читать не приходилось. Здесь я попытаюсь свести в некую систему впечатления от прозы Платонова, хотя лично мне хватает и того, что на всю первую половину русского ХХ века я давно уже смотрю через Платонова и понимаю ее в первую очередь благодаря Платонову.
Вообще мне кажется, что на революцию с самого начала было два легко различимых взгляда, и суть не в том, что кто-то смотрел на нее с полным сочувствием, а другой – с ненавистью. Просто один взгляд был внешний, чужой, сторонний. У хороших писателей он был очень точным, очень жестким и резким: со стороны многое вообще замечательно ясно видно и замечательно понятно. Но в стороннем взгляде всегда – доминанта силы, яркости; глаз со стороны легко ловит и выделяет все контрасты. Этот взгляд полон романтики и в первую очередь он видел в революции время начала одного и конца другого. Время, когда люди за год-два проходили путь от рядовых солдат до маршалов. Вся та сложнейшая паутина цивилизации, все правила, условности, этикет разом рухнули, и мир вдруг в одно мгновение стал принадлежать первобытным героям, снова вернулся в состояние дикости, варварства и удали.
Этого внешнего взгляда было очень много, потому что большинство пишущих выросли в старой культуре, любили ее и ценили. Теперь, когда она была разрушена, они честно пытались понять, что идет ей на смену, но им это было очень тяжело. Платонов же мне представляется писателем, может быть, единственным или во всяком случае одним из немногих, кто и видел, и знал, и понимал революцию изнутри. Изнутри же все было другим. Мне кажется, что для Платонова очевидной была связь революции в понимании мира с изначально христианской эсхатологической традицией, с самыми разными сектами, которых во второй половине ХIX – начале ХХ века, как известно, было на Руси великое множество. Члены этих сект тоже со дня на день ожидали конца старого мира, верили в него и его торопили, как могли его приближали. Они ждали прихода Христа и начала мира нового. И это начало нового мира было связано для них не просто с отказом от прошлой жизни, но с отказом от тела, от плоти – главных хранителей грязи, греха, похоти, главных искусителей, не дающих человеку исправиться и начать жить праведно, в соответствии с Божьими заветами. Сектанты в зависимости от того учения, которое они исповедовали, как могли, умерщвляли свою плоть, чтобы духа, чистоты, святости в них становилось больше, а плоти – этих вериг, которые тянут человека в грех, на дно, в ад, – было меньше. И вот герои Платонова, будь то в «Джане», «Чевенгуре» или «Котловане», как и вся Россия времени революции и Гражданской войны, идут по этому пути. Пока сильные бесстрашные герои – белые – сражаются с сильными бесстрашными героями – красными, не жалея ни своей, ни чужой жизни, в остальной России с каждым днем становится неизмеримо больше духа; он виден сквозь совсем разреженную плоть людей, которые едва-едва не умирают от голода, тифа, холеры.
Эти люди, если говорить об их плотском, бесконечно слабы, они все время колеблются, томятся и никак не могут решить – жить им или умереть. Их манят два совсем похожих (и от этого так труден выбор) светлых царства: одно привычное – рай, другое – обещанное здесь, на земле, – коммунизм. И люди колеблются; в общем, им все равно, их даже не очень волнует, воскреснут ли они только в духе или во плоти тоже, потому что большую часть пути в отказе от плоти, от своего тела они уже прошли и о том времени, когда именно тело правило ими, они вспоминают без всякой нежности.
Мне кажется, что для большой части России это очищение через страдания, через многолетний жесточайший голод, вынужденный пост могло казаться и казалось тем, о чем люди веками молились, понимая, что без этого спасение невозможно. Платонов так своих героев и пишет. Когда я его читаю, у меня все время есть чисто физическое ощущение, что он боится их брать, трогать по той же самой причине: плоть их настолько тонка и хрупка и они так слабы, что ненароком, беря, можно их повредить, поранить.
И другое ощущение: какой-то невозможной стеснительности и стыдливости, потому что та самая душа человека, которая в обычное время спрятана за толстым и прочным слоем плоти, здесь почти вся обнажена, и ты стесняешься на это смотреть, стесняешься это видеть. Ты никак не можешь понять, имеешь ли ты вообще право это видеть, потому что ты привык, что это видит, знает, судит только Высшая сила и то – когда человек уже умер и его душа отлетела к Богу и предстала перед Его судом.
Во всем этом есть совершенно ненормальное нарушение естественного хода жизни, ее правил, законов, всего порядка. Для человека, пришедшего из прошлой жизни, все навыки, которые он оттуда принес, здесь абсолютно не пригодны. Это явно страна людей, которые уже изготовились к смерти, которые ее совсем не боятся и совсем не ценят жизнь. И их долго, очень долго надо будет уговаривать жить, не умирать. Хотя бы попробовать жить.
Про жизнь они знают, что она есть страдание и мука. Смерть же, наоборот, – отдых и избавление. Они голодны, но мало ценят еду, потому что успели привыкнуть к тому, что ее или вообще нет, или есть какие-то неимоверные крохи. Еду в том, что писал Платонов, заменяет тепло. Все-таки тепло они ценят. Это и понятно: плоть редка и прозрачна, и люди все время мерзнут. Но и это тепло чаще не от еды, а от умирающих, сгорающих рядом в тифозной горячке. Те «пророки», которые агитируют, убеждают эту изготовившуюся к смерти страну жить, полны веры, и за ними в конце концов пойдут. Мы же, родившиеся позже, в свою очередь знаем, что страна будет ими обманута. Дальше, мне кажется, будет уместен небольшой исторический очерк. Очень многие у нас в стране до сих пор настаивают, что победа большевиков в 17-м году абсолютно ни из чего не вытекала,
что это заговор или безумная случайность, наваждение, мистика – то есть вещь, никакими здравыми суждениями не объяснимая. Я принадлежу к другой линии. Мне думается, что революция 17-го года страстно ожидалась огромным числом самых разных людей, партий, религиозных групп. Эти силы часто ничего друг о друге не знали и друг другом не интересовались, но они были союзниками, и их совместные усилия в феврале 17-го года довольно легко свалили монархию. Всем им тот режим, да и вообще жизнь, которой они жили, представлялась бесконечным злом, царством антихриста, которое должно быть свергнуто, невзирая ни на какие жертвы.
Тут я эти группы бегло перечислю. Самые разные старообрядческие толки (они “чаяли” страшного суда еще со времен Никона), другие сектанты, миллионы разоряющихся – особенно интенсивно после столыпинской реформы – крестьян, вся новая интеллигенция (по большей части – из нищих семинаристов), после университета пошедшая кто в чиновники, кто в инженеры, врачи или присяжные поверенные. В отличие от своих предшественников, они принципиально не брали взяток, разговаривая, не добавляли к словам уничижительного “с” и смотрели на окружающую жизнь с глубоким презрением. Далее – члены многочисленных социалистических партий и групп, и наконец та гиря, которая решила исход дела – миллионы и миллионы людей, прошедших фронты Первой мировой войны, раненых, измученных вшами, тифом и совершенно не понимающих, за что их послали умирать. В этой войне правящему классу России, да и всей Европы было очень трудно оправдаться. Это была первая во всех отношениях бессмысленная война, из которой даже победители вышли разоренными и ослабевшими.
Все это давно известно, но мне кажется, что есть еще одна вещь, которая сделала революцию возможной, дала на нее как бы высшую санкцию. И суть этой вещи в подмене и самозванстве, которое началось в России в XV веке и окончательно сложилось к концу века XIX. В XV веке в России появилась знаменитая концепция, объявившая Москву Третьим Римом, новым Святым Градом. Суть ее состояла в том, что русский народ после Флорентийского собора 1439 года, во время которого Константинопольская церковь признала верховенство Рима, остался последним хранителем истинной веры и, следовательно, народом избранным.Та же концепция говорила, что русский царь, глава православного народа, на земле есть наместник Бога. А дальше сначала с царем, а потом и с народом происходит чрезвычайно показательный перенос центра тяжести с Бога на монарха и с православной веры – на собственно народ. Перенос этот и определил всю дальнейшую русскую историю.
Сначала формула “царь – наместник Бога” понималась как обязанность царя вести себя на престоле так же милосердно и справедливо, как вел бы себя сам Господь, но Иван Грозный за считанные годы опалами и казнями изменил ее до неузнаваемости. По Грозному, если царь – наместник Бога на земле, то он никому и ни в чем никогда не должен давать отчета. Не только восставать, но даже противиться его гневу – значит противиться воле Божьей, что есть смертный грех.
То же, хотя и медленнее происходило и в связке “русский народ – православие”. Если раньше в этой паре центр тяжести естественно падал на православие, а русский народ был избран единственно потому, что хранил и защищал истинную веру, то дальше народ становится избран как бы навсегда и сам по себе, и то, что он считает правильным, объявляется угодным Богу как бы по определению. В итоге во второй половине XIX века в России в общих чертах формируется взгляд на мир, который и определил ее судьбу почти до наших дней. Суть его состояла не в преодолении даже, а, если можно так выразиться, в превышении христианства. Одной из вариаций этого взгляда и этой правды, причем, надо сказать, весьма практичной, безусловно был Коминтерн. («Рассказ “Марксистка” – о девочке лет семи, которая, не зная, сама догадывается о марксизме, как о священной жизни в материальных условиях». – «Записные книжки», с.225) Если православию всегда с трудом удавалось находить себе прозелитов, то Коминтерн за считанные десятилетия позволил объединить вокруг «старшего брата» огромную империю.
К чему мой исторический экскурс? Мне, кажется, что Платонов был – не знаю, как точнее сказать, – то ли пророком всей этой широченной волны нового понимания мира, понимания того, что хорошо, а что плохо и как в этом мире надо жить, чтобы быть угодным Богу, то ли первым настоящим человеком нового мира. Его биография иногда кажется искусственной, настолько она – точная иллюстрация представлений об идеальном советском человеке и об идеальном пролетарском писателе. Происхождение – рабочее, сын железнодорожного мастера. Интересы и занятия помимо литературной работы (классический взгляд 20-х годов, что актриса первую половину дня должна проводить за ткацким станком, а уже вечером идти играть в театре) – инженер-мелиоратор, занимающийся и рытьем колодцев, и изобретением новых способов бурения земли; инженер-землеустроитель; разработчик новых гидро – и паровых турбин. Понимаете, такое ощущение, что Платонов был некоей санкцией, некоей возможностью и правом всего советского строя на жизнь. У Платонова был дар, волшебная палочка, оправдывающая любой советский бред, вроде доверху набитых писателями поездов, по заданию партии мчавшихся то в Сибирь, то на какие-то комсомольские стройки; он тоже ездил в этих поездах (Средняя Азия), а в результате у него единственного вместо подразумеваемой халтуры получалась гениальная проза (“Джан”).
Похоже, во всем том народном движении, которое в 17-м году свергло монархию, был огромный запас внутренней правды (« Революция была задумана в мечтах и осуществляема для исполнения самых никогда не сбывшихся вещей» – «Записные книжки», с.171), потом, при большевиках этот запас стал стремительно и безжалостно растрачиваться, и вот время, когда Платонов и советская власть разошлись, – это, по-моему, очень точная дата того, когда последняя правда в советской власти кончилась.
Как мы знаем, к этому “разводу” власть отнеслась спокойно, а для Платонова это была невозможная трагедия, и он еще долго пытался себя убедить, обмануть, что правда есть, что она не вся ушла: «Как мне охота художественно писать, ясно, чувственно, классово верно!» («Записные книжки», с.64).
В другом месте: “Без мучений нельзя изменить общество: ведь социализм получил в наследство мещанство, сволочь (“люди с высшим образованием – счетоводы” и т.д.). Страдание ототрет с таковых, размелет их разум, от которого можно застрелиться в провинции» («Записные книжки», с.68).
О Сталине – вожде этих мучений и страданий: «Истина в том, что в СССР создается семья, родня, один детский милый двор, и Сталин – отец или старший брат всех, Сталин – родитель свежего ясного человечества, другой природы, другого сердца» («Записные книжки», с.157).
В «Записных книжках» много записей, касающихся моторо-тракторных станций, того, насколько они производительнее и лучше старого единоличного хозяйства и как можно еще улучшить их работу. Доказывая себе, что коллективизация, раскулачивание оправданны, Платонов то писал, например, что «кулак подобен онанисту, он делает все единолично, в свой кулак» («Записные книжки», с.34). И тут же сценка. «Кулак: Что же нам в колодезь прыгать? – (его не принимают в колхоз) Бедняк: Колодезь портить нельзя! Я тебя всухую кончу». («Записные книжки», с.25).
То все это сменяется записями о деревнях, где колхозникам за трудодень не выдают и горсти зерна, о том, что “колхозы живут, возбуждаясь радиомузыкой; сломался громкоговоритель – конец» («Записные книжки», с.35). Именно это скоро (после опубликования очерка «Впрок» и «Усомнившегося Макара») дало советской критике основания именовать Платонова «кулацким прихвостнем». Финал был безнадежен. Правды в советской власти давно уже не было ни на грош, и сломанный этим Платонов заключал: “Если бы мой брат Митя или Надя – через 21 год после своей смерти вышли из могилы подростками, как они умерли, и посмотрели бы на меня: что со мной сталось? – Я стал уродом, изувеченным и внешне, и внутренне.
– Андрюша, разве это ты?
– Это я: я прожил жизнь”
(«Записные книжки», с.229).

СТОЛИЦА И ПРОВИНЦИЯ:
ДВА ПУТИ ПОНИМАНИЯ ЖИЗНИ
Следующие два эссе так или иначе касаются взаимоотношений центральной власти и народа, Москвы и провинции. Что это главное, впервые стало очевидно в Смутное время, когда центральная власть, разделившись на несколько боярских группировок, методично сама себя уничтожала и в конце концов изничтожила. Дальше восстановлением ее занялись две окраины, друг на друга почти издевательски не похожие. С одной стороны, юг, где казаковали незадолго перед тем голодом и разрухой выброшенные из центра страны крестьяне, холопы, черные посадские люди. Их отряды принимали живейшее участие в Смуте на всех ее этапах. Именно они с редкой жестокостью грабили, насиловали, убивали. Но позже немалую роль они сыграли и в освобождении Москвы от поляков. С другой – север страны, мало затронутый московскими неурядицами, в частности, и потому, что пользовался почти полным самоуправлением (имел своих судей и своих целовальников-сборщиков налогов). Роль в восстановлении порядка ополчения северных городов, которое возглавили Минин и Пожарский, всем хорошо известна.
Первое эссе «Столица и провинция: два пути понимания жизни» было написано для сборника «Москва: территория 2000». Работа об иконе Георгия Победоносца, хранящейся в Русском музее (этот святой был покровителем Великого Новгорода, а после его покорения Москвой как трофей перекочевал на герб Московских князей) была опубликована в журнале «WAM» («World Art Музей», № 4 за 2003 г.), правда, без первой трети. Позже, уже целиком, оно было напечатано в альманахе “По прихоти судьбы”, изданном в Нью-Йорке (2006 г.).
В этой книге работа воспроизводится в отчасти сокращенном виде. Убрана большая часть прямых пересечений с другими эссе.
Прежде чем приступить к сути, мне, наверное, следует пояснить, что в этих моих заметках речь будет идти не о Москве как городе – мегаполисе, а лишь как о том месте, где пребывает верховная власть, чиновники, осуществляющие эту верховную власть, где формируется и формулируется их понимание, что такое «хорошо», а что такое «плохо», что полезно для всей страны, а что должно быть искоренено быстро и без всякой жалости.
Пару раз за последние годы, бывая на литературно-философских конференциях, в частности в Воронеже и Екатеринбурге, я столкнулся с почти маниакальным по закомплексованности противопоставлением Москвы и провинции. Причем тему эту мало кто обходил. Мне такой взгляд показался утрированным, пережатым; в конце концов, я знаю немало людей, которые, переехав из провинции в Москву, без особых проблем нашли себе здесь место. С другой стороны, и из Москвы в провинцию, правда, в более ранние, еще советские, годы перебрались трое моих близких знакомых, и им тоже жилось там вполне неплохо. Обдумывая все это, я перечитал одну собственную, еще двадцатилетней давности, работу и вдруг обнаружил, что выводы, которые из нее следуют, совершенно черно-белые, манихейские, в общем, куда более резкие, чем все, что я слышал на вышеупомянутых конференциях. Надо сказать, что это меня отчасти поразило.
Основой той работы была обнаружившаяся жесткая преемственность царей или правителей – это как будет угодно – революционеров: Андрей Боголюбский, Иван Грозный, Петр Первый, Ленин, Сталин – все они оказались очень схожими и в понимании собственной власти, и в средствах и способах утверждения этого понимания.
Русская верховная власть, хоть и продолжала говорить о прародителях, писать об отчине и дедине, еще в XV веке уверилась, что она другого – небесного происхождения. Естественным образом поменялся ее взгляд на себя и на страну, которой ей суждено было править. Обратившись к Богу, приняв, что если она и несет какую-то ответственность, то лишь перед ним одним, она разом по-иному стала смотреть на нас, своих подданных, вообще на то, что происходит в этом мире. Отсюда, пожалуй, и пошло наше взаимное непонимание, позже и вражда.
Корень народной жизни в умении человека опустить очи долу, приспособиться к месту, где он обитает, к его климату и природе. Никто не обещает ему за это манны небесной, но приноровившись, с голоду он не помрет. Видя, откуда исходит соблазн, власть на Руси давно уже стала думать о природе, искушающей «местного» человека понять и принять ее, именно к ней, а не к власти приладиться, как о своем главном конкуренте и противнике. Чем о более высоком думала власть, тем хуже она относилась к земле. Она словно хотела нам напомнить, что любить здесь нечего, это не родина, не дом, а юдоль страдания, место наказания и ссылки. (В этом причина и полной, по своей природе генетической несовместимости почвенничества с любыми «великими» национальными идеями.) Никогда не забывая об этой опасности, она делала все возможное, чтобы выровнять, упростить, выгладить землю. Сделать ее скучной и безликой и тем заставить человека о ней забыть.
Николай Федоров, философ, первый наметивший путь воскрешения человеческого рода, считал сотворенный Господом мир чересчур, может быть, даже преступно сложным, способным лишь запутать человека, сбить его с толку. Отпущенный нам срок жизни был слишком мал и за это время разобраться в том, что есть добро, а что грех, можно было лишь в мире куда более простом и понятном, избавленном от всего этого бесконечного и бессмысленного разнообразия.
Как известно, так же смотрела на жизнь и Советская Россия. Принципиальных отличий не много: трудовые армии времен военного коммунизма, военная дисциплина на заводах и фабриках при Сталине; тот же вечный советский мотив покорения природы. У природы больше нет права требовать от человека приспособиться к ней; наоборот, пришло время, когда человек сам возьмет у нее то, что считает нужным, и сделает с ней то, что нужным сочтет.
Отсюда же принципиальная поддержка компартией Трофима Лысенко. Центральная власть всегда разделяла его убеждения, не сомневалась, что не только сельскохозяйственные культуры, вообще все неживое и живое, в первую очередь самого человека, во имя его же собственного блага необходимо немедленно и решительно переделать. Иначе мир не спасешь.
Если мы посмотрим на русский XX век – дичайший по бесконтрольности верховной власти век, мы увидим поразительный по частоте и массовости ряд попыток оторвать человека от почвы, к которой он долго и старательно пытался приноровиться, а дальше – обкатать его как песчинку. Некоторые из этих попыток не были результатом сознательных действий власти, но они дали возможность ее получить тем людям, которые эти попытки сделали вполне осознанными и систематическими. Перечислим их:
1. Столыпинская реформа и переселение миллионов людей из центра страны в Сибирь.
2. Первая мировая война. Линия фронта была чрезвычайно подвижна и проходила по наиболее густонаселенным западным губерниям России. Результат – многие миллионы беженцев. Часть из них (евреи, обвинявшиеся в симпатиях к немцам) была выселена из профронтовой полосы намеренно и подчистую.
3. Гражданская война, снявшая с насиженного места тоже многие миллионы людей, причем огромная часть наиболее процветающих (синоним: наиболее приспособившихся к ландшафту) слоев общества оказалась сначала на юге, потом – в эмиграции. Тогда же – вызванное голодом переселение миллионов людей из городов обратно в деревни.
4. При большевиках: коллективизация – миллионы выселенных. Индустриализация и стройки коммунизма, переманившие тоже много миллионов людей теперь уже наоборот – из деревни в города. Десятки миллионов людей, арестованных и попавших в лагеря или отправленных в ссылку. Кстати, я убежден, что такое неслыханное число убитых и арестованных лишь отчасти связано с политической борьбой. Другими двумя важнейшими задачами, которые решал ГУЛАГ, было убийство людей, отличавшихся своими способностями, талантом, происхождением, взглядами на жизнь, интересами и поведением (то есть нарушавшими «гомогенность» общества). ГУЛАГ также оторвал от той почвы, на которой человек родился и вырос, огромное количество людей, заменив их место рождения, национальность, вообще всю их прошлую жизнь лагерным номером и статьей.
5. Десятки миллионов беженцев во Вторую мировую войну. Депортация крымских татар и кавказских народов в Казахстан. Примеры из того же ряда – двукратная смена алфавита в Татарии и Азербайджане: с арабской графики на латиницу и тут же следом – на кириллицу. Так что отцы, сыновья и внуки оказались друг для друга фактически не умеющими ни читать, ни писать. Кстати, одними из первых, кто в сталинской России пошел под нож сплошняком, чуть ли не до последнего человека, были краеведы – хранители местных традиций.
Результатом всего этого стало то, что в огромной России различия в языке, нравах, обычаях между, например, восточными и западными областями страны, северными, центральными и южными бесконечно меньше, чем в сравнительно небольших Бельгии, Германии, Франции, Италии, Испании, Югославии. В России все говорят на одном и том же языке дикторов московского радио и телевидения. Даже знаменитого северного «оканья» давно уже нигде не услышишь.
Интересно, что этой обработке, конечно, в куда более мягкой форме, но так же непреклонно подвергалась и вся номенклатура; бесконечное пересаживание из одного руководящего кресла в другое, перевод из одних: города, района, области, республики в другие – город, район, область, республику. Почти каждый человек, достигший в советской стране высоких степеней и званий, был в своей жизни кочевником, номадом. Власть больше всего боялась, что он прирастет к тому месту, где служит, и имела на это основания. После того как в поздние советские годы это в самом деле произошло в Средней Азии и Закавказье, советская власть рухнула очень скоро.
Той же цели однородности элиты служил и совершенно парадоксальный со всех точек зрения, способ ее формирования. Отбирались не лучшие по природным способностям, а самые посредственные, самые послушные и исполнительные. Отбор выдвиженцев шел исключительно по анкете, и дальше им тоже давалось не лучшее и даже не среднее, а самое худшее из существовавших тогда в России образований – высшие комсомольские и высшие партийные школы. Тот совершенно мгновенный и по любым меркам почти анекдотический крах Советского Союза как раз и объясняется деловыми качествами этой самой элиты, не способной решить никакую, хоть отчасти не знакомую ей задачу.
Еще пара небольших довесков. Власть, конечно, очень боялась той страны, которой она правила. Какими бы большими кружками ни обозначалась на карте столица, одного взгляда на эту самую карту было достаточно, чтобы понять, как ничтожно она мала по размерам, чтобы испугаться, что вот-вот пропадешь, затеряешься посреди этого бесконечного континента. Отсюда и их – столицы и страны – обоюдный страх, мания преследования, бегство друг от друга. Страна, расширяясь, стремительно бежала на восток, к Тихому океану, а столица ее на всех парах мчалась в направлении прямо противоположном – на запад, к Атлантике.
Верховная власть редко интересовалась (по вышеизложенным обстоятельствам) особенностями той страны, которой она управляла. Кроме петровской кунсткамеры, главным экспонатом которой был родившийся в какой-то деревне двуглавый теленок, мне известны только две попытки такого интереса, обе явно предвосхищающие современные Диснейленды. Первая – это Ледяной дом. Гениальная метафора России, сооруженная в царствование императрицы Анны Иоанновны. В этом Ледяном доме по очереди обитали все известные тогдашней власти российские аборигены, каждой твари – по паре, среди привычных им вещей, нарядов и занятий. Вторая попытка была уже при советской власти – Выставка достижений народного хозяйства. В таком адаптированном виде разнообразие страны для верховной власти было в общем и целом приемлемо.

ИКОНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА С КЛЕЙМАМИ
Есть вещи, которые с течением времени сами собой соединяются. Друг для друга они делаются чем-то вроде комментариев, толкований, и ты вдруг начинаешь понимать, что в жизни и впрямь есть смысл, случайного в ней не так уж много. В 63-м году я с отцом и с матерью на недавно купленном “Москвиче” ехал в Эстонию. Был самый конец июня, день долгий, почти бесконечный, настоящих ночей не было вовсе – час довольно густых сумерек, и снова светало. Еще девочкой мама несколько раз ездила на машине одного из заместителей своего отца. У него была огромная шестиметровая “Изотта Фраскина” с авиационным двигателем. Мать держала в руках руль, а хозяин по необходимости жал то на газ, то на тормоз – сама мама до педалей не доставала. В Иванове в середине двадцатых годов эта машина, кажется, была единственной.
Сейчас, в 63-м, мама снова села за руль, и теперь мы не спеша ехали по Валдаю, плавно вниз и так же плавно вверх, на холм, этакая длинная-длинная волна, крупная зыбь, меня и укачивало, как в море. Пока мы были внизу, смотреть было почти не на что. Пологие болотистые низины, хилые придорожные леса, кустарник, заросли осины, лишь с холмов и то чаще вдалеке виднелись настоящие боры, озера, да в сумерках промоины между облаками – те же озера, но уже на небесной тверди – и я, разглядывая их как мираж в пустыне, все гадал, все надеялся, что они настоящие и я смогу уговорить мать свернуть на проселок и где-нибудь прямо на берегу заночевать. По дороге в Эстонию мы должны были сделать крюк и заехать в Новгород. Об этой поездке отец давно мечтал, вдобавок у него была командировка от “Литературной газеты”, для которой он должен был написать что-то вроде очерка.
В Новгороде мы тогда прожили почти неделю. Я и сейчас помню площади, заросшие, словно выгон, мелкой травой, помню деревянные мостовые и деревянные же желоба для стока воды. Помню белые храмы, округлые и полнотелые, вокруг больше них ничего не было, они были выше, сильнее, вдобавок почти всегда стояли поодаль от ближайших домов, и это было так не похоже на Москву, где среди огромных зданий церкви давно уже сделались маленькими и игрушечными.
Благодаря командировке нас поселили в лучшей в городе обкомовской гостинице, по-моему, она так и называлась “Новгород”. Скучное трехэтажное здание, внутри которого я обнаружил роскошную парадную лестницу. По много раз в день я бегал наверх по ярко красной плюшевой дорожке, прижатой к ступенькам блестящими позолоченными прутьями с шишечками по краям. Это красное и золотое великолепие я сразу вспомнил, когда нас повели в запасник местного музея и из соседней комнаты одну за другой стали носить большие алтарные иконы, полные золота и киновари. Киноварным был и фон, и одежды, и все это секло на части тонкое золото пик, сабель. Цвета было так много, что почти терялись, казались не закрашенными пятнами белые, с нерусскими чертами, лица апостолов и святых.
У отца месяца за два до нашего путешествия вышла книга сказок, которую он давно ждал. И вот так совпало, что как раз когда мы были в Новгороде, в местный книжный магазин эту книгу привезли. Я зашел туда случайно, меня интересовали марки и вдруг увидел отца, уже пьяного и веселого, а рядом длинную, петлявшую очередь, которой он подписывал свои сказки. Когда отец начинал пить, мы с мамой выступали против него единым фронтом, но рядом были немыслимой красоты африканское зверье и цветы – десятки стран только что сделались независимыми, они ликовали, и все это тут же отпечатывалось на марках. Перед таким искушением я не мог устоять. Чувствуя себя предателем, раз за разом я шел к отцу, и он щедро вынимал из кармана пачки бумажек, я брал немного – пару-тройку рублей – мелкий грех казался мне простительней большого.
И в городе и вне его за стенами было то же самое странное ощущение, что что-то нездешнее приплыло сюда, но прижилось и так здесь и осталось. Огромная серая равнина холодной озерной воды рядом и чуть выше другая – бесконечные заросли камыша, который ходил под ветром точно как волны. Война была еще близко, почти все мужчины воевали, из женщин многие по два года прожили под немцами и разговоры так или иначе крутились вокруг нее. Человек, который вел нас к пристани, работал в местном краеведческом музее и теперь подрядился показать нам церкви, что стояли на островах, вернее, то, что от них осталось. Однако прежде он хотел купить рыбы и вечером угостить нас ухой.
Сначала почти час мы плыли вплотную к камышам, потом зашли в узкую петляющую протоку. Здесь было совсем мелко, мотор, переделанный из движка трофейного немецкого мотоцикла, подняли из воды, и наш хозяин, встав на корме, теперь медленно греб веслом. Протока то и дело раздваивалась, иногда почти пропадала в камышах, но он как-то ориентировался. Наконец, на плоском, в несколько шагов, островке мы увидели сколоченную из плавника хибарку, рядом просмоленную плоскодонку и старика, чинившего сеть. В отцовских сказках был точно такой, только цветной, и там он назывался гномом. Мы пристали, взрослые в несколько слов о чем-то договорились, и дальше мы уже плыли вслед за стариком. То в одной, то в другой протоке у него были поставлены верши. Он вытаскивал их из воды, в большинстве было пусто, все-таки три средних размеров щучки в конце концов нашлись. Устлав дно лодки осокой, мы побросали туда нашу добычу и поплыли дальше. Через полчаса мы были на острове, где стояла Спас Нередица.
От храма почти ничего не осталось, лишь неровная, идущая зубьями линия стены метра в четыре-пять высотой, да над этим, как и должно, висело небо. Немцы церковь то ли просто взорвали, то ли срезали артиллерийскими снарядами, узнав, что на звоннице наши устроили наблюдательный пункт. Там, где был вход, вскоре после войны навесили полукруглую деревянную дверь, для прочности обитую железными полосами. Все это давно сгнило и, несмотря на амбарный замок, на ветру немилосердно скрипело. У нас был ключ, но проржавевший замок не поддавался, пока мы не залили в него моторного масла. Внутри картина была совсем страшная – гора битого кирпича и осыпавшейся раскрашенной штукатурки. Там, где стены не были завалены обломками, роспись в большинстве мест сохранилась, даже краски были по-прежнему яркие, и все равно, что это можно восстановить, представить себе я не мог.
Потом, много позже, занимаясь русской медиевистикой, я часто думал о совсем другом устройстве новгородской жизни и о почти маниакальных попытках Москвы уничтожить самую память о ней, о последней из этих попыток – страшном опричном погроме Новгорода Иваном IV, после которого город так и не оправился. Однажды я вспомнил то свое детское путешествие и вдруг начал понимать историю взаимоотношений Москвы не только с Новгородом, а и с прочими землями, которые одну за другой она то деньгами, то уговорами, чаще же просто силой к себе присоединяла. Так получилось, что в этом моем понимании едва ли не главную роль сыграл Св. Георгий Победоносец.
Вообще жития, как и люди: есть закрытые, прошедшие через сотни лет почти без изменений, а есть этакие экстраверты, которые, как губка, с удивительной, ни с чем не сообразной легкостью впитывают в себя все, что делается вокруг них – и время, и пространставо, и судьбы других людей, их муки, страдания. Но и вобрав в себя столько всего, они не чувствуют тяжести, а как и на нашей иконе, будто перышко, парят над землей.
Икона, которую мы выбрали, житийная, и это делает нас обязанными хотя бы бегло поговорить о житии Георгия Победоносца. Текстов о подвигах этого святого великое множество. Только в российских библиотеках их сотни. Византийских же, греческих, латинских, разных славянских – еще больше. Тут и классические жития, и легенды, духовные стихи, сказания, поэмы, в частности, весьма известные Рейнбота фон Дорна и Люзарша. Надо сказать, что между собой они находятся в чрезвычайно сложной связи, бесконечно заимствуя и передавая друг другу разные детали и эпизоды; это некая община святых Георгиев, каждый из которых крепко держится за своего сродственника. Перечислю самым беглым образом, что есть на нашей большой алтарной иконе и что, несмотря на четырнадцать клейм, идущих по ее периметру, иконописцу нарисовать не удалось.
Первое: откуда Георгий Победоносец (на Руси чаще Егорий Храбрый) родом и где он совершил свой подвиг веры: среди стран и городов чаще других встречаются Капподокия, Персия, Вавилония, Сирия, Ливан, Далмация, Чернигов. Его гонителями были император Диоклетиан и персидский царь Дадиан. В христианской версии он трижды погибает от мук и вновь воскресает, в мусульманской, где святого Джерджеса тоже почитают как пророка, воскресает семьдесят раз.
В самом распространенном варианте Георгий – военный трибун, выходец из Капподокии, на собрании чинов империи объявляет себя христианином. Консул Магнеций и император Диоклетиан пытаются вновь обратить его в язычество, но напрасно. Дальше – темница и пытки. Сочтя его мертвым, император уходит, но на землю спускается светлый муж, и Георгий вновь оказывается цел и невредим. Увидев чудо, еще несколько человек из знати, в том числе и императрица Александра, объявляют себя христианами. Новые пытки и казни, некоторые из них изображены на нашей иконе. Среди них – колесо, утыканное острыми мечами, ров или бочка с негашеной известью, раскаленные, утыканные гвоздями сапоги, кол, на который сажают святого, погреб, где его с головой засыпают песком. Святого бьют палками по устам, произносящим символ веры, его бьют воловьими жилами и распиливают пилой, бросают в сухой колодец, дробят тело на части, посыпают раны солью, рубят голову, заливают тело свинцом, вешают, варят в котле, придавливают огромным камнем, но он всякий раз воскресает, и в конце концов император решает, что вынести все эти муки ему помогают чары.
В противники Георгию вызывается другой искусный маг Афанасий. Афанасий дает святому ядовитое питье – вновь неудача; тогда он предлагает ему воскресить мертвого, чтобы доказать силу своей веры. В некоторых сказаниях Георгий воскрешает недавно умершего человека, в других – умершего еще до Христа, но и в том, и в другом случае воскресший рассказывает о загробной жизни, произносит символ веры и, объявив себя христианином, бездыханный падает к его ногам. Снова темница и снова Диоклетиан пытается ласками склонить Георгия к язычеству, уговорить принести жертвы идолам. Георгий притворно соглашается, но, войдя в храм, заставляет Аполлона сознаться, что он не бог, а статуя, после чего она падает на пол и раскалывается; вслед за Аполлоном валятся и другие боги. Народ в ярости бросается на святого. Еще одна казнь, перед которой Георгий молит Бога простить своих мучителей (не менее распространенная версия: наоборот, отомстить за него).
И само житие, и чудеса, которые творит Георгий, распадаются как бы на две части. В первой еще до встречи с драконом, кроме воскрешения мертвого и падающих оземь идолов, он воскрешает или излечивает умирающего сына в доме вдовицы, куда его между казнями поместил император. Седалище, на котором он сидит во время допроса, и балка в доме вдовицы пускают ветки и зацветают; в ее доме нет ни крошки еды, но с неба по слову святого появляется пища.
Теперь второе и его главное служение. В одном из больших озер (чаще всего упоминается Сирия, но там озер нет, и мне почему-то кажется, что это находящееся совсем рядом от нее Тивериадское или Генисаретское озеро) поселяется страшный дракон. Каждый день он требует от жителей стоящего невдалеке города себе на пропитание молодую невинную девушку. Всякий раз в городе бросается жребий и несчастная под вопли и плач отправляется на заклание. На одиннадцатый или двенадцатый день жребий падает на дочь царя; рыдая, он пытается откупиться, предлагая за принцессу половину своего имения, но горожане с презрением отвергают мзду. Девица отправляется на берег озера, из воды выползает дракон, и тут, когда он уже раскрыл свою страшную пасть, откуда ни возьмись, на скачущем во весь опор коне появляется Святой Георгий.
Дальше текст снова раздваивается. По наиболее распространенной версии, святой поражает дракона копьем (как и у нас на иконе), по другой – мечом, но нередко он побеждает дракона и словом Божьим. Тогда (и это тоже есть у нас на иконе) девушка, обвязав его шею платком или поясом, уводит теперь уже безобидного зверя. В некоторых изводах дракон изрыгает, причем живыми, всех (кроме почему-то первой) девиц, которых он пожрал раньше. Дальше счастливый народ в числе сорока тысяч душ принимает крещение, а царь предлагает избавителю руку спасенной. В нескольких житиях Святой Георгий и вправду женится на принцессе, обычно же отвергает предложение, объявляя, что он рыцарь Святой Девы. После такой бурной жизни умирает Святой Георгий вполне спокойно, как правило, в Рамле, а хоронят его в другом палестинском городе Вифлееме, где прежде был посвященный его имени монастырь, в котором молились об исцелении равно почитавшие его и христиане, и турки. В тех версиях, где Святой Георгий все-таки убивает дракона, прочь его тушу тащат в Берлине у лужицких славян – 70 лошадей, в Моравии – три тысячи волов и 200 коней.
Кстати, в некоторых изводах эти два варианта, которые одновременно изображены на иконе, довольно изящно примиряются. Дракон выползает из озера с грохотом, подобным буре, он «прыщет ядом», из пасти его валит дым, из очей сыплются искры; все, что есть в окрестностях, глохнет от его рева, но Георгий одним словом Божьим покоряет страшного зверя, и тот лижет ему ноги. Но не все так безобидно. Святой грозит горожанам, что если они немедля не примут крещения, он пустит дракона на город и, лишь когда они соглашаются, убивает зверя. Он разрубает его на тысячи кусков, из которых, на нашу беду, рождаются миллионы и миллионы мелких гаденышей, расползающихся в разные стороны: из одного большого греха получается множество мелких.
Не могу удержаться от удовольствия пересказать житие Св. Георгия Победоносца какого-то то ли протестанта, то ли агностика ХVII века: у него Святой Георгий – сын славного капитана Аффрино Барзане спасает дочь царя Канторико Клеоделинду. Сначала наш герой пытается укротить дракона разными реликвиями, картами Каина, портретом папессы Иоанны, писанным Святым Лукой, и лишь затем, когда это не помогает, – словом Божьим. Победив гада, он женится на Клеоделинде, и она приносит ему двенадцать человек детей.
Всем этим поразительным по яркости многоцветьем занимались давно и самые разные люди. В средние века, прежде чем включить житие Святого Георгия в свои синодики и индексы, теологи жесточайшим образом правили его, но даже и тогда то, что оставалось, казалось настолько фантастичным, что папа Геласий возражал против почитания святого, считая его житие подложным. Но и в Риме народной любовью культ его вскоре был воскрешен. Позже святым занимались уже не такие жесткие люди: филологи, историки, фолклористы. Они, хотя часто и расходились в деталях, все-таки пришли к выводу, что житие это складывалось в Малой Азии, которая во II – III веках, когда оно и рождалось, была настоящим складом моно – и политеистических воззрений, огромным бродильным котлом самых разных языческих и христианских вер; из этого-то бульона и родилось житие Святого Георгия. Это была одна из самых удачных попыток позаимствовать из язычества все то, что было в нем любимо и ценимо народом, то, к чему он привык и что боялся потерять, а самих его богов затолкать вниз, в ад, превратив в чертей и бесов. Так наш дракон и стал символом дьявола, ада, символом язычества, ереси, а то и бедствий, насылаемых на христиан попущением Божьим.
В житии Святого Георгия находятся параллели, а нередко дословные цитаты из десятков источников. Среди ближайших предков и самого Георгия, и его жития находят арийских «солярных» богов, в частности, Индру; очень много взято из персидского, а потом и греко-римского Митры; среди них числят Тамуза Сирийского, Гора Египетского, греческого Персея. Георгий и маг Афанасий – это переработанное, прошедшее через Библию и мусульманские легенды сказание об Ормузде и Аримане. В Библии наша пара – Навуходоносор и Авраам, в мусульманской легенде – Нимврод и Авраам. Вдовица и ее сын, в доме которых он скрывается, позаимствованы из истории Илии из Третьей Книги Царств. Расцветшая балка и стул – это расцветший жезл Аарона. Состязание Георгия с Афанасием повторяет и состязание Моисея с египетскими жрецами. Сухой ров, куда бросают Георгия и где сразу же вырастают травы, цветы и начинает бить источник, родом из Иосифа, брошенного братьями в колодец. Одна из самых ярких и самых популярных гипотез видит прямым предшественником Святого Георгия еретика-арианина епископа Александрийского Георгия, убитого язычниками, а в маге Афанасии – его заклятого врага, православного епископа Афанасия Александрийского.
В России, то есть в наших палестинах, Георгия с большим или меньшим успехом связывают и с Святовитом, и с Ярилой, и с Перуном, и с Хорсом. Многое в русских вариантах его жития взято из сказаний и былин о Добрыне Никитиче, Илье Муромце, Алеше Поповиче. Впрочем, и в западных изводах Георгий часто – родной брат и Федора Стратилата, и Димитрия Солунского.
На Руси Св. Георгий был весьма уважаем с самого начала у нас христианства. Первый с рождения христианский князь Ярослав Мудрый при крещении получил имя Георгия и очень почитал своего покровителя. В главном киевском храме Св.Софии был придел Св. Георгия Победоносца. После успешного похода на чудь Ярослав основал в их землях город Юрьев (ныне Тарту) и там построил храм Святого Георгия.
У нас Св. Георгий издавна почитался хранителем главного богатства крестьянина – скота. Как раз в день этого святого скот после зимы впервые выгоняли в поле. Георгию молились о даровании дождя, он был деятельным помощником колонизаторов, устроителей того, что со временем стало называться Русской Землей. В частности, он был покровителем тех, кто и дальше продолжал ходить на чудь, убивая непокорных, а на остальных накладывая дань и оброки. Думаю, что все началось с князя Ярослава, ну а дальше московская великокняжеская, позже – царская – власть, считая себя его наследницей, поместила Святого Георгия на свой герб и на свою печать, приказала вырезать его каменное изваяние на Флоровских воротах Кремля. Но главное не это, а то, что русская верховная власть однажды не устояла, соблазнилась этой открытой прежде самыми разными народами возможностью вложить в Св.Георгия и то, что она сама о себе думала, и то, что она думала о нас, своих подданных, Божьей милостью данных ей в управление.
Русская власть очень рано пришла к выводу о своем божественном происхождении и сразу же сформулировала соответствующие своему новому статусу и новому положению дел цели. Земного в них было очень и очень мало, интерес к земле, над которой она с тех пор, как и на нашей иконе Святой Георгий, парила, не касаясь ее, утрачивался ею практически навсегда. Здесь-то, собственно, и обнаружилось противостояние верховной власти и народа. Страна была огромна, почти бесконечно велика; не было дорог, население было редким, и власти всегда казалось, что она кричит недостаточно громко, что то, что она кричит, то, что она хочет от народа, не доходит дальше ближайших окрестностей Москвы или Петербурга, а если и доходит, то совершенно искаженным.
Власть, как могла, напрягала голос, как могли быстро неслись на ямщиках гонцы, курьеры, чиновники по особым поручениям, и все равно это было почти безнадежно медленно. Иногда проходили годы, прежде чем на какой-нибудь Камчатке узнавали, что в Петербурге давно уже правит новый царь. Власть на Руси очень рано открыла для себя замечательный физический закон, который гласит, что волна, звук лучше всего распространяется в однородной, гомогенной среде. Достигается же эта гомогенность, с одной стороны, безжалостным уравниванием и выравниваем подданных (идеалы: армия, заключенные в лагерях), а с другой стороны, – точно так же, как при варке манной каши, то есть перемешиванием. Известно, что если ты хочешь, чтобы каша получилась хорошей, без комков, перемешивать ее надо часто и тщательно.
Иван Грозный, наверное, первый на Руси ввел систему массовых тотальных переселений дворянства из одних областей государства в другие. Заподозрив новгородских «служилых людей» в намерении изменить ему, он всех их (кого не убил) переселил на Волгу, где, соответственно, возник Нижний Новгород, а в новгородскую «пятину» на место выселенных посадил дворян из других уездов. Суть и смысл этого «вывода», этого перемещения и перемешивания подданных – в их отрыве от местной почвы, к которой они за века с немалым трудом, но сумели приспособиться.
Народная жизнь по своим установкам и узаконениям почти такая же, какой испокон века была человеческая жизнь. Отчасти это до – и потому антигосудорственная жизнь. Суть ее в умении приспособиться к местному климату, к местной природе, ландшафту, стать человеком этого ландшафта (отличным от человека любого другого ландшафта), научиться этот свой ландшафт слышать четче и яснее, чем то, что кричит верховная власть. В провинции никому и в голову не придет разбивать виноградники по северным склонам уральских увалов. Тот, кто научится слышать свой ландшафт, будет всегда сыт, обут, одет. Никаких звезд с неба ему никто не обещает, но то, что надо для нормальной, обычной жизни, он получит. Понимая это, власть на Руси уже давно стала смотреть на ландшафт, искушающий «местного» человека приспособиться к нему, повторить каждую его выпуклость и ложбинку, как на главную причину нарушения гомогенности подданных и, соответственно, как на своего злейшего врага.
Когда-то Господь Бог, наказывая змея, совратившего человеческий род, сказал: ты будешь ходить на чреве твоем и есть будешь прах во все дни жизни твоей. И вот у власти, считающей себя наместницей Бога на Земле, новым Георгием Победоносцем, всегда было ощущение, что змей, наш дракон, по Божьему проклятию никогда не отрывающийся от земли, от «праха», телом повторяющий малейшие неровности почвы, эту самую способность соблазнять человека, вводить его в искушение и грех целиком и полностью передал земле, по которой он ползает.
Заметим, кстати, что именно поэтому чем более возвышенные цели ставила перед собой власть (превращение Москвы в центр, столицу мирового христианства – «Третий Рим»; становление нового избранного народа Божьего и новой Святой Земли; приготовление народа ко второму пришествию Христа и спасению всех праведных; позднее – коммунизм и построение здесь, на земле, всеобщего рая), тем хуже она относилась к ландшафту. Всегда помня о
той опасности, что исходит от почвы, власть не только пыталась оторвать от нее человека, но и выровнять, упростить, снивелировать саму землю, сделать ее одинаковой везде и на всем протяжении страны, тем самым лишив самой возможности соблазнять человека.
Николай Федоров, известный русский философ, поставивший задачу воскрешения всех, когда-либо живших на земле людей (он считал, что пришло время, когда это может и должен сделать сам человек, а не Христос) главным условием такого воскрешения мертвых считал радикальное упрощение жизни, равно – и людей, и природы. Люди должны были быть организованы в «трудовые армии» (закон армии – абсолютно одинаковая реакция совершенно разных людей на приказ; приказ должен быть исполнен во что бы то ни стало; приказы не обсуждают и т.п.), и одновременно – нивелировка ландшафта. Горы, по Федорову, должны были быть срыты, низины засыпаны, реки превращены в каналы, а вся земля – в одно ровное поле. Города и городская культура тоже подлежали уничтожению как рассадники всяческого неравенства и пороков.
Итак, подведем итоги. Себя власть считала Гергием Победоносцем, бесконечно мучимым и пытаемым нашими грехами и несовершенством, убиваемым ими, но в следующем поколении воскрешающим вновь, чтобы продолжить, как Христос, спасать нас и спасать. Как же мы сопротивлялись, не желая идти по этой дороге, как же заставляли ее страдать, но ни разу, как и на иконе, на ее лице не дрогнул ни один мускул. Большую часть жизни она нас любила, правда, как и Святой Георгий, на брак, на равные отношения с нами не соглашалась. Она любила нас, как крестьянин любит свою кормилицу – корову. Мы были стадо скота, а она – преданным и надежным пастухом, гнавшим нас на тучные луга, в землю, текущую молоком и медом. Господи, как мы были непослушны! Как мы были глупы, то и дело пытаясь уклониться в сторону, забрести в темный лес, где нас давно уже поджидали, чтобы растерзать, злобные голодные волки. Тогда, чтобы спасти нас, ей приходилось применять кнут, но делала она это нам же во спасение.
Вслед за Ярославом Мудрым и новгородцами она считала нас то странной и непонятной, то этакой милой, неиспорченной чудью, наивными шукшинскими Чудиками, которых ради нас же самих надо держать в узде, обложить данями и оброками, чтобы мы думали не о постыдном, убивающем душу приобретательстве, а о Боге. Именно объясняясь нам в любви, она однажды заговорила о наших исконных качествах, о том, что заложено в самой нашей природе – преданности православию, самодержавию, о нашей народности. Но были и менее светлые периоды, когда она, ужасаясь нашей ненависти и злодеяниям, называла нас чудовищами, писала, что нет ничего страшнее русского бунта, бессмысленного и беспощадного.
Дракон – это, конечно, эдемский змей, некогда совративший, «погубивший» невинную душу нашей прародительницы Евы, ввергшей всех нас, ее потомков, в пучину горя. За те тысячи и тысячи лет, что прошли со времен сотворения мира, питаясь нашими грехами, он безмерно окреп и раздался, превратившись в страшного дракона. Теперь ему уже не надо было, как в Эдеме, льстиво и хитро уговаривать Еву; полный сознания своей силы и своего права, он требовал и всегда, пока не пришел Святой Георгий, получал любимое его лакомство – невинные души, которые пожирал, губил с неслыханной жадностью. Но как бы ни был страшен зверь, власть верит, не сомневается, что однажды она все-таки победит чудовище и всех нас спасет. Для этого она и живет.

ВЕРХОВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
Происхождение идущей ниже работы, в которой разбираются причины и основные закономерности революций, не реже, чем раз в два столетия затеваемых в России верховной властью, не лишен для меня ностальгических воспоминаний. В восьмидесятом году по просьбе одного своего близкого приятеля-филолога я прочитал ему курс лекций по русской истории. О перипетиях нашей прошлой жизни мы обычно беседовали, прогуливаясь туда-сюда по лесной просеке, прорубленной прямо от забора его дачи. Шаг за шагом, мы не спеша передвигались от одного царства к другому, пока я с некоторым изумлением не обнаружил, что те очень яркие детали, которые все, кого я знал, считали случайностями, этакими архитектурными излишествами на довольно суровом в других отношениях здании отечественной истории, на самом деле суть, корень, законная часть несущей конструкции. Подобная несообразность наводила на размышления, и я захотел проверить, не фантом ли это, не обман ли зрения.
Данное предисловие, по-моему, стоит дополнить страницей историографии. Первое печатное имя работы «Психология русской истории», что, конечно, было искусственно и связано с текстом по касательной. В Мюнхене в журнале «Страна и мир» в 89-м году она была опубликована под этим заглавием. К сожалению, по обстоятельствам времени влиять на редактирование первоначального текста я не мог, и то, что получилось, не представляется мне удачным. Работа была сокращена почти на треть, но главное другое: от одного сюжета остался тезис без доказательств, от следующего – доказательства без тезиса; общий план гляделся невразумительно.
Собирая книгу, я по всем этим причинам решил переименовать «Психологию». Здесь она публикуется под шапкой «Верховые революции». В 83-м году, то есть шестью го
дами ранее, я кончал писать роман – «След в след». На жизнь тогда я смотрел весьма печально, был убежден, что дыхание у меня короткое, спринтерское, и он так и останется первым и последним, а еще я был убежден, что эта вещь, если я буду осторожен, сгинет у меня на антресолях, а если не буду – ее приобщат к следственному делу.
Подобный способ расширить круг читателей меня не радовал, но страх, что я больше никогда ничего не сделаю, был больше; в данных обстоятельствах я решил не размениваться. На «След в след» было потрачено ровно десять лет, и мысль, что роман должен вместить в себя все, что во мне в течение этих лет было, показалась естественной, даже необходимой. После чего «Психология» не дрогнувшей рукой была подарена одному из персонажей. Так «След в след» и вышел в летних номерах журнала «Урал» за 91-й год, причем о том, что напечатана финальная, третья часть, мне позвонили в аккурат 19 августа, когда я собирался идти на митинг к Белому дому. Позднее выяснилось, что свергать советскую власть.
Надо сказать, что предложения печатать роман поступали и от куда более известных журналов. Но «Психологию» и примыкавшие к ней в тексте короткие заметки (в романе они в самом деле принадлежат деду рассказчика, когда-то революционеру, позже отъявленному скептику, и здесь печатаются под тем же заголовком – «Записи деда»), редакторы единодушно требовали изъять, кто – боясь оргвыводов, кто – потому что они были написаны совсем по-другому и своей величиной рвали текст. Однако принцип сборной солянки реял надо мной, как знамя, и я на уступки не шел. Уральская публикация смягчила меня – книжные версии «Следа в след» шли уже без исторической части.
Летописный рассказ о призвании варягов, пожалуй, лучшая иллюстрация возникновения государства на основе естественного договора. Князь, его дружина и администрация легли поверх уже сложившейся структуры власти, защищая и поддерживая ее. Старая администрация (вершиной которой, судя по всему, были «старцы градские») продолжает существовать и развиваться, а главное, сосуществовать с княжеской властью. Полтора века продолжаются такие отношения, устраивая всех: князья собирают дань, ходят в походы и обороняют свое княжество, торговые караваны, защищаемые дружиной, беспрепятственно достигают Царьграда. Раз в десять лет, а то и чаще смерть родственников передвигает князей из города в город, с одного престола на другой. Мало связанные со своим городом, они, кажется, и вовсе не замечают этих переходов.
С середины XI века положение меняется. Беспрерывные, по большей части неудачные войны с половцами, отток населения на север, северо-восток и запад, упадок греческой торговли с разных сторон подрывают сложившиеся между князем и городом отношения. Княжеская власть – обращенная ранее вовне, внешняя сторона власти (наиболее ярко у Святослава Игоревича) – войны, дипломатия, торговля, князь и его дружина – щит государства, граница государства, его внешняя оболочка – меняет свое направление, поворачивается вовнутрь своего княжества, где сталкивается с местной властью. Начинается медленный, чрезвычайно болезненный период их врастания друг в друга.
Обе эти власти – и старая, местная, и княжеская – освящены традицией. Ни та, ни другая не мыслит своего отдельного существования, даже Новгород, где городской патрициат добился после 1136 года почти полной независимости, не может обойтись без князя, однако борьба между ними за свою долю влияния внутри общего, совместного владения идет долго, упорно и на редкость ожесточенно (кровавые усобицы между боярством и князьями в Галицко-Волынской Руси); что хочет и чего не хочет каждая из сторон, лучше всего видно по договорным грамотам Великого Новгорода и их негативам. Борьба этих двух властей продолжается более века, отнимая у них все силы. Врастая друг в друга, четкую границу своим прерогативам они находят в сопернице. Степень свободы каждой из них равна нулю. Такова судьба всех княжеств за единственным исключением – Владимиро-Суздальская Русь Андрея Боголюбского.
В сущности, история человечества знает два вида государств – монархию и республику; крайняя форма первой – тоталитарный строй восточной деспотии, второй – парламентская республика. Принято считать, что если при республиканской форме правления верховная власть ограничена законами и представительными учреждениями, сменяема и разделена, то восточный правитель никому и ни в чем не подотчетен. На самом деле это не так. Власть восточных царей почти под столь же жестким контролем, просто формы надзора иные – традиции, обычаи, религия, ритуал, народные представления об идеальном монархе, свидетельство жесткости ограничений – последовательность и традиционность на протяжении веков внешней и внутренней политики восточных деспотий.
Для политической системы, созданной Андреем Боголюбским, характерна абсолютная власть и абсолютная мобильность власти; она, безусловно, была реакцией на борьбу, происходившую в других русских княжествах. Сущность ее не в полном подчинении князем боярства старших городов, а в прямом игнорировании соперника. При этом разом отрицаются все традиции, на которых основана не только местная, но и сама княжеская власть. Последняя, начиная с Андрея Боголюбского, корень своих прав, свою высшую санкцию видит исключительно в себе самой.
Появление на северо-востоке Руси подобной политической системы – результат сочетания целого ряда обстоятельств: Андрей Боголюбский был старшим в роду русских князей, владел титулом Великого князя Киевского, обладал самым обширным и самым богатым княжеством, имел самую сильную дружину и самую большую казну. С другой стороны, в его огромном и так редко населенном княжестве связи, традиции, влияние старших вечевых городов было несравненно слабее.
Множество переселенцев, пришедших во Владимиро-Суздальскую Русь с юга во время правления отца Андрея Боголюбского Юрия Долгорукого и в его собственное, также никак не связанных с местными нравами и воспоминаниями, чуждых им, еще больше подорвали и размыли традицию. Расселяясь на княжеских землях и в основанных князем городах, поселенцы привыкли смотреть на него как на единственный источник власти, единственный источник законов и традиций, да и сам князь смотрит на населенные им земли как на свою собственную часть, опричнину, независимую и мало связанную с остальным княжеством.
Можно выделить несколько формальных признаков сложившейся системы:
1) разделение государства на две части, в одной из которых источником верховной власти является традиция, а в другой – сама власть (Киевский великокняжеский престол и Владимирское княжение, еще более явно Владимирское княжение и собственные владения князя в этом княжестве), причем власть, основанная на себе самой, стремится к территориальной экспансии, к своему распространению на всю территорию государства;
2) отсюда новый взгляд верховной власти на себя и, соответственно, новое отношение к другим традиционным властям: переписка Андрея Боголюбского с его племянниками Ростиславичами, не имевшая ранее аналога в междукняжеских отношениях: «Не ходишь ты, Роман, в моей воле со своей братией, так пошел вон из Киева, ты, Мстислав, вон из Белгорода, а ты, Давид, вон из Вышгорода; ступайте все в Смоленск и делитесь там, как знаете». Один из Ростиславичей, Мстислав Храбрый, отвечал ему: «Мы до сих пор признавали тебя отцом своим по любви, но если ты посылаешь к нам с такими речами, не как к князьям, а как к подручникам и простым людям, то делай что задумал, а нас Бог рассудит»;
3) власть, видящая источник своей власти в себе самой (самозванство верховной власти), видит в себе и источник любой другой власти: Андрей выгнал из княжества старых отцовских бояр и окружил себя новыми людьми, многие из которых были иноземцы и иностранцы, никак не связанные с местными традициями, всецело зависящие от Андрея не только в миру, но и обязанные ему вечным спасением (некоторые из них были им крещены);
4) основание новой столицы: Владимир – столица-нувориш и с точки зрения общерусской столицы Киева, и с точки зрения старших вечевых городов Ростова и Суздаля. Разрыв и с традицией, и с той почвой, на которой она выросла и которая хранит ее;
5) насильственная смерть носителя верховной власти, или гибель его династии, или то и другое (верховная власть, которую делает абсолютной отказ от традиций, тот же отказ делает чрезвычайно уязвимой, лишает всяких опор, всякой защиты), в то же время отказ от традиционного понимания происхождения власти означает неизбежно отказ и от института наследования как такового – верховная власть не распространяется ни на кого, кроме ее непосредственного носителя. Его смерть означает конец всякой власти вообще.
Кончина Андрея Боголюбского – одна из самых поразительных картин смерти абсолютной власти. После убийства князя заговорщики опасались, что владимирцы попытаются расправиться с ними, но никто и не думал вступиться за великого князя всея Руси. Напротив, вслед за убийцами, которые начали расхищать княжескую казну, туда бросилось за своей долей остальное население Боголюбова. Были ограблены также строители церквей, приглашенные Андреем в город. Грабежи и убийства продолжались несколько дней по всей волости. Все это время князя не погребали. Единственный, кто остался верным покойному, был его слуга Кузьма. Когда он стал искать тело, ему сказали: «Вон лежит, выволочен в огород, да ты не смей брать его: все хотят выбросить его собакам, а если кто за него примется, тот наш враг, убьем и его». Наконец Кузьме удалось уговорить одного из убийц князя, ключника Анбала, дать ковер, чтобы завернуть тело. Когда он отнес князя к церкви и стал просить, чтобы его пустили, ему сказали: «Брось тут, в притворе, вот носится – нечего делать».
Время Андрея Боголюбского запомнили все. Верховная власть нашла в нем быстрые средства усиления, боярство увидело всю зыбкость своего нынешнего положения. Дальнейшая история России во многом основана на том опыте, который вынесли из правления Боголюбского обе эти власти.
История русского православия, русской церкви, русской религиозности, сознающей себя как единственную хранительницу истинной веры; до крайности доведенная нетерпимость и презрение к другим ответвлениям христианства в соединении с необразованностью русского священства, значительная часть которого до второй половины XVII века была неграмотна, приниженным положением духовенства, отсутствием богословия, почти полным незнанием мирянами Священного Писания (через весь XIX век проходит упорная, стоящая многим церковным иерархам карьеры борьба между сторонниками и противниками перевода Нового и Ветхого завета на русский язык (последние утверждали одновременно и то, что русский народ еще (!) через 1000 лет после принятия христианства не созрел для чтения Священного Писания, и особенную религиозность этого народа), Москва – Третий Рим и раскол, легкость уничтожения патриаршества Петром, легкость отказа от веры в 1917 году и возрождение мессианской идеи на рубеже XIX – XX вв. – вся эта странная русская религиозность не может быть понята без истории русской колонизации Северо-Восточной Руси. Эта колонизация создала тот фильтр, через который воспринималась и своя вера и чужая.
Кочевник любит степь, и кажется странным, что русские не любили леса – того мира, который их окружал, защищал, кормил, среди которого они и как народ, и как один человек появились на свет Божий. Уходя из открытых мягких лесостепных пространств Южной Руси, из частых и многолюдных сел на северо-восток, они расселялись там маленькими – один, два, редко три двоpa – деревнями среди бесконечных лесов, стеной окружающих их заимку.
Не встречая никакого сопротивления от издревле живущих здесь небольших угро-финских народов, легко смешиваясь и ассимилируя соседей, они увидели главную угрозу себе в языческих богах и в природе – их храме. Они жгли лес, как некогда христиане жгли языческие храмы. Лешие и русалки, водяные, кикиморы и упыри, уже ослабевшие, уже один раз на юге, на прежней родине переселенцев, поверженные, теперь снова пугали их и манили за собой в глубь вод и лесов. Поэтому сразу же, с первого пришельца многовековая, ведомая почти в полном одиночестве расчистка и распашка земель приобрела характер подвижничества, характер религиозного подвига. Язык запомнил это: в слове «крестьянин» слились два самых главных понятия – земледелец и крещеный человек. Вырубая и сжигая леса, осушая болота, русский боролся с язычеством (отсюда поразительный, чисто российский пафос преобразования природы, борьбы с ней, насилия над ней, проявившийся, может быть, наиболее ярко в петровских каналах, в Петербурге и в строительстве первых пятилеток советской истории, отсюда и легкость, с которой правительство в то время боролось со старой верой: основа народного представления о сущности христианского служения была сохранена). Потом, уже во времена Московской Руси, подвиг переселенцев будет подхвачен монахами-отшельниками и основанными ими знаменитыми монастырями еще дальше на севере до Белого моря, до Соловецких островов. Русское христианство и сформировано этим поразительным одиночеством на маленьких островках, затерянных среди бесконечных лесов. Оторванные от всех и вся, окруженные со всех сторон язычеством, а потом басурманством, они привыкли смотреть на себя как на единственных христиан, последних защитников и хранителей веры.
Вера русских христиан, огромная часть которых была почти полностью оторвана от нормальной религиозной жизни, не знала Священного Писания, не знала церкви (в редкие из маленьких деревень священники наезжали чаще, чем раз в год, оптом крестя, венчая и хороня), с одной стороны, приобрела характер совершенно прозаический – сам земледельческий труд рассматривался как религиозное служение (русская вера, понятая буквально, – притча о сеятеле), а с другой, та часть предания и ритуала, которую они запомнили и сохранили, утратив всякую связь с реальной жизнью Христа, всякое обоснование в ней, повисла в воздухе, стала иероглифом, паролем.
Когда Никон в XVII веке начал все более интенсивно искать на православном Востоке братьев по вере, все более тесно связывать русскую церковь с их церквами, исправляя русские богослужебные книги и русский ритуал по их книгам и образцам, протестующие против этого старообрядцы как раз исходили из того, что в пароле не может быть изменена ни одна буква, чтобы весь пароль не стал ложным. А на ложный пароль не отзовется никто, никто не откроет дверь. Уходя все дальше и дальше из обжитого центра страны на окраины, все дальше и дальше в леса, старообрядцы искали и нашли ту почву, на которой выросла их вера, нашли купель своей веры.
Русская историография знает фактически всего три концепции национальной истории: славянофильскую, государственно-юридическую и марксистскую. Если первая не вышла за рамки публицистики, а последняя, занимаясь преимущественно экономикой, не сумела самостоятельно объяснить ни одно крупное политическое событие, то у государственно-юридической школы множество достижений. Ее красота и лаконичность: (государство – основное творческое начало русской истории, ее движущая сила, государство не только само создало сословия, закрепостило их и заставило служить себе – каждое на свой лад (всеобщее закрепощение сословий), но оно создало и сам народ, собирая под свою власть отдельных лиц, блуждающих но просторам страны); ее близость к источникам, огромное множество объясненных на началах этой концепции исторических событий, возможность построить на ее базе общую, органически обусловленную историю России, признание этой концепции и разработка ее большинством самых талантливых русских историков, согласие с ней чуть ли не всех политических движений от монархистов до народников – все подтверждает ее истинность.
В жизни государственно-юридической школы есть, пожалуй, только один странный факт. Она не сумела объяснить события XVI – начала XVII веков (деятельность Избранной Рады, реформы середины 50-х годов XVI века, опричнину, закрепощение крестьян, Смуту), то есть как раз то время, когда завершался процесс складывания русского государства и русского народа, когда русское государство создавало и закрепощало сословия. Причина этого в самом генезисе историко-государственной школы.
Не вызывает сомнения тот факт, что она родилась при взгляде на титаническую фигуру Петра I, за три десятилетия перестроившего Россию. И творческое начало, и основная движущая сила, и всеобщее закрепощение сословий, и государство как высшая форма общежития людей, выразитель интересов всего народа – все эти тезисы выводимы из деятельности Петра. Признание связи петровских преобразований с предшествующей историей России задало историко-государственной школе ее главное направление. Дальше основные проблемы истории России решались путем простейших и внешне самоочевидных аналогий и противопоставлений: прогрессивное – реакционное, единое государство – уделы, государственное начало – антигосударственное начало, централизация – децентрализация, носитель первого – самодержавие, носитель второго – удельные князья, бояре и их потомки. Петр I был сопоставлен с Иваном Грозным, благо он и сам считал себя продолжателем дела Ивана (реформы 50-х годов XVI века и петровские реформы, Ливонская война и Северная война, внимание к иностранцам, методы борьбы с противниками, опричнина и расправа со стрельцами и с кругом царевича Алексея), и в конце XIX века В.О. Ключевский в одну фразу свел главное противоречие исторического развития России. «Самодержавие, – писал он, – которое сам ход исторического развития вел к демократическому полновластью, должно было действовать посредством очень аристократической администрации». Но еще задолго до Ключевского историки понимали, что опричнина – это и есть та самая попытка центральной власти справиться, сломить аристократическую администрацию, устранить заложенное в русской истории противоречие.
Как бы ни относились историки к самой опричнине – диапазон очень широк, от С.Ф. Платонова, который видел в ней правильную государственную реформу, до В.О. Ключевского и С.Б. Веселовского, считавших ее преждевременной, политически бесцельной, направленной в итоге не против порядка, а против лиц, террором, – наличие исходного противоречия признавали все. Но было ли вообще это противоречие?
С рубежа XIII – XIV веков начинается быстрое усиление Московского княжества. Принадлежа к младшей линии потомков Александра Невского, московские князья в 1318 году впервые получают в нарушение всех прав ярлык на Великое княжение Владимирское. К 1547 году, к моменту коронации Ивана Грозного, территория Великого княжества Московского увеличивается в несколько сот раз и включает все населенные северным славянством территории, за исключением земель, принадлежащих Великому княжеству Литовскому. Собирая русские земли, Москва стягивает к себе и бывшую власть этих земель – удельных князей и бояр, из которых и сложилось московское боярство, будущая аристократическая администрация.
История становления Московского государства знает несколько критических периодов, которые дают достаточно материала для понимания не только политики и интересов, но и той роли, которую сыграло московское боярство в возвышении Москвы. Эти периоды московской истории связаны или с малолетством князей (Дмитрий Иванович Донской, Василий II Васильевич, Иван IV Грозный), или с обстоятельствами, полностью лишившими московских князей власти (татарский плен Василия II Васильевича и его ослепление), то есть с тем временем, когда Московская Русь фактически управлялась одним боярством.
В 1355 году умер великий князь Иван Московский, старшему его сыну Дмитрию, будущему Донскому, было в то время только восемь лет. В Орде ярлык на великое княжение получил младший из суздальских князей Дмитрий Константинович. В течение двух лет московские бояре не только добились для малолетнего Дмитрия такого же ярлыка, но и организовали против Дмитрия Константиновича Суздальского в 1362 году военный поход, принудив его отказаться от великокняжеских прав. В 1363 году история повторилась: Дмитрий Суздальский снова получил ярлык и снова принужден был отказаться от него после прихода Московского войска. Умирая, в завещании Дмитрий Донской писал своим наследникам: «Бояр своих любите, честь им достойную воздавайте, против их службы, без воли их ничего не делайте», и дальше, обращаясь уже к боярам: «Вы знаете, каков мой обычай и нрав, я родился перед вами, при вас вырос, с вами царствовал: воевал вместе с вами на многие страны, противникам был страшен, поганых низложил с Божьей помощью и врагов покорил, великое княжение свое сильно укрепил, мир и тишину дал русской земле, отчину свою с вами сохранил, вам честь и любовь оказывал, под вами города держал и большие волости, детей ваших любил, никому зла не сделал, не отнял ничего силою, не досадил, не укорил, не ограбил, не обесчестил, но всех любил, в чести держал, веселился с вами, с вами и скорбел, и вы не назывались у меня боярами, но князьями земли моей».
Василий II Васильевич так же, как и его дед, вступил на великокняжеский престол малолетним. Когда умер его отец, великий князь Василий I, ему было всего десять лет, но и здесь московское боярство (Всеволожский) сумело оградить его права на великое княжение от притязаний дяди, сына Дмитрия Донского Юрия. Последний был не только старшим в роде, но и в завещании Дмитрия Донского указывался как наследник престола.
В 1431 году началась девятнадцатилетняя смута, во время которой Москва несколько раз попадала под власть того же Юрия и его сына Дмитрия Шемяки. Временное торжество противников Василия было связано с нарушением им московских традиций: в первом случае – отказом Василия от данного им обещания жениться на дочери старшего московского боярина Всеволожского и отъездом Всеволожского и его приближенных к Юрию; а сын Юрия Дмитрий Шемяка пришел к власти после того, как в 1446 году Василий II, потерпев страшное поражение от сыновей царевича Ула-Мухаммеда и попав к ним в плен, не только согласился на огромный выкуп в 200 000 рублей, но и привел в Москву немало татарских мурз, которых приблизил к себе в ущерб старым боярам. Ходили даже слухи, что Василий обещал отдать хану Мухаммеду Московское княжество, а сам готов был удовольствоваться Тверью.
Дмитрий Шемяка просидел в Москве менее года. Когда выяснилось, что его правление угрожает целостности и силе Московского государства (Шемяка отдал Ивану Андреевичу Можайскому, своему главному союзнику, богатое Суздальское княжество, уступки были сделаны и другим князьям), московское боярство подготовило переворот и, свергнув Шемяку, вернуло престол ослепленному Василию II. И торжество, и поражение Василия Темного равно продемонстрировали силу и влияние московского боярства, но, быть может, еше ярче эта сила проявилась в том, что в княжение Василия Темного, несмотря на все поражения и смуты, несмотря на малую способность ослепленного князя руководить делами страны, территориальные приращения его княжества во много раз превзошли все приобретения его предшественников.
Иван IV Васильевич, будущий Грозный, как и Василий Темный, получил великокняжеский престол малолетним – когда умер великий князь Василий III, ему было три года. Годы малолетства Ивана – годы кризиса московского государственного порядка, годы многочисленных насилий бояр, произвола, грабежей (о причинах этого мы будем говорить ниже), чрезвычайно ожесточенной борьбы различных боярских группировок за власть, однако во все время боярских смут и нестроений не заметно никаких сепаратистских движений, никаких попыток раздела и раздробления Московского государства. Более того, в борьбе за власть ни одна из боярских группировок не пытается использовать дядей малолетнего Ивана Юрия и Дмитрия как своих ставленников на Московский престол, напротив, кто бы ни находился у власти в Москве, первой его заботой становится ужесточение содержания заключенных в московских темницах дядей Ивана.
Первый итог: все три периода малолетства великих князей показали не только силу московских бояр, но и их приверженность Московскому княжескому дому и порядку наследования от отца к сыну по нисходящей линии, минуя братьев отца (иногда даже вопреки завещанию великого князя, как это было с завещанием Дмитрия Донского). В общем, политика московского боярства целиком базировалась на двух, во многом противоречащих друг другу интересах. С одной стороны, бояре стремились к усилению и расширению Московского княжества (собственное их благополучие зависело от успехов княжества) и, как следствие этого – к усилению власти и значения Московского князя (от удельного – к великому, от князя – к царю и наместнику Бога), а с другой, история правления еще Андрея Боголюбского, разрыв между ним и его боярами заставлял московское боярство искать средства к ограничению власти князей. Судьба Московского княжества дает возможность выявить целый ряд подобных институтов, ограничивающих власть и возможный произвол великих князей.
Первое: превращение изначально случайного и нетрадиционного наследования от отца к сыну в традиционное и обязательное (ограничение власти великого князя назначать себе преемника). Прямое наследование от отца к сыну было главной причиной уникальной для европейской истории XIV – XVI столетий преемственности и последовательности московской политики. Старшим сыновьям великих князей, жившим, в отличие от своих дядей, всегда в Москве и провозглашенным часто еще при жизни их отцов также великими князьями и соправителями, служили те же бояре или их дети. Основные семьи московского боярства Сабуровы, Кошкины, Вельяминовы, Морозовы служат великим князьям от начала Московского княжества до Ивана Грозного включительно, в каждом поколении занимая первенствующее положение.
Установившийся порядок, при котором одни и те же фамилии из поколения в поколение окружали московский престол, также ограничивал произвол великокняжеской власти в выборе советников и в назначениях на высшие административные посты. И С.М. Соловьев, и В.О. Ключевский, и другие историки государственной школы, над которыми довлел образ Петра I, много раз сетовали на серость Московской княжеской династии, на то, что одного великого князя подчас невозможно отличить от другого, сравнивали их с манекенами. Серость московских князей как раз и объясняется тем, что чрезвычайно успешная и последовательная политика боярства почти не оставляла московским князьям необходимости, да и возможности для проявления личной инициативы.
Дореволюционной историографией, описывающей русскую историю XIV – XV столетий, был создан один из самых точных терминов – «собирание власти». Присоединяя к себе все новые и новые земли и княжества, Москва не изгоняет их прежних властителей, а собирает их у себя, собирает земли и собирает власть. Отношение московских князей к потомкам великих князей других линий, к удельным и служилым князьям, когда те находились уже в полной их воле, было в целом очень мягким и, что особенно важно, строилось так же, как с боярами, на договорных началах: абсолютное большинство удельных князей перешло на московскую службу именно по договору. Иногда они сами, обеднев, искали московскую службу, как князья Ярославские и Белозерские, которые отдавали великому князю свои вотчины и тут же получали их назад в качестве служебного пожалования; вотчины других князей московские князья покупали по договору, оставляя пользование ими в руках прежних владельцев, обязанных теперь служить великому князю (князья Ростовские).
Высокое и прочное положение московского боярства, выгодность службы в Москве были важнейшей причиной того, почему многие бояре из других княжений переходили на сторону Москвы: и Нижегородское княжество, и Тверское, и Рязанское – главные соперники Москвы – оказались поверженными и присоединенными в результате измены старших бояр этих княжеств. Договорные начала, связывающие князя и его вассалов, не только обеспечивали их права, но также ограничивали власть князя.
Стремление бояр к одновременному усилению и ограничению власти великого князя можно было примирить только на пути придания княжеской власти строго определенного направления, строгой избирательности. Теория, объявляющая Москву «Третьим Римом», родоначальником которой был псковский монах Филофей, в наибольшей степени отвечала этим требованиям. Она не только была согласна с народным представлением о христианстве и о русском народе и Москве как последних его защитниках и потому чрезвычайно легко вошла в народное сознание (Забелин когда-то писал: «Народная жизнь не поддается механическим тискам, она отвергает все, что несвойственно ее природе. Путь, по которому она усваивает себе хорошее и дурное, есть путь физиологический, а не механический»), но и поднимая на не слыханную до сей поры высоту власть великого князя как единственного истинно христианского, истинно православного государя (посол германского императора Герберштейн писал, что великий князь Василий своей властью превосходит всех монархов на свете, и добавлял далее, что в Москве говорят: «Воля государева – Божья воля, государь – исполнитель воли Божьей»), она в то же время требовала от него решать все дела, действовать так, как действовал бы Господь Бог.
С правления Ивана III влияние боярства слабеет, с каждым поколением оно все менее способно сдерживать и ограничивать верховную власть, и, замещая его, все большую роль в ограничении произвола верховной власти начинают играть не люди, а институт – «чин» царского двора и основанное на нем представление о том, что «лепо» для царя, а что нет. Постепенно развиваясь, «чин» уже во времена Ивана Грозного охватывает все стороны жизни и быта царя и его семьи, до мельчайших подробностей регулируя и регламентируя их (молитвы, долгие церковные службы и долгие обеды, парадные выходы, тяжелые одежды, поездки по монастырям, представление послов). Соблюдение «чина» не только требовало от царя много физических усилий и времени, но и вводило в определенные рамки и саму царскую волю, и особенно характер ее проявления.
Опальный думный человек Василия III Берсень Беклемишев говорил приглашенному с Афона монаху Максиму Греку о времени Ивана III и своем: «Сам ты знаешь, да и мы слыхали от разумных людей, что которая земля перестанавливает свои обычаи, та земля недолго стоит, а здесь у нас старые обычаи нынешний великий князь переменил: так какого же добра и ждать от нас!» И далее: «Как пришли сюда греки, так земля наша и замешалась, а до тех пор земля наша русская в мире и тишине жила, как пришла сюда мать великого князя, великая княгиня Софья с вашими греками, так и пошли у нас нестроения великие, как и у вас в Царьграде при ваших царях».
Московское боярство именно с приездом в Москву Софьи Палеолог связывало начало своего конфликта с верховной властью. Во многом оно было право. Хотя почва для разрыва готовилась два столетия и он был неизбежен, она ускорила его. Отношения между боярством и великими князьями стали рваться именно с ее приездом. В правление Ивана III происходит драматическое увеличение силы, власти, влияния, народного престижа великокняжеской власти: территория государства расширяется в несколько раз; стоянием на Угре оканчивается двухсотсорокалетнее татаро-монгольское иго, войны с Литвой также чаще всего оканчиваются в пользу Москвы; после падения Константинополя, сделавшего Ивана III единственным независимым православным государем, а значит, и единственным истинно христианским монархом на свете, и особенно после брака Ивана III и Софьи Палеолог Москва начинает почитать себя наследницей Византийской империи.
Изменяется не только народное представление о власти великого князя, но и ее собственный взгляд на себя. Так же, как и народ, великий князь начинает видеть в себе наместника Бога. С этого времени верховная власть все больше тяготится традициями и ограничениями, среди которых она выросла и на которых была основана, и все настойчивее старается сбросить с себя их путы. Кажется даже, что она чувствует себя обманутой. В формуле «царь – наместник Бога», в которой боярство хочет видеть политическую программу царя, он видит лишь свою абсолютность и неподотчетность. Соотношение между влиянием бояр и влиянием великого князя меняется в правление Ивана III очень резко, и не только из-за усиления верховной власти – слабеет само боярство. Многочисленные фамилии потомков удельных князей, вливаясь в его состав при Иване III, размывают боярство, размывают цементирующие его в течение двух веков внутренние связи и традиции. Первый же серьезный конфликт между Иваном III и боярством не только заканчивается поражением последнего, но и – что гораздо важнее для его судеб – навсегда раскалывает знать на целый ряд враждующих партий и группировок.
От первого брака с Марьей Тверской у Ивана III был сын и наследник князь Иван, провозглашенный в 80-х годах великим князем и соправителем. В 1490 году он умирает. После него остается его сын, князь Дмитрий, внук Ивана III. В 1497 году традиционно настроенное боярство заставляет Ивана III провозгласить Дмитрия своим наследником, однако через год Иван III меняет свое решение, налагает на Дмитрия опалу и делает великим князем своего сына от Софьи Палеолог – Василия, будущего Василия III.
Начинаются первые боярские казни (казнен князь Ряполовский, пострижены два князя Патрикеевых, занимавшие первенствующее положение среди бояр Ивана). Отвечая псковичам на вопрос, почему он сделал своим соправителем вместо князя Дмитрия, своего сына князя Василия, Иван III говорит: «Разве я не волен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжество».
Значение этого ответа велико. Впервые в истории Московского княжества власть начинает видеть свой источник не в традициях, а в себе самой. Традиционный порядок наследования в княжеской семье, бывший основой всего комплекса отношений между князем и боярами, умирает. Легитимизм боярства, его преданность и князю, и его наследнику, ранее почитавшаяся высшим достоинством московских бояр, теперь вызывает конфликт и разрыв между ними и князем. Великий князь, раздробив единую верность ему и его наследнику на верность ему и верность его наследнику, противопоставив одну другой, раздробил и расколол боярство. Разделив понятие верности, Иван фактически уничтожил и ее и те отношения, в основе которых она лежала. При крайней нелюбви бояр к Софье и Василию III, большинство из них все же предпочло верность князю верности его законному наследнику.
В 1504 году после смерти Ивана III большинство польских и литовских наблюдателей ожидало движения бояр в пользу Дмитрия и свержения Василия III, однако этого не случилось, бояре и здесь сохранили верность умершему князю, хотя их отношение к Василию во все время его правления оставалось очень холодным. Дмитрий так и умер в заключении.
Значение Софьи Палеолог не столько в том, что она родила Ивану III наследника более знатного, чем Марья Тверская, «царского корня», наследника не только Ивана, но и византийских императоров, который и был поэтому предпочтен, – с точки зрения московских людей того времени знатность Василия не давала ему никаких дополнительных прав на московский престол. Главное значение Софьи в другом. Рожденная и выросшая вне московских обычаев и традиций, никак не связанная с ними, она сумела и своему мужу внушить новый взгляд на отношения, связывающие его и его подданных, сумела объяснить не единственность, а значит, и не обязательность этих отношений. Свежий взгляд на русскую жизнь, который принесла с собой Софья, как нельзя лучше соответствовал внутренним желаниям верховной власти, и в рамках этого взгляда права Василия на престол были бесспорны.
В княжение Василия III боярство продолжает быстро терять свое влияние, традиционные формы его участия в управлении государством все более становятся фикцией. Тот же Берсень Беклемишев говорил Максиму Греку, что «ныне государь наш, запершись сам третий у постели, всякие дела делает». Тем не менее боярские смуты периода малолетства Ивана Грозного коренятся отнюдь не в ненависти бояр к умершему Василию, а в том расколе в боярской среде, который начался при Иване III из-за вопроса о престолонаследии и продолжал углубляться при Василии III.
Разделение бояр на тех, с кем великий князь «сам третий» решал все дела, и тех, которые не были допущены в святая святых, их стремление попасть в число первых как раз и породили те партии и группировки, которые боролись за власть после смерти Василия III. Непостоянство княжеской милости делало бояр, мало разборчивыми в средствах временщиками. Насилуя и грабя в недолгую пору своей власти, они на свой лад, на своем уровне продолжали дело верховной власти, разрушающей традиционный порядок. Единственное, что, может быть, следует повторить, это то, что во время боярских смут, все группировки равно остаются преданными традиционному порядку наследования от отца к сыну и не пытаются использовать династический вопрос в своих целях.
Теперь, прежде чем мы перейдем к событиям царствования Ивана IV, быть может, стоит хотя бы вкратце заявить нашу позицию. Будучи в смягченном виде согласны с государственно-юридической школой в оценке роли государства в русской
истории, мы считаем, что сама такая оценка основана по большей части на недоразумении. В тех, в ком государственно-юридическая школа видела главных строителей государства, мы видим лишь его разрушителей. Ни одно царствование, ни одна личность не вызывала на Руси столько споров, сколько Иван Грозный, тем не менее некий общий взгляд на его эпоху есть. Состоит он в том, что (тут нам придется повторить цитату из В.О. Ключевского) «самодержавие, которое сам ход исторического развития вел к демократическому полновластию, должно было действовать посредством очень аристократической администрации», проще говоря, посредством потомков удельных и великих князей, для которых все лучшее было в прошлом (когда они были самостоятельны и независимы) и которые теперь отчаянно боролись с самодержавием, пытаясь повернуть ход истории назад.
На долю Ивана как раз и выпала неблагодарная задача разрешения этого коренного противоречия русской истории. Успех или неуспех Ивана IV в его борьбе, разумность или бессмысленность мер, которые он предпринимал, борясь против боярства (мнения тут, повторяю, были самые различные), суть дела не меняли, бороться все равно надо было. С этой точки зрения характер внутренних реформ 50-х годов XVI века, проведенных Избранной Радой, сомнений не вызывал: боярское правительство, большинство членов которого погибли до и во время опричнины (Курбский бежал), естественно, и политику должно было вести пробоярскую. Беда в одном – ничего пробоярского найти в этих реформах невозможно. Именно с реформами 50-х годов связано сначала ограничение, а потом и полная отмена кормлений (права воевод-кормленщиков собирать с населения управляемых ими территорий различные пошлины и оброки в свою пользу, кормленщиками всегда назначались представители верхов московской аристократии), которые были основой политической и экономической силы боярства.
Реформы 50-х годов – одна из немногих тем, на которую послереволюционная историография сумела взглянуть вернее, чем ее предшественники. Эти реформы были оценены ею как компромиссные или даже продворянские, тем не менее и после этого общий взгляд на правление Ивана Грозного остался тем же. В итоге получилось: боярское правительство Избранной Рады проводит антибоярскую и продворянскую политику, за что уничтожается Иваном Грозным, который тоже стремится проводить продворянскую политику. Однако реформы Избранной Рады нельзя назвать ни пробоярскими, ни продворянскими, центр их тяжести лежал совсем в иной плоскости. Их главная цель состояла не в регламентации деятельности того или иного сословия, а в ограничении верховной власти. Цель эта была прекрасно понята Иваном Грозным, но об этом ниже.
Деятельность Избранной Рады была лебединой песней боярства, построившего Московское государство. Эта «последнесть» Избранной Рады во всем: и в падении влияния боярства в предшествующие два царствования, и в узости ее, сходстве с теми ближними боярами, с которыми «сам третий» решал дела великий князь Василий III, и в роли, которую играли в ней временщики поп Сильвестр и Ал. Адашев, но, быть может, более всего – в нечастых личных качествах этих временщиков, чьи глубокая религиозность и честность оказали большое влияние на Ивана IV в первую половину его царствования.
Мы уже говорили о том, какое значение имел «чин» царского двора во времена Ивана III и Василия III. Новый этап в развитии «чина» начался при Иване IV. Он связан с деятельностью одного из виднейших членов Избранной Рады священника Благовещенского собора Сильвестра, воздействие которого на молодого Ивана IV было огромным. Отредактированный, а во многом, очевидно, и составленный Сильвестром «Домострой», посвященный формально его сыну Анфиму, на самом деле был предназначен Ивану IV. Начиная с «Домостроя», «чин» царского двора, ранее регламентирующий по большей части внешнюю сторону жизни монарха, проникает все глубже в личную жизнь царя и его семьи.
«Домострой» Сильвестра открывается разговором о том, как должно относиться к своему исповеднику: «Како чтити детем отца духовного и повиноваться ему во всем». Имея в виду Ивана, Сильвестр писал, что сын должен призывать отца духовного «к себе в дом часто», советоваться с ним и «о житии полезном», и о том, «како учити и любити мужу жену свою»; Сильвестр учил, что духовнику надо покоряться во всем, и, если духовник станет «печаловаться» (просить) о ком-нибудь, сын должен его послушаться.
«Домострой» предписывал Ивану не только как надо решать житейские дела, но и как каяться, как ходить в церковь, ездить на богомолье. Появившиеся много позже письма Грозного к Курбскому полны жалоб Ивана на Сильвестра, которому Иван, как учило Священное Писание, покорился без всяких рассуждений, но который был с ним так строг, что при нем Ивану ни в чем не давали воли: как обуваться, как спать – все было по «желанию наставников. Я же был как младенец». Курбский, правда, несколько по-иному пишет о том, что требовал Сильвестр от Ивана: «Блаженный Сильвестр, – говорит он, – порицал тебя и осуждал за непотребные дела и коварный нрав».
После удаления Сильвестра царский двор сразу же изменился. На смену прежнему благочестию пришло дикое пьянство и разврат.
Достигнутое личным влиянием митрополита Макария, Сильвестра, Алексея Адашева ограничение произвола верховной власти Избранная Рада сразу же попыталась закрепить и расширить с помощью широкой программы внутренних реформ. Впервые в России была предпринята попытка ограничить традиционный произвол на всех уровнях всеобъемлющей законодательной системой: был создан новый Судебник; проведены реформы податного обложения, составлено новое уложение о службе, по которому каждый помещик или вотчинник равно должен был выставлять одного конного воина с каждых 150 десятин земли; на протяжении 50-х годов постепенно происходит отмена кормлений, с которыми были связаны многочисленные злоупотребления в годы малолетства Ивана IV, причем в характере этой реформы ясно видно стремление Избранной Рады к разделению властей, к расширению слоя лиц, принимающих участие в управлении государством, и к введению впервые в русской истории выборного начала.
Ранее почти неограниченная, власть наместников и волостителей теперь, с одной стороны, подвергается все более жесткому надзору центральных бюрократических учреждений – приказов, а с другой, некоторые важнейшие функции прежних наместников передаются в руки местных выборных властей: в центре страны в ведение губных старост, которые выбирались по уездам из провинциальных детей боярских, были переданы судебные дела (душегубство и разбой), а земским «излюбленным головам» (в основном на Севере), выбираемым из посадского населения и черносошных крестьян, передавались и судебные дела, и сбор податей.
Косвенное ограничение верховной власти и ограничение вообще всякого произвола, идущие сразу по многим каналам («чин» царского двора, дополненный «Домостроем», местничество, регулирующее назначения на важнейшие посты в государстве, возрастание роли приказов и дьяков, руководивших ими, создание развитого законодательства, первые элементы разделения и выборности властей: позднее, во времена опричнины, под ее удар по очереди попадут все, кто был так или иначе связан с попытками ограничения верховной власти – от бояр и княжат до дьяков, земских дворян и церковных иерархов), привели к быстрому усилению Русского государства. В 1552 – 1556 годах Россия добилась крупнейших в своей истории внешнеполитических успехов: были завоеваны Казанское и Астраханское ханства, наследники Золотой Орды. Начавшаяся в 1558 году Ливонская война также принесла России быстрый успех – в течение первого года военных действий была завоевана половина Ливонии.
Эти успехи вместе с успехами предшествующих правлений Василия Темного, Ивана III, Василия III, небывалый рост территории и могущества Русского государства, которые великокняжеская власть, поддерживаемая народом, считает своим личным достижением, в течение одного десятилетия разрушили уже подорванное со времен Ивана III и Софьи равновесие между верховной властью и силами, ее сдерживающими. Впервые с Андрея Боголюбского верховная власть получает народный мандат на полную независимость, тот мандат, который позже народ подтвердил Ивану IV после его лжеотречения и отъезда в Александровскую слободу.
Мы уже говорили, что Иван Грозный хорошо понимал направленность политики Избранной Рады и проводимых ею реформ – ни его деятельность, ни переписка с Курбским не оставляют в этом никаких сомнений. Грозный обвинял Избранную Раду не в том, что она проводит пробоярскую политику, а в том, что она стремилась стать и над боярами, и над царем, «снять с него власть». Он писал: «Так же и поп Сильвестр сдружился с Алексеем, и начали они советоваться тайком от нас, считая нас неразумными: вместо духовных стали обсуждать мирские дела, мало-помалу стали подчинять вас, бояр, своей воле, из-под нашей же власти вас выводя, приучали вас прекословить нам и в чести вас почти что равняли с нами, а мелких детей боярских по чести вам уподобляли». (Иван Грозный выступает не против самой политики Избранной Рады, возвышающей мелкое дворянство или возвращающей старые вотчины боярам, он выступает против нее самой, против узурпации, как он считает, ею прерогатив верховной власти. Он даже стремится противопоставить боярство Избранной Раде, равняющей его, боярство, с детьми боярскими).
Далее Иван продолжает: «Затем… они лишили нас прародителями данной власти и права распределять честь и места между вами, боярами, и взяли это дело в свое ведение и усмотрение, как им заблагорассудится и будет угодно, потом же окружили себя друзьями и всю власть вершили по своей воле, не спрашивая нас ни о чем, словно нас не существовало… потом вошло в обычай: если я попробую возразить хоть самому последнему из его советников, меня обвинят в нечестии… а если кто раздражит нас или принесет какое-либо огорчение, тому богатство, слава и честь, а если не соглашусь, пагуба душе и разорение царству».
В 1560 году после отстранения от власти правительства Избранной Рады, после падения Алексея Адашева и Сильвестра Грозный начинает создавать политическую систему, дословно повторяющую систему Андрея Боголюбского. Для нее характерны:
1. Новое представление верховной власти о себе самой и соответственно новое отношение к другим традиционным властям (Грозный писал Курбскому: «Эта ли совесть прокаженная – свое царство в своей руке держать, а подданным своим владеть не давать? Это ли противно разуму – не хотеть быть обладаему подвластным, это ли православие светлое – быть обладаему рабами?» (бояре – рабы). И далее: «Самодержавства нашего начало от святого Владимира; мы родились и выросли на царстве, своим обладаем, а не чужое похитили, русские самодержцы изначала сами владеют своими царствами, а не бояре и вельможи». («Иван, – пишет В.О. Ключевский, комментируя эту цитату, – был первый, кто высказал на Руси такой взгляд на самодержавие: Древняя Русь не знала такого взгляда, не соединяла с идеей самодержавия внутренних и политических отношений, считая самодержцем только властителя, независимого от внешней силы».) И снова: «Земля правится Божиим милосердием и родителей наших благословением, а потом нами, своими государями, а не судьями и воеводами, не ипатами и стратигами». И наконец: «Истина и свет для народа в познании Бога и от Бога данного государя». Отношение к другим властям: «До сих пор русские владетели не давали отчета никому, вольны были подвластных своих жаловать и казнить, не судились с ними и ни перед кем», и как итог: «Жаловать своих холопий мы вольны и казнить их также вольны».
Для абсолютной власти характерны демократические уравнительные тенденции, в основе которых тот же взгляд – все рабы.
2. Верховная власть видит в себе самой источник всякой власти вообще: история опричнины, опричного двора, опричной думы – это история худородных лиц, семей, целых родов, которые возвысились вопреки традиционным представлениям о синклите царском, вопреки представлениям о том, кто может и должен занимать высшие посты в государстве. Воля Грозного подняла их «из грязи в князи». В опричнину попадали только те дворяне, которые могли доказать отсутствие всяких связей с прежней администрацией: каждый будущий опричник придирчиво допрашивался о его происхождении и родословной его жены, о дружеских связях. Так же, как Андрей Боголюбский, Иван охотно приближал к себе иностранцев, менее всего связанных с традициями страны.
3. Разделение государства на две части, в одной из которых источником всякой власти является она сама, а в другой традиция. Причем власть, основанная на себе самой, и здесь стремится к территориальной экспансии, к своему распространению на всю территорию государства и к уничтожению традиций, на которых она основана и которые ограничивают ее. При Андрее Боголюбском такое разделение было естественным (Владимиро-Суздальское княжество и Киевский стол). Грозному, чтобы уничтожить традиционный порядок власти, пришлось искусственно разделить свое государство на опричнину и земщину и, опираясь на опричнину, повести завоевание земщины.
4. Основание новой столицы или постоянной резиденции: при Андрее – Владимир и Боголюбово, при Иване – Вологда и в основном Александровская слобода. Тот же разрыв с традицией, с той почвой, на которой она выросла и которая хранит ее.
5. Насильственная смерть носителя верховной власти, или гибель его династии, или то и другое. Повторим то, что уже писалось: верховная власть, которую отказ от традиции делает абсолютной и независимой, тот же отказ делает чрезвычайно уязвимой, лишает всяких опор, всякой защиты. В то же время отказ от традиции, отказ от традиционного понимания происхождения власти означает неизбежно подрыв традиции наследования власти (верховная власть не распространяется ни на кого, кроме ее непосредственного носителя). Конфликт между Иваном IV и боярством, начавшийся, согласно официальной версии, 12 марта 1553 года из-за отказа думцев во время болезни Ивана присягнуть его только что родившемуся сыну Дмитрию: «Мятеж велик и шум и речи многия о всех боярах, а не хотят пеленочнику служити». (В русской историографии уже было высказано мнение о недостоверности этого рассказа. Летописец не называет ни одного боярина, действительно отказавшегося присягнуть Дмитрию. Иван Шуйский лишь хотел целовать крест в присутствии царя, а Федор Адашев говорил, что целует крест наследнику, а не Даниле Захарьину с братьями.)
Однако восемнадцатью годами позже уже сам Иван Грозный в присутствии бояр, духовенства и иноземных послов заявляет, что он намерен лишить своего сына Ивана трона и передать престол датскому принцу Магнусу, а потом, чтобы преградить Ивану путь к престолу, сажает на великое княжение Симиона Бекбулатовича и, когда бояре-легитимисты заявляют ему: «Не подобает, государь, тебе мимо своих чад иноплеменника на государство поставляти», казнит их. Развязка наступает поздней осенью 1581 года. Иван IV сначала избивает беременную жену своего сына Елену Шереметьеву (после побоев у нее происходит выкидыш), а потом и сына, который через пять дней умирает. После смерти слабоумного царя Федора в 1598 году династия Калиты пресекается. Остается добавить, что, по мнению многих современников, и сам Грозный был отравлен ближайшими приближенными Богданом Бельским и Борисом Годуновым (как и Андрей Боголюбский).
Неудачи русской историографии в объяснении опричнины вызваны чрезвычайно прямолинейным, лобовым ее рассмотрением, в результате все концепции опричнины не только противоречат современным ей источникам, но и не могут объяснить важнейшие политические события опричной поры – само ее учреждение (1564), отмену (1572), деятельность опричников и Новгородский погром 1570 года, второе издание опричнины и воцарение Симиона Бекбулатовича – они или считаются необъяснимыми из-за недостатка источников, или (Новгородский погром и грабежи опричников) трактуются как печальные эксцессы, происходившие вопреки воле Ивана IV.
Когда С.Ф. Платонов в своей работе о Смутном времени и в лекционном курсе отказывался сводить назначение опричнины к обеспечению личной безопасности царя, не доверявшего старому государеву двору, он был прав так же, как был прав и С.Б. Веселовский, считавший, что территориальный состав опричнины противоречит мнению С.Ф. Платонова о том, что опричнина была «государственной реформой, направленной на слом княженецкого землевладения вообще на всем его протяжении», и что характеристика Платоновым бывших удельных князей как «могущественных феодалов, сохранивших некоторые права полунезависимых владетельных государей», запоздала лет на сто.
Потомки удельных князей и бояр, начавших служить московским князьям много поколений назад по договору и присоединивших свои княжества и земли к Московскому государству, и в середине XVI века продолжали считать себя соправителями царя, такой же исконно русской властью, как и царская. Многочисленные опалы и казни знати в царствование Ивана Грозного и его предшественников мало меняли это положение. Защищенная местничеством от проникновения в свою среду лиц из других сословий знать успешно восполняла все потери: места казненных занимали их дети и родственники.
Добиваясь реализации своих представлений о сущности царской власти («Русские самодержцы изначала владеют всем царством, а не бояре и вельможи»; «Жаловать своих холопей мы вольны и казнить их так же вольны»), Иван IV старался вынудить княжат отказаться от их собственного, давно укорененного представления о происхождении, характере и структуре государственной власти; превратить бояр и титулованную знать в обыкновенных подданных, холопов великого государя можно было, лишь уничтожив их прошлое – именно в этом был главный смысл опричнины. Рабы – люди без корней, без связей, без родины; перебор людишек, переселения, высылка в Казань означали именно такой разрыв с прошлым. Однако опричнина не довольствовалась внешним отрывом знати от ее корней. Ее основная цель состояла в изменении или полной реконструкции прошлого. Известно, что Иван Грозный неоднократно приказывал переписывать официальные летописи страны, вымарывая из них имена тех, кто подвергся опале и был казнен, или, наоборот, задним числом внося туда обвинения против опальных.
Чтобы раз и навсегда уничтожить представления знати о характере ее власти, необходимо было искоренить основу этих представлений – ее договорный характер. Пытаясь избавиться от прошлого, Иван IV в карикатурном виде восстанавливает положение, существовавшее при первых князьях Московской династии: снова делит Русское государство на Московское княжество, абсолютным владыкой которого является он сам, и остальную часть страны, управляемую Боярской думой – потомками князей, в прошлом владевших другими русскими княжествами, причем теперь их земли присоединяются к Московскому княжеству не по договору, а завоевываются, берутся на щит. Население захваченных земель от холопа до князя становится как бы пленниками – рабами великого князя.
Источники не оставляют никакого сомнения в том, что набеги опричников и Новгородский погром были настоящими военными походами, а не случайными эксцессами. Не различая первое издание опричнины и время правления Симиона Бекбулатовича, летописец пишет: «За умножение грехом всего православного христианства, Царь Иван Васильевич сопротивник обретеся и наполнися гнева и ярости, нача подвластных своих сущих раб зле и немилостиво гонити и кровь пролити и царство свое, порученное ему от Бога, разделили на две части: часть едину себе отдели, другую же часть царю Симиону Казанскому поручи сам же отоиде от единых малых градов старицу зовому и тамо жительствуя. Прозва свою часть опришники, а другую часть у царя Симиона именова земщина и заповеда своей части оную часть насиловати и смерти предавати и дома их грабити и воевод, данных ему от Бога, без вины убивати повеле, не усрамися же и святительского чина, оных убивая, оных заточению предавая и грады красивейшие Новгород и Псков разрушати даже и до сущих младенцев повеле».
Право, существовавшее во времена опричнины в России, также было правом завоевателей и завоеванных. Штаден сообщает, что после учреждения опричнины «великий князь послал в земщину приказ: «Судите праведно, наши (т. е. опричные) виноваты не были бы». Тот же Штаден говорит, что опричники часто получали долю в добыче, а иногда и разрешение брать у населения все, что им угодно. Опричник, живший рядом с земским, мог, не опасаясь наказания, отнять у него землю и имущество. Иногда насилия опричников вызывали восстания, как и во время войны происходили целые сражения. Штаден пишет, что после Новгородского похода он получил известие, «что в одном месте земские побили отряд в 500 стрельцов-опричников».
Провозглашение Симиона Бекбулатовича великим князем всея Руси, возможно, в какой-то степени и связано с притязаниями Ивана Грозного на польский престол и с его разногласиями с сыном Иваном, но истинный смысл вокняжения Симиона невозможно понять без той склонности Ивана IV к грубой гротескной театральности, которая была так характерна для него (черные одеяния и вороные кони опричников, символизирующие верность собачьи головы и метлы, притороченные к седлу опричников, выметающих из его государства крамолу, кощунственная пародия на монастырь, возникавшая в Александровской слободе, когда опричники возвращались из своих походов; царь – игумен, звонивший рано утром с пономарем Малютой Скуратовым в колокола, епитимьи, накладываемые на опричников, опоздавших к началу молебна, служба, во время которой Иван и другие опричники молились и пели в церковном хоре).
Воцарение Симиона Бекбулатовича имело двоякое значение: с одной стороны, во время военных неудач России (недавнее сожжение Девлет-Гиреем Москвы, напомнившее старые татарские набеги; захлебнувшееся наступление в Ливонии) Иван Грозный хотел вернуть, «сыграть» свое блестящее прошлое, тот период русской истории, который предшествовал самому большому торжеству его жизни, а потом и само это торжество. Посадив на великокняжеский престол казанского царя Симиона Бекбулатовича и посылая ему челобитные, подписанные уничижительной подписью «Иванец Московский», Иван Грозный повторял отношения, существовавшие во времена татаро-монгольского ига, а сводя Симиона в 1576 году с царства, он, как его дед, освобождал Россию от татар и, как в молодости он сам, завоевывал Казанское царство.
Поставив земским царем татарина, Иван Грозный на том же театральном языке говорил народу и Боярской думе, что считает бояр татарами – вековечными смертельными врагами Руси и, как недавно он, Грозный, расправился с Казанским царством, так же расправится и с ними. Интересно, что и большинство титулованной знати во время опричнины Иван, предвосхищая идею воцарения Симиона, сослал в Казанский край.
Следующий – XVII век русской истории до Петра I – время осторожных переговоров и компромиссов (многочисленные Земские соборы, Судебник 1649 года, русско-польско-шведские переговоры), время мягкости и терпимости (новое отношение к иностранцам, нрав самого Алексея Михайловича, письмо, в котором царь утешает Ордина-Нащокина после бегства его сына Воина за границу, и стиль жизни его двора), наконец, время относительной законности (дело об отрешении Никона от патриаршества длилось шесть лет с соблюдением всех мельчайших формальностей). Таким, каким он стал, XVII век целиком обязан своему началу – Смутному времени, тому опыту, который вынесла Россия из Смуты. В XVII веке Россию населяли дети Смутного времени.
В начале XVII столетия старый государственный порядок, подорванный правлением Ивана Грозного, опричниной, Ливонской войной и в царствование Бориса Годунова страшным голодом 1601 – 1603 гг., окончательно разрушается двумя движениями самозванцев – Лжедмитрия I и Лжедмитрия II – и тесно связанным с ними восстанием Болотникова. Когда прежний государственный аппарат исчезает, на поверхности неизбежно появляются те остатки традиционных властей, которые лежали в его основании, а потом были придавлены, а частично и уничтожены им. Подобная реабилитация происходит и в Смутное время, однако в искаженном и ущербном виде (политика Грозного, направленная на разрушение и уничтожение всех традиционных властей и институтов, как показало это время, была успешной).
Опричнина подавила, а главное, раздробила и разделила на враждебные лагеря два самых сильных сословия России – боярство и дворянство (опричное и земское). В Смутное время ни одно из них не сумело стать самостоятельным источником власти (боярство – за исключением краткого периода избрания Василия Шуйского на царство, старая вражда между боярскими родами возобновилась уже через несколько месяцев после воцарения Шуйского), и они всегда вынуждены были примыкать к другим, внешним, возникшим вне их среды вождям и предводителям. Вместо и на место разрушенного государственного порядка Смутное время породило целое созвездие разнообразных центров власти, вокруг которых образовывались самые причудливые конгломераты из социальных групп, партий и отдельных людей.
Начало XVII века знает два типа таких сгустков силы и влияния – сословные и внесословные. Первые сумели образовать только те сословия, которые не пострадали в опричнину, – черносошное посадское и крестьянское население Севера, взятое Иваном Грозным в опричнину, но сохранившее и там свою внутреннюю автономность и свою собственную организацию, и казачество – недавно возникшее сословие, пожалуй, даже укрепленное опричниной (его пополнили огромные массы крестьян и посадских людей, бежавших из центра страны во второй половине XVI – начале XVII века) и имевшее свою организацию – казачий круг. Совместно они потом и выдвинули нового царя. Летописец сообщает, что дело об избрании Михаила Романова на царство решилось, когда его одновременно назвали – компромисс между прежними врагами – казак и дворянин из северного города Галича.
Другие центры власти – Лжедмитрий I и Лжедмитрий II – своей структурой формально повторяли прежний государственный порядок и были всесословными, однако для возникновения их было необходимо, во всяком случае на первом этапе, участие иностранцев, которые, естественно, так же, как казачество и население Севера, не были затронуты опричниной. Возникновение и гибель на протяжении очень короткого периода – восемь лет с 1605 по 1612 год – многих таких центров власти (только общегосударственных около десятка (Б. Годунов, Лжедмитрий I, В. Шуйский, И. Болотников, Лжедмитрий II, Владислав и поляки, Сигизмунд и поляки, I ополчение, II ополчение) и несчетное число мелких – одних самозванцев Смутное время насчитывает около восьмидесяти, самые известные из которых, кроме названных, царевич Петр и псковский Сидорка. Самостоятельными центрами были военные формирования: шведские, польские (Рожинский, Лисовский, Сапега), русские (Ляпунов, Заруцкий, Трубецкой), причем каждый из них стремился к экспансии, к распространению своей власти на территорию всего государства) оказали сильнейшее влияние на этику того времени.
В частности, в Смутное время исчезает само понятие предательства и измены, исчезает потому, что для него нет или почти нет точки отсчета. Измена чему? Это «что» во все Смутное время не только зыбко, аморфно и недолговечно (а значит, и предательство его, с точки зрения людей той эпохи, столь же недолговечно), но и само по себе является предательством прежнего дела, место которого оно пытается занять.
Большинство крупнейших политических деятелей Смутного времени много раз переходили из лагеря в лагерь. Биография самого яркого из них, Прокопия Ляпунова, удивительна. В царствование Бориса Годунова он подвергся опале за незаконные связи с казаками, участник движения Лжедмитрия I и свержения Годуновых, активный участник восстания Болотникова, он во время битвы под Коломенским перешел на сторону Шуйского, что и предопределило поражение Болотникова, пытался свергнуть Шуйского и посадить на престол его племянника М.В. Скопина-Шуйского, после смерти Скопина и поражения под Клушиным войск Дмитрия Шуйского организовал свержение и пострижение Василия Шуйского, чтобы в союзе с русскими тушинцами посадить на русский престол сына Сигизмунда – польского королевича Владислава; после того как выяснилось, что Сигизмунд хочет сам занять русский трон, организовал первое земское ополчение, во время осады которым Москвы и был убит своими союзниками – казаками, заманившими его в «круг».
Биография многих влиятельных лиц Смутного времени сведена в слово «перелеты». Когда Лжедмитрий II, не сумев взять Москвы, обосновался в Тушине, здесь же, в Тушине, появился и второй «государев двор» (первый двор – царя Василия Шуйского). Так же, как и в Москве, здесь была своя Боярская дума и так же раздавались чины и поместья, благо отряды Лжедмитрия II контролировали добрую половину страны. Уже через несколько недель после начала осады в Тушино стали прибывать перебежчики из Москвы («перелеты»), многие – из самых знатных русских фамилий. В Тушине они легко получали думские чины, обширные поместья, но оставались здесь надолго редко – при удобном случае они снова убегали в Москву, где Шуйский, так же отчаянно нуждавшийся в людях, как и Лжедмитрий, с радостью принимал их обратно, в свою очередь награждая измену.
В течение полутора лет осады ворота Москвы почти постоянно были открыты и для бегущих, и для возвращающихся, и в конце концов, все главные боярские группировки разделились между Тушиным и Москвой. Значение этих «перелетов» для окончания кризиса и восстановления государственного порядка очень велико: с одной стороны, беспрерывные измены, а с другой – родственные связи между ушедшей и оставшейся знатью смягчили антагонизм, господствовавший в стране со времен Ивана Грозного, и тем самым укрепили положение всего боярства. Кто бы ни победил в междуусобной борьбе, Шуйский или Лжедмитрий II, каждый боярский клан знал, что в стане победителей он найдет защитников и доброхотов. В результате путь к восстановлению традиционного порядка оказался открыт.
Некоторые параллели между правлениями Ивана Грозного и Петра Великого. Оба, и Иван и Петр, родились от второго брака (Е. Глинская и Н. Нарышкина); отцы обоих процарствовали около тридцати лет, значительно укрепив страну и расширив ее пределы, и умерли – у Ивана, когда ему было три года, у Петра – когда ему исполнилось четыре; оба были посажены на трон в детстве, оба в начале своей жизни познали страх, полное бессилие и унижение; во все время их малолетства шла ожесточенная борьба между различными группировками знати, и эта борьба не раз угрожала их безопасности (Воронцов и Шуйский, первый Сытрелецкий мятеж), а их власть долго была лишь церемониальной; в начале их самостоятельного правления произошли мощные восстания (Московский бунт 1547 года, вызванный огромным пожаром, и Стрелецкий мятеж 1689 года), которые заставили их спасаться бегством и чуть не погубили.
Все эти события наложились на традиционное московское представление о верховной власти, почти полностью изменив его. Власть утратила преемственность и последовательность, нормальный московский порядок наследования от отца к сыну был прерван у Ивана – правлением Елены Глинской и различных боярских группировок, у Петра – правлением его старшего брата Федора, соправителя Ивана, царевны Софьи. Дистанцию от беглеца, спасающего свою жизнь, до всесильного, никем и ничем не ограниченного владыки, эти цари прошли чересчур быстро, власть их была мгновенна. Это был не путь, а разрыв с прошлым, его отрицание. У их власти не было самого главного – воспитания. Волею судеб они стали нуворишами и самозванцами и такими же нуворишами и самозванцами стремились окружить себя. Внешним отражением этого были народные легенды о самозванстве Петра (царица родила Алексею Михайловичу девочку, которую подменили «немчонком», и другая: говорили, что нынешний государь «немчин», а настоящий царь «в немцех» был посажен в бочку и пущен в море).
Для политической системы, созданной Петром, характерны те же признаки, что и для правления Ивана Грозного, повторим, что Петр живо интересовался Иваном и считал себя продолжателем его дела.
1. Новое представление верховной власти о себе самой и борьба со старым, традиционным представлением о верховной власти, со всем, что ее ограничивает; расширение функций верховной власти, Указ о единонаследии – подчинение семейного и частного права интересам государства; табель о рангах – уничтожение традиционных основ власти (по праву рождения) высших сановников Московского государства и замена их бюрократическими; ликвидация независимости церкви и полное подавление ее светской властью; широкая регламентация верховной властью частной жизни (увеселения и развлечения, фасоны одежды, внешний вид и т. д.). Принятие нового титула – император.
Причины преобразований. П. Милюковым первым была выяснена полная бессистемность, бесплановость, неподготовленность петровских реформ. Корень этих реформ, корень всей преобразовательной деятельности Петра Милюков видел в Северной войне и в непосредственных нуждах военного времени. Этот взгляд нуждается в корректировке. Известно, что интенсивная законодательная деятельность Петра началась только после Полтавской битвы, после 1709 года. Известно и то, что к этому времени Россия уже была далеко не той, какой в начале петровского царствования. Бесспорно, что война оказала огромное влияние на ход и характер преобразований, однако исток этих преобразований в другом.
Мы уже говорили, что, начиная с Ивана III, «чин» царского двора играет все большую роль в ограничении произвола верховной власти. При отце Петра Алексее Михайловиче влияние и «чина» и церкви (патриарх Никон) достигает своего апогея. Переплетение «чина», церкви и традиций, где каждая составляющая видит свое обоснование и свою защиту в двух других, до Петра никогда не выступает против самой верховной власти. Задача «чина» и церкви как раз и состоит в укреплении власти, враждебны они лишь произволу – именно в этом причина их конфликта и с Иваном Грозным, и с Петром.
Пьяные оргии кощунственного монастыря из монахов-опричников в Александровской слободе, такие же оргии, устраиваемые Иваном после изгнания Сильвестра в Кремле, во время которых он, издеваясь над боярами, заставлял их напиваться до бесчувственности, делал скотами, напоминали торжественные дни в Летнем саду уже при Петре: в дубовой роще на садовых скамьях собиралось все высшее общество, царь беседовал с гостями, угощая их. В разгар праздника появлялись гвардейцы, неся ушат сивухи, часовые получали приказ никого не выпускать из сада, а майоры гвардии потчевали всех за здоровье царя. Современники писали, что те, кому удавалось ускользнуть, почитали себя счастливцами.
Прямым наследником пародийного опричного монастыря Ивана IV была петровская «коллегия пьянства» (знамение времени: идеи и действия Ивана Грозного Петр I законодательно и юридически оформляет, делает их как бы постоянными институтами: вместо убийства сына (Грозный) – суд над сыном и смертный приговор ему), или, как «коллегия» еще называлась, «сумасброднейший, всешутейший, всепьянейший собор». Возглавлял его «набольшой» шут с титулом князь-папы и всешумнейшего и всешутейшего патриарха Московского, Кокуйского и всея Яузы. При папе был конклав из двенадцати кардиналов и огромное количество других духовных чинов (все они имели матерные прозвища). Петр сам сочинил для этого собора до мельчайших подробностей разработанный устав (избрание и поставление папы, рукоположение других чинов). В этой церкви были и свои облачения, и молитвословия, и песнопения, были и свои игуменьи. Прозелитов по аналогии с древним «веруеши ли» спрашивали «пиеши ли».
На святках весь собор во главе с патриархом ездил с ночи до утра, славя Бахуса. Хозяева домов, удостоенных посещением патриарха, угощали и платили за славление. В начале Великого поста нередко собор устраивал покаянную процессию: ехали на ослах и волах, в сани запрягали свиней, медведей и козлов. Это была не только игра: оба они, и Иван, и Петр, хотели дискредитировать «чин» и церковь не вовне, не в народе, а в первую очередь внутри себя самих.
Петр был первым русским царем, который увидел в сильной церкви и «чине» своих главных врагов. В 1682 году кровавый Стрелецкий мятеж, во время которого стрельцы подхватили на копья Матвеева и других сторонников Петра, выгнал десятилетнего царя из Кремлевского дворца, прервал его связь с той обстановкой, в какой издревле воспитывались русские цари. С тех пор освященный традициями кремлевский быт, все и вся, что с ним было связано (Софья, Милославские, духовенство, боярство, стрельцы, раскольники, дьяки, певчие, приживалки, этикет и сам Кремлевский дворец), навсегда остались для Петра источником самых страшных и ненавистных воспоминаний. Эта ненависть к старине и была корнем петровских преобразований.
Законодательные меры, направленные против устоявшихся на Руси нравов и обычаев и против их главной опоры – церкви, начинаются очень рано, почти сразу же после вступления Петра на престол и отличаются удивительной жесткостью, последовательностью и мелочностью. Практически все эти меры исходят непосредственно от Петра и пользуются его исключительным вниманием. Петр уничтожает патриаршество, ставит церковь через синод под полный контроль государства. Обложенная тяжелыми налогами, она фактически утрачивает право распоряжаться своими земельными владениями. Абсолютная власть вообще склонна к теократии. В народе уничтожение патриаршества при Петре рассматривалось как объявление Петром себя главой русской церкви. Позднее Павел I был первым русским царем, который произнес формулу: «русский государь – глава церкви».
С уничтожением патриаршества цель русской истории – сохранение и распространение истинной веры – была и формально подмята средством – русским государством. Гонения на церковь были облегчены Петру тем огромным местом, какое, как уже говорилось выше, занимал в русском православии мотив насилия, изменения, преобразования природы. Петр, рубивший лес, строивший каналы и города на болоте, повторил подвижническое служение крестьян-христиан, много веков назад бежавших на северо-восток из Среднего Поднепровья.
Регламентация частной жизни. В 1698 году, вернувшись из-за границы в Москву, Петр велел всем стричь бороды, укоротить длинные полы однорядок и ферезей, носить парики. В 1700 году был оглашен указ: не позже чем к масленице всем надеть венгерский кафтан. В 1702 году новый указ: мужчинам носить верхнее платье саксонское или французское, исподнее, камзолы, штаны, башмаки и шапки только немецкие, женщинам – шапки, башмаки, юбки тоже немецкие. У городских ворот стояли смотрители бород и костюмов, которые штрафовали тех, кто ходил в неуставном платье, а само его тут же резали. Раскольники, продолжавшие носить бороды, должны были надевать особые костюмы, а жены их в наказание за мужей – шапки с рогами. Купцам, торгующим русским платьем, грозил кнут, каторга и конфискация, а дворян, явившихся на смотр с бородой и усами, били батогами. Список нововведений огромен и удивителен: указы, по которым каждый, кто посетил кофейню, выпил там чашку кофе и прочитал газету, получал у выхода бесплатно стакан французской водки, та же награда – обошедшему залы кунсткамеры; ассамблеи, табак, танцы и проч.
Наряду с «чином» верховную власть ограничивал и русский бюрократизм. Ключевский где-то приводил пример, как московские дьяки при Алексее Михайловиче на пятнадцатом указе непременно послать подьячего по делу помечали: «И по тому его великого государя указу подьячий не послан». Верховная власть стремится обойти это препятствие, абсолютная власть нуждается в абсолютной мобильности, в мгновенности исполнения приказа. Отсюда ее стремление сделать все самой (единственный способ достичь быстрого и адекватного исполнения своей воли), неприятие любого разделения властей. Петр так же, как, впрочем, Иван, сам принимал участие в пытках своих противников, сам, судя по некоторым источникам, казнил стрельцов, собственноручно строил корабли, писал указы и бивал своих министров.
И как итог: абсолютная верховная власть, нигде и ни в чем не видящая границ своему произволу, пытается уничтожить и ту границу, которую она кладет себе сама, пытается стать независимой от царя, ее носителя, в котором видит такого же холопа, как и в его подданных (уничижительные письма Ивана Грозного к Симиону Бекбулатовичу, подписанные «Иванец Московский»; Петр I величал князя Ф.Ю. Ромодановского королем, государем, «вашим пресветлым царским величеством», а себя называл «всегдашним рабом и холопом Piter’ом» или «Петрушкой Алексеевым»).
2. Верховная власть видит источник любой другой власти в себе самой, в служении себе самой – та же Табель о рангах, законодательно это закрепившая. В одной из статей, приложенных к Табели, говорится, что знатность рода сама по себе, без службы, ничего не значит, людям знатной породы никакого ранга не дается, пока они государю и отечеству заслуг не покажут. «Опричники» Петра – Семеновский и Преображенский «потешные» полки; его ближайшие сподвижники, многие из которых, как известно, были или выходцы из «подлых» сословий (черносошные и крепостные крестьяне, купцы), или иностранцы, меньше всего связанные с традициями страны.
Для абсолютной власти характерны уравнительные демократические тенденции, в их основе постулат: перед государем все рабы, кого государь хочет, того и возвысит. Державин в своих записках рассказывает, как он, сын дворянина и полковника, поступив рядовым в Преображенский полк уже при Петре III, жил в казарме с рядовыми из простонародья, вместе с ними ходил на работу, чистил каналы, ставился на караулы, возил провиант и бегал на посылках у офицеров.
3. Основание новой столицы, разрыв с традицией и с той почвой, на которой она выросла: сначала село Преображенское, куда царица Наталья с Петром переехала после Стрелецкого бунта 1682 года, потом Петербург.
4. Разделение государства на две части. При Петре территориального разделения не было, но разделение власти было: двоецарствие Петр – Иван и троецарствие Софья – Петр – Иван. Власть Петра, ограниченная властью его соправителей, к 1689 году становится абсолютной.
5. Насильственная смерть носителя верховной власти или его наследника или гибель династии: гибель царевича Алексея, а после смерти его сына Петра II и гибель династии.
Повторим то, что говорилось об Андрее Боголюбском. Верховная власть,
которую отказ от традиции делает абсолютной, тот же отказ делает чрезвычайно уязвимой, лишает всяких опор, всякой защиты. Отказ от прежнего понимания происхождения власти означает неизбежно отказ от традиции ее наследования, верховная власть не распространяется ни на кого, кроме ее непосредственного носителя. Петровский закон о престолонаследии, по которому монарх был волен определять своего преемника, – по этому указу верховная воля продолжала существовать и после смерти самого царя. Произвол возводился в систему и юридически оформлялся. Так и не завещав никому трона, Петр I сделал произвол по закону абсолютным. Не сумел выбрать себе наследника и Ленин. Абсолютная власть ничем не может быть ограничена, а официальный наследник – ее предел и конец.
Краткое четырехлетнее правление императора Павла I (1796 – 1801 гг.), сменившее блестящий век Екатерины, многими существенными чертами повторило петровское. Павел и сам считал себя продолжателем его дела (надпись на памятнике Петру I: «Прадеду – правнук»).
Традиционному вступлению Павла на трон его отца Петра III предшествовала тридцатишестилетняя узурпация престола его матерью Екатериной II, более того, само это вступление было самозванно и незаконно. Как уже говорилось, по петровскому закону о престолонаследии царствовавший монарх сам определял своего наследника, считать себя наследником престола до объявления монаршей воли было самозванством (сам звал себя наследником). Самозванство Павла подкреплялось многочисленными слухами о том, что он не был сыном ни Петра III, ни Екатерины II (источник этих слухов, возможно, сама Екатерина), а также многократно высказываемым намерением Екатерины II оставить престол внуку Александру мимо сына Павла. Существует немало свидетельств, что Екатериной было составлено официальное завещание, передающее престол Александру, но сторонникам Павла удалось после смерти Императрицы уничтожить его (многие современники называли вступление Павла на престол «переворотом»).
Правление Павла началось с того же мгновенного перехода от ненависти, страха, боязни за свою жизнь к абсолютной власти, что и петровское. Оно было лишено всякой преемственности с прошлым царствованием, даже более того: оно было полным и быстрым разрывом с екатерининским веком. Цинизм екатерининского двора сменился романтической рыцарственностью павловского (в идеале), конфронтация с Францией – союзом с ней, изменилась политика верховной власти по отношению к дворянству (отменены все, кроме одной, статьи Жалованной грамоты дворянству). Возвращение из ссылки и освобождение из тюрем посаженных при Екатерине II (Новиков, Радищев, Костюшко и др.), опалы и аресты многих сподвижников Екатерины, введение при дворе строжайшего этикета, повторяющая петровскую регламентация внешнего вида (обязательные косицы), одежды («позволяется иметь немецкое платье с одним стоящим воротником шириной не менее как в 3/4 вершка, обшлага же иметь того цвета, как и воротнички»… «не носить башмаков с лентами, а иметь оные с пряжками», «запрещение иметь тупей на лоб опущенный», «чтоб никто не имел бакенбардов», запрещение всем носить широкие большие букли); царское перезахоронение Петра III и позорное перезахоронение символа екатерининского века светлейшего князя Г. Потемкина.
Уравнительные тенденции абсолютной власти: в основе их то же положение – все рабы. При коронации Павла ему первому из русских императоров присягают и крепостные крестьяне; введение телесных наказаний для дворян. История времен павловского царствования: Павел, увидев денщика, несшего шубу и шпагу офицера, перевел офицера в рядовые, а денщика в офицеры (даже если в основе ее и не лежит реальный факт, в ней есть то, как воспринималось это царствование современниками).
Я.И. Санглен, глава тайной полиции при Александре I, писал: «Павел… отправляя в первом гневе в ссылку в одной и той же кибитке генерала, купца, унтер-офицера и фельдъегеря, научил нас и народ слишком рано, что различие сословий ничтожно».
Формальные признаки абсолютной власти.
1. Новое представление верховной власти о самой себе и соответственно иной взгляд на другие власти. Изречения Павла. Формула «русский государь – глава церкви». Когда Павлу сказали, что его распоряжение противоречит закону, он, стукнув себя в грудь, вскричал: «Здесь ваш закон». Это не только фраза, в павловское время известно немало примеров, когда закону придавалась обратная сила. «Господин посол, знайте, что в России нет важных лиц, кроме того, с которым я говорю и пока я с ним говорю».
Жалованная грамота дворянству, дарованная Екатериной в 1785 году, в существенной мере ограничивала произвол верховной власти в отношении дворянства; при Павле были отменены ее важнейшие положения: свобода от обязательной службы, свобода от податей и повинностей, резко ограничены дворянские выборы и упразднены важнейшие дворянские выборные организации – губернские собрания, вновь введены телесные наказания для дворян (уничтожено право личной неприкосновенности), ограничены права дворян распоряжаться своим имуществом (крепостными крестьянами): запрещена продажа крестьян и дворовых людей без земли, раздробление крестьянских семей при продаже, введен закон о трехдневной барщине и свободный от работы воскресный день.
Абсолютная власть стремится к своему максимально полному осуществлению (жесткая централизация, характерная для правления Павла I, усиление роли армии (наиболее централизованный орган государства), повсеместная замена коллегиального принципа управления единоначальным, прямая линия соподчинения властей: император – генерал-прокурор – министр – губернатор и т. д.).
2. Абсолютная власть видит источник всякой другой власти в себе самой. Гатчинские полки Павла, в которых начали свою карьеру многие его сподвижники, были набраны в основном из лиц худородных. Выдвижение на самый верх государственной иерархии множества новых людей, сменивших екатерининских вельмож.
3. Основание новой столицы или резиденции, разрыв с традицией и с той почвой, на которой она выросла, – Гатчина, частично Павловск. Соответствующее двум столицам разделение государства на две части. Формального разделения государства при Павле, как и при Петре, не было, но элементы его были: Гатчина, когда там жил Павел, напоминала вооруженный лагерь, дорогу, связывающую ее с Петербургом и Царским Селом, охраняли разъезды и патрули.
4. Были и элементы разделения государственной власти, вернее, взаимоисключающие претензии двух лиц – Екатерины II и Павла – на абсолютную власть. Известна попытка Павла совершить переворот и захватить престол (Павел считал свою мать преступницей, обвинял ее в узурпации престола, в самозванстве).
5. Насильственная смерть носителя верховной власти: Павел I был убит с ведома своего сына – будущего императора Александра I.
Правление Ленина, потом Сталина было продолжением той линии развития, что и рассмотренные ранее царствования: в их основе тот же мгновенный переход от подполья к вершинам власти, из гонимых в гонители, то же полное отрицание предшествующего развития страны. Самозванство Ленина (оно и в отсутствии преемственности с прежней властью, и в выступлении на I Всероссийском съезде Советов, на котором депутатов-большевиков была всего одна десятая, сто из тысячи, его знаменитые слова: «Есть такая партия!» – в ответ на заявление лидера меньшевиков Церетели, сказавшего, что в России нет ни одной политической партии, которая взяла бы на себя одна всю власть; оно и в поражении на выборах в Учредительное собрание, и в его разгоне).
Еще важнее другое самозванство Ленина – самозванство с точки зрения его собственной партии, с точки зрения того учения, которое он сам исповедовал и которое признавал единственной основой своей власти. Октябрьская революция произошла вопреки Марксу. Пролетариат в России не только не составлял большинство населения страны, а был значительным меньшинством, русская промышленность далеко отставала от промышленности передовых капиталистических государств (США, Германии, Англии, Франции), где, по Марксу, должна была начаться социалистическая революция.
Между февралем и октябрем 1917 года Ленин в ЦК партии, когда решался вопрос о взятии большевиками власти в свои руки, много раз оставался в меньшинстве и только благодаря своей воле и энергии сумел к началу октября 1917 года приобрести в ЦК большинство. Ленинское развитие марксизма, его концепция империализма как высшей и последней стадии капитализма, возможность прорыва цепи империалистических государств в ее слабейшем звене (в России), положенная в основание Октябрьской революции, понималась и Лениным, и его сподвижниками однозначно: русская революция оправдана и имеет право на существование только как начало всемирной революции, только как ее первый толчок (до 1921 года большинство партии разделяло надежды на всемирную революцию).
Самозванство Сталина: Сталин возглавил государство не только вопреки ясно выраженной воле Ленина («Письмо к съезду»), его победе предшествовал (был начат Лениным) и сопутствовал новый пересмотр Маркса. Разочарование в возможности в ближайшее время поднять всемирную революцию лишали Октябрь его оправдания, вакуум заполнила теория, утверждавшая возможность построения социализма в одной, отдельно взятой стране.
Для власти Ленина и в еще большей степени для власти Сталина, который, несмотря на их личный разрыв в последний год жизни Ленина, был продолжателем его дела, характерны выделенные нами раньше формальные признаки.
1. Новое представление верховной власти о себе самой. Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи; партия всегда права; гений всех времен и народов; вождь народа.
Тоталитарность и абсолютная тотальность верховной власти. Экономика, мораль, нравы, мысли, обычаи, семейная жизнь, литература, живопись, музыка, одежда, развлечения и т.д. Предчувствуя эту тотальность, большевики-богостроители утверждали, что «социализм есть религия». Последовательное подавление религии, ограничивающей тотальность советской сласти (как мы уже говорили, борьба с религией облегчалась широчайшими планами преобразования и покорения природы, сходными с мотивами, лежащими в основе русского православия (заставим природу служить человеку). Жесточайшая централизация советской власти. Воля верховной власти должна идти по кратчайшему пути (соподчинение, спускаемые сверху и обязательные для исполнения планы).
Эпоха доносов, как при Иване IV, Петре I и Павле I. Абсолютная власть должна знать абсолютно все.
Мобильность абсолютной власти: резкие изменения партийного курса (от ожесточенной конфронтации с нацистской Германией к союзу с ней; возрождение национализма и т.д.).
2. Абсолютная власть видит источник всякой другой власти в себе самой. Октябрьская революция была разрывом с прежними традициями страны. Произошла полная смена лиц, руководящих государством, на смену старой бюрократии пришли старые члены партии, подпольщики, партийная элита, партийная аристократия. Революция создала и свои опричные полки (латышские стрелки и матросы Балтфлота). Большую роль в управлении страной, как и при Андрее, Петре и Павле, играли инородцы и иностранцы (иностранные коммунисты) – люди, менее всего связанные с традицией.
Однако партийная аристократия недолго удерживала власть в своих руках. Уже с 20-х годов ей на смену приходят так называемые выдвиженцы (уравнительные тенденции абсолютной власти, извечная ее борьба с аристократией). Прошлые заслуги не дают никаких прав, только нынешнее служение абсолютной власти достойно вознаграждения. К концу 30-х годов почти все видные деятели старого состава партии погибают (свыше 90 процентов) и заменяются выдвиженцами.
3. Перманентная революция от русской к всемирной, не удавшись вовне, была продолжена Сталиным внутри России. После ликвидации старых партаппаратчиков одна волна выдвиженцев сменяет, полностью уничтожая, другую (развитие Сталиным теории и практики абсолютной власти, предшественником его был Иван Грозный, уничтоживший, когда пришло время, высший эшелон опричников).
4. Разделение государства на две части, из которых только в одной верховная власть является абсолютной, и здесь, как и во времена Боголюбского и Грозного, абсолютная власть стремится к экспансии, к распространению на всю территорию государства. Предоставление после Октябрьской революции различным нациям, входящим в состав Российской империи, права на самоопределение и создание независимого государства и последующее, растянувшееся до второй мировой войны их завоевание – возвращение.
5. Насильственная смерть носителя абсолютной власти или пресечение его династии. Ленин так же, как и Петр, не сумел оставить себе наследника (гибель династии). Одного сына Сталин фактически принудил к самоубийству, другой спился и умер.

ЗАПИСИ ДЕДА
«Записи деда» начинаются с соображений самого общего свойства, суть которых сводится к тому, что взгляд, видящий корень основных событий русской истории во внутренних причинах, следует, по-видимому, предпочесть любому иному, так же как при прочих равных следует предпочесть концепцию, признающую органическую связь между до – и послереволюционной Россией. Далее идет несколько отдельных абзацев о том, что построение такой концепции должно начинаться с составления словаря основных понятий русской истории (мифы, цели и смысл, их изменения, взаимодействие, соотношение со средствами, символика, основные темы, идеи, легенды и т.д.). После чего, собственно говоря, и начинается текст.
Секты и партии можно рассматривать как возвращение к реликтовым родовым отношениям (отсюда и вожди), которые единственные могут обеспечить поддержку своим членам в смутное время. Похожи они на род и по структуре своей, и по духу (глава рода, культ предков и т.д.). В обществе, пораженном кризисом, выгоднее иметь немногих надежных соратников и многочисленных, но раздробленных противников, нежели не иметь ни тех, ни других.
Дух идеи я понимаю только как степень готовности не считаться ни с чем, как фильтр, через который пропускается жизнь. Русский марксизм так легко сменил прежнее понимание мира и сам в свою очередь мигрировал в национализм, потому что и то, и другое, и третье обладало схожей мерой нетерпимости. Внутри каждой страны партии складываются из людей, различающихся по жесткости, по своей способности к компромиссу.
На Руси среди власть имущих всегда было много иностранцев: норманны, татары, немцы, евреи, грузины, украинцы. Населению страны, жившему по большей части маленькими изолированными общинами, сама идея государственности (идея, в которой не так уж много светлого) была чужда. Поэтому, замыкаясь в себе (XII – XIV вв.), Россия скоро распадалась на части.
Почти все идеи, так или иначе связанные с государственностью (национализм, патриотизм, представление о своей роли в мировой истории, предназначение России, основные мотивы внешней политики и множество узаконений внутренней), были заимствованы из-за границы, искусственно пересажены на русскую почву (апостол Андрей, крестивший Россию; Москва – Третий Рим; Рюриковичи, ведущие свое происхождение от родственника Августа – Пруса; многочисленные реформы Петра I от разведения шелкопряда и строительства флота в Воронеже до магистратов и бритья бород; германофильство Петра III; англомания и франкомания русского дворянства; восстание декабристов и уж совершенно поразительное, по мановению палочки, восстановление вслед за Германией традиционного национализма Сталиным, когда Невский, Хмельницкий и Суворов – верный слуга русского самодержавия, жесточайшим образом подавивший поляков и Пугачева, стали недостижимым идеалом для советских командиров – коммунистов, марксистов, интернационалистов).
Иногда кажется, что русская политика – это некая абстракция, школьник, повторяющий слова учителя, девочка, пеленающая куклу.
Русское дворянство – дворянство беженцев и ренегатов. Россия всегда охотно принимала знать соседних государств – татар, литву, немцев, – потерпевшую поражение в междуусобной войне и ушедшую из своей страны.
Формируя внешнюю политику России, беженцы вложили в нее свои старые устремления и цели. То, что было для них естественной попыткой рассчитаться за поражения, взять реванш, вернуться на родину, было для России завоеванием и присоединением их бывшей родины. Революция и Коминтерн с блеском повторили это. Сознание своей правоты внушили беженцы и России. Средство – Россия – и здесь подмяло под себя цель.
Имперское сознание, ориентированное только на центральную власть, на государя и безразличное ко всему прочему, создавалось в России намеренно. Путь складывания русского государства – это путь разрыва всех связей между местной властью и местным населением, путь абстрагирования власти от местных различий и стремлений, путь унификации.
Русское государство – некое искажение, подмена Божьей воли, которая может и должна сама защищать избранный народ.
Увеличение роли государства – уменьшение роли Бога.
Военные победы и территориальные завоевания – победы русской духовности, достигнутые посредством государства, становятся антидуховными.
Отношение русских к иностранцам – презрение чуда к ремеслу. Иностранцы и все, что с ними связано, – искус, соблазн, наваждение, страшный вопрос: тем ли путем идем?
В XV веке не было внутренней необходимости создания русского государства, из-за редкости и бедности населения не было и не могло быть нужного количества связей, в поддержании которых, собственно, и состоит роль государства. Поэтому государство было для народа чужим, злым началом (русский анархизм идет оттуда), в то же время необходимым для войн с татарами и Литвой (дилемма: государство – орудие дьявола, которое используется на благо России).
Иностранцы, ставшие русскими дворянами (среди столбового русского дворянства, записанного в Бархатной книге царевны Софьи, не более трети по происхождению великороссы) и созидавшие по канонам своих стран русское государство, презираемы как слуги дьявола, но терпимы как действующие в пользу России.
Царь – отец. Государство – посредующее звено между ним и народом – искажает его волю.
«Надклассовое государство» – синоним «чуждое всем».
Государство – палка, которая нужна всем, но которую, и сознавая это, трудно любить.
В народном сознании царь – главный и единственный посредник между Богом и людьми (царистская психология народных масс). Для русского народа, почитающего себя избранным, больше, чем для любого другого, характерно упование на промысел Божий.
Русская ответственность власти перед народом: если в государстве бедствия, голод, эпидемия, значит, виноват царь (поэтому плох Борис Годунов). Внутренним пониманием этого объясняется наше современное нежелание сообщать о землетрясениях, наводнениях и бурях.
Назначение царя – быть угодным Богу, молиться ему о своем народе. Народные представления об идеальном царе: не мудрый и сильный вождь, а добрый, мягкий, усердный в молитве – божий человек, даже дурак (царь Федор Иоаннович, Михаил Романов, Федор Алексеевич). Такой царь, как юродивый, угоден Богу, и государство при нем благоденствует (Бог – все, человек – ничто). Отсюда и благолепие, и весь царский быт, отсюда и двойственное отношение к Петру: вел себя вопреки всем представлениям – антихрист, быть беде, но – победитель и, значит, Бог за него.
В России до середины XIX века было мало религиозных мыслителей, их место занимали полководцы, которые утверждали достоинство веры в новых завоеваниях. В этом причина боязни самых мелких военных неудач, удивительная при таком населении и территории. Это не только военные поражения, но и поражения веры – Господь лишил Русь своего благоволения.
Метод исторического познания – взгляды одного диктатора на сущность и деятельность другого (Сталин и Грозный, опричнина и НКВД) – покоится на родстве душ, интуиции, на однотипности положения, целей, задач и средств для их осуществления.
Важнейшим достижением Сталина было расширение народного представления о нормальной жизни и смещение его центра. После мировой и гражданской войны, красного и белого террора, голода, эпидемий перманентные массовые чистки, расстрелы, ссылки, лагеря и, главное, коллективизация и ликвидация кулачества как класса сделали смерть частью нормальной, обыденной жизни и закрепили ее в ней; а так как все-таки загублено было меньшинство людей, оставшиеся на свободе справедливо чувствовали себя элитой и сознавали, что ни в одной стране мира такого количества избранных нет. Сталинский террор психологически идеально подготовил народ к войне с Германией. В уже созданное Сталиным представление об обычной жизни война вошла вполне органично и почти не потребовала от России перестройки. В том, что страна после страшных поражений первого года войны сумела оправиться и начать контрнаступление, главную роль сыграла именно эта психологическая готовность к смерти.
Война оправдала, закрепила и очистила созданное Сталиным понятие избранности. Каждый, кто остался в живых, был избран – чувствовал себя избранным и пользовался правами избранного. Избранность его была дополнена сознанием своей военной силы и обилием женщин. Убитые на войне смешались с теми, кто был убит в лагерях, и прикрыли их.
Истина равна всем высказанным о предмете мнениям. Люди правы или на данный момент, или в определенной временной и пространственной связи. Истина как бы посередине круга, по периметру которого стоим мы и видим разные ее части.
Христос не только в канонических Евангелиях, но и в учениях всех сект и бывших и существующих поныне, да и всех людей, которые хоть раз к нему обращались.
Мысли, высказанные людьми, стремятся не столько коррелировать с достоверностью, сколько заполнить весь спектр мнений. Только первый, поставивший на лошадь, в этих скачках выигрывает. В таких скачках выгодно ставить на любую лошадь, на самую последнюю клячу: а вдруг все сломают ноги, а она – нет и придет первая.
Наше нынешнее общество равно тоталитарно и демократично. Правящий привилегированный класс открыт, стать его членом может любой, кто обладает не выдающимися, наоборот вполне посредственными способностями и похож на нынешних его членов (отсюда и преемственность политики), а таких абсолютное большинство. Но и среди них, как в античных Афинах, торжествует высшая справедливость – лотерея: никому не известно, кто выплывет и почему.
Крестьяне, холопы бежали не на окраины государства, а оседали, только оставив между собой и государством пустыню («Дикое поле», Урал, а то и всю Сибирь), они бежали из государства (первые эмигранты).
В XIX веке немцы обрусели в том смысле, что стали говорить по-французски и приобрели крепостных.
В Сибирь, на другие окраины бежало не так уж много народа, но не в этом дело, главное, что есть возможность бежать, есть степень свободы – незаселенные территории. И правительство и народ знают, что если гнет перейдет определенный предел, люди побегут; так и было (наверное, здесь причина того, что, несмотря на тоталитарность всей государственной системы, на Руси не сложилась восточная деспотия).
Непоследовательность и необъяснимость всех русских реформ XVI – XVII вв. в узости правящего класса, в наличии у многих приватных отношений с царем, которые часто оказывали решающее влияние на ход событий.
Такая непоследовательность характерна и для русских реформ XVIII – XIX и начала XX веков. Петровские преобразования были забыты уже при ближайших его преемниках. Конституционные увлечения Екатерины свелись к «Жалованной грамоте дворянству», а такие же настроения Александра закончились Аракчеевым. Эпоха реформ 60-х годов сменилась эпохой контрреформ, а 1905 год – «столыпинскими галстуками». Эта непоследовательность, быть может, наиболее яркое свидетельство чуждости, оторванности государства от народа, непонимание им сложившейся обстановки, неумение оценить как силы, его поддерживающие, так и противные. Еще один удивительный факт: трудно найти свидетельства того, что контрреформы хоть в малой степени ослабляли Россию. Такое ощущение, что наша гигантская, лежащая на отшибе страна живет по каким-то своим внутренним законам (один из главных законов ее развития выделить нетрудно, это, как и для всякого огромного тела, сила инерции), а все реформы не более чем реформы государственного аппарата, не затрагивающие ни страны, ни народа.
В признании себя избранным много опасности отказа от общечеловеческой этики и нравственности, подмены ее частногосударственной. У нас к этому вел взгляд на Россию как на единственный оплот истинного православия (Москва – Третий Рим), который, в свою очередь, обосновывался благоволением Провидения к России. Эта идея, так ярко выраженная в расколе, это так буквально понятное воздаяние – раз Россия побеждает, значит, она все делает правильно – пронизывает всю нашу историю.
Боярская дума – не зародыш будущего разделения исполнительной и законодательной власти. Существование Думы, неразрывность ее связи с царем покоились на народном убеждении в том, что один человек без совета (без Думы) править не может: царь – глава своей вотчины, Московского княжества, Дума – представители присоединенных земель, единство царя и Думы – единство всех земель, единство всей страны.
Если власть современного парламента и его независимость – сумма властей и независимостей всех депутатов, то власть Думы основана на связи между ней и царем и на безвластии каждого ее члена. Вообще для любого государственного образования, возникающего среди раздробления и борьбы, изначально характерна только идея союза, а не разделения власти.
Большевики уже весной и летом 1917 года были уверены в том, что им удастся захватить власть. Все углубляющийся кризис, справиться с которым не мог никто, необходимо толкал народ к перебору всех мнений и всех партий. Рано или поздно такой перебор должен был привести народ к большевизму. Цель Октябрьской революции – не захватить власть, а удержать ее.
Все революции начинались как провокация охранки, поэтому первым делом новой власти всегда было сожжение здания полиции и ее архива с именами шпионов и провокаторов.
Моральные преимущества в политической борьбе почти ничего не значат. Святые политикой не занимаются, а решить, чьи грехи больше, трудно: грех всегда грех.
В политике почти невозможно противопоставить противнику свое оружие, воевать приходится оружием, которое предложено им, а здесь преимущество за стороной, которая начала борьбу. На демагогию надо отвечать демагогией, на ложь – ложью. Это во всем; Русь не могла справиться с татарами, пока не навербовала на службу множество татарских мурз и пока сами татары (Казанское царство) не стали оседать на земле и в городах. Ограничить набеги крымчаков удалось, только противопоставив им казаков.
Отличие России от других стран. Если в Западной Европе народ, стиснутый другими народами, достиг с течением времени некоего компромисса со своей властью, если на Востоке власть сумела подавить свой народ, также стиснутый другими народами, то в России отношения между народом и властью строились на иной основе.
Сила власти, ее тоталитарность была ограничена скоростью разбегания народа. И чем дальше расходились правительство и народ (правительство на северо-запад (Петербург), народ на юг и восток, в сторону прямо противоположную от правительства – лучший символ их отношений), тем быстрее совершенствовалась государственная машина, пока в конце концов в гонке правительственной и народной колонизации (черноземы, Новороссия, Поволжье и Заволжье, Сибирь) государство не взяло решительный верх.
Борьба за свою территорию (идейную), за свою клиентуру неизбежна, и так же, как в политике ближайшие соседи становятся самыми ярыми врагами, так и в борьбе идей причиной войны становится сходство.
«Дикое поле» – удивительная вещь: враг, которого нет, правильнее назвать – возможность врага, враждебная пустота, враг из-за нее, а вообще на границе никого нет, просто страшно выйти на открытое место, под чистое небо.
Русский коллективизм – от редкости населения, от отсутствия тесноты, от страха одиночества, от заброшенности среди бесконечных лесных пространств, когда каждый человек – благо.
История Советской России станет понятнее, если мы вспомним, что до последних дней в основе деятельности правящей партии лежала строжайшая конспирация – она так никогда и не вышла из подполья.
Россия – государство без права, может быть, поэтому историю России наиболее успешно изучала государственно-юридическая школа.
Русское самозванство – от огромности территории, от раздробленности, от отсутствия связи и верных известий: только вера и только слухи – ничего достоверного.
Не особая религия – православие – отделила Россию от Запада, а сами русские отделили себе религию, чтобы стать народом. При общей неразвитости жизни только религия могла выделить их из других и сделать народом.
Понятие греха необходимо для мировой справедливости.
Противнику всегда легче осуществить твою программу, он лучше видит ее силу и не связан с генезисом самой программы, с той массой всевозможных наслоений, которые нередко искажают ее существо. Кроме того, если она непопулярна, он всегда может рассчитывать на сочувствие не только своих союзников, но и на твое, тогда как проводи программу ты, она неизбежно столкнулась бы с его протестом.
Любая тема – это наст, который может выдержать только определенную нагрузку (интерпретаций, толкований, исследований). Когда нагрузка становится больше критической, это значит, что тема стала фактом идеологии, теперь и она сама, и ее решение проваливаются в иной мир, в иную плоскость, завися лишь от перипетий борьбы. Можно утверждать, что, если число исследований больше критического, выводы их почти наверняка неверны.
Рано или поздно перед любым народом, так же как и перед человеком, встает самый страшный вопрос: а зачем? Зачем было делать то, что мы делали?
Страна не может жить без цели и смысла, без самооправдания. Смысл истории твоего народа – это и есть божественная санкция на его существование.
Русская история одна из самых простых. Недаром представители всех течений русской историографии мирились в общих вопросах на концепции государственно-юридической школы, сформулированной практически целиком в небольшой статье Кавелина, и не без успеха сводили всю историю России к истории Русского государства, а теория Маркса, сводящая все развитие тоже к одному источнику – классовой борьбе, получила у нас такую популярность.
Можно сказать, что русские заворожены своей историей, ее повторяемостью, предсказуемостью, неотвратимостью, ее закономерностью (как и в марксистской истории).
Во время Смуты XVII века Россию спасло Поморье – единственный во многом эмансипированный от государства район страны, терпимый в таком качестве за фантастическую прибыльность. Север практически не требовал никаких расходов (все – оборона, администрация – базировались на самодеятельности) и давал значительную часть денежных доходов государства.
Задолго до революций 1905 и 1917 годов все знали, что будет революция, все знали, какая она будет. Тема Смуты была самой популярной в русской историографии, отсылка к Смуте, сопоставления со Смутой, терминология Смуты – все это встречается везде (газеты, публицистика, исторические труды). Более того, сознавало это и правительство и даже готовило тот класс, который в Смуту спас Россию. Столыпин пытался после революции 1905 года создать такого же северного мужика в Сибири, частного собственника, эмансипированного от бюрократии и от общины, и почти преуспел – Сибирь наряду с Доном и Северным Кавказом стала главной базой «белого» движения. Но здесь история России отошла от своего внешнего дублирования (революция победила), чтобы через двадцать лет перейти к дублированию внутреннему – что главное.

ОПРИЧНИНА ИВАНА ГРОЗНОГО:
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Так сложилось, что начальным опытом копнуть вглубь обсуждаемые темы, стала работа об опричнине. В 84-м году я защитил диссертацию по дореволюционной историографии второй половины XVI – начала XVII вв., то есть как раз о времени, на которое пала и сама опричнина, и последовавшая за ней Смута. Я тогда лоб в лоб столкнулся с целой лавиной попыток понять смысл и назначение этого учреждения, причем число их, накал страстей не пошли на убыль и при большевиках. Взгляды историков, ученых с хорошей академической подготовкой, были до такой степени не совместимы, что ясно было, что здесь что-то не то. У каждой культуры есть свои проклятые вопросы – опричнина была безусловно из них.
Я не избежал общей участи. Однажды мне вдруг стало казаться, что вот-вот я нащупаю ответ, ухвачу, объясню ее суть. Соблазн был велик и, отложив прочие дела, я занялся собственно Грозным. В окончательном виде работа была готова через месяц, но включить ее в текст диссертации, срок защиты которой приближался, возможности не было, и я отдал ее в сборник трудов Московского историко-архивного института (МГИАИ).
Однако фарта у статьи не было: человек, который собирал и должен был редактировать очередной том, тяжело заболел, потерял портфель с материалами и из института ушел. О случившемся я, похоже, узнал последним, но горевал недолго. Все, связанное с историей, было уже другой, прошедшей жизнью. Кроме рукописного варианта, у меня на руках осталась лишь плохая с непропечатанными концами строк ксерокопия. Я сунул ее в ящик стола и забыл.
Прошло пять лет. К 89-му году Советский Союз ослаб до такой степени, что и подобные мне сделались «выездными». Мы с мамой, получив приглашение от друзей, готовились отбыть на месяц в Америку. В чемодан на всякий случай я положил и работу по опричнине. В то время в Штаты, в основном, уезжали, а не ездили, и среди поручений, которых набралось множество, была просьба Георгия Борисовича Федорова (для своих – Г.Б.) – замечательного археолога и человека, его и сейчас десятки людей вспоминают с великой нежностью. Просьба до крайности необременительная: если паче чаяния нас занесет в Бостон, передать привет Александру Некричу, которого я тоже, правда, шапочно знал.
Добравшись до Новой Англии и по телефону со всей тщательностью доложив, как дела у Г.Б. и что вообще происходит в России, я в ответ без перехода услышал, что ему, Некричу, известно о моих занятиях опричниной – так почему бы результаты не доложить в Русском центре при Гарвардском университете? Не дожидаясь ответа, Некрич добавил, что сам, к сожалению, представить меня не сможет: через три часа у него самолет в Европу, но проблемы здесь нет – переговорить с Кинаном, который возглавляет Центр и договориться насчет лекции он успеет. В заключение мне был продиктован телефон Кинана и велено перезвонить ему вечером.
Так получилось, что тогда, из-за скорого некричевского отъезда, я обидел человека, который явно не желал мне ничего, кроме добра. В Москве фамилия Кеннан мне попадалась, я знал, что это весьма уважаемая в Америке семья советологов и дипломатов, и почему-то решил, что Гарвардский Кинан из них. С моим английским, да еще со слуха, разобрать, сколько «е» – одно или два – идет после «К», было нелегко. Пока же, день спустя, Кинан любезно провел меня по Гарварду, среди прочих тамошних достопримечательностей показав и хранилище замечательного Гарвардского архива, и библиотеку. Потом мы долго беседовали у него в офисе.
Кинан недавно вернулся из Москвы, где сотрудничал как раз с той кафедрой, на которой я защищался. В об
щем, у нас нашлось немало общих знакомых, и обоим это понравилось. Дата лекции была уже назначена, разговор подходил к концу, и тут он вдруг спросил меня, не думаю ли я, что переписка Грозного с Курбским – поздняя подделка. Я ответил, что такое мнение слышал, однако, мне кажется, что это калька с подобных работ о «Слове о полку Игореве». И походя добавил, что для человека, для которого русский язык родной, подлинность переписки очевидна. Фальшивки стряпаются иначе. В посланиях Грозного чересчур много страсти, экспрессии, чересчур скачет мысль, а имитация, хочешь не хочешь, более аккуратна и академична.
Кинан неожиданно помрачнел, и простились мы с ним уже довольно холодно. Впрочем, особого внимания на это я не обратил. Мне и в голову не пришло, что автор новейших подозрений насчет Грозного именно он. Я и сейчас стою на прежних позициях, но правота в той истории не на моей стороне. Дело не в том, что, занимаясь (пусть и в прошлом) опричниной, я был обязан помнить его фамилию, просто работа Кинана – серьезное текстологическое исследование. Она породила целый вал публикаций за и против. В итоге на свет Божий вышла бездна интересного. В СССР кинановскую монографию расценили как агрессию, как вторжение на чужую территорию и под редакцией нашего крупнейшего знатока правления Грозного Р. Скрынникова был опубликован сборник статей, опровергающих моего визави. Все это или нормально, или в пределах допустимого, но были и вещи грустные, выраженно советские.
После защиты диссертации я еще год, пока не ушел на вольные хлеба, отработал в исследовательском архивном институте, в секторе, который занимался археографией, то есть вопросами, связанными с публикацией разных старых документов. Так вот у нас любили расска
зывать, что когда некий американский профессор (теперь его фамилию я знаю) приезжал в Москву и заказывал в ЦГАДА – архиве древних актов – необходимые источники, ему вежливо говорили, что затребованное выдадут завтра. А ночью доктор и кандидат наук или два кандидата – пары работали посменно – смотрели, нет ли в документах XVI – XVII вв. чего-нибудь такого, что могло бы нанести ущерб нашему реноме. Если же находили что-то неладное, американец на следующий день слышал, что с фондом работает другой человек, или что документы на реставрации и, соответственно, выданы ему быть не могут.
Доклад мой в тот раз прошел вполне успешно, и в двухчасовых прениях, которые за ним последовали, я был поддержан, кажется, всеми, за исключением Кинана. Впрочем, оснований утверждать, что его скепсис хоть как-то связан с рассказанным выше, у меня нет. Самым ценным стали тогда для меня дополнения, сделанные профессорами, некогда эмигрировавшими из Прибалтики, то есть людьми, работавшими с фондами Тевтонского и Ливонского орденов, которые по сию пору хранятся в архивах Риги, Таллина и Тарту.
Основные положения статьи уже прежде публиковались в журнале «Родина» за 1991 год, № 1. В книге печатается ее полная версия (для удобства чтения убрана лишь большая часть идущих по низу страниц ссылок), которая вышла в «Ежегоднике Археографической комиссии» за 2003 год (М., «Наука», 2004).
В историографическом предисловии к «Исследованиям по истории опричнины» С.Б. Веселовский писал: «В нашей историографии нет, кажется, вопроса, который вызывал бы большие разногласия, чем личность царя Ивана Васильевича, его политика и, в частности, его пресловутая опричнина. И замечательно, что по мере прогресса исторической науки разногласия, казалось бы, должны были уменьшиться, но в действительности наблюдается обратное».
Русская дореволюционная историография – от Татищева до Ключевского, – посвящённая истории царствования Ивана Грозного и одному из центральных событий этого царствования – опричнине, чрезвычайно обширна. Почти все крупные историки второй половины XVIII – XIX вв. в той или иной степени затрагивали в своих трудах царствование Ивана Грозного и оставили множество разнообразных, причем подчас взаимоисключающих, концепций его правления.
Н.К. Михайловский в своей работе «Иван Грозный в русской литературе» писал, что при чтении литературы, посвященной Грозному, «выходит такая длинная галерея его портретов, что прогулка по ней в конце концов утомляет. Утомление тем более понятное, что хотя со всех сторон галереи на вас смотрит изображение одного и того же исторического лица, но вместе с тем лицо это «в столь разных видах представляется, что часто не единым человекам является». И далее: «Одни и те же внешние черты, одни и те же рамки и при всём том совершенно-таки разные лица: то падший ангел, то просто злодей, то возвышенный и проницательный ум, то ограниченный человек, то самостоятельный деятель, сознательно и систематически преследующий великие цели, то какая-то утлая ладья «без руля и без ветрил», то личность, недосягаемо высоко стоящая над всей Русью, то, напротив, низменная натура, чуждая лучшим стремлениям своего времени».
При характеристике историографии Ивана Грозного стоит отметить и то, что взгляд отдельных историков на время его правления был столь же противоречив, как и вся историография, а также, что все новые концепции, выдвигаемые на протяжении как XIX, так и ХХ вв., лишь отчасти базировались на привлечении новых материалов, в основном же являлись интерпретацией ранее введённого в оборот корпуса источников.
Такое обилие концепций невольно наводит на мысль, что основная ценность работ, посвящённых Ивану Грозному, лежит не в сфере истории России XVI века, а в той непроизвольной автохарактеристике русской историографии, для которой они дают богатейший материал.
С.Б. Веселовский в уже цитированной работе по опричнине писал о связи историографии Грозного с внутриполитической атмосферой страны: «Дней Александровых прекрасное начало» породило поучительную для государственных деятелей концепцию личности и государственной деятельности царя Ивана, данную Карамзиным. Суровая реакция царствования императора Николая I вызвала ряд попыток писателей разного калибра и различной степени осведомлённости реабилитировать царя Ивана в противовес отрицательной характеристике Карамзина».
И далее: «Итак, можно сказать, что царь Иван предполагал при помощи опричнины открыть дорогу безродным талантам, в интересах государства оттеснить на второй план бездарных представителей родовой знати. Нет надобности много говорить, что и это высказывание Кавелина голословно и не подтверждается фактами. Но в эпоху реформ Александра II и нарождения «мыслящего пролетариата» Писарева эта идея широкой дороги, открытой талантам, независимо от происхождения, оказалась как нельзя более кстати и обеспечила успех мнению Кавелина в кругах либеральной и революционной интеллигенции. С другой стороны, кавелинское восхваление самодержавия находило самый благожелательный приём в кругах консерваторов и реакционеров».
Такая тесная связь внутриполитического положения в стране с историографией
царствования Ивана Грозного лишь усугубилась после 1917 года. Эпоха правления Сталина – время безудержной апологии Ивана IV. Хрущевская либерализация конца 50-х – начала 60-х годов сделала возможной публикацию написанной за двадцать лет до того работы С.Б. Веселовского «Исследования по истории опричнины» (М., 1963), причем появление этой монографии было для российской интеллигенции одним из наиболее показательных признаков десталинизации. Частичная реабилитация Сталина и сталинизма в годы правления Л.И. Брежнева привела к куда более «сбалансированной» трактовке как самой опричнины, так и всего времени правления Ивана IV. Резко отрицательная оценка роли Грозного в русской истории (С.Б. Веселовский) была отставлена, и победил взгляд, считавший, что, несмотря на многие издержки, политика Грозного (в частности, репрессии, которые он обрушил на знать) была разумной и необходимой. «Перестройка» вновь позволила возродить тот высказанный еще Н.М. Карамзиным, а впоследствии детально разработанной С.Б. Веселовским взгляд на правление Ивана IV как на одну из величайших катастроф в истории России.
Без преувеличения можно сказать, что историография царствования Ивана IV позволяет без труда реконструировать все важнейшие повороты внутренней политики России и уж совсем точно увидеть то, как смотрит и на Россию, и на себя саму верховная власть. Не занимаясь разбором всех взглядов историков на правление Ивана Грозного, мы всё же хотим выделить некоторые ключевые черты посвящённой ему историографии.
Первое: во всех концепциях правления Ивана Грозного личность, безусловно, довлеет над событиями его царствования, которые выступают чаще всего как материализованное воплощение черт Ивана IV. Психологизм в русской историографии удержался долее всего именно при изучении этой темы, поэтому для историографии Грозного так характерны блестящие портретные зарисовки (Белинский, Аксаков, Ключевский).
Н.К. Михайловский заметил, что «если историки, как Костомаров (роман «Кудеяр»), превращались ради Грозного в беллетристов, то и поэты, как г. Майков, превращались ради него в историков и приводили в восторг настоящих историков (г. Бестужев-Рюмин)» и что на концепцию Костомарова большое влияние оказали известные публицисты К. Аксаков и Ю. Самарин (см. его диссертацию «Стефан Яворский и Феофан Прокопович»). Эта особенность историографии Ивана Грозного легко объяснима. Неудачи в собственно историческом объяснении царствования Грозного и его эпохи привели к попытке понимания и осмысления его личности как героя литературного произведения. Отсюда и определённая концептуальная зависимость историков от литераторов и публицистов стремление привнести в историческое исследование совсем иную – назовём её литературной – методику.
Второе: при всём разнообразии историографических концепций правления Ивана Грозного все они сводимы к двум основным направлениям – дискредитирующему и апологетическому. Такое деление не случайно: в основе каждого из этих направлений лежит наиболее общее представление историков о сущности и смысле русской истории и соответственно о критериях оценки исторических личностей; понятно, что и аксиоматика каждого из этих направлений глубоко различна.
В основе первого взгляда – оценка Ивана Грозного с точки зрения общечеловеческой нравственности и морали, в основе второй – оценка его и его правления с точки зрения территориальных и иных достижений, осуществленных при нем. Вторая точка зрения не только неизбежно приписывает успехи, достигнутые Россией, личности её монарха, но, что более важно, сводима к другой нравственной системе – назовем её государственной. Успехи России являются абсолютным благом вне зависимости от тех средств, какими они достигнуты.
Первый взгляд наиболее рельефно выразил М.П. Погодин. Характеризуя Ивана IV и его дела, он писал: «Что есть в них высокого, благородного, прозорливого, государственного? Злодей, зверь, говорун-начётчик с подьяческим умом, – и только. Надо же ведь, чтобы такое существо, потерявшее даже образ человеческий, не только высокий лик царский, нашло себе прославителей». Второй – у К.Д. Кавелина: «Всё то, что защищали современники Иоанна, уничтожилось, исчезло; всё то, что защищал Иоанн IV, развилось и осуществлено; его мысль так была живуча, что пережила не только его самого, но века, и с каждым возрастала и захватывала больше и больше места. Как же прикажете судить этого преобразователя? Неужели он был не прав?.. От ужасов того времени нам осталось дело Иоанна; оно-то показывает, насколько он был выше своих противников».
Каждое из этих двух направлений не столько пыталось опровергнуть те или иные положения противного, сколько ставило под сомнение саму их основу – систему аксиом. К.Д. Кавелин считал, что историки не могут рассматривать исторического деятеля с точки зрения современной им нравственности, такой подход – ничем не оправданная модернизация истории. Защищая Грозного, он писал: «Иоанн IV есть целая эпоха русской истории, полное и верное выражение нравственной физиономии народа в данное время», он был «вполне народным деятелем в России».
Однако и аксиоматика, построенная на «государственной пользе», находила у Погодина не менее веские возражения. Он отвергал саму возможность деятельного участия Ивана IV в составлении нового Судебника и других важнейших государственных преобразований 50-х годов, а также в победах России над Казанским и Астраханским ханствами – осколками ее многовекового врага Золотой Орды. «В царствование Грозного бесспорно совершено много великого; но, – спрашивает Погодин, – мог ли такой человек, как Иоанн, проведший своё детство и отрочество так, как он, никогда ничем серьёзно не занимавшийся, мог ли он в 17 – 20 лет вдруг превратиться в просвещённого законодателя? Он мог оставить прежний бурный образ жизни, мог утихнуть, остепениться, заняться делом, мог охотно соглашаться на предлагаемые меры, утверждать их, – вот и всё; но чтобы он мог вдруг понять необходимость в единстве богослужения, отгадать нужды и потребности народные, узнать местные злоупотребления, найти противодействующие меры, дать нужные правила касательно суда, например, об избрании целовальников и старост в городах и т.д. – это ни с чем не сообразно». Иоанн был вполне в руках своих советников Сильвестра и Адашева и их партии, что подтверждается и свидетельством современников, и собственным негодующим признанием Грозного в письмах к Курбскому. А затем, когда влияние этой партии было парализовано, в последние двадцать пять лет жизни Иоанна нельзя указать никаких законов, постановлений, распоряжений, вообще никаких действий, из которых был бы виден его государственный ум и то понимание требований народной жизни, какое проявлялось в первой половине его царствования. В продолжение всего этого времени «нет ничего, кроме казней, пыток, опал, действий разъяренного гнева, взволнованной крови, необузданной страсти».
В самом конце XX века, в I899 году концепции правления Ивана Грозного пополнились ещё одной, принадлежащей перу С.Ф. Платонова и изложенной в первой части его «Очерков по истории Смуты в Московском государстве XVI – XVII вв.». Концепция эта имела исключительный успех. Впоследствии она с некоторыми изменениями воспроизводилась и в его лекционном курсе и в книге «Иван Грозный».
Прежде чем перейти к разбору взглядов Платонова на правление Ивана Грозного и на опричнину, нам представляется уместным привести здесь оценку его концепции некоторыми русскими историками ХХ века.
С.Б. Веселовский: «Последним словом дореволюционной исторической науки считалась сложная и замысловатая концепция С.Ф. Платонова”. И далее: «В погоне за эффектностью и выразительностью изложения лекций С.Ф. Платонов отказался от присущей ему осторожности мысли и языка и дал концепцию политики царя Ивана, настолько переполненную промахами и фактически неверными положениями, что поставил критиков его построений в весьма неловкое положение…».
Следующим образом оценивал концепцию С.Ф. Платонова А.А. Зимин: «Наиболее продуманную и развернутую оценку опричнины с буржуазных позиций мы находил в трудах С.Ф. Платонова». Оценка работы С.Ф. Платонова С.Б. Веселовским со всех точек зрения парадоксальна. Концепция, «переполненная промахами и неверными положениями», объявлена последним словом дореволюционной исторической науки. В какой-то степени негативная оценка Веселовским Платонова связана с популярностью концепции последнего в 30-е – 40-e годы. Когда, как уже говорилось выше, апологетическое отношение к Грозному, противником которого был С.Б. Веселовский, безраздельно господствовало, однако, даже это учитывая, необходимо признать, что мнение С.Б. Веселовского выглядит достаточно странно.
Парадоксальность оценки концепции С.Ф. Платонова как последнего слова буржуазной исторической науки советскими историками, – а с ними были солидарны и крупнейшие русские учёные предреволюционных лет (П.Н. Милюков) – в том, что сам С.Ф. Платонов, во всяком случае, вначале, не считал свои взгляды на опричнину оригинальными. В предисловии к первому изданию «Очерков по истории Смуты в Московском государстве XVI – XVII вв.» он писал о той части работы, где было изложено его понимание опричнины: «Если автору дозволено будет назвать свой труд самостоятельным исследованием, то он не отнесёт такого определения, в его точном смысле, к первой части «Очерков». Многообразие сюжетов и изобилие материалов, входящих в тему этой части, требовало бы не сжатого очерка, а многостороннего специального исследования. Автор не имел времени для такого исследования и не чувствовал в нём надобности. Учёная литература давала ему возможность собрать достаточный для его цели материал из монографий и общеизвестных сборников исторических документов».
Не только предисловие, но и само содержание первой части монографии внешне подтверждает эту несамостоятельность. В общей оценке кризиса России середины ХVI века С.Ф. Платонов солидарен с В.О. Ключевским. Так же, как и он, причину кризиса С.Ф. Платонов видит в противоречиях, заложенных в основание Московского государственного и общественного порядка.
«Первое из этих противоречий, – пишет С.Ф. Платонов, – можно назвать политическим и определить словами В.О. Ключевского: «Это противоречие состояло в том, что московский государь, которого ход истории вёл к демократическому полновластию, должен был действовать посредством очень аристократической администрации». Такой порядок вещей привёл к открытому столкновению московской власти с родовитым боярством во второй половине XVI века. Второе противоречие было социальным и состояло в том, что под давлением военных нужд государства, с целью лучшего устройства государственной обороны, интересы промышленного и земледельческого класса, труд которого служил основанием народного хозяйства, систематически приносились в жертву интересам служилых землевладельцев, не участвовавших непосредственно в производительной деятельности страны».
И в оценке опричнины как государственной реформы, направленной против потомства удельных князей, у С.Ф. Платонова были предшественники. Он пишет: «Только К.Н. Бестужев-Рюмин, Е.Д. Белов и С.М. Середонин склонны придавать опричнине большой политический смысл: они думают, что опричнина направлялась против потомства удельных князей и имела целью сломить их традиционные права и преимущества. Однако такой, по нашему мнению, близкий к истине, взгляд не раскрыт с желаемою полнотою, и это заставляет нас остановиться на опричнине для того, чтобы показать, какими своими последствиями и почему опричнина повлияла на развитие Смуты в московском обществе».
Анализ взглядов С.Ф. Платонова и его предшественников позволяет объяснить парадоксальность оценок его исторической концепции. С.Ф. Платонов не выдвинул в точном смысле этого слова новой концепции правления Ивана Грозного – тогда казалось, что все мыслимые точки зрения на его царствование уже высказаны. С.Ф. Платонов сделал большее. Он изменил сам подход к теме. До С.Ф. Платонова историков занимала личность Ивана Грозного. И от личности, так или иначе понимая её, они шли к собственно истории России. С.Ф. Платонов начал с другого конца, с истории России. Россия перестала быть простым продолжением Грозного. Она обособилась, и сразу стало ясно, насколько тесно XVI в. в русской истории связан с событиями предшествовавших веков. Время правления Ивана Грозного, сама опричнина, эмансипированная от его личности, легко вписалась в общую канву русской истории, оказалась связана и с общим направлением и с традициями предшествующих царствований. «Упразднился старый взгляд на опричнину как на бессмысленную затею полоумного тирана. В ней видят применение к крупной земельной аристократии того «вывода», который московская власть обычно применяла к командующим классам покорённых земель. Вывод крупных землевладельцев с их вотчин сопровождался дроблением их владений и передачей земли в условное пользование мелкого служилого люда», – писал С. Ф. Платонов (см. Платонов С.Ф. Иван Грозный в русской историографии – Русское прошлое. Пг. – М., 1923, № 1. С.10.).
Полное изменение подхода, полное изменение методики исследования заставило С.Ф. Платонова обратиться к совсем другому кругу источников и в значительной степени расширить сам их круг. Анализу опричнины С.Ф. Платонов предваряет чрезвычайно емкий обзор социально-экономического положения в России второй половины XVI в. Обзор этот написан на основе разрядных, писцовых, дозорных и переписных книг, Книги Большого Чертежу, а также монастырских грамот и местных источников.
И само понимание цели и назначения опричнины С.Ф. Платонов выводил не только из политических мотивов её учреждения, но и на равных основаниях из её территориального состава и экономических нужд. В свою очередь, территориальным составом опричнины обосновываются и подтверждаются политические намерения её организаторов. Таким образом, можно сказать, что вклад С.Ф. Платонова в русскую историографию второй половины XVI в. состоял в первую очередь в новом подходе к данной теме.
Этот подход оказался чрезвычайно продуктивным и, в первую очередь, для опровержения концепции опричнины, предложенной самим Платоновым. Тщательный анализ источников (отметим, что по большей части тех же, которыми пользовался и Платонов), проделанный сначала С.Б. Веселовским и в дальнейшем расширенный и углубленный А.А. Зиминым, В.Б. Кобриным и Р.Г. Скрынниковым, показал, что опричнину невозможно свести к попыткам верховной власти подавить сопротивление аристократии и уничтожить ее традиционные права и привилегии; в разное время опричнина была направлена не только против боярства и княжат, но и против верхов церкви, приказной бюрократии, против рядового дворянства, то есть тех слоев, которые изначально были главными союзниками великокняжеской власти, рука об руку с которыми великокняжеская власть прошла весь путь своего возвышения. Тем самым методика Платонова, ее применение к настоящему времени полностью и окончательно разрушили концепцию опричнины, которая видела в ней (опричнине) правильную государственную реформу, направленную на слом вотчинного землевладения служилых княжат «вообще, на всем его пространстве». В итоге мы вернулись к тому положению, которое существовало в изучении данной темы (правда, на другом уровне) перед выходом монографии Платонова, и сейчас, так же, как и тогда, остается загадкой, что же все-таки и для чего учреждалось в 1565 г. и было уничтожено в 1572 г., уничтожено под страхом наказания кнутом за само упоминание этого; для чего понадобилось Грозному делить государство на две части – земщину и опричнину, для чего понадобилось ему казнями и преследованиями дворян, приказных, церковных иерархов подрывать главные опоры своей власти?
Современная историография часто предъявляет Грозному обвинение в несоответствии цели и средств, в отсутствии логики и смысла в проводимых им репрессиях. Но основано это обвинение по большей части на недоразумении. Дело в том, что узкая антибоярская направленность его политики была приписана Грозному самими историками «из общих соображений» (такая политика считалась разумной и оправданной); впоследствии, не найдя подтверждения этой концепции в документах, историки решили, что в этом виноваты не они, а Грозный. Оказалось как-то забытым, что в грамоте, доставленной из Александровской слободы в Москву 3 января 1565 г. и ознаменовавшей собой начало опричнины, царь говорит, что «гнев свой» он «положил» «на архиепископов и епископов и на архимандритов и на игуменов, и на бояр своих и на дворецкого и конюшего и на окольничих и на казначеев и на дьяков и на детей боярских и на всех приказных людей» (Полное собрание русских летописей – СПб., 1904, т.XIII. С. 392).
То есть мы можем констатировать высокую степень совпадения между теми слоями, которые в наибольшей степени вызвали гнев Грозного в период, непосредственно предшествовавший опричнине, и теми, кто в наибольшей степени от опричнины пострадал. Это совпадение, на наш взгляд, достаточно убедительно опровергает тезис об отсутствии системы в действиях Грозного и, следовательно, позволяет вновь поставить вопрос, чего же хотел и чего добивался Грозный, вводя опричнину. Ответ на него, как представляется, следует искать не в результатах опричнины, которые на взгляд самого Грозного отнюдь не оправдали его ожиданий, а в тех обстоятельствах, которые предшествовали ее учреждению.
Смысл вышеприведенной цитаты из грамоты Грозного достаточно ясен: он явно свидетельствует о том, что Ивана IV полностью не устраивал весь комплекс отношений, сложившихся между ним и другими «властями», с которыми он исторически принужден был делить ответственность за судьбы России. В чем же причина столь острого и глобального по своей сути конфликта (без особого преувеличения можно говорить о практически полной изоляции Ивана IV) между ним и другими людьми и институтами, традиционно наряду с великокняжеской властью правящими Россией?
По-видимому, главным объяснением его следует считать, с одной стороны, драматическое изменение самопонимания и самооценки верховной власти, а с другой – меняющийся куда более медленно и вполне консервативный по своей природе взгляд на верховную власть как церкви, так и всего служилого сословия. Это несовпадение внутренней и внешней оценок верховной власти было осложнено целым рядом внешнеполитических неудач, а также глубоким внутренним кризисом в стране.
Данные тезисы, безусловно, нуждаются в обосновании.
1. Представление верховной власти о себе самой. Начиная с правления Василия Темного (1425 – 1462) великие князья Московские все более часто именуются в дошедших до нас источниках царями, что связано в первую очередь с падением Константинополя (1453 г.) и быстрым формированием взгляда, видящего в Московском царстве естественного наследника (духовного и политического) Византийской империи. Иван IV в 1547 г. первый венчается на царство, и с этого времени царский титул становится официальным атрибутом монарха в России. Тем самым завершается сакрализация носителя верховной власти, что означает «не просто уподобление монарха Богу, но усвоение монарху особой харизмы, особых благодатных даров, в силу которых он начинает восприниматься как сверхъестественное существо» (Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России. – В кн.: Языки культуры и проблемы переводимости. М., Наука, 1987. С.49).
Вопрос о Москве как наследнице Византии нуждается в более подробном рассмотрении. Давно было подмечено, что «миссия» Москвы, по представлениям ее идеологов, была гораздо шире той роли, на которую претендовала Византийская империя. Москва считала себя одновременно и вне связи с Византией наследницей первого – античного – Рима (происхождение великих князей Московских от племянника императора Августа – Пруса в «Сказании о князьях Владимирских»), а главное – ветхозаветного Израиля (Москва – второй Иерусалим, русское царство – новый Израиль).
Этот взгляд на свое предназначение подробно рассмотрен в начале нашего века в работе Н.И. Ефимова «Русь – новый Израиль» (Казань, 1912). Выводы, к которым он пришел, следует повторить.
1) Как Новый, так и Ветхий завет были хорошо известны и широко употребимы русскими книжниками.
2) Убеждение, что Русь находится под «покровом Божиим», «Господней благодатью» и «великой милостью», «является землей богоизбранной», сформировалось еще до Ферраро-Флорентийского собора (1438 – 1439) и падения Константинополя. Еще тогда русские книжники не сомневались, что русский народ, единственный сохранивший истинную веру, особенно угоден Богу, дорог ему и в путях Промысла Русь занимает место древнего народа Божия.
3) Бог на Руси мыслился «не христианским Богом в строгом смысле слова, Богом любви и всепрощения, а ветхозаветным Богом гнева, грозным мздовоздаятелем, с ужасающей справедливостью карающим каждого и весь народ, всё государство за прегрешения вольные и невольные…»
Это существенное смещение центра тяжести в русском христианстве в сторону Ветхого Завета отразилось и во взглядах на верховную власть. Тем же автором было показано, что «вообще каждый популярный, привлекавший симпатии своими социально-политическими и индивидуальными добродетелями, или непопулярный, отталкивавший своей «гордостью» и «высокоумьем» («высокомысльством») князь или царь приравнивался старорусскими литераторами прежде всего к еврейским царям и заметным фигурам библейской истории и только уже потом – к своим двойникам в сонме византийских басилевсов».
Следует также согласиться с тем, что «концепция Москвы – Третьего Рима, делая русского великого князя наследником византийских императоров, ставила его в положение, не имевшее прямого прецедента в рамках византийского образца. Концепция Москвы – Третьего Рима имела эсхатологический характер, и в этом контексте русский монарх как глава последнего православного царства наделялся мессианской ролью» (см. Живов В.М., Успенский Б.А.).
Этот обзор стоит закончить тем, что, как уже говорилось, введение в церемониал поставления на царство, начиная с Ивана IV, наряду с коронацией, миропомазания «как бы придает царю особый харизматический статус: в качестве помазанника царь уподобляется Христу (ср. χριδτοζ – «помазанник»)… (Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен. – В кн.: Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 202).
Реальность подобного взгляда и подобного понимания сущности верховной власти в России подтверждается, в частности, свидетельствами иностранцев. Так, например, голландец Исаак Масса писал в своих записках о России, что русские «считают своего Царя за высшее божество» (Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. – М., 1937. С.68).
2. Разрыв между самопониманием верховной власти и существующей практикой управления государством.
Тот взгляд на верховную власть, который был описан выше, начал формироваться в XV в. и окончательно устоялся в середине XVI в. Грозный был первым русским царем, не просто глубоко воспринявшим весь комплекс идей и представлений, лежащих в его основе, но и целиком сформированный таким пониманием своей власти. Его знаменитая переписка с Курбским дает много ярких примеров того, насколько далеко к тому времени разошлись позиции Грозного и всего служилого сословия.
В свое время В.О. Ключевский коротко и остроумно охарактеризовал сущность этой переписки: «За что ты бьешь нас, верных слуг своих?» – спрашивает князь Курбский. «Нет, – отвечает ему царь Иван, – русские самодержцы изначала сами владеют своими царствами, а не бояре и не вельможи» (См. Ключевский В.О. Соч., т.2, ч.2. – М., 1957. С.170). Такое их полное непонимание друг друга, отсутствие какой бы то ни было общей базы для спора объясняется тем, что если Курбский остается в рамках вполне традиционных представлений о службе вассала сюзерену, то Грозный пытается придать своим отношениям с подданными и своей власти строго религиозный облик, сделать ее, как власть Бога, неподсудной и не нуждающейся в защите и обосновании.
Переписка Ивана Грозного с Курбским свидетельствует о совершенно определенном «вымывании» светской составляющей верховной власти. Иван IV склонен трактовать измену Курбского себе не как измену вассала сюзерену, а как измену Богу и вере. Он ставит знак равенства между изменой Курбского и отказом Курбского от вечного спасения: «Зачем ты, о князь, если мнишь себя благочестивым, отверг свою единородную душу? Чем ты заменишь ее в день Страшного суда?» Причем Грозным подчеркивается, что эта измена Богу есть нечто постоянное, совершенно не зависимое от личных человеческих качеств носителя верховной власти: «Не полагай, что это справедливо – разъярившись на человека, выступить против Бога; одно дело – человек, даже в царскую порфиру облеченный, а другое дело – Бог».
Неповиновение монарху, а тем более прямая измена ему тем самым вообще изымается из сферы возможного и допустимого. Ситуации, в которой измена может быть оправдана, не существует вовсе: «Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, то почему же испугался безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а воздаяние?» И дальше: «Если же ты праведен и благочестив, почему не пожелал от меня, строптивого владыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни?»
Следует отметить, что в основе такого понимания верховной властью самой себя лежала чрезвычайно жесткая логическая конструкция, предельно упрощающая взаимоотношения между Богом и царем, царем и его подданными, Богом и подданными царя: «Воззри (…) и вдумайся: кто противится власти – противится Божьему повелению». Эта схема, в свою очередь, была калькой с такого же упрощенного взгляда на мир, в котором единственное сохранившее истинную веру царство – Россия – со всех сторон было окружено разного рода иноверцами и еретиками.
Заключая изложенное в этом разделе, можно констатировать, что в середине XVI в. весь комплекс взаимоотношений, соединяющих верховную власть с ее подданными, перестает удовлетворять верховную власть. Рассматривая себя как власть вполне религиозную, верховная власть должна была стремиться заменить традиционные узы, связывающие ее с ее подданными, узами, имеющими ту же религиозную природу, что и она сама, тем самым устранив возникшее противоречие. При очевидности и логичности самой идеи реальный путь построения новых отношений долгое время был неясен. Когда же образец был найден, события стали развиваться с поразительной быстротой.
Если религиозное понимание верховной власти складывалось в России медленно и постепенно, на протяжении веков, то «перевести» всю систему государственных отношений на религиозную основу Грозный пытается за считанные годы. Эта чрезвычайная ускоренность реформ связана с многочисленными заговорами, а также военными неудачами России, свидетельствовавшими не только о разложении старой государственной системы, но, главное, о том, что Бог отвернулся от своего избранного народа.
3. Верховная власть и Ливонская война. Нам представляется, что анализ, проделанный выше, позволяет с достаточной достоверностью реконструировать тот ход событий, который привел Грозного к идее учреждения в России опричнины, а также объяснить характер и смысл этого, по общей оценке, «странного» учреждения.
Вторая половина 1564 года, то есть время, непосредственно предшествовавшее отъезду Грозного в Александровскую слободу и учреждению опричнины, – это время, когда Грозный наиболее интенсивно занимался проблемами будущего политического устройства Ливонии, в частности, лично ведя переговоры с плененным русскими войсками магистром Ливонского ордена Фюрстенбергом. Неудачи русских войск на протяжении 1563 – 1564 гг. показали Грозному и его ближайшим советникам невозможность чисто военного присоединения Ливонии к России и потребовали разработки достаточно сложных дипломатических проектов будущего устройства и будущего характера связи между Ливонией и Россией. В окончательном варианте Иван IV «выдвинул проект восстановления распавшегося Ливонского ордена. Предполагалось, что восстановленный Орден будет находиться под протекторатом Русского государства. Великим магистром должен был стать пленный Фюрстенберг. В преемники ему назначался сын Г.Кетлера – Вильгельм» (Королюк В.Д. Ливонская война – М., 1954. С.60). Вне всяких сомнений, разработка такого проекта была бы невозможна без изучения истории Ливонского ордена от момента его возникновения, без анализа взаимоотношений Ливонии со всеми ее соседями, а также без исследования вопроса о Тевтонском ордене, одним из правопреемников которого был Ливонский.
Идея вассальной зависимости от русского царства одного из последних официальных и владетельных наследников христианской власти на территории Палестины, без сомнения, должна была импонировать Грозному. Следует отметить, что вообще иерусалимские короли, чьей надежнейшей опорой были военно-монашеские ордена и, в частности, Тевтонский, занимают в той схеме преемственности верховной власти (от Бога) промежуточное положение: еврейские цари святого народа и Святой земли – христианские короли Святой земли – русские цари новой Святой земли, нового святого народа. В контексте этого понимания признание Ливонским орденом своей вассальной зависимости от России означало одновременно и правопреемство русского великого князя по отношению к иерусалимским королям, и, следовательно, их приоритетные права на старую Святую землю и Иерусалим, на соединение под своей властью обеих Святых земель.
История военно-монашеских орденов, их решающая роль в поддержании и укреплении власти иерусалимских королей, их великолепные боевые характеристики не могли не натолкнуть Грозного на убеждение, что эти преимущества их по сравнению с обычным рыцарством объясняются в первую очередь религиозным характером и наполненностью их службы, теснейшим соединением в этих орденах военной и монашеской службы, невозможностью эту службу разорвать без утраты всякой надежды на вечное спасение. Военно-монашеские ордена должны были показаться Грозному идеальным решением всех стоящих перед ним проблем, идеальным способом организации военного сословия России – новой Святой земли. Воинство, в свое время созданное исключительно для защиты и распространения истинной веры, было именно тем, в чем нуждалась Россия. Записки иностранцев, описывающие жизнь в Александровской слободе – столице опричнины, а также те права и привилегии, с одной стороны, а с другой – ограничения, которые налагались на опричников, рисуют картину, весьма схожую с бытом военно-монашеских орденов, естественно, с теми поправками, которые были детерминированы специфическими для России особенностями.
4. Устройство Опричного двора, организация и функционирование опричнины. Этот раздел хотелось бы предварить следующим: во все время существования опричнины для Грозного было характерно стремление к безусловному и очень резкому разделению мира опричнины и «обычного» мира. Это проявлялось отнюдь не только в дублировании большинства приказов и служб, отдельно и самостоятельно управляющих опричниной и земщиной, но, главное, в четко различимых и последовательных попытках Грозного изъять всю опричнину и каждого опричника из общего порядка вещей, сделать их как бы «не от мира сего».
Были разделены на опричную и земскую:
а) верховная власть (опричнина передавалась в личный удел великому князю, Московское же государство (земщина) должно было управляться Боярской думой);
б) территория государства (причем из уездов, взятых в опричнину, выселялись все дворяне, в нее не принятые). Кстати, похоже, что и военные походы Грозного на Тверь, Торжок, Новгород в 1571 г. и едва не закончившийся таким же погромом, как Новгородской поход, поход на Псков, были аналогом крестовых походов, на этот раз на Руси, в новой «Святой земле». Страна была поделена на «верных» (опричнина) и «неверных» (земщина), и «неверных» следовало устрашить и покорить. Произошедшее несколько позже – в 1574 г. – при втором издании опричнины поставление во главе земщины царем служилого касимовского хана Симиона Бекбулатовича, то есть прямого потомка властителей Золотой Орды – многовековых угнетателей «нового Израиля», должно было еще жестче подчеркнуть эту «неверность» земщины;
в) управление (большинство приказов были разделены, что сделало возможным практически независимое управление обеими частями государства);
г) финансы (каждая из частей государства имела свои собственные источники дохода);
д) судебная власть (она также была фактически разделена: по свидетельству Штадена, вскоре после учреждения Опричного двора «великий князь послал в земщину приказ: «Судите праведно, наши (т.е. опричные – В.Ш.) виноваты не были бы» (Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки немца опричника. – М., 1925. С.86). Источники единодушны в том, что как судьи, так и дьяки во все время существования опричнины решали дела в соответствии с этой формулой);
е) запрет на личное общение между опричниками и земскими. Тот же Штаден писал, что «если у опричника были в земщине отец или мать, он не смел никогда их навещать». И дальше: «Я рассуждал тогда так: я хорошо знал, что пока я в земщине, я проиграю (всякое) дело, ибо все те, кто был в опричных при великом князе, дали присягу не говорить ни слова с земскими. Часто бывало, что ежели найдут двух таких в разговоре – убивают обоих, какое бы положение они ни занимали. Да это и понятно, ибо они клялись своему государю Богом и Святым крестом. И таких наказывал Бог, а не государь».
Это свидетельство подтверждается двумя другими видными опричниками – Таубе и Крузе (см. «Русский исторический журнал» – Пг., 1922, кн. 8. С.35). Дворянин, вступающий в опричнину, по их сообщениям, клялся и целовал крест не только в верности государю, великой княгине и молодым князьям – наследникам Грозного, но также «не есть и не пить вместе с земщиной и не иметь с ними ничего общего»;
ж) внешнее отличие опричных дворян от земских. «Живя в упомянутом Александровском дворце, словно в каком-нибудь застенке, он (царь – В.Ш.) обычно надевает куколь, черное и мрачное монашеское одеяние, какое носят братья Базилиане, но оно все же отличается от монашеского куколя тем, что подбито козьими мехами. По примеру тирана также старейшины и все другие принуждены надевать куколи, становиться монахами и выступать в куколях…» (Новое известие о России времени Ивана Грозного. «Сказание» Альберта Шлихтинга. – Л., 1934. С. 27).
А.Шлихтингу вторят Таубе и Крузе: «Пехотинцы все должны ходить в грубых нищенских или монашеских верхних одеяниях на овечьем меху, но нижнюю одежду они должны носить из шитого золотого сукна на собольем или куньем меху»;
з) особый образ жизни опричников в Александровской слободе. Соединение в нем элементов монашеской жизни и жизни служилых дворян. «…Великий князь каждый день встает к утренним молитвам и в куколе отправляется в церковь, держа в руке фонарь, ложку и блюдо. Это же самое делают все остальные, а кто не делает, того бьют палками. Всех их он называет братией, также и они называют великого князя не иным именем, как брат. Между тем он соблюдает образ жизни, вполне одинаковый с монахами. Заняв место игумена, он ест один кушанье на блюде, которое постоянно носит с собою; то же делают все. По принятии пищи он удаляется в келью, или уединенную комнату. Равным образом и каждый из оставшихся уходит в свою, взяв с собой блюдо, ножик и фонарь; не уносить всего этого считается грехом. Как только он проделает это в течение нескольких дней и, так сказать, воздаст Богу долг благочестия, он выходит из обители…» (Шлихтинг).
Схожую картину рисует и другой источник: «Когда пробивает восемь часов, идет он снова в церковь, и каждый должен тотчас же появиться. Там он снова занимается пением, пока не пробьет десять. К этому времени уже бывает готова трапеза, и все братья садятся за стол. Он же, как игумен, сам остается стоять, пока те едят. И дальше… Когда трапеза закончена, идет сам игумен к столу. После того как он кончает еду, редко пропускает он день, чтобы не пойти в застенок, в котором постоянно находится много сот людей; их заставляет он в своем присутствии пытать или даже мучить до смерти безо всякой причины…» (Таубе и Крузе);
и) организационная структура Опричного монастыря. Распределение чинов в нем.
Таубе и Крузе писали: «Этот орден (здесь уместно подчеркнуть, что ливонские дворяне, в отличие от русских, хорошо знакомые с такими образованиями, как монашеские ордена, ясно сознавали сходство с ними корпуса опричников. – В.Ш.) предназначался для совершения особенных злодеяний. (…) Сам он (Иван Грозный – В.Ш.) был игуменом, князь Афанасий Вяземский келарем, Малюта Скуратов пономарем; и они вместе с другими распределяли службы монастырской жизни… Рано утром в 4 часа должны все братья быть в церкви; все неявившиеся, за исключением тех, кто не явился вследствие телесной слабости, не щадятся, все равно высокого ли они или низкого состояния, и приговариваются к 8 дням епитемии. В этом собрании поет он сам со своей братией и подчиненными попами с четырех до семи».
Теперь, прежде чем перейти от характеристики Опричного монастыря к заключающим статью выводам, хочется отметить, что обильно цитируемые выше записки иностранцев, рисующие жизнь в Александровской слободе, давно и хорошо известны историкам, выдержки из них можно найти практически в любой монографии, посвященной царствованию Ивана IV. Однако во всех этих работах Опричный монастырь используется, к сожалению, единственно как яркий пример особой извращенности царя. Лейтмотивом этого взгляда служат следующие слова А.Шлихтинга: «Как только он проделает это в течение нескольких дней (т.е. поживет жизнью монаха – В.Ш.) и, так сказать, воздаст богу долг благочестия, он выходит из обители и, вернувшись к своему нраву, велит привести на площадь толпы людей и одних обезглавить, других повесить, третьих побить палками, иных поручает рассечь на куски, так что не проходит ни одного дня, в который бы не погибло от удивительных и неслыханных мук несколько десятков человек».
В последнее же время известным филологом и специалистом по семиотике Б.Успенским (см. «Царь и самозванец») была сделана попытка рассмотреть Опричный монастырь в другом ракурсе – в рамках некоего маскарада, «антиповедения», выражающегося «как в переряживании, так и в кощунственной имитации церковных обрядов». Б.Успенский видит в опричниках «своего рода ряженых, принимающих бесовский облик и бесовское поведение», и считает, что «…опричный монастырь Грозного в Александровской слободе, – когда опричники рядятся в чернеческое платье, а сам царь называет себя игуменом этого карнавального монастыря, – по всей видимости, возникает под влиянием (…) святочных игр…» Основанием для такого понимания опричнины служит для Б.Успенкого в первую очередь сопоставление ее со Всешутейским собором Петра I. Вряд ли эта параллель оправдана. Если как у современников Петра I, так и у его потомков равно не вызывало сомнений карнавальное, заложенное в самом названии шутовское назначение «собора», то в отношении опричнины ни в одном из источников нет даже намека на возможность ее «веселого» понимания.
Подведем итоги.
Как представляется автору, сделанный анализ позволяет прийти к следующим выводам. Во второй половине XVI в. многочисленные мнимые и реальные заговоры убеждают Ивана IV в ненадежности старых уз, связующих монарха и подданных, их несоответствии самой природе верховной власти в России. Стремясь разрешить это противоречие, Грозный пытается соединить в своих руках как светскую, так и религиозную власть и заново выстроить весь комплекс своих взаимоотношений с подданными, сделав измену ему не только изменой раба господину, вассала сюзерену, но и главное – изменой Богу и вере. Учреждение опричнины было попыткой организации части дворянского сословия России на началах военно-монашеского ордена (то же назначение, тот же путь формирования, те же юридические права и привилегии), подобного Тевтонскому и Ливонскому (царь – глава ордена, игумен опричного монастыря, опричники – монахи). К 1572 г. планы Грозного потерпели провал, идея эта была им оставлена и упоминание об опричнине запрещено под страхом наказания кнутом, но старая политика террора, которую историки именуют опричниной, продолжалась и дальше.
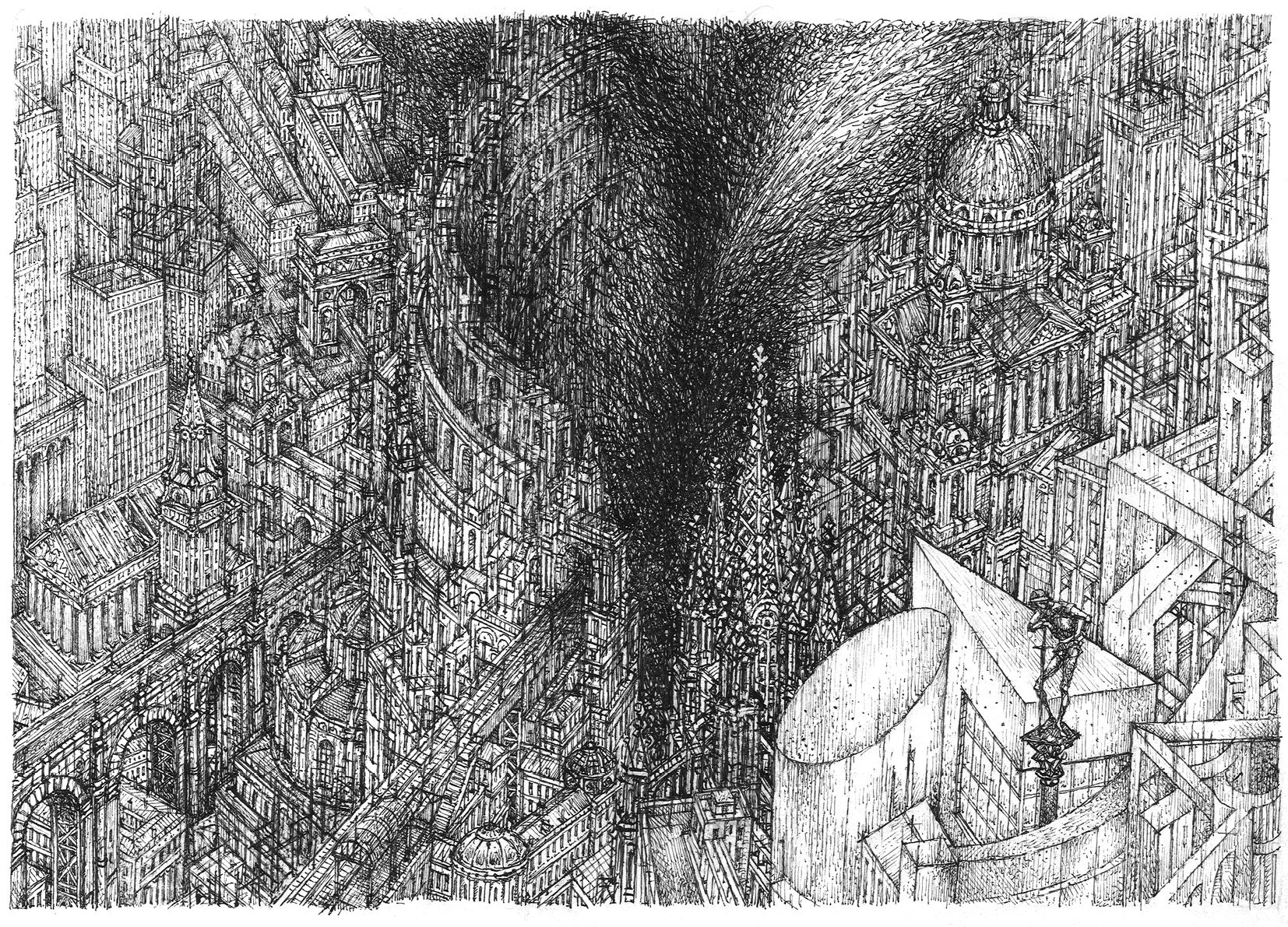
КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ:
ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ
Последние две работы, которые я хочу предложить читателю, если и касаются русской верховной власти, то боком, в числе других. В любом случае, никак ее не выделяя. Думается, тем не менее, что для идущих выше статей они являются неплохим комментарием. Первая, «Конфликт цивилизаций» (она была опубликована в журнале «Знамя» № 4 за 2003 год), в частности, о том, почему революции вообще возможны и почему время от времени они происходят с такой невообразимой, ни с чем не сообразной легкостью. Небольшая группка мало кому известных людей оказывается способной свалить огромную империю с полутора сотнями миллионов душ населения, с огромной армией, флотом, полицией; империю, до этого выигравшую десятки долгих кровопролитных войн.
Это эссе об иррациональном в истории, о том, что стоит кому-то прийти в голову, что на самом деле мы слабы – бумажный тигр, слон на глиняных ногах, – как мы и сами начинаем так думать, теряем в себя веру и рушимся, будто карточный домик. И еще: оно о том, что если в дуэльном кодексе четко прописано, что оружие выбирает вызванный на поединок, то в конфликте цивилизаций, кто бы на кого ни поднимал руку, очень часто и к великому сожалению победить противника можно лишь его собственным оружием. А используя оружие противника, ты волей-неволей превращаешься в него самого. То есть в любом случае он тебя побеждает, заставляет признать свои правила игры, свою правоту. И это куда важнее, чем то, за кем осталось поле боя.
Завершает книгу работа, название которой «О прошлом настоящего и будущего». Речь в ней, как это видно из заголовка, пойдет о таких общих предметах, как история и прошлое – время, которое каждый из нас и все мы вместе прожили, и думаем, что оставили позади.
По роду своей деятельности я принадлежу к людям, которые считают, что слова нужны в первую очередь, чтобы что-то сказать, а не умолчать или того хуже – ввести в заблуждение. Я понимаю, что политики, госчиновники время от времени должны говорить так, чтобы никто ничего не понял, но почему во всех материалах, что мне за последнее время довелось
читать, подобным образом изъясняются и политологи, и журналисты – уразуметь не в состоянии. Возможно, они боятся неосторожным словом привести к крови, которой и без того льется немерено, и все же, мне кажется, что дело в другом – в нашей первобытной вере, что пока нечто не названо, пока у него нет своего имени, в мире его как бы и не существует. Плюс в слабой надежде, что не сегодня-завтра проблема сама собой рассосется (с ней кончится и кровь), забудется, словно страшный сон. Иначе маховик не остановить. Все покатится, покатится, и впереди нас ждут религиозные войны столь же долгие и, главное, жестокие, как в средние века.
В нашем разделенном и разрозненном мире, где во многих странах нет цензуры, а если и есть, то в каждом государстве своя, свой, естественно, и ее вектор, этот единодушный заговор тысяч и тысяч людей, пишущих о конфликте цивилизаций, ставит меня в тупик. Я, конечно, тоже постараюсь не сказать ничего такого, что могло бы еще больше накалить обстановку, тем не менее, вспомнив собственные занятия историей, попытаюсь объяснить некоторые вещи, разумеется, как сам их понимаю. Я убежден, что ситуация пока не безнадежна, что остановить втягивание всех и вся в войну двух огромных культур можно, но чтобы сделать это, представлять суть происходящего необходимо.
Очевидная ремарка. Мир бесконечно сложен, интересы разных стран, группировок, людей даже внутри одного лагеря подчас имеют между собой мало схожего, и то, что пойдет ниже, – абрис, первый набросок картины, а не законченный и вставленный в рамку холст. Я говорю и буду говорить только о том, что в каждом лагере есть общего, лишь о том, что, собственно, и позволяет назвать зреющий конфликт “конфликтом цивилизаций”. Причем о двух вещах: гендерные особенности нашей и восточной цивилизации; существование каждой из них в соответствии со своими внутренними часами – я умолчу: об этих вопросах уже писалось.
В нашей жизни всегда, и сейчас тоже, не много спокойных разговоров, слабых, неуверенных попыток понять друг друга, и наоборот, она до краев переполнена напряженными монологами, столь же страстными, бескомпромиссными, как, например, между большевиками, эсерами и меньшевиками в России начала прошлого века. С теми же последствиями и для участников этих дискуссий, и для других, отнюдь в них не замешанных, просто не успевших или не решившихся вовремя убежать. Цель яростных споров одна-единственная: убедить не столько противника, сколько себя в том, что ты прав. Правота, наверное, самое страшное и самое мощное в мире оружие. Правота бесконечно умножает твои силы, она – настоящий синоним победы; неправота же, наоборот, в мгновение ока превращает тебя в паралитика, не способного пошевелить и пальцем (КПСС в 1991 году). Вдобавок правота есть не знающая ограничений индульгенция, мандат, требующий расправляться с каждым, кто ей противится. Битва за это “кольцо Нибелунгов” не может не быть беспощадной.
Однако правд в мире много – настоящих, не кажущихся правд. Земля у нас, конечно, одна, и она такая, какая есть, но все на ней изменчиво и подвижно, а главное – мы стоим каждый на своей горке, видим разные ее части и честно докладываем о том, что перед нами. Остается собрать, свести разные правды – и мы поймем целое. Но желающих найти нелегко, обычно у нас получается спор семи слепцов из индийской сказки о том, на кого похож слон. Слепцы в ней, как известно, ни о чем договориться не смогли, передрались; вот и мы: воюем, воюем, мечтая победить, доказать, что правда наших врагов – не что иное, как ложь.
В сущности, эти войны вечны и неизбежны. Они возникают всякий раз, когда судьба сталкивает две правды, и они тем яростнее, чем у оппонентов меньше шансов отойти в сторону, забыть друг о друге. Нечто похожее происходит в земной коре, где дрейфуют, трутся друг о друга, а иногда, словно вслед нам, прямо в лоб сталкиваются материковые платформы. Основное и здесь и там происходит на глубине, но и того, что показывают человеку – извержения вулканов, землетрясения, – достаточно, чтобы ужаснуться. Нет сомнения, что сейчас такая вот платформа мусульманской культуры пришла в движение: если взять карту, ясно видно, что везде, где она соприкасается с другими культурами (я тут не веду речи об исторических корнях и об исторических же обидах), идут или стычки, или целые войны. Индонезия: остров Тимор, враг – христианство; остров Бали – буддизм; Филиппины – христианство и мусульманство; Китай – тлеющий конфликт между ханьцами и мусульманами-уйгурами. Дальше – Индия и Пакистан. Россия и Чечня. Слава Богу, не разгоревшийся до крови конфликт между крымскими татарами и крымским же славянством. Болгары и турки. Сербы и албанцы, те же сербы и боснийцы. Продолжая круг: в Палестине евреи и арабы. В Судане убийство сотен тысяч человек, целых племен на христианском юге. Нигерия: снова война между мусульманским севером и христианским югом (когда-то Биафрой). Война между Эфиопией и ныне независимой Эритреей.
Эти конфликты связаны не только и даже не столько с естественными причинами, главная из которых – бурно растущее в мусульманских странах население, бедность, невозможность прокормить десятки миллионов ртов (в Африке рождаемость в христианских семьях ненамного ниже), а что очень важно и о чем почему-то не пишут – с осознаной и вполне грамотно ведомой политикой.
На Ближнем Востоке и в Африке (здесь нас интересуют в первую очередь арабские страны, благодаря нефти отнюдь не бедные, имеющие огромные финансовые излишки, которые они хранят в ненавидимых Европе и Америке) постколониальная эпоха отличалась редкой нестабильностью. В шестидесятые и в начале семидесятых годов перевороты в них следовали один за другим. В некоторых странах и в некоторые годы группировке, захватившей власть, наверху нечасто удавалось удержаться больше полугода. Каждая же смена режима влекла массовые казни, в лучшем случае изгнание противника. То есть местные элиты занимались настоящим самоистреблением, и очень долго что делать было совершенно не понятно. Сейчас, когда в большинстве арабских стран тишь да благодать, когда не только короли и шейхи без особых хлопот передают троны наследным принцам, но и президенты из бывших революционеров без протестов и потрясений оставляют свои выборные должности старшим сыновьям (Асад в Сирии), в наступившее благолепие трудно поверить.
Политика, которая обеспечила это ни с чем не сравнимое спокойствие, известна не одну тысячу лет, но проведена в жизнь она была с редкой настойчивостью и успехом. Суть ее в следующем: люди, готовые ради идей, власти, денег убивать и быть убитыми, все те, кто может нарушить стабильность внутри государства, отправляются на и за границу, туда, где мусульманский мир сталкивается с иными мирами и иными культурами – так сказать «на фронт». Причем наказанием здесь и не пахнет, нооборот: правительство, общество считает их героями, с энтузиазмом оказывает финансовую, военную, прочую поддержку.
Подобным образом Сирия покровительствует базирующейся в Ливане шиитской Хезболле, а та в свою очередь не обращает внимания на расправы с шиитами в самой Сирии. Из тех же соображений поддерживают ваххабизм официальные союзники США в арабском мире – Саудовская Аравия и государства Персидского залива. Заключена некая негласная договоренность, суть которой в следующем: в обмен на помощь «воины Аллаха» ни при каких условиях не вмешиваются во внутренние дела государств, их опекающих. Цель, которая перед ними поставлена, – победить или умереть в бою именно с неверными. Особенно замечательно, что благодаря умелой пропаганде – погибший шахид сразу получает место в раю – обе стороны равно устраивает и одно, и второе.
Примеры такого пути к стабильности многочисленны и известны издревле. В России на окраине государства или на границе держали беспокойное казачество, время от времени подкармливая, жалуя ему свинец, порох и хлеб, и туда же, на окраины империи, ссылались те, кто ныне зовется нонконформистами – сектанты и революционеры. Во время крестовых походов (место действия – все тот же Ближний Восток) Европа избавилась от десятков тысяч не знавших, чем себя занять, рыцарей, получив в награду пару веков относительного покоя. Испания, победив мавров, часть своих конкистадоров отправила в удивительно вовремя открытую Америку. Кстати, единственная страна из арабских, не сумевшая переориентировать собственных недовольных – Алжир – платит за неудачу бесконечной гражданской войной, от которой лишь в последние годы погибли, как я читал, десятки тысяч человек. Войной, в которой подчистую, от грудных младенцев до стариков, вырезаются целые деревни.
Итак, сделаем первый вывод: террор, корни которого мы привыкли искать в радикальном исламе, в ваххабизме, – это чисто внутримусульманский конфликт, вектор коего с немалыми усилиями удалось повернуть и обратить вовне. Когда-то Ленин призывал – и успешно – превратить войну империалистическую в войну гражданскую – здесь мы видим нечто очень похожее, но с другим знаком: война гражданская превращается в войну империалистическую.
Вторая из ключевых проблем, породивших современную ситуацию, целиком и полностью связана с беженцами, иммигрантами. В Европе вкупе с Америкой число их – а тут мы говорим исключительно о беженцах из мусульманских стран – давно превышает двадцать миллионов человек и быстро увеличивается, благодаря притоку новых и из-за сохраняющейся высокой рождаемости. Большинство этих иммигрантов прибывают из стран, где еще уцелело племенное устройство жизни, если же оно распалось – то лишь вчера и главное в нем никем не забыто. А главным, в отличие от либеральных западных обществ, где люди давно вполне атомарны и, не вызывая ничьего интереса, живут там, где считают нужным и как считают нужным, – было то, что, покинув родину, став изгоем, беженцем, ты автоматически признаешь крах, полное банкротство мира, в котором родился и вырос, мира, не способного дать тебе возможность прокормить себя, свою семью, обеспечить безопасность. Подавая прошение о статусе беженца, ты именно это и пишешь.
Бежав, человек действительно теряет очень и очень много. Восточные цивилизации и сейчас строго иерархизированы, в их пирамиде, сколь бы ни был ты мал, у тебя есть неотъемлемое место. Словом, ты – законная часть мироздания. Ничего общего с изгнанником: по племенным, следовательно, по его собственным понятиям, а нынешний Восток не слишком отличен от средневековой Европы, положение изгоя близко к статусу раба, холопа. Он существует вне закона и правил, жизнь его принадлежит роду, который спас, взял его под свое покровительство.
Другое дело, что в нынешних Европе и Америке на сей счет существуют иные представления. Вообще, западный мир, который мы застали в конце прошлого века и который, к счастью, пока еще не до конца разрушен, по-моему, аналогов в природе не имеет. Если дарвиновская теория отбора утвердила – как непреложный – закон, по которому везде и всегда выживает сильнейший, то западный либерализм, во всяком случае, многое в нем представляется мне попыткой – равно благородной, идеалистической и безумной – нарушить этот принцип, доказать, что неукоснительно он существует лишь в животном мире, а человек может и должен жить по другим правилам. Западный мир признает, что любой человек, которому что-то недодано природой или согражданами (проще сказать, слабак, обреченный на вымирание) имеет право получить от общества компенсацию. Последнее касается не только инвалидов, разного рода меньшинств, безработных, иммигрантов – в Скандинавии, например, даже в школах, чтобы способные ученики не унижали своими знаниями и академическими успехами отстающих, целые десятилетия отметки были напрочь запрещены.
Возможно, подобная система, если брать не десять-двадцать лет, а например, сто, нежизнеспособна. Возможно, отказ от отбора неизбежно ведет к вырождению, гибели, и все же, хотя по опросам две трети этих самых скандинавов атеисты, да и другая Европа по сравнению с прошлыми веками куда менее религиозна, мне кажется, что мир, который они построили, ближе к Господу, чем любой другой.
В общем, беженцам повезло: в Европе и Америке они оказались не холопами, не рабами и даже не изгоями. Кроме сочувствия, они получили еду, квартиру, пособие и медицинскую помощь, а большинство из них при некотором напряжении сил смогло найти и работу. Трудясь в поте лица, они делали, что могли, чтобы на новой родине стать своими, перенять язык, нравы, обычаи – проще говоря, ассимилироваться и во всех смыслах этого слова приобрести законный статус. Так продолжалось вплоть до последних десяти-пятнадцати лет, и особых проблем иммигранты никому не доставляли. Они нашли свою нишу: как правило, малоквалифицированный труд, но не только, и постепенно – в детях, внуках – делались почти обычными американцами, французами, англичанами и немцами.
Той первой волне иммигрантов Запад казался неимоверно сильным, умным и богатым. Это общество казалось им настолько хорошим, что стоило потрудится, чтобы стать его частью. И все равно они знали, что, чтобы подняться по здешней социальной лестнице, войти в средний класс, сравнявшись с другими в доходах, в образовании, им понадобится еще много времени. И тут пришла новая волна, частью состоящая из воевавших на границе мусульманского мира “воинов Аллаха” во главе с их духовными вождями. Они пришли с совсем новой проповедью, и их слова были исполнены такой веры и столько всего обещали, что скоро едва ли не половина иммигрантов, не зная сомнений, пошла за ними. В сущности, как бывало уже не раз, от своих учителей прозелиты услышали, что они, последние, на самом деле – воистину первые.
Когда-то Советский Союз большую часть времени, отпущенного ему природой, не сомневался, что Запад слаб, достаточно одного толчка – и он рассыплется, будто карточный домик. Бесконечные конфликты между государствами и внутри них – между партиями; не менее ожесточенная борьба между корпорациями с сонмом тысяч заинтересованных в их процветании лиц – все это не просто позволяло легко и дешево иметь в каждой из враждебных стран пятую колонну, огромное число сочувствующих, готовых служить нашей родине не за страх, а за совесть, но и, по общему мнению, неумолимо свидетельствовало, что еще чуть-чуть – и Запад рухнет. Как говорили пророки, разделенное царство не устоит. Достаточно нескольких танковых дивизий, чтобы разбежались его армии с солдатами, не могущими воевать без теплого туалета на поле боя и там же, на поле боя, без мороженого на десерт.
Я в начале 70-х годов, учась на заочном отделении Воронежского университета, по большей части как раз вместе с военными политруками, слышал это бесконечно и ежедневно. Разговор о бессилии американской армии – с прочими и так было ясно – начинался после первой же рюмки и остановить поток презрения, насмешек глупо было и пытаться. Увы, в 1991 году, причем именно как карточный домик, в одночасье, рассыпались мы сами и, казалось, вопрос о слабости Запада снят. Снят раз и навсегда.
Однако великие идеи вечны. Мысль, что Запад – колосс на глиняных ногах, что он давно и непоправимо сгнил, смердит, и года не провалялась в пыли. На смену коммунистам пришли другие учителя, паства их тоже была иной, но оброненное большевиками они не поленились и подобрали. Своим бывшим соплеменникам, а теперь здесь, на Западе – иммигрантам и беженцам, тем, кому целые поколения предстояло ждать, пока их потомки и впрямь обретут новую родину, они сказали, что Аллах услышал их молитвы. Просимое он даст им уже сегодня. И даже больше даст, несравнимо больше.
Не надо трудиться в поте лица и не надо учиться, им не нужны подачки – все, о чем они мечтают, – у их ног, потому что именно они – настоящие, по Божьему праву хозяева этих стран и земель. То, что по простоте и наивности они принимали за силу и великодушие Запада, на самом деле есть его слабость и распад. Не от широты души их пустили в сей благословенный край, край, благодаря многим векам разбоя и грабежа колоний, текущий молоком и медом, а из немощи. Их обманули, обвели вокруг пальца, заставив поверить, что они – жалкие просители.
Нет, они пришли не за милостыней, они солдаты, бесстрашные воины. Они первыми в высокой и кажущейся неприступной стене, которой Европа с Америкой отгородились от остального мира, сумели обнаружить прорехи, бреши, выкопать подземные ходы и проникнуть прямо в стан врага. Последний дурак будет верить словам о правах человека; правда в том, что европейцы никогда не хотели и не хотят, чтобы вы жили рядом с ними. Они бы многое дали, чтобы случилось чудо и вас, хоть вы и убираете их улицы, работаете на их стройках, заводах, куда-нибудь забрал Господь. Забрал всех до одного. Помните, вы никому и ничем не обязаны, вы – завоеватели, авангард огромной армии. Совершив подвиг, вы овладели плацдармом, теперь очередь за остальными.
Они говорили им о слабости Запада, почему он даже пальцем не пошевельнет, чтобы остановить нашествие. Он весь соткан из предательства и измены, подлости и корысти: так, левые партии, надеясь, что иммигранты, натурализовавшись, на выборах отдадут им голоса, сделают все, чтобы этих голосов было больше; о могущественной корпорации юристов, зарабатывающих немереные деньги в ущерб собственным согражданам, защищая права пришельцев; о шкурных интересах компаний, не могущих прожить без нефти , что качают из-под земли на бывших родинах беженцев, и прочее, прочее, прочее.
Главное же, западный мир настолько стар, что уже не способен меняться. Он слишком изношен и любые попытки хоть что-нибудь в нем поправить разом его развалят. Идея, что он должен помогать слабым и обиженным, намертво встроена в его убогую философию, и как бы ни была опасна ситуация, просто выкинуть ее на свалку невозможно: вместе с ней рухнет все здание. Не питайте иллюзий: здесь нет ни капли высокого, просто голая старческая нужда и вырождение. Весь Запад – это те же старики, за которыми вы ухаживаете в их домах для престарелых, хосписах. Как у всех стариков, силы их только убывают.
Несомненно, что в новых проповедниках есть огромный запас внутренней правоты. Именно она велит им неукоснительно запрещать любую проповедь чужой веры на своей территории, при первой возможности разрушать чужие храмы и столь же неукоснительно добиваться права везде, без каких-либо изъятий проповедовать собственный взгляд на Бога и на мир. Эта несимметричность может быть объяснима лишь одним – полным непризнанием другого мира, другой цивилизации.
Обосновывая грядущую революцию, которая должна стать одной из наиболее радикальных за последние столетия, духовные вожди Востока учат, что западная культура разлагается, гниет, но это еще не все, правда куда хуже – она изначально порочна, аморальна и уже по одному этому достойна уничтожения. И она сознает свою неполноценность. Именно из-за нее западные женщины отказываются рожать: в каждом поколении природных европейцев и тех, кто переселился в Америку из Европы, все меньше и меньше. Пройдет несколько десятилетий, максимум столетий – с точки зрения истории срок ничтожный – и их земли без чьего-либо вмешательства сделаются пустыней. То есть это просто медленное, растянутое во времени самоубийство. В сущности, если бы не зараза, которая оттуда идет, европейцев можно было бы и не убивать, они и так скоро вымрут. Иммигранты заселяют территории, которые освобождаются сами собой.
Чего-то подобного беженцы ждали давно, можно сказать, уже изождались. Это было чудо, снявшее с их плеч огромный груз, спасшее, поднявшее их с колен. Здесь, где они теперь жили, они больше никому ничего не были должны, никому ничем не были обязаны и оттуда, откуда они бежали, на своей прежней родине, они тоже больше не были последними, наоборот, стали первыми, стали воинами и героями.
Изложенная выше проповедь – первопричина бесконечных взрывов и террористических актов. В ней же – объяснение того, почему все новые тысячи детей иммигрантов, отказываясь служить в европейских армиях, едут изучать военное дело домой – на родину предков.
В качестве итога данной части – несколько выводов. Первый: давно известно, что именно идеи правят миром. Запад два столетия настаивал, что конкуренция, демократические ценности и свободы, либерализм, права человека есть корень, источник его силы. И настаивал успешно. Пытавшиеся усомниться – пожалуй, самый яркий пример СССР – терпели сокрушительное поражение. Но вот пришли другие люди, они сказали, что король гол: свобода – не сила, а слабость. И как они сказали, так и стало.
Теперь, чтобы вернуть доверие, доказать обратное, Западу понадобятся немалые усилия. Конечно, я хочу, чтобы он сумел это сделать, но вопросов много, и ответы не ясны. Насколько подвижно западное общество, насколько оно вообще способно к модификациям? Может быть, правда, что интересы различных групп в нем слишком жестко взаимоувязаны и степеней свободы нет. Но предположим, что дело не безнадежно: не понадобятся ли столь радикальные реформы, что Запад перестанет быть тем, каким мы его знаем, останется вывеска – суть же изменится напрочь. Последнее – верный знак, что «воины Аллаха», пусть они и погибли в бою, над ненавидимым ими миром одержали полную победу.
Второе, о чем надо сказать. В сущности, «воины Аллаха» никому не нужны. Конечно, те, кто им покровительствует и их вооружает, будут горды победой, если она случится, однако куда больше все страшатся, что после первых же неудач на западном фронте, война поменяет направление и из империалистической опять станет гражданской. Подобный сценарий представить себе проще простого. Так казаки при Разине и Пугачеве, устав воевать с персами, турками, горцами и прочими инородцами, отправлялись в поход на Москву.
Там, где материки сталкиваются между собой, случается, конечно, много и важного и ужасного, но это периферия, главное, без сомнения, происходит в толще самих платформ. По своей природе все конфликты – внутренние, война же с другими – способ, переведя стрелки, на время притушить разлад. После Тойнби и его учеников мы знаем, что цивилизации, культуры настолько сложны, это настолько плотная упаковка мириад и мириад разнородных вещей, что ничего стороннего, за исключением нейтральных технических усовершенствований, перенять они не в состоянии. Собственно, ничем, кроме себя, сложившаяся культура и не интересуется. Пришлое – всегда враг, так же организм реагирует на чужие клетки: он или изолирует их, или, когда есть силы, немедля уничтожает. Культура, если и замечает соседку, то лишь как культуру варварскую, иначе говоря – антикультуру.
Тем не менее элиты, быть может, уважая в других себя, общаются между собой довольно почтительно. Когда чужие полководцы, крупные чиновники оказываются в их власти, пленных редко отправляют на эшафот, куда чаще холят, лелеют, а заключив мир, с почетом возвращают на родину. В критических ситуациях бывает, что элиты пытаются объясниться друг с другом, но практика невелика и получается у них плохо. Как правило, в подобных диспутах никто никого не слышит. Перед нами, как уже говорилось, классические диалоги глухих, состоящие из страстных обличительных речей, этаких яростных монологов. В конце ХХ века немалое их число было продекламировано на мусульманском Востоке, за редким исключением все они были обращены к христианскому Западу. Но реакции не было, и тогда в ход пошли шахиды. Смертники были тем крайним средством, что должно было заставить Запад прислушаться.
В восточных речах, с какой точки ни посмотри, отнюдь не все лишено смысла, и их главные тезисы полезно привести. Однако сначала, еще одна ремарка. Принято думать, что пропаганда, пусть и циничный, но эффективный инструмент из тех, с помощью коих власть управляет обществом. Управляет – во что она свято верит – ради его собственного блага, ради спокойствия и мира, стабильности и порядка. То есть это некая лапша, которую нам вполне сознательно вешают на уши, в результате же мы делаемся послушными и довольными. Пропаганда – хорошая штука. Разве плохо и разве мало для счастья, когда тебе говорят, что власть твоя – совершенство, да и ты ей подстать. Ты лучший, избранный, твоя земля – святая, именно ты всех спасешь и приведешь к райской жизни, народы мира уповают лишь на тебя.
Жизнь, однако, свидетельствует, что власть, если и дурит нас, то невольно или, может быть, в самом начале, а так она не меньше, чем мы, во все это верит. Она до последнего надеется, что то, что она управляет исключительным народом – это чистая правда (народ и партия точно едины, они точно один дух, одна плоть), а когда возможностей обманывать себя больше не остается, когда уже никуда не уйдешь и ясно как день, что, догнав Америку по ракетам, мы, хоть тресни, не догоним ее по удою молока, власть впадает в форменную прострацию. Тот же 1991 год не худший пример.
Первый упрек (кстати, взрывы это еще не война, даже не преддверие войны, лишь попытка объяснить оппоненту, где и в чем он неправ), обращенный к Западу, связан именно с «молоком». Сегодня мир мал и тесен, в нем все и всё друг о друге знают, и надо быть очень внимательным, чтобы ненароком никого не обидеть. А когда смотришь, как ведет себя Запад, кажется, что его единственная цель – во чтобы то ни стало скомпрометировать восточную элиту. Доказать миру, но в первую очередь ей, что управлять можно без палки, одной лаской, увещеваниями да подкупом. Западная элита настолько обезумела, что ради унижения Востока, не колеблясь, ставит под сомнение свой собственный статус. Когда-то она легко, словно от безделицы, отказалась от естественных преимуществ, которые по праву рождения принадлежат любой аристократии, теперь с неменьшей легкостью отказывается и от тех, что связаны с богатством. Будто стесняясь избранности, она на каждом углу кричит, что вообще не элита: она – как все, обычная, заурядная часть народа.
Бравируя щедростью, она неведомо зачем в виде подоходного налога и налога на корпорации отдает больше половины того, что зарабатывает, а если учесть налоги на наследство, на недвижимость, то и две трети. Куда же идут эти деньги? Ими кормятся десятки миллионов проходимцев, даже не временных безработных, хотя и те сами виноваты, что потеряли место, а идейных бездельников, непонятно почему получающих пособие, бесплатную квартиру и бесплатную же медицинскую помощь. Пожизненно получающих. Их разбирают идиоты, сумасшедшие, калеки, которые, хотя их обидели не люди, а Бог, именно от людей требуют все тех же пособий, крыши над головой и права бесконечно лечиться. Тут же с ложкой на изготовку стоят дети, которых в столь сытом обществе не желают кормить, одевать собственные родители, и сему парадоксу никто не удивляется. Вот откуда нескончаемый поток беженцев, который идет, едет, плывет, летит на Запад, и каждого из них Запад принимает, тоже соглашается дать жилье, кормить, поить, обучать и лечить. Разве это не прямое издевательство, глумление над Востоком? Ведь слабые и малые родом оттуда, и там, а не у чужого дяди они должны искать милости и покровительства.
Второй ряд претензий связан с патологической беспечностью, еще год назад царящей во всем, что так или иначе связано с порядком и безопасностью? Кому нужны никем и ничем не ограниченные свободы, права человека, кому хорошо от презумпции невиновности, благословляя которую тысячи и тысячи заведомых убийц, насильников, торговцев наркотиками здравствуют на воле. Можно ли чувствовать себя спокойно, например, в Америке, где люди поколениями живут, не имея никаких документов, то есть сами по себе, без учета и контроля или в той же, выше не раз помянутой Швеции, где ты, не глядя – частное здесь владение или нет, можешь везде ходить, ставить свою палатку, ловить рыбу, можешь рвать (только не на продажу) любые ягоды в чужих садах и любой овощ в чужих огородах. Все это власть имущие на Западе в интересах народов, которыми они управляют, допускать права не имели.
Надо сказать, что благодаря террористическим актам Восток наконец был услышан. Западная элита быстро поняла, что, не вняв советам, которые ей дают, она погибнет вслед за советской, уйдет в небытие. То есть Восток, увы, давно победил, победил после первого взрыва. Запад ясно увидел, что перенять опыт соседей – к его же выгоде и теперь с немалым энтузиазмом идет новым путем.
Именно влиянием восточного стиля я объясняю начавшееся во многих западных странах сокращение налогов, в результате чего в той же Швеции, где максимальный заработок при Пальме отличался от минимального лишь в пять раз, сейчас он отличается уже в сотни. В других странах – нередко и в тысячи. Параллельно с уменьшением налогов уменьшаются пособия, растет возраст выхода на пенсию, а сами пенсии сокращаются, то есть демонтируется немалая часть социалки. Еще разительнее изменения в областях, связанных с безопасностью: былая беспечность растворяется как дым. В Америке создается грандиозное Министерство безопасности, вводятся обязательные удостоверения личности, снимаются отпечатки пальцев, фотографируется радужная оболочка глаз, прослушиваются телефонные разговоры и разговоры, которые ведут между собой компьютеры; до конца жизни будет храниться каждое твое обращение в банк – в общем, во всем, что может быть важно, за тобой начинают следить, причем вполне профессионально. Решается дело и с иммигрантами. Безусловно, победа Востока, что от двери, через которую беженцы попадали на Запад и которая раньше была широко открыта, сейчас осталась узкая щелка, скоро, по-видимому, захлопнется и она. А дальше, если и будут кого-то пускать, то лишь действительно нужных.
Некогда в СССР либеральные экономисты, философы, политики мечтали, что вот-вот наступит новая эпоха, начнется конвергенция между социалистической системой и западной. Будущее общество возьмет лучшее от каждой, в итоге люди и там и там наконец будут счастливы. Той конвергенции мы не дождались, или Запад 60-х – 70-х годов и был ее результатом, просто мы этого не поняли. Ныне же прямо на наших глазах идет конвергенция между западным обществом и восточным, и как много шагов навстречу придется пройти Западу, прежде чем все успокоится, сказать нелегко.
Те упреки, которые я перечислил выше, – верхушка айсберга, принадлежат они весьма и весьма вестернизированной восточной элите. Элите, по примеру Ататюрка пытавшейся модернизировать свои страны (партия БААС), имеющей на Западе дома, виллы, по многу месяцев едва ли не каждый год живущей в Парижах и Лондонах, связанной делами, общими интересами с европейскими и американскими компаниями, политиками. Однако за несколько последних лет через мулл, имамов, шейхов, разного рода других духовных учителей, через настроенных весьма традиционалистски студентов и профессуру все это спустилось вниз, к людям, которых на Востоке принято называть “улицей”, и уже здесь, на и от «улицы» впитав ненависть миллионов и миллионов, приобрело иной, куда более жесткий и решительный колер. В новом виде и в статусе народной воли оно возвратилось наверх, к власть имущим. Прежние увещевания теперь зазвучали как приговор, который одна культура выносит другой. И как выводы, которые из этого приговора с неизбежностью следуют. Оформленные вежливо, в соответствии с дипломатическим протоколом, они выглядят примерно так.
Сначала преамбула. Ее цель – раз и навсегда лишить западную элиту чувства правоты. Заставить ее понять, что мир, который она выстроила, во всех смыслах неудачен, в нем никто не счастлив, никто, несмотря на бесконечные его богатства, не доволен жизнью. То есть западная элита и в том, что касается лично ее, и в том, что касается народов, которыми она управляет, – полный банкрот и должна уйти. Уступить место другим, которые лучше ее знают свое дело. Как уже говорилось раньше, даруемая пропагандой вера в себя – великая вещь: стоит правящему классу на Западе усомниться в том, что он самый сильный, красивый, умный, что он первый парень на деревне – с ним кончено. Не усомниться же будет очень и очень трудно.
Первые два аргумента – со стороны, но они весьма показательны. Беженцы и иммигранты, которые, повторюсь, самим фактом своего бегства вынесли приговор стране и культуре, в которой выросли, через несколько лет, уже выучив язык и осмотревшись на новой родине, вдруг резко меняют оценки. То есть люди, больше кого-либо западной элите обязанные, от нее отворачиваются. В этом объяснение и единственная причина, почему они отказываются ассимилироваться, почему дочерей они выдают только за своих и стараются воспитать так, чтобы те и не думали снимать чадру. Наконец, почему их сыновья, изучив военное дело на прежней родине, готовы сражаться с родиной новой.
О том же говорят и шахиды. Сотни их без колебаний отдают жизни, чтобы засвидетельствовать правоту Востока, на Западе подобных защитников не сыщешь днем с огнем. Правда, от этих доводов можно отмахнуться, списав все на дикость и фанатизм не коренных, пришлых.
Однако и у своих – причем сплошь, от элиты до простого народа – если верить статистике неврозов, наркомании, алкоголизма, самоубийств, в конце концов, если верить опросам, где людей просто спрашивают, довольны ли они жизнью, картина будет малорадостная. Когда-то в XVII веке встав на путь революций, во имя равенства разом сломав сословные перегородки, Запад получил немалые дивиденды – не знающий никакого удержу технический прогресс. Но и плата оказалась немалой. Мир, который был выстроен благодаря этим открытиям и усовершенствованиям, трудно назвать счастливым. Бесконечная изменчивость убила ту стабильность, что необходима человеку для покоя, для уверенности в завтрашнем дне. Всё: и отношения с семьей, и работа, и твое положение в обществе – сделалось зыбким, непрочным, неосновательным. Всё и в любой момент могло быть поставлено под сомнение, потеряно на ровном месте.
Еще одна важная вещь. На Востоке твоя судьба почти целиком определяется положением родителей. То есть путь, который надо пройти, чтобы знать, что ты осуществился и жизнь удалась, невелик, вполне соразмерен с краткостью человеческого века. Он настолько мал, что обычно тебе хватает времени, сил и на работу и на то, чтобы радоваться жизни. Ловить кайф от женщин и детей, друзей и еды, кофе и дома, в котором живешь. Другое дело на Западе. Здесь после слома барьеров, исправно членящих общество на небольшие ячейки, этот путь сделался едва ли не бесконечным и успешно справиться с ним удается не многим. Остальным приходится признать, что они обыкновенные неудачники.
Всю жизнь ты в поте лица работаешь и работаешь, гонясь за каким-то фантомом тянешься, тянешься вверх. К вечеру ты так вымотан, что нет сил ни на то, чтобы пойти куда-нибудь с женой, ни на то, чтобы поиграть с ребенком – только добраться до постели. Не жизнь, а бесконечная гонка, в которой, по незабвенному Паркинсону, ты каждый день пытаешься прыгнуть выше головы, и от этого, от того, что ты вечно на пределе или даже выше своего потолка – еще большая неуверенность. В общем, ты живешь, не видя, не слыша почти ничего, что по природе человека приносит ему радость, а зачем, для кого – не понятно.
От этих укоров вкупе с нелишенными сочувствия философствованиями до террора путь оказался удивительно прям и короток. Проложила его «улица». Ее простое убеждение, что Европа, Америка, отчасти мы – Россия – для мусульманской ойкумены – нечто вроде по – и заграничья, этакая ничейная земля, будущая колония, где не существует законов и норм, где все разрешено и прав один только сильный. Словом, снова отбор в самом его чистом виде.
Конечно, многое из вышесказанного можно попробовать не замечать, другое списать на пропаганду, но мир устроен так, что спрятаться от него трудно. Да, Запад еще силен, и сейчас его чаще не пугают, а манят. Главный вопрос пока, насколько глубокие изменения потребуются, чтобы со всем этим справиться, готов, способен ли он на них (конфликт становится внутренним уже на Западе). И что будет представлять собой западное общество после нововведений.
Угроза особенно серьезная, потому что то, чем искушают нашу элиту да и нас самих, – спокойная, стабильная жизнь, жизнь, полная семейных радостей, прочих удовольствий, – весьма соблазнительно.

О ПРОШЛОМ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
Наше отношение к прошлому подчинено разным обстоятельствам и оттого неровно. С одной стороны, мы, подобно грекам, убеждены, что с приближением к нынешним временам, как и благородство металлов, сходит на нет благородство людей. Золотой век сменился серебряным, а тот в свою очередь медным.
В сущности, и религии авраамического круга смотрят на дорогу, которая осталась у человека за спиной, столь же печально. В Ветхом Завете короткие периоды, когда сын Адамов опамятовался и снова обращался к Всевышнему, почти теряются среди долгих веков, когда человек изменял Господу, противился Ему.
В общем, кем бы ты ни был – язычником, иудеем или христианином – гордиться путем, которым ты и твои предки шли по жизни, оснований не много. Немудрено, что каждый из нас старается по возможности замести, стереть следы, которые оставил на Земле. В «Бытии» потомки убийцы Каина и ни в чем не повинного Сифа, плодясь и заселяя Землю, одновременно все прочнее, все безнадежнее не помнили о Едином Боге. И потом, после потопа, так же успешно не помнило о Нем семя праведного Ноя, и египетское рабство уже в «Исходе» написано столь бегло, что ясно, что и тогда человек, забывший Господа, делал все мыслимое, чтобы не помнить и себя.
Лет тридцать назад у нас стали известны и сразу же очень популярны две сентенции. Одна говорила, что мы «страна непредсказуемого прошлого», вторая – что история, причем не только у нас, в России, это «политика, обращенная опять-таки в прошлое». К сожалению, не знаю авторов ни той, ни другой, но хорошо помню, что прозвучало это как откровение. Теперь же, пусть и постепенно, мы привыкаем к тому, что иначе и быть не может.
В самом деле, будущее и для жизни, и для политики приспособлено плохо. Мы ничего о нем не знаем, сплошь и рядом отчаянно его боимся, уверены, что оттуда, как из Галилеи, ничего доброго прийти не может. И оснований для страха у нас полно.
Будущее холодно, лишено каких бы то ни было деталей и подробностей, тех нелепостей и несуразностей, которые отличают живого от мертвеца. Ничего такого оттуда, где мы в данный момент находимся, разглядеть невозможно, вот мы и изучаем, пытаемся понять грядущее, как человека – патологоанатомы. Даже в хорошие дни, не забывая притчу о Блудном сыне, мы, хоть по безалаберности и надеемся на то, что впереди, при любой заминке готовы откреститься от будущего, положив руку на Писание, поклясться, что оно – русалка или сирена, прекрасным пением заманивающая, уводящая нас все дальше и дальше от Отца. В качестве довеска скажем, что ни один футурологический прогноз не оправдался и на йоту, что опять же не добавляет спокойствия.
В настоящем тоже мало кому хорошо. Ведь оно – всего лишь бесконечно бегущая точка между тем, что было, и тем, что будет; пространство суетливое и столь малое, что на нем не уместится и воробьиная лапка. Настоящее противоречиво и сумбурно: горе и радость, довольство и сомнения, обиды и еще бог знает что перемешаны в нем безо всякого разбора и смысла, в лучшем случае, сшиты на живую нитку. У серьезных, рассудительных людей это не может не вызывать раздражения.
Прежде, чем пойдем дальше, наверное, следует сказать, что в отличие от принятого у антропологов и медиков мнения, что человеческий желудок состоит из одной емкости, я убежден, что, как и у большинства жвачных, в частности, у коровы, он у нас четырехкамерный.
Сего дня, будто летом на пастбище, мы с неимоверной жадностью, без разбора и устали хватаем все, до чего можем дотянуться, и всем, чем можем хватать: глазами, ушами, ртом, носом, руками – и запихиваем, заталкиваем в свою утробу (это настоящее), а на закате, когда день, слава Богу, на исходе, отрыгиваем из рубца опять в рот то, что нарвали на лугу, весь этот внешний мир, данный нам в ощущениях. Теперь он уже наш, родной, он смочен нашей собственной слюной, согрет нашим собственным нутряным теплом, и вот, в тишине и уединении хлева мы начинаем по второму кругу, только на сей раз вдумчиво и без спешки, с тщанием и тактом, жевать жвачку (это уже прошлое), веря, что однажды сумеем переварить ее и усвоить.
Коли дело обстоит так, ясно, что для жизни, в сущности, годится одно прошлое, и нам волей-неволей придется обитать именно в нем. Никогда не забывая об этом, мы, не жалея сил, приспосабливаем его к собственным нуждам, неутомимо переделываем и перелицовываем, исправляем и совершенствуем. Все, что можно, идет в ход, остаток же, который ни к чему полезному пристроить не удается, будто лепехи, без жалости извергаем из себя. И дабы никому не было повадно копаться в дерьме, с пеленок и до могилы не пропуская ни одного, каждому объясняем, что это грязь, мерзость и ее следует обходить стороной, а то ненароком так вляпаешься, что потом не отмоешься.
Почему же реальная история, хоть она и находится под жесточайшим контролем, запрещается лишь по временам, а не раз и навсегда? Например, тем же краеведам, почти подчистую пошедшим под нож в конце 20-х – начале 30-х годов, сейчас снова дали возможность поднять голову. Почему история еще не до конца заменена политикой?
Причина довольно проста, но прежде, чем ее назвать, следует немного свернуть в сторону и сказать, что дорог, ведущих к Спасению и Раю, известно всего две. Первая проложена напрямик через будущее. Те же, что и раньше, мы, хоть нам день-деньской и твердят о добре и зле, вступив на нее, уповаем не на молитву и не на угодные Всевышнему дела, а просто на то, что земля круглая и, идя все время вперед, мы так и так однажды вернемся туда, откуда прежде были изгнаны. Однако вера в это в нас едва теплится.
Дело в том, что ни от кого не скрыто, что перед самым концом дороги, когда будет виден уже и Град Божий, и ворота в Эдем, и даже Апостол Петр с ключами, вырыта глубокая пропасть Страшного Суда. Если в слове «пропасть» переставить ударение, сразу станет ясно, сколь невелики наши надежды благополучно через нее перебраться. Правда, через эту бездонную расселину перекинуты мостки, но даже на глаз видно, какие они хлипкие, и нам, отягощенным грехами, к ним даже подходить страшно.
В общем, если взвесить все «за» и «против», делается ясно, что хоть это и не очень сподручно, самым надежным было бы идти обратно в Рай спиной, просто двоя след. Однако, как уже было сказано, все их мы прежде старательно стерли, то ли боясь, что Господь за нами погонится, то ли рассудив, что прожитое таково, что гордиться им нечего. Короче, ступать точно след в след не получается, и что делать, как идти к ждущему нас Отцу, непонятно. Коли следов нет, необходимы верные топографические карты, нужны знаки и ориентиры, бездна всякого рода
указателей и примет, иначе, как уже было несчетное число раз, мы снова заплутаемся, и вместо Отца окажемся бог знает у кого. Все наши и прочих народов катаклизмы, бунты и революции хорошее сему свидетельство. Будешь идти, идти, а вместо Рая Небесного забредешь в какой-нибудь доморощенный Страшный суд.
Историки не перевелись, живы до сих пор потому, что они и есть такие картографы, топографы, и без их помощи – кто бы что ни говорил – ни вожди, ни ведомые не знают, куда идти. Поначалу мы бодро, полные надежды, отправляемся в дорогу, но путь снова и снова оказывается чересчур долог, труден. К счастью, историки – тоже люди, и стоит на них чуть нажать, объяснить, что народ притомился, они с готовностью входят в положение. Теперь уже с их помощью мы, ликуя, выравниваем, спрямляем свой путь, правим, по привычному редактируем прошлое. Но радость наша недолга: потеряв тропу, мы опять приходим не туда, куда надеялись.
Что так будет, умные люди догадывались с самого начала и с наших первых шагов делали и делают все, чтобы нам помочь. В частности, они не просто относятся с пониманием, но и всячески вознаграждают, поощряют наше стремление не жить с тем прошлым, которое есть, а переписать его по своей мерке. Они согласны, когда мы говорим, что хотим от прошлого того же, что от любой одежи или обувки: чтобы оно было мягким и теплым, удобным, практичным и носким, чтобы было легким – не дай бог нигде не мешало, не жало. Главное же, чтобы хорошо сидело, и, напялив его на себя, было бы не просто не стыдно показаться на люди, а чтобы все, стоит нам только выйти на улицу, от зависти аж полопались.
Однако лишь ниткой да иголкой прошлое в порядок не приведешь. Ведь это не кусок ткани, а целая страна, которую необходимо цивилизовать и привести в божеский вид. Под руководством людей, которые нас хорошо понимают, мы осушаем и орошаем то, что прожили, по много раз перепахиваем его и удобряем.
Мы знаем, что прошлое следует правильно распланировать, вообще придать ему облик регулярный и упорядоченный. Необходимо выполоть сорняки, подрезать ветки, в зависимости от политической конъюнктуры так или иначе (в землю или в лагеря) посадить растения, которые считаются особо ценными. Главное же, наша задача – защитить прошлое от соседей, других врагов и завистников. Так мы обустраиваем и обустраиваем то, что оставили за спиной, доводя минувшее почти до канона, до стерильности. Делаем его ясным и понятным, простым и справедливым. То есть таким, по которому нам не просто, как по аллее, было бы легко и приятно идти к нашему Отцу, но и при необходимости, коли мы вконец устанем в дороге и силы нас оставят, в нем можно было бы и пристойно жить. Причем чтобы жизнь эта не очень отличалась от того, что ждет каждого во взаправдашнем Раю.
Последняя ремарка. Известно, что строить на пустом месте куда проще и быстрее, чем предварительно в пыли и грязи разбирать завалы. Вот и с тем святым градом, который мы собственноручно возводим из прошлого, та же история. Общими усилиями мы легко возводим его из того, о чем ничего не помним, и, в сущности, не хотим ничего знать, но как только беремся за то, что было совсем недавно, сразу замечаем, как падает темп. Работа делается медленной и тягостной; сколько мы ни подгоняем одну деталь к другой, конструкции прямо на наших глазах рушатся или выходят такими кособокими, что на них противно смотреть.
Впрочем, отчаиваться не стоит. Следует просто отложить работу и подождать. С течением времени, если мы, как и раньше, будем настойчивы, неутомимы, в вечном стремлении к идеалу, мы его достигнем. Вообще же, имея дело с таким материалом, как прошлое, мы должны забыть о снисхождении, напротив – быть безжалостны, как Роден. Без ненужных терзаний, сомнений отсекать все лишнее и не печалиться, встречая тут и там пустоты, умолчания: главное – то, что осталось, очищено и приведено в должный вид.
Оглавление
МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ
(Андрей Платонов и русская история)
О «ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ»
АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
СТОЛИЦА И ПРОВИНЦИЯ:
ДВА ПУТИ ПОНИМАНИЯ ЖИЗНИ
ИКОНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА С КЛЕЙМАМИ
ВЕРХОВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
ЗАПИСИ ДЕДА
ОПРИЧНИНА ИВАНА ГРОЗНОГО:
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ:
ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ
О ПРОШЛОМ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
 Все, что пойдет ниже, сложено из вещей, над которыми я работал почти двадцать лет, правда, с большими перерывами. Так вышло, что каждый раз лишь с течением времени я понимал, что в итоге у меня получилось. Не в том, конечно, смысле, хорошо или плохо, а в том, какие выводы следуют из написанного, и еще: что все это – части чего-то одного.
Первым, что случается нередко, был трактат самого общего свойства (книга начинается не с него), а дальше – вопросы, которые продолжали оставаться для меня темными и неясными, по мере сил разбирались и уточнялись. Я тогда уже писал прозу, был уверен, что с остальным в моей жизни покончено, однако со спасительной регулярностью, стоило основному занятию зайти в тупик – история вдруг приходила на помощь.
Необходимо сказать еще об одном. Собирая «Искушение революцией», я в очередной раз убедился, что число тем в русской истории, которые меня занимали, достаточно ограничено. Из-за этого работы нередко друг на друга налагаются. Конечно, пересечения, самоцитаты можно было убрать, но тогда пострадала бы цельность отдельных эссе. А ведь с самого начала я писал их, а не книгу. В общем, тут есть проблема, с которой, что поделать, я не знал тогда и не знаю сейчас. Поколебавшись, я все решил оставить, как было, а за повторы просто попросить прощения. Если же будет добрая воля – счесть их чем-то вроде рефрена.
Все, что пойдет ниже, сложено из вещей, над которыми я работал почти двадцать лет, правда, с большими перерывами. Так вышло, что каждый раз лишь с течением времени я понимал, что в итоге у меня получилось. Не в том, конечно, смысле, хорошо или плохо, а в том, какие выводы следуют из написанного, и еще: что все это – части чего-то одного.
Первым, что случается нередко, был трактат самого общего свойства (книга начинается не с него), а дальше – вопросы, которые продолжали оставаться для меня темными и неясными, по мере сил разбирались и уточнялись. Я тогда уже писал прозу, был уверен, что с остальным в моей жизни покончено, однако со спасительной регулярностью, стоило основному занятию зайти в тупик – история вдруг приходила на помощь.
Необходимо сказать еще об одном. Собирая «Искушение революцией», я в очередной раз убедился, что число тем в русской истории, которые меня занимали, достаточно ограничено. Из-за этого работы нередко друг на друга налагаются. Конечно, пересечения, самоцитаты можно было убрать, но тогда пострадала бы цельность отдельных эссе. А ведь с самого начала я писал их, а не книгу. В общем, тут есть проблема, с которой, что поделать, я не знал тогда и не знаю сейчас. Поколебавшись, я все решил оставить, как было, а за повторы просто попросить прощения. Если же будет добрая воля – счесть их чем-то вроде рефрена.







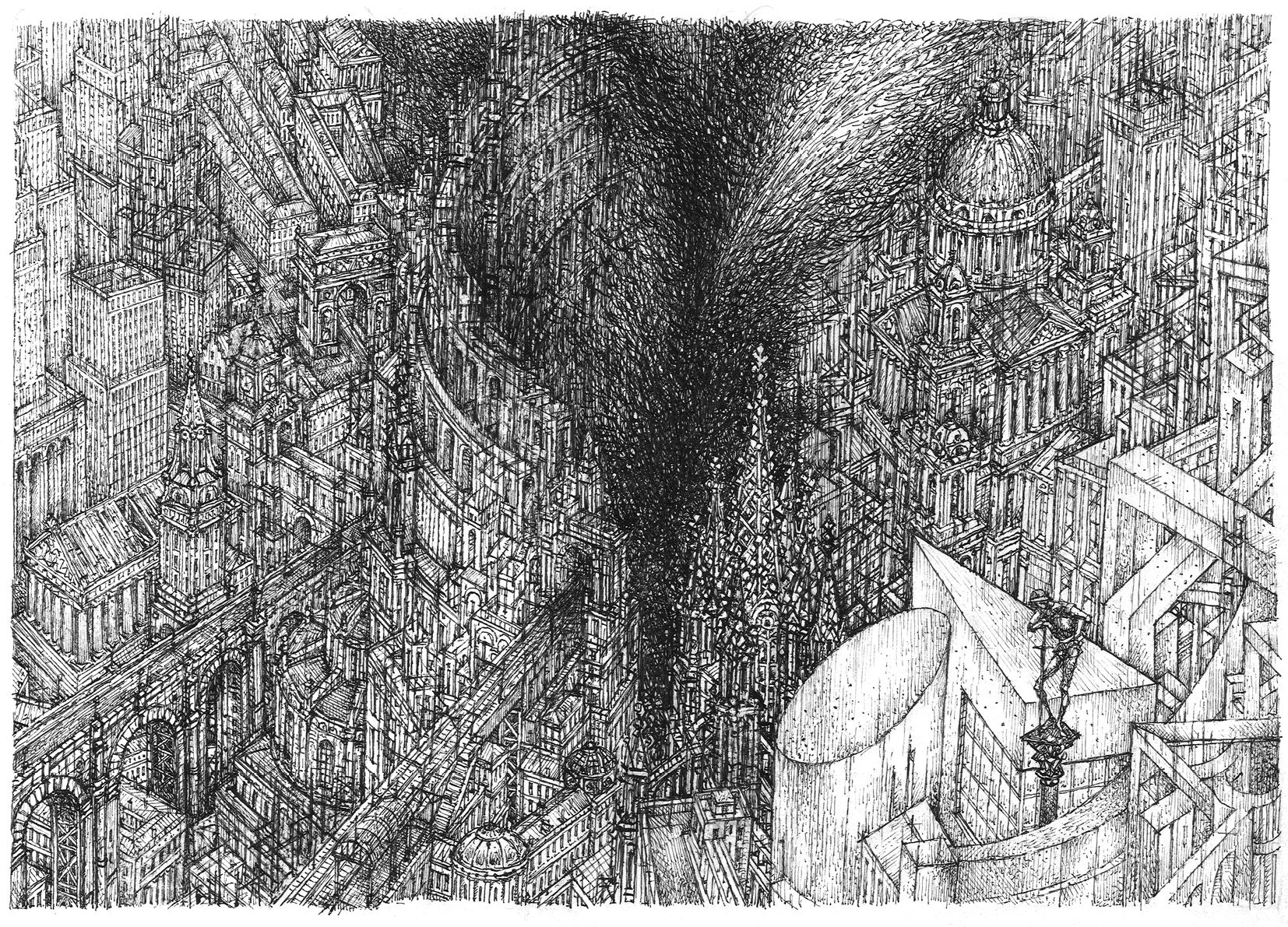

Последние комментарии
7 часов 1 минута назад
15 часов 52 минут назад
15 часов 55 минут назад
2 дней 22 часов назад
3 дней 2 часов назад
3 дней 4 часов назад