Константин Кислов НА УЗКОЙ ТРОПЕ Повесть

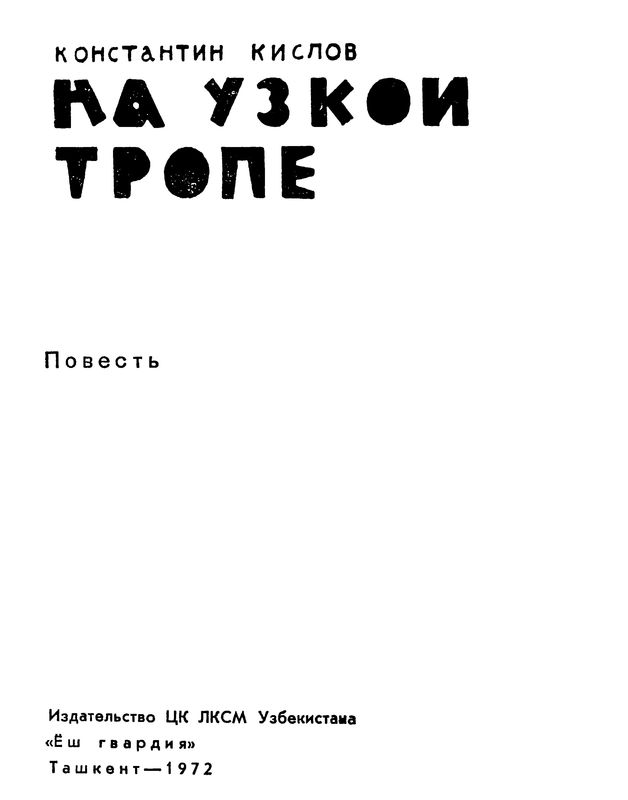 НАХОДКА
НАХОДКА
Тихо в степи. Полет стрекозы отзывается тугим, долго несмолкающим звуком. Тревожно похрустывает сухая трава под ногами. В небе парит черный орел. Из безоблачной голубой бездны ему, должно быть, интересно следить за двумя живыми фигурками, которые пробираются по краю тугайных зарослей. То — ребята: Федя Звонков и Роман Пак. У Романа лицо точно из глины — красное и широкое, а маленькие подвижные глазки — черные бусинки, зажатые в узких прорезях. Ребята ловят всякую живность для живого уголка. И так увлечены охотничьим поиском, что жара им — бари-бир[1], как говорит Ромка. Не замечают они и колючек, которые на каждом шагу предательски подстерегают ноги. А то, что они далеко углубились в заросли и потеряли зрительную связь с остальными ребятами — это даже совсем неплохо.
Федя Звонков — Звонок зовут его ребята — невысокий, плотный мальчишка с рыжеватым вихорком на лбу. Он в трусиках и в линялой майке, испещренной дырками, точно она приняла в себя заряд бекасиной дроби. За спиной у Феди — кузовок из тутовой дранки, а в нем — черепахи, ящерицы и совсем еще маленький, но страшно колючий ежонок. В руках у ребят длинные палки с рогатинками на конце.
— Поймать бы, знаешь, кого? — мечтает Федя, разглядывая следы на песке.
— Шакала, да? — хочет угадать Роман.
— Придумал чего, шакала! Это же мировой вор! Самый пакостный зверь. Вот твои тапочки, — показал он на Ромкины ноги, — сдерет с ног и слопает, а ты и не услышишь. Точно! Мне один пограничник рассказывал. Подметки, говорит, с живых ног отгрызает, пока в наряде лежишь. А пограничник — он врать не будет. Нам бы, Ромочка, дикобраза добыть. Тогда бы, знаешь, что? У всех мальчишек нашего класса завелись бы самописки из дикобразьих иголок. Честное слово! Хорошие получаются.
Роман вдруг поднял руку и съежился, словно наступил на колючку. В пяти шагах, возле камня лежала змея. Тугие серые кольца ожили. Змея, плавно покачиваясь и шипя, подняла голову.
— Гюрза, — шепнул Роман. — Ловить будем?
Федя не успел еще оценить обстановку, как Роман, сделав решительный выпад вперед, точно фехтовальщик, придавил рогаткой змею.
— Сильная… Гробовой змеей ее называют… Раз куснет — десять человек может отравить. Понимаешь, ядом, который она за раз выпускает. Вот…
Они выбрались на полянку, изрытую кабанами. Прислушались. Где же другие ребята? Но ничего не было слышно, кроме комариного писка. Однако Федя что-то заметил. Раздвинув палкой кусты, он вдруг замахал рукой.
— Ромка, гляди сюда, — испуганно прошептал он. — Вот сюда. Видишь или нет?.. Не видишь, что ли, слепой?! — выходил из себя Федя.
В жесткой, сваренной зноем траве лежал человек. Он был в одной набедренной повязке. Косматый и голый, будто пришелец из глубины веков. Из впалой груди вырывались хрипы. Временами, тихо стеная, он пытался оторвать от земли растрепанную голову, и тогда глаза его лихорадочно что-то искали, кого-то звали немой болью.
— Кто это? — прошептал Роман, сдерживая дыхание. — Может, снежный человек? Спустился с Тянь-Шаня и заплутался. А могло несчастье случиться: в лавину попал, ушибся сильно и лежит…
— Да-а… — еле слышно произнес Федя. — А может, из космоса? Ромка? А вдруг это какой-нибудь марсианин, — фантазировал Федя.
— Из космоса? Может быть… не знаю, — неуверенно поддержал Роман. — Подозрительный…
А загадочное существо по-прежнему лежало на спине, подсунув под голову руку.
— Что будем делать? — спросил Федя.
Роман поскреб вспотевший затылок; глаза его совсем скрылись — остались как бы слегка припухшие щели. Он думал.
— Задержать, наверно, придется, — сказал Роман. — Видишь, какой он, таких у нас не бывает. Надо разобраться…
— А кто будет задерживать?
— Кто? Мы с тобой.
— Двое пацанов против одного дикаря? Глупость! — отверг Федя. — Надо с Капитаном поговорить. Понял?
Роман, чуть поколебавшись, согласно кивнул головой. Они постояли еще несколько минут — хотелось поближе разглядеть странного человека, если он поднимется. Но он, должно быть, не мог подняться. Ребятам ничего не оставалось другого, как уйти. И они, неслышно ступая, пошли обратно по своим же следам.
— Замечай хорошенько местность, — шепнул Федя.
— Итак запоминаю, — отмахнулся Роман.
КАПИТАН
Обладателем капитанского звания был Иргаш Кадыров. Ему тринадцать лет. От своих приятелей отличался он всего-навсего тем, что на голове носил не черную ферганскую тюбетейку, а парадную фуражку летчика, которую ему подарил брат, недавно приезжавший в отпуск. И еще: он немного выше их ростом и мускулы на его руках потверже. В остальном он такой же, как и все: босоногий и черный, ходит в узких штанах, собранных под коленками гармошкой, иногда — в трусиках и клетчатой безрукавке. Когда разговаривает, глаза его или смеются, или глядят строго в упор. Но, как и всякий сильный парень, Иргаш не любит задираться по мелочам, а уж если кто доведет — спуску не жди. Мальчишки уважают его за справедливость и твердость характера. — Капитан! — несется над песками. — Капитан!.. Иргаш стоит на сыпучем бархане, под ногами у него лежит его тень — маленькая и горбатая. И оттого, что тень так уродливо сгорбилась, парадная фуражка авиатора потеряла свою гордую красоту; она походит на лодку с сильно утопленной кормой. Иргаш опирается на палку, но не так, как опираются старые чабаны, нет — палка его откинута назад, как шпага у полководца. И лицо его кажется строгим и непроницаемым. Первым подбежал к Иргашу Роман. Подбежал и шлепнулся в песок. — Что? — спросил Иргаш. — Дай отдышаться. Бежали… — Чего зря болтать — сам увидишь! — крикнул Федя и стал торопливо снимать с потной спины кузовок с живой кладью. — И правда! — подхватил Роман. — Пошли скорее! Пошли… Они уже продирались через тугаи, когда Федя заметил, как черной молнией кинулся в кустарник орел, но, тревожно вскрикнув, взмыл ввысь. — Бежим скорее, — шепнул Федя. — Он почуял. Нашел… Как и в первый раз, Федя осторожно просунул палку в кусты боярышника и, порывисто дыша, прошептал: — Здесь. Смотри, Капитан… Иргаш вытянул шею. Замер. — Мертвый? — спросил он едва слышно. — Живой. Гляди, грудь у него поднимается, дышит, — ответил Федя. Человек зашевелился и слабо простонал. — Эхе, совсем джин, — сказал Иргаш. — Безумный. Таких людей ни в одном кишлаке нету. Чужой. — Звонок говорит, что он из космоса. — Ага. Таких там только не хватает. — А сам глядел и страшно удивлялся, что за человек, откуда появился? — Говори, что будем делать? — забеспокоился Роман. — Что делать?.. Иргаш поправил фуражку и выпрямился. — Задержим, заберем с собой, — сказал он. — Правильно! И я так считаю! — А если?.. — неопределенно произнес Федя. — Что «если»? Он совсем слабый. А нас трое. Не справимся, что ли? — Может, сперва разбудить его и поговорить. Спросить… — продолжал Федя. Но будить незнакомца не пришлось. Едва Роман подошел к нему, как тот вскочил и метнулся в кусты. Упал и закричал таким голосом, что над тугаями с тревожными криками поднялись птицы. — Кто вы? — спросил Иргаш, подходя к незнакомцу, когда тот умолк. — Отвечайте, я спрашиваю! Но лежавший никак не реагировал на это строгое требование. Немного отдышавшись, он затряс космами и завыл тихо и тоскливо, потом, закинув голову, зарычал так, что Иргаш потерял охоту допрашивать. — Э-э, говорил — сумасшедший, — сказал он и махнул рукой. А незнакомец вдруг захохотал, широко раскрыв большой, крепкозубый рот. Его хохот — это даже страшнее, чем вой: глаза закатились и на ребят глядели желтые с кровоподтеками белки. Очень страшно! — Эй, вы! — не вытерпел Иргаш. — Перестаньте! Здесь не театр, а тугаи, там — Аванская степь. Никто вас не услышит, кроме шакалов. И человек, точно испугавшись, замолчал и съежился. — Надо узнать его имя, — забеспокоился Федя. — Он ведь, наверно, как-то называется?.. Если он человек — имя у него должно быть. Эй вы, человек, как вас зовут? — крикнул Федя. — Скажите свое имя или фамилию, — Федя при этом отчаянно размахивал руками, стараясь разъяснить смысл своего вопроса. Но человек молчал, он даже не повернул головы. — Какой сегодня день? — спросил Иргаш. — Понедельник, тринадцатое мая, а что? — ответил Роман. — Забыл что ли, вчера «Пахтакор» опять проиграл. — Та-ак, — в раздумье произнес Иргаш, не слушая Ромкиных рассуждений. — Будем называть Душанба, — сказал он. — Э, правильно! — воскликнул Федя. — Как Робинзон! Помнишь, он в пятницу нашел человека и назвал его Пятница! А мы — в понедельник, и назовем Ду-шан-ба. Они двинулись в путь. Роман шагал впереди, за ним — пленник. Федя шел сбоку, готовый отразить попытку Душанбы к бегству. Процессию замыкал Иргаш, степенно уговаривающий незнакомца: — Не подумайте удирать. И не бойтесь, плохого ничего не сделаем. А удирать зачем?.. У нас будет лучше, чем в тугаях. Никто не тронет… Душанба, видимо, и не собирался удирать. Он послушно шел за Романом, слегка покачиваясь из стороны в сторону. И кричать перестал. Но на вопросы, с которыми к нему обращались то один, то другой мальчуган, не отвечал. Его била дрожь, на губах выступила кровь, в безумных глазах застыли страдание и слезы. Когда, наконец, ребята, преодолев тугаи, вышли на старую, заброшенную дорогу, Иргаш остановился, поманил пальцем Федю. — Ты, Звонок, иди к ребятам: нельзя бросать их одних. Соберите все лукошки и тащите домой. Мы с Ромкой тут все сделаем. — А почему не вместе? — удивился Федя. — Мы пойдем другой дорогой. На бахчу зайдем…ДЕДУШКА ТУРГУНБАЙ
У дедушки Тургунбая совершенно белая борода, такие же усы, придающие его лицу мудрость и степенность, приходящие с возрастом. А глаза молодые, как у юноши, светились добротой. Зато ноги «хитрили», как говорил сам дедушка Тургунбай. Сердился он на свои ноги. Но «хитрили» они не всегда — осенью да зимой. Весной же, как только расцветали тюльпаны, а в полдень над степью едва видимо струилась прозрачная дымка, старый Тургунбай собирал в хурджуны нехитрый скарб, навьючивал ишака и отправлялся на колхозную бахчу, к месту службы. А «служба» его — караульщик. Было, однако, и другое занятие у Тургунбая-ата[2] — он ловил перепелок. Под камышовым навесом, возле его сторожки, целыми днями распевали перепела. А старик сидел на циновке и, прихлебывая душистый кок-чай, наслаждался их пением. Не раз говаривал он своим знакомым: «Э-э, хорошая у меня жизнь, сытая, полезная и веселая. Кокандский Худоярхан так не жил, как живет караульщик Тургунбай Саламов! А за хорошую бедану-певунью каждый тебе говорит спасибо и низко кланяется. Очень хорошо…» Гости его — ребята, предводительствуемые внуком Иргашем. Они приходят целой гурьбой и живут по два-три дня, а то и больше. Приходят они не только затем, чтобы забрать из-под навеса клетки с перепелками, больше за рассказами о том, как дедушка Тургунбай воевал с басмачами. И в этот раз, как только залаяла собака, чуя приближение гостей, он уже подумал о новом рассказе. Поднялся, поглядел из-под ладони на дорогу и недоуменно нахмурился. Что такое? Ребята кого-то ведут? Ну, конечно, ведут! И кого?.. Ничего более неожиданного не мог представить старый Тургунбай. — Аллах милостивый, что делается на белом свете! — воскликнул он. Но размышлять было некогда: косматый человек, сопровождаемый ребятами, неуверенно шагнул под навес и повалился на циновку. Тургунбай-ата впился в него глазами, и когда их взгляды, точно невзначай, встретились, старик заметно заволновался. — Ох-хо, сердешный, как тебя жизнь наказала, — вздохнул он и тут же стал куда-то собираться. — Я сейчас, я быстро, дети мои, — приговаривал он, седлая ишака. — А здесь ничего не случится. Этот пес, хоть и старый, но вполне надежный, он ни одного шакала близко не подпустит к жилищу. Уверен, что и перепелки все будут целы… Неожиданно для ребят Тургунбай-ата вынес из-под навеса ружье с побитым ложем и, поправив пестрый кушак, сел на ишака. Мальчишки наблюдали за стариком с удивлением. Иргаш, подойдя к деду, тихо спросил: — Зачем винтовку берете? — О-о, я хорошо знаю, что делаю. — На людей он не кидается… Он совсем смирный, даже нас не трогал. Душанбой мы его назвали. — Это не важно, как вы его называете, я-то уверен, что он не Душанба. — А кто он? — Узнаем. Очень скоро узнаем. Сейчас в кишлак нужно идти. …Они свернули с накатанной дороги и шли по жесткой, ощетинившейся целине. — Скоро будем в своем кишлаке, — неторопливо говорил Тургунбай-ата, будто хотел кого-то успокоить. — Я знаю самую близкую дорогу… Самую короткую, она приведет нас куда надо… А Иргаш шел и косился на деда: что с ним случилось? Почему такой? Роману тоже ничего не понятно. Дед, всегда радушный и суетливый, сейчас не походил на себя. Он и старается шутить, но шутки не получаются, он чем-то встревожен и винтовку свою держит так, будто на него вот-вот должны напасть. Душанба, заплетаясь непослушными ногами, брел и глядел в землю, словно прислушиваясь к чему-то. А людей, что шли рядом, он просто не видел. И только когда кто-то тронул его за плечо, он вздрогнул и поднял глаза — возле него стоял белобородый старик. Душанба взвизгнул и заклацал зубами. Потом захохотал и, кривляясь, стал подпрыгивать. Но дедушка Тургунбай почему-то громко рассмеялся. — Что с вами, дедушка?! — испугался Иргаш. — Ничего нет смешного, а вы смеетесь? — Не волнуйся, внучек, — успокоил старик. — Все идет так, как должно быть… Душанба замолчал, и лицо его опять стало непроницаемым. Теперь он не шатался из стороны в сторону, а, опустив голову, шел спорым, широким шагом, как будто торопился узнать, что будет там, куда ведут его старик и мальчишки. — Дедушка, почему вы смеялись? — спросил Иргаш с обидой. — Смотрю, как первобытный человек шагает по колхозной земле, и смеюсь. В кино и то не увидишь такого. Тебе разве не смешно? — серьезно ответил Тургунбай-ата. — Нет… Ромка, тебе смешно? — повернулся он к другу. — Чего тут смешного? — нехотя отозвался Роман. Старик нахмурился и, перекинув за спину винтовку, которая все еще была у него в руках, задумчиво почмокал губами. — Правильно говорите: ничего нет смешного. Плачевно… Хм… и мне не смешно. Противно… — проворчал дедушка и пятками ткнул в бока ослика. — Противно глядеть, — повторил он в грустном раздумье. А над степью уже нависал вечер. Солнце, полыхая последним пожаром, опустилось на черные холмы и все глубже зарывалось в землю. Дедушка Тургунбай, поеживаясь от свежего ветерка, сорвавшегося с гребня косогора, запахнул халат. Душанба только передернул плечами — у него не было халата. На окраине кишлака Ашлак их ждали учитель Джура Насыров, доктор Мирзакул и Федя Звонков, взволнованный долгим отсутствием друзей. — Чего так долго? — недовольно сказал он. — Задержались немного, — многозначительно подмигнув, ответил Роман. Доктор Мирзакул, покачивая головой, разглядывал раны на теле Душанбы, учитель смотрел на волосатого человека с растерянностью и удивлением. Дождавшись окончания осмотра, учитель подошел к Душанбе и заговорил с ним. Тот молчал, точно был глух или не понимал языка. Учитель повторил свой вопрос по-таджикски, затем по-арабски, по-русски. Душанба молчал и глядел куда-то в пустоту бездумными, ничего не видящими глазами. Когда учитель прикоснулся к нему рукой, он подпрыгнул и закричал. Затем упал на землю и забился в припадке. — Да-а, ничего не понимаю. Или он очень болен, или… Его надо отвезти в Коканд, — озабоченно сказал доктор. — Там его посмотрят специалисты, невропатологи.САИДКА
Проучившись три зимы, мальчишка бросил школу. Как ни старался Джура Насырович посадить Саидку за парту — ничего не получалось. Да и как могло получиться? Отец Саидки, по прозвищу Муслим-дивона[3], нигде не работал, ходил от кишлака к кишлаку и жил подаяниями. В своем кишлаке он появлялся обязательно увешанный пустыми консервными банками, высушенными тыквочками, пучками конских волос, бормоча несусветную чушь. Саидку отец заставлял исполнять роль поводыря, что не могло не наложить отпечатка на характер мальчика. Держался он обособленно, а если встречался с ребятами — старался обойти стороной и никогда первым не ввязывался в разговоры, а тем более в игры. Больше всех он боялся Иргаша, его слов, пропитанных горечью. — Эх, ты… В музей тебя посадить надо вместе с отцом и с жестянками… Когда доктор Мирзакул осматривал на окраине кишлака Душанбу, Саидка сидел на крыше своей кибитки и все видел. Никто не заметил тогда Саидку. А он, прижавшись к дымоходу, внимательно следил за тем, что происходило внизу. И как только услышал приговор доктора отвезти Душанбу в Коканд, неслышно соскользнул с крыши и юркнул в кибитку. …На рассвете Федя Звонков, у которого заболела мать, погнал в стадо корову и встретился с Саидкой. Тот, завернувшись в рваный халат, пробирался вдоль полуразрушенного дувала. — Эй, куда нос навострил?! — крикнул Федя. Саидка, состроив рожу, исчез за дувалом. Федю такое поведение Саидки не удивило, однако он заинтересовался, что же будет дальше. Беспечно помахивая хворостиной, Федя свернул за угол и стал наблюдать за проломом в дувале, где укрылся Саидка. Долго ждать не пришлось. Сперва появилась засаленная тюбетейка, потом настороженные Саидкины глаза. Не увидев Феди, Саидка вышел из укрытия. — Ясно, — прошептал Федя. — Скрывается… А почему? Меня испугался? Я никогда пальцем его не трогал. Надо проследить, почему он скрывается. В дорожной, пока еще не горячей пыли купалась парочка хохлатых удодов. Федя обошел их стороной — так хотелось понаблюдать за осторожными птицами, но Саидка, миновав последнюю кибитку, свернул на тропу, которая вела в поле. На чумазом лице его трепетала улыбка. Чему он радовался? Может быть, тому, что удалось обмануть Федю? Тропа шла по краю сухого арыка. Это было хорошо: заросли черной полыни скрывали Федю. Так они прошли километра два. Саидка поднялся на бугор, поглядел по сторонам и, свистнув, чтобы спугнуть любопытных сусликов, направился к кишлаку Павульган, который начинался сразу за тутовой рощей. Федя прибавил шагу. Он решил срезать дорогу напрямик и сократить разделявшее их расстояние. Но Саидка, как только подошел к первому домику, оглянулся и ловко вскочил на дувал, а с него — вниз. — Обманул! — растерянно произнес Федя. — Наверное, заметил… Вот беда! Ищи теперь его по чужим дворам… Федя хотел уже повернуть домой, но услышал громкий разговор за дувалом, куда спрыгнул Саидка. Отыскав в глиняной стене щель, он припал к ней глазами и увидел айван, где сидели, о чем-то разговаривая, две старые женщины. Третья возилась возле тандыра, подкидывая в его дымящуюся пасть сухую гузапаю. Но где же Саидка? Пройдя несколько шагов вдоль дувала, Федя опять отыскал трещину и увидел Саидку. Под старой урючиной, на кошме, сидел старик в черном халате, а подле него — Саидка! Рябое лицо старика с редкой, словно выщипанной бородкой было красным и рыхлым. Он слушал Саидку, что-то жуя и покачивая головой. Рядом с массивной фигурой старика Саидка казался мышонком, попавшим коту в лапы. Федя не мог расслышать, о чем говорил Саидка — он говорил шепотом, а когда голос Саидки звучал сильнее, старик обрывал его повелительным жестом. Саидка почтительно кланялся и говорил тише. Затем старик поднялся с кошмы. Ухватив за плечо Саидку, он сунул ему в руки горсть кишмиша и кусок лепешки. — Поешь и ложись отдыхать, — сказал он хрипловатым басом. — Ты рано поднялся, сын мой, и заслужил, чтобы хорошо отдохнуть. А потом… Потом мы с тобой будем читать святой коран. Всегда помни: нет лучше книги той, которую сотворил пророк… Это все, что услышал Федя. Проводив Саидку в дом, старик вернулся, прилег на кошму. Федя посидел немного в раздумье и пошел домой: ему больше нечего было здесь делать.РАССКАЗ СТАРОГО БОЙЦА
На бахче в эти дни было скучно. Никто не появлялся, а Тургунбай-ата привык, что возле него всегда были люди, и не просто люди — собеседники. Он даже перестал ловить перепелов и слушать их незатейливые песенки. Перестал готовить для себя пищу и жил одним лишь кок-чаем и черствыми лепешками. Из ума не выходил тот голый человек, которого ребята назвали Душанбой. Откуда он появился здесь, вблизи бахчи? Что привело его сюда? И тот ли он, за кого принял его старик под горячую руку? Все это очень беспокоило старика. Как и в тревожную пору басмачества, он теперь не расставался с ружьем. Бродил по бахче, словно кого-то выслеживал. — Ох-хо, слава всевышнему, хоть одного поймали и то хорошо, — вслух рассуждал старик, поглядывая по сторонам. — А он, конечно, не просто так заявился сюда… А когда, наконец, пришли на бахчу ребята и принесли свежие продукты, старый Тургунбай забросал мальчишек вопросами, будто не встречался с ними целый месяц. — Как поживает ваш косматый шайтан?.. А что говорит учитель? Неужели и он ничего не знает?.. А еще таких вам не случалось встречать? Вы уж не обманывайте меня, честно скажите. Хорошо ли вы обыскали то место, где нашли Душанбу? Теперь надо смотреть в оба глаза, это уж я знаю… Ответы ребят не успокоили старика. — Все у вас — нет да нет, ничего не знаете. А в разведчики собираетесь… Какие из вас джигиты получатся, если вы поверху глядите, — ворчал Тургунбай-ата, унося в шалаш узел с едой. — Не будем же мы врать, — сказал Иргаш. — Говорим правду — не знаем. Учитель ничего не сказал нам. — Потом, наверно, скажет, — заметил Роман. — «Потом, потом», — сердился Тургунбай-ата. — Кот ловит мышей, когда они из нор вылезают, а не потом. Чтобы не опоздать, надо наперед все знать. Дедушка отломил кусочек лепешки и неторопливо стал жевать, о чем-то думая. Мальчишки уселись под навесом. Хмурились. Плохо принял их дед. Переменился. Все ему неладно, все нехорошо. — Тогда вы почему-то смеялись, дедушка, помните? А сейчас сердитесь — зачем так? — спросил Иргаш. — Это верно, внучек, смеялся, — согласился Тургунбай-ата. Он дожевал лепешку, стряхнул с бороды крошки и сказал: — Старое вспомнил. Тогда тоже косматые были, только они не прятались в тугаях, а бродили по кишлакам, по базарам шатались и морочили головы честным людям. — Расскажите, дедушка, — попросил Федя. — О-о, это были очень плохие люди, дети мои. Нехорошие люди, — начал дедушка Тургунбай, разминая в пальцах душистую травинку. — Против Советской власти шли. — Против Советской власти?! — Иргаш даже поднялся, а глаза его округлились от удивления. — Конечно, против народа шли. Разве это люди? Они недостойны называться людьми… «А Душанба?..» — подумал Иргаш, вопросительно поглядев на своих товарищей. Глаза дедушки Тургунбая были полузакрыты, глядели как бы в себя, в пережитое, в тайники памяти. — Кому первому пришла эта дурь в голову — не знаю, — тихо продолжал он. — Много прошло времени. На моем ружье тогда еще не было ржавчины и никто не называл меня аксакалом. И вас еще не было на свете… И вот в наших местах появились «волосатые шайтаны». — А что такое «волосатые шайтаны?» — перебил Иргаш. — Как тебе объяснить? То ли дервиши, то ли монахи… Одним словом, косматые баламуты… Бродили по кишлакам и призывали народ верить только им. Болтали, что они наследники самого пророка Мухаммеда. А все остальные правоверные недостойны и заикаться о пророке. Ну, болтать все можно, а особенно им — они вроде как не в своем уме. Это уж я сам видел, как они бесновались и орали не хуже моего старого ишака. Толковали, будто и пророк Мухаммед был таким же бесноватым. Может быть, мы его не видали. Народ не доверял этим бездельникам. Зато басмачий курбаши Курасадхан пригрел их. Они были в большой чести у этого одноглазого дьявола. Предводитель косматых шайтанов Топивалды-ишан заделался советником курбаши, его духовным наставником. Тут они и показали себя, какие они есть наследники пророка! А занимались чем? Думаете, воспевали хвалу всевышнему? Как бы не так! Народ обманывали, в басмачи вербовали. Кто не шел — запугивали, отнимали жен и детей или убивали. А женщин — тех, несчастных, сжигали. Называли они себя хальфами, дервишами, которых благословил сам аллах, мюридами. Всяко называли. Грабили, убивали и все именем аллаха прикрывали. Убьет человека — аллах покарал, ограбит — так аллаху угодно. Особенно угодничал Курасадхану Ариф-ишан. Сильный был этот Ариф. Люди очень боялись его. Но всему бывает конец, сказка — хорошая или плохая — тоже кончается. Пришла в Ферганскую долину Красная Армия и разогнала басмачей. Топивалды-ишан присмирел. А Курасадхан слал из-за границы тайных гонцов к нему, требовал, чтобы его верные люди не прятали далеко оружия: оно скоро опять потребуется. А какие верные люди у басмачей могли быть? Баи, националисты, духовники, бандиты всякие. Чего они могли предложить народу? Бухарского эмира и кокандского хана. Только их и не хватало! Со старым народ покончил и за большевиками пошел. Судили врагов народной власти. Топивалды-ишана, Ариф-ишана и еще нескольких настоящих зверей расстреляли, а остальных «космачей» отпустили и сказали, чтобы занялись делом и не дурачились. Да они под конец, пожалуй, и сами разобрались, что с Курасадханом не по пути. Я был на суде. Долго он шел, много дней. Тургунбай налил в пиалу чай. Он почему-то волновался. — Вы их тоже ловили, дедушка? — спросил Федя. — В особом отряде ГПУ состоял. Приходилось. Как же — народное дело, сторонкой не обойдешь… — Он отхлебнул из пиалы и, уже весело поглядев на притихших ребят, сказал: — Такие же шлялись, как и тот, которого вы нашли. Вот и удивительно мне. Сколько лет прошло? Много. Жизнь совсем другая настала. А тут, пожалуйста! Как с неба свалился — косматый бродяга! Удивительно… — Дедушка Тургунбай, а мальчишки у тех ишанов были? Ну, например, такие, как мы? — спросил Федя. — Не знаю, сынок, — не сразу ответил Тургунбай. — Не встречал. Тяжело вздыхая, он поднялся и вышел из-под навеса. Остановился. — Что ни говори, а нужно быть осторожным, раз появились двуногие шакалы. Доверяться им нельзя. На всякую подлость способны… Рассказы дедушки Тургунбая мальчишки всегда слушали охотно. Иргаш даже розовел от удовольствия: вот какой храбрый у меня дед, с басмачами дрался! Когда дед умолкал — жалел: все интересное происходило тогда, когда его, Иргаша, на свете еще не было. Да и не только Иргаша это огорчало — Феде тоже хотелось испытать счастье настоящего подвига. Федя думал о своем, упрямо уставившись глазами в пиалу, наполненную холодным зеленоватым настоем. Что он видел на дне пиалы? Может, Саидку в больших галошах на босу ногу и в широких штанах? А может, рябого старика? А может, еще не пойманных птиц и зверей, которых ждут клетки в живом уголке? — За Саидку нам надо взяться, — после долгих раздумий сказал Федя. — По-моему, он как раз и путается с шайтанами. А через него можно кое-что разузнать. Вот тогда и поговорим… — Ты, Звонок, всегда что-нибудь придумаешь, — перебил его Иргаш. — А чего? — Ничего! Саидка еще нос сам вытирать не умеет. А шайтаны — дело серьезное. Думаешь, они станут ему доверять? — Значит, станут! Он в Павульган тайком ходит, с каким-то стариком встречается. И даже коран с ним читает. Сам видел. — Ну и что?! — повысил голос Иргаш. — В Павульгане у Саидки родни полно. В крайней кибитке тетка его живет. А коран — где старики живут, там обязательно его читают. — Тетка?! Федя смутился. Его предположения рухнули, но не хотелось сдаваться без боя. — Ну и пусть тетка, пусть дядя! — крикнул Федя. — Только Саидка не к тетке ходит. И все равно это узнается. Увидите… — Увидим — и хорошо, — бросил Иргаш, но потом, сдвинув на лоб фуражку, почесал затылок. — За Саидкой, конечно, нужно лучше смотреть, — продолжал он уже деловым тоном. — Учитель правильно говорит. Его надо держать к себе поближе. Чтобы он в школе учился, а не болтался по улицам. А мы его… — Возьми ты своего Саидку в адъютанты! В ординарцы!.. — съязвил Роман. И все-таки ребята последовали совету деда: с утра уходили в тугаи и бродили там до самого вечера. Дедушка Тургунбай тоже отправлялся с ними в путешествие, оставляя бахчу и все свое хозяйство на карнаухого пса.ЗАПИСКА ИЗ КОКАНДА
Когда вечером Джура Насырович зашел в комнату, его внимание сразу же привлек белеющий на окне конверт-треугольник. Такие «треугольники» были ему хорошо знакомы: в них он посылал весточки с фронта матери. «Таксыр! — вилась по листу затейливая арабская вязь, — ради всевышнего, ради вашей матери, ради ваших детей освободите меня из этого ада, куда ваш доктор заточил меня, больного и беспомощного. Аллах никогда не забудет вашей милости. Умоляю вас…» Не раздумывая долго, учитель сел на попутный грузовик и через час уже сидел в кабинете главного врача психбольницы. Доктор обрадовался ночному гостю. Он неторопливо прохаживался по кабинету, заложив за спину руки, и весело поглядывал на учителя. — Говорите, ребята назвали его Душанбой? Хе-е, какие молодцы! — рассуждал доктор. — Значит, они, ваши ребята, как и знаменитый Робинзон, каким-то внутренним чутьем угадывают в нем хорошего человека? — Психиатру виднее, доктор, — улыбнулся учитель. — Я берусь утверждать одно: он нормальный человек, а уж во всем остальном — решайте сами, — доктор развел руками и слегка поклонился. — Конечно, он истощен, измучен, но психика его не нарушена. Она, в общем-то, здорова. Да, да, и только поэтому он не может больше находиться среди душевнобольных. Нормальному человеку там делать нечего. И он не выдержал. Нервы не выдержали, — закончил доктор и уселся в кресло против учителя. — Мне непонятно, почему записку свою он послал мне, а не врачу, который направил его сюда. Я ведь только при сем присутствовал, и то если бы не ребята… Как вы думаете? — Ну, дорогой мой, это уже его право, — засмеялся доктор. — Видимо, он больше доверяет вам, воспитателям, нежели служителям медицины. А возможно, у него есть и другие соображения. — Возможно. Но что теперь я должен делать? — спросил Насыров после небольшой паузы. — Мне думается, вам надо взять его из нашего заведения и на некоторое время поместить хотя бы в местную больницу. Да, да, это совершенно необходимо для его полного выздоровления. Он поймет и… Кстати, теперь он уже не так страшен — волосы подстригли. Семьдесят два сантиметра — вот волосы! У Пятницы, наверно, таких не было!.. Утром в проходной учителю передали больного. Он действительно уже не походил на того Душанбу, каким привели его в Ашлак. На нем была чистая пижама, на ногах — тапочки, и только на голове все еще топорщились неаккуратно подстриженные волосы. Нетронутой оставалась и борода — черная и жесткая, словно моток тонкой проволоки. Насыров поглядел Душанбе в глаза. Ему хотелось увидеть перемену, которая произошла в них. Вместо безумия и страха он заметил в них тупое равнодушие. — Чем я заслужил ваше внимание, уважаемый? — спросил Джура Насырович. Душанба молчал, глядя в землю. — Мне показалось, что вы добрый человек, — наконец ответил он. — А если вы ошибаетесь? — Тогда ошибаюсь не я, ошибается аллах, который услышал мою молитву, таксыр. — О-о! — воскликнул учитель. — Аллах и молитвы не помогут. Я — неверующий. Совсем неверующий. Насырову казалось, что он разговаривает с человеком, которого однажды уже где-то встречал. Как знакомы эта мягкая, едва уловимая картавость в голосе, неторопливая жестикуляция, манера поджимать губы. Выйдя из больницы, они отправились на автобусную остановку. — Как я должен называть вас? — Ваши ребята назвали Душанбой — зовите и вы так. — Душанба? Но… — Не все ли равно? — перебил Душанба. — Какая разница — как меня звать? — Допустим, что так, — сказал Насыров. — Но мне не безразлично знать, почему вы написали записку именно мне, а не кому-нибудь другому. — Вы — учитель, умный человек и скорее поймете, что сумасшедший дом — не дом отдыха… — Но вы могли не быть там, уважаемый Душанба, — строго заметил учитель. — Вы повели себя так, что даже дети не сомневались в том, что вы душевнобольной человек. Теперь, быть может, вы объясните все? — Нет! Нет, я не могу этого сделать, таксыр, — всполошился Душанба. — Это тайна, и я не могу о ней говорить. Не могу! — Как знаете, — тихо и недовольно проговорил учитель. Говорить больше было не о чем. Они молча сели в автобус. Пассажиры разглядывали Душанбу с удивлением и жалостью. А он опять походил на безумного. Глаза горели, лицо дергалось, мелкой дрожью тряслись плечи. «Ловко у него получается, — думал Джура Насырович. — Прикидывается. Но кто скрывается за этой косматой личиной?..» — Куда вы меня поведете? — спросил Душанба, когда они вышли из автобуса. — К доктору, — твердо сказал учитель. — К самому Мирзакул-табибу, с которым вы уже знакомы. — Ради аллаха всемилостивейшего! — взмолился Душанба. — Отпустите меня, и я всю жизнь буду молиться за вас. — За меня молиться не надо. Куда вы пойдете? Снова в тугаи? — Я?.. Я… — Вот видите. И не просите, — покачал головой учитель. — Отпустить больного человека, у которого нет родных, знакомых, где бы он мог остановиться, отдохнуть, подлечиться, — это бесчеловечно! Верно я говорю? Душанба наклонил голову. — Я боюсь вашего табиба, — сказал он, чтобы не объясняться больше с учителем. — Боюсь лекарств, боюсь белых халатов… — Напрасно. Вам надо обязательно подлечиться, поправить здоровье, и наш доктор, уверяю вас, сделает это быстрее, чем кто-либо другой. А вы должны ему помочь в этом. Ведь очень многое зависит от вас, от вашего поведения…УЧИТЕЛЬ ДЕЙСТВУЕТ
Джура Насырович задумчиво шагал вдоль низкого дувала, отдававшего теплом и пылью, и будто слышал чей-то чужой голос: «Зайди в милицию, учитель. Зайди и расскажи. Ну, чего тебе стоит свернуть за угол — все равно сейчас или потом, но придется… Ты не знаешь, кто он… Зайди. А вдруг завтра…» — Что «завтра»?! — вслух произнес Насыров и остановился на перекрестке, откуда шла прямая дорога в милицию… …Возле школы играли дети. Джура Насырович присел на крыльце и задумался. — Иргаш, Роман, Федя… Нам поговорить надо, — сказал учитель подбежавшим к нему ученикам. — Пойдемте. …Утром ребята пришли в больницу. В руках у Иргаша был узелок с угощением. Мальчишки переминались с ноги на ногу и ждали, когда к ним выйдет Душанба. Но вышла молоденькая девушка в белой косынке и сказала, чтобы они шли за ней. В большой пустой комнате сидел Душанба. Поздоровались хором, как в классе. Душанба не сдвинулся с места и не ответил. Глаза его бездумно и холодно глядели куда-то вдаль. Иргаш снял фуражку, отдал Роману и принялся развязывать узелок. — Кушайте. Очень полезно, — приговаривал он, пододвигая плотные, словно отлитые из цветного стекла, грозди раннего винограда, урюк, персики. Но Душанба как будто ничего не видел. — Это наш маленький подарок. Мы хотим, чтобы вы не болели, — заговорил Федя. — Вы не думайте, что… — но он так и не нашел, чем закончить свою речь. — Не стесняйтесь, — продолжал Иргаш. — Мальчишек чего стесняться? Если вам сейчас плохо и что-нибудь болит — скажите, мы уйдем, не станем надоедать. Душанба не мог не заметить, сколько простоты и неподкупной мальчишеской честности было в глазах Иргаша. Скупая улыбка слегка тронула губы. Он отвернулся. — Кушайте, еще принесем… Но Душанба уже не глядел на ребят. Так и не сказав ни слова, он ушел в палату, пряча глаза от мальчишек. Выйдя из больницы, ребята пустились наперегонки. Они торопились рассказать учителю о своем визите к Душанбе. Они были убеждены, что выполняют очень важное поручение. Учитель слушал, не перебивал вопросами. «Молодцы, хорошие ребята, деловые, и сердца у них добрые». Немного настораживала только неизвестно откуда появившаяся злость у Романа. — Все равно он не нравится мне, Джура Насырович, честно признаюсь, — заявил Роман и махнул ребятам рукой, чтобы не вмешивались. — Подозрительный, скрытный. Зачем мы перед нехорошим человеком вот так? — приложил руки к груди и согнулся в три погибели. — Зачем нам унижаться перед таким? — Унижение здесь не подходит, Роман. Неправильно ты понимаешь это слово. Мы помогаем человеку, который попал в беду, — заметил учитель. — Конечно, унижаемся! Он дурачком прикидывается, а мы-ы возле него туда-сюда ходим: пожалуйста, пожалуйста. Вы что-нибудь хотите, ваше грязное космачество? Пожалуйста, мы принесем! — и кинул уничтожающий взгляд на Иргаша. Джура Насырович покачал головой. — Нет, Ромочка, на все сто процентов не согласен с тобой! — вступил в разговор Федя. — Ты не понимаешь: он больной. Совсем больной человек. — Какую болезнь у него нашел? — Я не доктор. Но мне хочется, да и Иргашу тоже, чтобы он человеком стал. Как все. — Верно говорит Федя, — вмешался Иргаш. — А ты заметил, у него слезы потекли, когда мы уходили? — Потекли слезы? — переспросил учитель. — Ага, — подтвердил Иргаш. — Это хорошо, когда текут слезы… Вечером ребята снова пришли в больницу. К больному их не пустили. Федя подтолкнул Иргаша в бок и кивком головы указал на дверь. — Я знаю в какой комнате он живет. Пошли, мы сейчас его увидим. — А мы что? — с раздражением спросил Роман. — Так и будем теперь целыми днями торчать в больнице? — Не целыми днями, а будем. Говорить надо с ним. Воспитывать. Но ни говорить, ни воспитывать в этот вечер не пришлось. Окна были затянуты мелкой сеткой. В одном из них был виден силуэт человека. — Он, — сказал Федя, прячась за ствол карагача. — Думаешь, только один он там лечится? — заметил Роман. — Не один. Видно же, вон волосы косматые торчат. — Не хочу глядеть! Любуйтесь сами на эти космы! — вспылил Роман, повернулся волчком на пятке и убежал. — Что с ним? — недоуменно спросил Федя. — Поганый жук укусил, — пожал плечами Иргаш. — Потом жалеть будет… Но настроение было испорчено. Ждать было нечего, и ребята отправились по домам.МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА
Недалеко от больницы, в переулке, ребята столкнулись с Саидкой. Побрякивая какими-то железками, он тенью пробирался вдоль дувала. — Э-э, Саидка, — преградил ему дорогу Иргаш. — Ты куда? Опять всякие банки-склянки собирать? Саидка съежился. Перед глазами ребят теперь была большая мохнатая шапка — это все, что осталось от Саидки. — Я не трогаю вас. Иду домой. Не задеваю… — чуть слышно пролепетал Саидка. — А где твой дружок — спросил Федя, посмеиваясь. — Какой дружок? Нет никакого дружка. — А рябой старик, которому ты коран читаешь! Кто он тебе? Словно кипятку хлебнул Саидка, присел еще ниже. После того, что он услышал от Звонка, бесполезно было оправдываться. — И не стыдно тебе? — спросил Иргаш, ткнув Саидку пальцем в грудь. — Совсем распустился и голова у тебя глупая стала, пустая, как тыква. Иргаш это сказал с глубоким вздохом и горечью. Он не забыл, как однажды Джура Насырович оборвал его рассказ о Саидкиных похождениях. Тогда учитель, кажется, обиделся на Иргаша и сказал ему очень серьезно: «То, что Саидка бросил школу и теперь ходит неизвестно где и с кем, виноваты и я, и вы, его бывшие одноклассники… И надо подумать, как исправить ошибку». А что можно сделать, если Саидка сам не хочет учиться? — Пойдем с нами, Саидка, — вдруг предложил Иргаш. В потемках медленно туда и сюда, как часовой маятник, качнулась шапка — это был молчаливый ответ Саидки: «Нет, не пойду к вам!» У Иргаша вспыхнуло желание стукнуть по шапке как следует, но он сдержался. — К духовникам сам бегаешь, а с нами ходить не хочешь? …Обычно Саидка в теплое время спит на крыше своей кибитки. Очень любит он это место, любит, потому что на крыше чувствует себя сильным и всевидящим. В дневное время отсюда виден весь кишлак, глинобитные клетки тесных двориков, похожие на пчелиные соты; беседки, увитые виноградом; дороги, по которым взад-вперед бегут машины и ползают тракторы. Ночью над чинарами поднимается луна. Кишлак погружается в зеленоватый свет, в волшебную тишину. Не слышно гула машин. Поэтому скрип колес случайной, запоздалой арбы, бряканье щеколды разносятся на весь кишлак. Саидка, укрывшись халатом, лежит на неостывшей еще земляной крыше и слушает. Порой ему бывает очень скучно, он готов плакать. У всех есть какое-то дело, у одних работа, у других учение. У Саидки нет ни того, ни другого. «Плохо так жить, думает он. А плакать — какой толк от слез. Все равно завтра опять надо рано вставать и идти. Каждый день куда-нибудь надо идти. Ребята еще в школу зовут. Ничего они не понимают, им легко живется, думает Саидка, а мне… Эх, Звонок, Звонок, — про себя рассуждает Саидка и хитро улыбается. — Ты, Звонок, ничего не знаешь. Саидка хорошо видел, как в Ашлак привели косматого человека. А кто он, косматый человек? Э-э, никто не знает, а Саидка знает. Саидка на крыше сидел и видел, когда в Коканд его провезли. Саидка никому не сказал. И рябой старик ничего не знает…» Ему стало почему-то весело. У него появилась своя маленькая тайна. Легче ему будет от этого или труднее — он пока сам не знает.«ГДЕ Я?»
На другой день Роман поднялся рано. Поплескавшись под умывальником, быстро оделся, запихал за пазуху лепешку и, накинув на плечо куртку, вышел. Потом вернулся в комнату, вырвал из тетрадки листок и написал: «Мама, отправился к деду Хвану. Есть дело и мне обязательно надо быть у него. Роман». «А то еще станет спрашивать: куда? зачем? Покушай сперва. Чего глаза у тебя грустные? Почему один? Где твои товарищи? А потом и совсем не отпустит. Знаю я ее», —рассуждал он, торопливо шагая по дороге. Ему действительно хотелось повидать дедушку Хвана и поговорить с ним и о Душанбе, и о ребятах… С кем же еще говорить, как не с ним — старый партизан! Тропинка поднималась вверх. Остановившись на вершине холма, чтобы лучше разглядеть тропу, почти утерявшуюся в кустах, Роман заметил человека. Внимательно всмотрелся — это был Саидка! «Ого, путешественничек Саидка, вон ты куда забрался!» — прошептал Роман. Саидка шел размашистой походкой, за спиной — тощий мешок, в руках палка. А на голове колпак дервиша, огорченный мехом шакала. Он беспрестанно оглядывался по сторожам, будто кого-то ждал и боялся разойтись с ним. — Сейчас я с тобой разделаюсь, мохнатая шапка. Запищишь… — Роман бросил на траву куртку, спрятался за кусты и приготовился. — Ты сейчас все мне расскажешь… Пропустив Саидку, Роман прыгнул на него, как волк на маленького неуклюжего сайгака, и свалил с ног. Саидка закричал, но тут же оправился от испуга, вскочил и вцепился в плечо Романа. Роман был сильней и увертливей. Но Саидка сопротивлялся изо всех сил, и Роману никак не удавалось положить его на лопатки. Роман тоже устал, но был уверен — еще минута, и Саидка, ослабевший, поднимет руки и скажет: сдаюсь. Но вдруг кто-то грузный, как медведь, навалился на Романа, обдав тяжелым запахом чеснока и пота. У Романа перехватило дыхание, из глаз потекли слезы. И тут — сильный удар в затылок, перед глазами замелькали яркие желтые точки. Потом они стали меркнуть… Сколько он был в забытьи — Роман не знал, потерял ощущение времени. Долго лежал с открытыми глазами, вспоминал происшедшее. В голове гудело и позванивало, как в пустом ведре на ветру. Превозмогая боль во всем теле, он повернулся. И первое, что увидел — Саидку. Тот сидел неподвижно, подобрав под себя ноги — так сидят в чайхане. Но это не чайхана, а всего лишь песчаный холмик, заросший по склону серым от пыли бурьяном. — Где я? — шевельнулись спекшиеся губы Романа. — Где?.. Саидка отодвинулся и продолжал глядеть куда-то в сторону. — Я ведь у себя дома, в кишлаке Ашлак. Да? — «У волосатых шайтанов», — не поворачивая головы, безучастно ответил Саидка. Со страхом Роман огляделся по сторонам. Что же случилось? Он шел к дедушке Хвану… А что болтает Саидка? Палит солнце, вокруг немые, дышащие зноем бугры и ненавистный Саидка. Он, как сыч, сидит и поводит туда-сюда глазами. А где же эти «волосатые шайтаны»? «Врет Саидка, чтобы напугать, — думает Роман, и ему становится легче. — Ничего не выйдет». — Что молчишь? — тихо спросил он. — Где шайтаны? Врешь, да? Ты всегда врешь… Всегда обманываешь… — Тебе тоже надо молчать, — отозвался Саидка. Потом подполз ближе, прижал к земле куст бурьяна. — Гляди сюда!.. Романа бросило в озноб. Метрах в тридцати-сорока от него стоял шатер, возле которого сидел человек. Он такой же, как Душанба, волосатый и почти голый, только очень большой и черный, точно отлитый из чугуна. — Гузархан-хальфа, — прошептал Саидка. — Сильный человек. Страсть какой сильный. Это и видно — широкая спина не так уж далеко от Романа. Сидящий у шатра поднялся, порылся в бурьяне и, выкатив оттуда желтую дыню, принялся за еду. Роман почувствовал, как больно свело челюсти. Он забыл, когда последний раз ел, а лепешки, взятой из дома, за пазухой не было. — Я тебе покажу, Саидка! — процедил он сквозь зубы. — Береги свою башку… Саидка молчал, словно эти слова его не касались. Он глядел поверх Романа и думал о чем-то своем. Ох, как ненавидел сейчас Роман этого бездельника! Не будь того страшного человека внизу, Роман кинулся бы на Саидку. Но сейчас нельзя. Он притих и задумался. Вспомнил Федю и его рассказ о Саидке. «Как же я пропустил мимо ушей такой момент, — думал он, кусая губы. — Лопух, настоящий лопух, смеялся еще над Звонком… Иргаш тоже — „тетка у него в Павульгане живет“. Вон там какие тетки…» Саидка поднялся, задрал исхлестанные полы халата и скатился с бугра. Роман хотел последовать за ним и тут же упал от сильной боли в щиколотке и колене. «Наверное, вывихнул, когда на меня тот медведь свалился, — мелькнула тревожная мысль. — Ходить нельзя… Как же мне убежать отсюда?» Вернулся Саидка, присел, с жалостью глядя на стонущего от боли Романа. — Спит Гузархан-хальфа… Идем, там землянка есть, лежать тебе надо, — зашептал Саидка. — Никуда с тобой не пойду, — огрызнулся Роман. — Не обманешь! — Эх ты, совсем дурной. Идем, идем, полежишь! Пойдем! — и, схватив Романа за руку, потащил его за собой. — Скорее… Проснется хальфа — очень плохо будет. Скатившись по песку вниз, они оказались в землянке, довольно просторной, с полуобвалившейся передней стенкой, где должна быть дверь. Здесь пахло прелой травой, полынью, было прохладно. — Сиди тихо, — приказал Саидка и убежал. Но скоро вернулся с консервной банкой, полной воды. Поставил ее возле Романа. Достал из-за пазухи кусок лепешки и накрыл им воду. — Твой обед, — сказал он и опять куда-то исчез. Роман, не поднимаясь, дотянулся рукой до консервной банки и со всей силой, какая еще была в нем, ударил кулаком. Банка отлетела к стенке, вода выплеснулась на жесткую, как камень, землю и долго перекатывалась по ней округлыми, точно ртуть, каплями. — Пейте и ешьте сами! — со злобой прошептал Роман и заплакал.ПРОЯСНЕНИЕ ПАМЯТИ
Когда учитель узнал от ребят, что Душанба загрустил и даже заплакал, это его обрадовало и вселило уверенность, что он имеет дело с человеком, которому надоела оторванность от жизни. Он не хотел пока торопить события. Вот почему, когда к нему опять пришли ребята, он дал им книгу «Насреддин в Бухаре» и сказал: — Книга для Душанбы, ребята, сейчас хорошее лекарство. Отнесите ему. — Так он же неграмотный, Джура Насырович! — удивленно воскликнул Федя. — Он же не умеет читать. — В том-то и дело, что он умеет читать и писать, — сказал учитель и загадочно улыбнулся. — Он грамотный! — Грамотный? — переспросил Иргаш. — Непохоже… А потом, почему он молчит? Он что, глухонемой? — Все у него есть, ребята. Все для того, чтобы быть человеком. Вы только не торопите его. Так будет лучше… И вот мальчишки снова в больнице. В узелке, вместе с фруктами и кишмишом, книжка про хитрого, но честного Насреддина. Принял передачу сам доктор Мирзакул. Он стоял в дверях, его глаза улыбались сквозь толстые стекла очков, но к Душанбе не пропустил. Больной спит, сказал он. — Ему надо было еще сказки принести, — заметил Федя. — Читает, наверно, плохо, по складам. Что серьезное — не поймет, а в сказке просто: про волков, про медведей. — Ему про людей надо читать, — возразил Иргаш. — И про хороших людей, а не так себе… — Интересное у нас дело, Капитан. Правда? — Не знаю. — Чего не знать? Конечно… Ромки нет — жалко, — с грустью заметил Федя. — Заходил к нему, мать сказала: пошел к дедушке Хвану. От большого дела удрал, обиделся. — Придет. Позадается немножко. За такую обиду ему надо по шее дать, — сердито сказал Иргаш. Они присели у карагача в палисаднике и стали ждать, когда появится в больничном окне Душанба. Федя, не отрывая взгляда от окна, продолжал думать о Ромке. Даже не верилось, что его нет рядом, не слышно озорного смеха. Конечно, Ромка есть Ромка, он никуда не денется, но все же раздор такой ни к чему… А Ромка все равно был неправ, когда так нехорошо говорил о Душанбе. Ошибается. Надо слушать, что говорит учитель. Он больше видел, воевал с фашистами, а Ромка — что он знает? — Эй, Звонок, уснул что ли? Гляди! У окна сидел Душанба и рассматривал книгу. Ребятам было видно, как он перелистывал страницу за страницей и улыбался. — А ты говорил: не поймет, — шепнул Иргаш. — И ты говорил. Значит, Ромка угадал: обманывает всех на свете. Душанба неожиданно рассмеялся. Но этот смех его совсем не походил на тот хохот, каким он наводил на ребят страх. Сейчас он смеялся просто, как человек, которому очень весело. Смеялся и что-то говорил, пока не увидел ребят, притаившихся под карагачом. Увидел и тотчас же бросил книжку. Потом распахнул окно, затянутое сеткой, сел на подоконник, и опять в его глазах появилась тоска и боль. — Забесился, — прошептал Федя. — Опять дерет волосы. Вот артист! — Ему стыдно, понимаешь? Он взрослый. С учителем говорил, с доктором тоже, наверно, говорил, а с нами не хочет. Какой к нему подход придумать… Давай уйдем. Пусть немножко успокоится. Ребята ушли. Они не видели слез на глазах Душанбы, не видели, как он упал на койку, в отчаянии обхватив голову руками. …Утром в больницу пришел Джура Насырович. Еще вчера он узнал от доктора о новой вспышке психоза у Душанбы. И теперь ему хотелось поговорить с ним с глазу на глаз. Еще из двери учитель увидел, что на койке их подопечного сидел совсем другой человек — без бороды, с аккуратно подстриженной головой. Насыров даже слегка растерялся. А тот сидел на краю койки и холодно смотрел на учителя. Худой и болезненно желтый, с остро выступающим кадыком на тонкой, как изогнутая палка, шее, он походил на тощую пугливую птицу, совершившую трудный перелет. — Это… Это вы? — удивленно воскликнул Джура Насырович. — Да, учитель, это я, — устало сказал Душанба. То, что беспокоило и волновало учителя много дней, сейчас прояснилось. Перед ним сидел человек, которого он хорошо знал. — Если не ошибаюсь, вы — Алихан Рузыев? — тихо спросил Насыров и опустился на табуретку. — Как это случилось? — продолжал он рассеянно, словно искал что-то в своей памяти. — Насколько я понимаю, вы этого не ожидали? — в голосе Душанбы слышалась насмешка. — Возьмите себя в руки. Идите куда следует и расскажите. Вы понимаете, чего я жду от вас? — Понимаю. Очень хорошо понимаю. Но нам сперва надо самим откровенно поговорить, — твердо сказал Насыров. — Как это произошло? — Рассказывать буду там, где меня станут допрашивать… — Тогда объясните: зачем вы открылись мне? — Мне надоело обманывать! — раздраженно крикнул Душанба. — Все надоело! Все!.. — Я не совсем понимаю вас. — Тем лучше. — Еще один, последний вопрос, — сказал Насыров, сделав вид, что не заметил раздражения. — Означает ли это, что вы порвали или порываете с прошлым? Молчание было тяжелым и долгим. Насыров не торопил. Он понимал, как нелегко сидящему перед ним человеку ответить на этот вопрос. — Вы можете верить мне — я давно ушел из того мира. Давно! — почти крикнул Душанба и протянул Насырову тощие руки, будто хотел сказать этим: неужели ты не видишь, какой я стал? Неужели я сам не доказательство моих страданий?! Неужели так можно обманывать? — Я ушел и хотел честно умереть. И если ’бы не ребята, аллах принял бы мою смерть и никто бы не узнал, что Алихана больше нет на свете, ни один человек! И зачем ребята отняли у меня смерть, когда она стояла в моем изголовье? — Они — люди, Алихан Рузыев. А люди не могли поступить иначе. — И после этого вы еще спрашиваете?.. Насыров стоял у двери, задумчиво глядя на человека, переставшего быть для него загадкой. — Хочется верить вам. Очень хочется… — проговорил он и вышел из палаты. …Он шел из больницы походкой человека, перенесшего тяжелую болезнь, вспоминал и думал. Думал и вспоминал. Институт. Студенческие годы. Однокурсник Алихан Рузыев. Ребята говорили, что Рузыев несчастный человек. Он потерял девушку, которую любил: родители выдали ее замуж за другого. Рузыев переменился, стал сторониться друзей. Часто на улицах старого города его встречали с какими-то стариками, с базарными завсегдатаями и попрошайками. А потом… Потом он перестал выполнять учебные задания, решительно отказался от практики в школе. В руках у него чаще всего видели не учебники, а религиозные книги, толковавшие суть непонятной жизни. И на комсомольском собрании заговорили о поведении студента Рузыева, хотя он и не был комсомольцем. И не только заговорили, но и прямо поставили вопрос: с кем ты, Алихан Рузыев? Что с тобой происходит? Он молчал и некстати улыбался. Ничего не добились тогда от него. А потом… потом на лекции, кажется, по психологии Рузыев вдруг вскочил с места и заорал таким голосом, что все перепугались. «Этого и надо было ожидать», — говорили потом студенты. И никто не удивился, что на следующий день Рузыев не пришел в институт. А тут наступило такое время, когда думать о судьбе Рузыева было просто некогда — началась Великая Отечественная война… Джура Насырович притворил за собой калитку и зашел в сад. Он чуть прихрамывал. Давно не напоминали о себе фронтовые раны, а сегодня почувствовал в ноге тяжесть, будто в ней все еще торчал осколок мины. — Можно ли ему верить? — уже который раз задает себе вопрос Насыров. — Трудно. Очень трудно… И еще нельзя простить то, что никогда не забывается. Он обманул не только нас… Война шла — скрывался неизвестно где. Закончилась, а он все еще скитается. Почему скитается? Почему в конце концов за ум не берется? Может быть, сейчас действительно оставил тех, кто столько лет прятал от него жизнь и его от жизни? Понял и переменил взгляды? Да, не все ясно. Далеко не все. И эта любовь его, о которой тогда говорили, — она не оправдание поступку. Может, он просто трус? И умереть собрался из трусости? Не мог справиться с самим собой?.. Кто же ты теперь на самом деле, Алихан Рузыев?ВИДЕНИЕ
Явилось оно ночью. Роман в это время спал в убогой землянке, куда его затащил Саидка. Сперва он ощутил глухую дрожь земли под собой, будто на эту землю вступило стадо диких слонов. Именно слонов — он где-то читал, что так дрожит земля только там, в саванне, когда по ней бегут слоны. Потом раздался крик, пронзительный, страшный, как в джунглях, его подхватили чьи-то голоса и понеслось дружное: о-ох-о-о-ох… О-о-ох… Роман открыл глаза. У порога землянки стояла ночь. Саидка сидел точно так же, как и днем, обхватив руками коленки и чуть откинув назад голову. Казалось, он застыл в этой позе. Окаменел. На полу — банка с водой, накрытая куском лепешки: ужин. Но Роман, облизнув губы, отвернулся от него. — Это джар называется, — тихо сказал Саидка, когда Роман поднял голову. — Гляди хорошенько. Такое мало кто видит. И только тут Роман увидел зрелище, которое и испугало, и поразило его. Несколько косматых, полуголых людей, сбившихся в тесный круг, прыгали, пугая ночь утробным, глухим вздохом: о-ох-ох… — Джар называется, — повторил Саидка, глядя на пляску с холодным равнодушием, как на что-то привычное, уже переставшее интересовать. — Целый час так будут, — продолжал он все тем же, нагонявшим тоску, голосом. — Устанут — падать будут. Потом дыню кушать будут. Чай пить. Потом спать. Роман силился понять, что происходит. Откуда взялись эти странные люди? Было трое: косматый силач, сидевший днем у шатра, Саидка и он — Роман. А теперь… Неужели все, что он видит, происходит недалеко от его кишлака, где живут и трудятся настоящие, хорошие люди, такие, как Джура Насырович, у которого три боевых ордена и шесть медалей, такие, как его отец, водитель хлопкоуборочной машины, Герой Социалистического Труда Алексей Пак… А быть может, это какой-нибудь фокус, каким обманывают зрение? Среди полуголых прыгунов особенно выделялся высокий старик, яростно размахивающий руками. Он подавал какие-то команды, вроде: «асса, асса!» — и тогда все кричали так, что хоть затыкай уши. Затем старик подал другой сигнал, и круг раздался. На середину вышел Гузархан-хальфа и стал прыгать. А остальные ухали, как сычи. Гузархан-хальфа так кривлялся, точно хотел вывернуть себя наизнанку, тряс головой, кружился, и волосы, разлетаясь, образовывали вокруг головы черный круг. Высоко подпрыгнув, он вдруг кинулся грудью на землю, но тотчас же вскочил и опять завертелся волчком. И, наконец, обессилев, он упал и распростер руки, как мертвый. — Это джар называется, — опять пробормотал Саидка. — Джар, джар, а что оно обозначает? — прошептал напуганный Роман. — Художественную самодеятельность немножко показывает, — усмехнувшись, ответил Саидка. — Молится. Хочет скорее в рай попасть. Жить там хорошо хочет. — Вот дураки! — удивился Роман. — А ты… Ты тоже так прыгаешь? — Они святые, а я нет. — Ты предатель, вот кто! — зло выпалил Роман. — Не думай, что твое предательство пройдет даром. За тебя никто не заступится, а за меня есть кому. Друзья есть, они и… — Роман потряс кулаком. — Зачем ругаешься? Я тебя не ругаю, — проворчал Саидка. — Плохо делаешь, Ромка. — А ты ругай, думаешь испугаюсь? Нет! Может, зла больше прибавится и тогда наподдаю тебе — будь здоров. Понял? — Я тебя трогал? Зачем драться стал? Зачем? — горячо заговорил Саидка. Он шел своей дорогой и никого не задевал. И если бы Роман не кинулся на него, он благополучно дошел бы до кишлака Павульган и сказал рябому старику, что задание его выполнил: все, что было уложено в мешок, донес в сохранности. Но теперь ему не надо докладывать, старик сам приехал сюда. Это он командует косматыми плясунами и заставляет их так убиваться. — Не знаешь, что сказать. Да? — не отступал Саидка. — Отстань! Надоел, ну тебя, — отмахнулся Роман, но уже без прежнего раздражения. — Почему «отстань»? — совсем разошелся Саидка. — Сам себе плохо сделал, а я предатель? Совсем не знаешь, как попал сюда, и ругаешься, кричишь. Почему так делаешь? — Ты много знаешь! Ну скажи, придумай что-нибудь такое, заковыристое! — Придумывать ничего не надо. Сам пришел, — сказал Саидка. — Гузархан-хальфа немножко помял тебя и бросил. Я тоже ушел. Чего сидеть? Сильно обиделся: зачем напал на меня? Гляжу, ты тоже сюда идешь. Заплутал. Идешь, туда-сюда шатаешься. Я скорее схватил тебя за руку и увел на бархан. Хорошо, Гузархан-хальфа не видел. Роман лежал и не шевелился. Ему почему-то стало стыдно глядеть на Саидку. А тот уже опять застыл в привычной позе. Неужели все это было так, как говорит Саидка? Можно ему поверить или нет? Нет, сперва надо проверить, хорошо проверить. Мало ли что он наболтает теперь… — Гузархан! Эй, Гузархан, вставай! — Старик тормошил за руку хальфу и слегка толкал его в бок остроносым ичигом. — Вставай, ты хорошо просил аллаха. Он не забудет твоей молитвы. Ты будешь очень близко от бога. Святым будешь!.. Гузархан, шатаясь, поднялся, сделал несколько шагов в сторону и снова повалился на землю. Привстал на четвереньки и пополз. И тотчас же Саидка вцепился обеими руками в Ромку и потащил его в угол. — Не шевелись! — задыхаясь, прошептал Саидка. — Гузархан-хальфа сюда идет… Саидка свалился возле порога и притворился спящим. А Ромка просто окаменел от страха и врос в землю. Когда Гузархан ввалился в землянку, Роману показалось, что стены ее обрушились и похоронили его под обломками. И только неспокойное сердце где-то очень далеко, под сырой тяжестью земли, еще тихо постукивало. Гузархан был совсем рядом. От него несло потом и прелым тряпьем. Отдышавшись, он сел на корточки, натолкнулся рукой на банку с водой и, кряхтя, стал пить. Напившись, принялся за лепешку. А когда жевать уже было нечего, выбрался из землянки и, охая, уполз к костру. — Ничего не оставил, все съел, — проворчал Саидка, усаживаясь на свое место. — Знаешь, какой сильный Гузархан-хальфа? Большую лошадь у себя на спине может держать. Подползет под нее и поднимает. Подкову одной рукой ломает. Медную проволоку зубами кусает. Кушает, знаешь, сколько? Целого барана может… — А куда тратит силу, бессовестный, — все еще дрожа от страха, прошептал Роман. Едкий дым из лощины несло к болотам. Небо посветлело. Косматые люди сидели тесным кружком у дымного костра и тихо беседовали. Говорил больше всех старик. Что он говорил — Роман, хотя и старательно прислушивался, понять не мог. До него долетали обрывки фраз. — О чем говорят? — Зикр-сухбат называется. Беседу про аллаха ведут, — ответил Саидка, прислушиваясь. — По-арабски говорят. — Ты тоже скоро таким станешь? — Никогда не стану! Зачем это мне? — убежденно сказал Саидка. — Коран, знаешь, какой? Шестьсот страниц! Все надо знать. Не хочу… Там отец мой, Муслим-дивона, сидит, — печально вздохнул он. — А зачем тогда это носишь? — спросил Роман, давно приглядываясь к засаленному кожаному шестиугольнику, болтавшемуся на Саидкиной шее. — Тумар, — ответил Саидка и запрятал его под рубаху. — Молитва в нем есть, чтобы счастье всю жизнь было. Мне его старик дал. Мадарип-ишан… Когда давал, сказал: «Всегда здесь, на шее, держи, это — счастье. И никому не давай. Отдашь — никакого счастья тебе не будет. Всегда печаль и горе будет». — А ты веришь, эх ты! Счастье никто за так не отдает. За счастье драться надо, как на войне. — Это другое счастье. — Другое? Какое другое? — Э, ты не поймешь. Только один Мадарип-ишан знает. Они замолчали. Мадарип-ишан?.. Роман однажды уже где-то слышал это имя или похожее на него, но где — забыл. Сейчас он думал о непонятном Саидкином «счастье». Нет, никакого счастья у Саидки не было. Обманули его. Теперь Роману казалось, что Саидка скрытный и непонятный, но не такой уж сильный предатель. Не настоящий. Запутался с «шайтанами» и потерял правильную дорогу в жизни. А порвать с ними… Он боится рябого ишана, Гузархана-хальфу и отца. Он не может бросить отца и уговорить не может, чтобы он перестал бродяжничать. Для такого, видно, силы воли у Саидки не хватает. А помочь ему некому — товарищей нет, в школе не учится, книжки не читает, в пионерах не состоит… В общем, неважнецкая жизнь у Саидки, — так думал Роман. — Что будем делать? — спросил он у Саидки, имея в виду дальнейшую судьбу одинокого мальчугана. — Не знаю… Ходить можешь? — по-своему истолковал Саидка его вопрос. — Болит, — сморщился Роман. — Понимаешь, вот здесь болит, — ощупал он припухшую коленку. — Крови не видно, а болит. Наверно, переломил… Косматые опять зашумели, о чем-то заспорили. Но теперь и Роман понимал, потому что разговор шел не о боге. Они спорили о деньгах, о халатах, о подаяниях, о том, что составляло их убогую жизнь. Мадарип-ишан почему-то вдруг стал ругать Гузархана — «святого человека, который ближе всех стоит к аллаху». Теперь он называл его глупым ишаком и обзывал грязными нехорошими словами. Оказывается, один только Гузархан-хальфа виноват в том, что от них отбился какой-то Алихан-хальфа. «Где он?» — кричал Мадарип-ишан. Гузархан молчал. Но когда Мадарип-ишан сунул под нос Гузархана кулак, тот зарычал и сказал, что очень жалеет, что не задавил вовремя Алихана, взбесившегося пса. После этого все прочитали какую-то молитву. Замолчали. Мадарип-ишан сказал: «Аминь!» и провел по лицу руками. Больше Роман ничего не слышал. Он уснул, измученный голодом, страхом и неизвестностью. Возле него, свернувшись клубком, примостился Саидка. Укрылись ребята стареньким Саидкиным халатом.ЕЩЕ ОДНО ОТКРЫТИЕ
Его сделал Роман в эту же ночь. Голод не давал крепко заснуть. Роман уже не раз пожалел, что оттолкнул от себя кусок лепешки и воду, принесенные Саидкой. А тут еще петух не дает заснуть. Орет все время да так громко и пронзительно, будто взялся досадить кому-то. Роман заметил его еще тогда, когда увидел у костра косматых людей. Он стоял на коленях у старика (Рауф-хальфа — называл его Саидка), а тот молча гладил золотистую петушиную шею. А теперь петух забрался на вершину шатра, под которым спал его хозяин, и горланил так, что не только в тугаях — в самых дальних кишлаках, наверно, слышали его крик. «Чего старик таскается с этим горлопаном, — думал Роман. — Может, плов из него будут варить? Эх, поесть бы…» И так засосало под ложечкой у Романа, что даже слезы потекли из глаз. Слезы текли не только от голода. Все гораздо сложнее… «Нехорошо получается, — размышлял Роман. — Погорячился с ребятами — зачем? Плохого ведь они ничего не сделали. Ну, они, наверно, забыли и простили: друзья долго не умеют обижаться. Учителя вот не послушал, Джуру Насыровича… Слышишь? Тебе говорят, — постучал он себя по лбу. — На Саидку наскочил… Какое имел право? Его, Саидку-то, оказывается, можно было поманить пальцем, он бы пошел сам, куда хочешь… Э-эх, Ромка, Ромка! Очень дурной человек…» Услыхав хриплый прерывающийся шепот, насторожился. Возле догорающего костра сидели Мадарип-ишан и Гузархан-хальфа. — Зачем набросился на мальчишку-кяфира? — хрипел ишан. — Умный человек никогда не будет поступать так опрометчиво. — Хе-хе, он напал на вашего посланца, ишан-ака, — оправдывался Гузархан. — Если бы я не заступился, что было бы? — Пусть, если у этого посланца — ни силы, ни ловкости. Подрались бы сопляки и разошлись… Что теперь? — Откуда знаю, ишан-ака? Исчез куда-то мальчишка… Нет его на том месте, — мрачно проговорил Гузархан. — Вот что делает глупость! Завтра он приведет милицию, собак-ищеек, и нас переловят, как глупых перепелок. Что молчишь? — Простите, ишан-ака. — Часто приходится прощать тебя. Обгорелой палкой ишан поковырял в костре, затем достал из-за пазухи табакерку, сделанную из маленькой тыквы, бросил под язык щепотку насвая[4]. На болоте проснулась выпь, неуверенно ухнула, словно для пробы голоса и, помолчав, заревела. Ей откликнулся трескучий голосок чирка. Гаркнув, слетел с шатра петух. Постояв с минуту, вдруг закричал и, прижав к земле голову, юркнул под шатер. — Ф-фу ты, нечистая сила! — вздрогнул ишан. Мадарип-ишан вздохнул и толкнул в бок задремавшего Гузархана. — А где тот сумасшедший? Почему о нем не беспокоишься? — Не знаю, ишан-ака, — проворчал Гузархан. — Он совсем ничего не говорил. И глаза у него были тусклые, как у мертвеца. А потом… Может, волки… Роман даже о боли своей забыл. Он догадывался, о ком говорили «святые». О Душанбе! Значит, все правильно, что рассказывал дедушка Тургунбай — Душанба из одной с ними шайки, такой же «святой», как и эти. И такой же дикий… А потом, наверно, он ушел, понял обман и — задний ход? Эх, куда я попал?!. А может, все это мне кажется, снится, а не происходит наяву?.. — Убедиться надо, какие волки съели его, — вздохнул ишан. — Ох-хо, аллах милостивый, услышь нашу молитву, отведи горе от моих братьев. Мальчишку разыскать! — Как это сделать, ишан-ака? — Ты меня не спрашивал, когда набрасывался на него. Я ничего тебе не скажу. Думай сам. — Что можно придумать? Я найду его, а потом что? Мадарип-ишан не ответил. Но Роман почувствовал, как все в нем обмякло. Стало жарко. Он задыхался от запаха прелого камыша и мышей. Казалось, что эти мягкие и гадкие мыши лезут на него со всех сторон, пищат, кусаются. Он прижался к Саидке. — Про тебя говорят, — шепнул Саидка. Роман ничего не ответил. Он подумал о другом: Саидка не спит и так же, как он, слушает. Значит, Саидку что-то волнует, ему тоже не спится, и думает он, конечно, не о том, как лучше услужить «волосатым» и противному старику-ишану, а о чем-то другом…А Душанба, которого не раз вспоминали этой ночью, менялся на глазах. Плечи его раздались и выпрямились, грудь подалась вперед, спина, еще недавно походившая на сучковатую доску, сделалась упругой и сильной. И лицо изменилось — оно стало свежим и округлившимся, только глаза еще не совсем успокоились. Встречи Душанбы с учителем Насыровым больше не носили налета холодной отчужденности. Тот серьезный разговор, который, как казалось Душанбе, будет последним, наоборот положил начало новым долгим и мирным беседам. Душанба с жадностью прочитывал газеты, которые ему каждый день приносили ребята. Нередко с ними приходил и учитель. Вот и сегодня они пришли втроем. Гости нашли Душанбу в беседке, увитой виноградными лозами. Он читал книгу. — Здравствуйте, Алихан-ака, как здоровье? Как самочувствие? — приветствовал Джура Насырович больного. Душанба поднялся навстречу и протянул руки, как обычно встречают желанных гостей. — Спасибо, Джура-ака, спасибо, — отвечал, он, смущенно улыбаясь. — Я причинил вам столько неприятностей и забот. Простите меня. — Что вы, Алихан-ака! Я спрашиваю о здоровье, а вы… — Мне хорошо и я всем очень доволен. Как вы себя чувствуете? — Спасибо, друг, спасибо. Что читаете? — заглянул в книжку учитель. — О-о, «Повесть о настоящем человеке»! Чудесная книга! — Это они, — указал на ребят Душанба. — И понимаете, Джура-ака, каждый раз приносят такую книжку, что за живое не взять не может. Прямо психологи настоящие! — Ну, ну, только не перехвалите их, — шутливо погрозил пальцем учитель. — Психологию изучают в десятом классе. Им — рано. Но они — пионеры, Алихан-ака, а это уже ко многому обязывает. Они присели на скамейку, ребята устроились поодаль и делали вид, что разговор взрослых их не касается. — Что говорит доктор? — опросил учитель. — Совсем ничего не говорит, — ответил Душанба. — Мне кажется, он считает меня по-прежнему психом, от которого можно ожидать все, что угодно. — Ну, зачем так… — перебил учитель. — А вы-то сами что чувствуете? — Хорошо себя чувствую. Очень хорошо. Насыров немного помолчал, внимательно посмотрел в лицо собеседника. — Хочу предложить вам работу, Алихан-ака. Как вы?.. — Работу?! — Душанба переменился в лице. «Работа»! Это слово давно уже стало чуждым для него. Оно пугало его так же, как пугали другие слова: тюрьма, милиция, суд. Но сейчас это слово прозвучало совсем иначе, просто, как звучит слово хлеб, вода, воздух, жизнь. Оказывается, в слове нет ничего страшного, стоит только прислушаться к нему сердцем. — Работу?.. А какая может найтись для меня работа, Джура-ака? — робко спросил Душанба. — Простая работа в нашем школьном саду, — объяснил учитель. — Вот и ребята — ваши помощники. Они там сейчас одни трудятся. — Право, не знаю, что сказать, — смущенно продолжал Душанба. — Если говорить честно, мне хотелось другую работу. Именно ра-бо-ту… Хотелось бы с кетменем… — Ваше желание вполне понятно, дорогой мой, — улыбнулся учитель. — В школьном саду именно такая работа. — У нас там есть и лопаты, и грабли, — добавил Федя. — А осенью трактор обещают дать. — Трактор?! — Конечно, — подтвердил Джура Насырович. — Нам хорошо помогают шефы, совхоз. — Не хочу скрывать от вас, Алихан-ака, — продолжал учитель, — я думаю о некоторых и своих личных интересах: собираюсь отдохнуть, раны подлечить. Они снова начинают меня беспокоить. А вы пока за делом поглядите. Согласны? — Неужели это возможно?! — испуганно произнес Душанба. — Поручить мне такое дело… А если… — Мы — люди, Алихан-ака, лю-ди, — подчеркнул учитель. — Люди не могут жить без доверия. Вот мы и пришли сказать, что доверяем вам. Договорились? Душанба стоял возле беседки высокий, бледный и глубоко взволнованный. Его волновала неминуемая встреча с чем-то большим, радостным, светлым, встреча с людьми, которых он еще вчера боялся, презирал, сторонился.
ЛЮБИМЕЦ АЛЛАХА
Роман так больше и не заснул, вконец напуганный услышанным. С бьющимся сердцем он следил за тем, как просыпались его страшные соседи. Один за другим они выползали из шатра, грелись на солнце, почесывались. Обогревшись, стряхнув с себя утреннюю дрему, в мрачном молчании принимались пить чай. Потом так же молча по одному расходились. У костра остался Рауф-хальфа. Он кормил петуха, подставляя ему под клюв грязную, сложенную ковшом, ладонь. Петух радостно кукарекал и, давясь кусками лепешки, тряс головой, будто благодарил хозяина. Последним из шатра вышел Мадарип-ишан — высокий и важный, с непроницаемым выражением лица. Роман приподнялся на локте и стал наблюдать. «Вот он какой, их главный предводитель… „Волосатый“, а у самого нет волос. Хитрый, не хочет людей смешить». Мадарип-ишан расправил плечи, поднял голову, точно собирался начать утреннюю гимнастику. Умылся из того же кумгана, в котором кипятили чай. Расстелил халат и встал на молитву. Роману было хорошо видно его лицо, вначале — строгое, нахмуренное, будто старый ишан сердито ворчал на кого-то. Потом оно расплылось в рабском умилении, а губы скривились в такой сладкой улыбке, словно их хозяин только что съел жирный плов. Кончив улыбаться, Мадарип-ишан, сморщившись, заплакал настоящими слезами, которые тихо ползли по рябому лицу. Это уж совсем удивило Романа: как можно плакать, когда тебя никто не обижает? Кончив молитву, ишан крикнул Гузархана и велел ему оседлать ишака. — А ты чего сидишь, бездельник? — проворчал он на Рауфа-хальфу. — Чего дожидаешься? — Сейчас я, ишан-ака, сейчас уйду. Накормлю птицу и уйду. — Аллах хозяин птицы, он и накормит ее. — Да, да, ишан-ака, — безропотно согласился Рауф-хальфа. — Об этом я и говорю всем правоверным… Мадарип-ишан, кряхтя и вздыхая, взобрался на ишака и тронулся в путь. Петух, глядя ему вслед, захлопал крыльями и запел. Лицо старого Рауфа просияло улыбкой. Он погрозил петуху скрюченным пальцем. — Ах-ах-ах, зачем так кричишь, мошенник? — Наелся — и кричит. Смотрите, какой у него зоб, — сказал Саидка, подсаживаясь к Рауфу. — A-а, это ты, Саид! — Рауф-ата, зачем вы его всегда таскаете? Ишан-ака говорит, что петух не ваш, аллах хозяин ему, а вы таскаете? — спросил Саидка. — Вот поэтому-то, сын мой, я и не расстаюсь с птицей, что она в таком уважении у аллаха находится. Может, всевышний заметит и пошлет мне за мой труд немного счастья. — Рауф-хальфа беззубо ухмыльнулся, сощурив хитрые, очень живые глаза. Саидкины расспросы о петухе разозлили Романа — он ждал еды от Саидки, ждал с голодным нетерпением, с болью в желудке, а тот… «Разболтался, нашел время». — Петух! Аллах одарил его не только сладкозвучным голосом, мудростью и предвидением, — продолжал Рауф-хальфа. — Эта крылатая живность все понимает и все предвидит. А когда приблизится конец, аллах прикажет своему любимцу опустить крылья и не радовать больше грешников своим голосом. И все петухи на земле перестанут петь. Тогда умолкнет и мой мошенник. Конечно, ему будет грустно без песни, но что поделаешь? На все воля аллаха. Так-то, сынок… — Не верь, Саидка, ему! — закричал Роман, вскакивая и забыв про больную ногу. — Неправду он говорит! Неправду! Никого на небе нет! И петуха там нет! Рауф-хальфа, схватив петуха, пустился было бежать, но Саидка вцепился ему в халат и закричал: — Куда вы, ота Рауф? Не убегайте, я все расскажу! От страха глаза у Саидки округлились, как у совенка. Он знал, что вот-вот придет Гузархан, который ушел искать ишака, и тогда Ромку схватят. — Ата, Рауф, Ата Рауф!.. Все объясню, не убегайте!.. — твердил Саидка, а Ромка, точно потерявший рассудок, продолжал: — Спутники там летают! Вселенная там!.. — Перестань, Ромка! — кричал Саидка. — Перестань!.. Рауф-хальфа, как загнанный, насмерть перепуганный заяц, забежал в шатер и забился в угол. — Он заблудился, ота Рауф. Потерял дорогу, — торопясь, объяснял Саидка, встав перед стариком на колени. — Ногу немножко повредил… Это корейчонок Ромка из нашего кишлака. Я его нашел в тугаях и привел сюда… Вы, ота Рауф, не говорите никому. Дайте мне такое слово. Честное слово… Старик немного успокоился, но в глазах его застыла тревога. А мальчишка не мог остановиться. Он никогда еще не творил с таким волнением и так много. — Я знаю вас, Ата Рауф, вы не скажете Мадарип-ишану! Вы хороший… И Гузархан-хальфе ничего не скажете! Никому! Маленьких нельзя обижать, скажете — вас аллах накажет… А Ромка — он тоже хороший… Потом он уйдет. Не скажете? Рауф-хальфа закрыл глаза и вздохнул. — Аллах вам судья, — прошептал он. — Аллах все видит и все знает, я только раб его, я ничего не знаю, сын мой… А петух — э-э, он совсем глупый. Мне не удалось научить его разговаривать. Он умеет кричать и драться, а рассказываю за него я, сынок. На лице старика появилась улыбка, слабая, но с доброй хитринкой. Он покачал головой и поднялся. Саидка, совсем измученный, повалился на землю и долго лежал, бездумно разглядывая дырявый полог шатра, через который лезли острые, как золотые иглы, лучи солнца. Саидка присел подле Романа и заглянул ему в глаза. — Зачем кричал? — спросил он. — А зачем он неправду говорит? А ты слушаешь… — Каждый говорит, что хочет. Пускай говорит. Ему хорошо бывает, когда его слушают, а мне что? — А тебе, конечно, бари-бир, — с раздражением заметил Ромка. — Говорить надо о деле, а не о глупостях. Ты веришь ему? Саидку никто еще так прямо не спрашивал, и он не знал, что ответить. Даже немного оробел и, помешкав, сказал: — Болтать не будет. Ата Рауф вреда никому не делает. Чудак немножко… Если бы Гузархан был здесь — плохо бы тебе… — Ну и пусть плохо! — вспылил Роман, а потом заплакал. — Наплевать!.. Никого я не боюсь. И твоего силача Гузархана тоже! Саидка схватил Романа за плечи и, вытаращив глаза, зашипел на него: — Тише, тише! Сейчас Гузархан придет. Вон идет! — Приложив палец к губам, Саидка выскочил из землянки. А Гузархан-хальфа, отпустив ишака, подошел к потухшему костру. Потоптался лениво, не зная за что приняться. Подозвал Саидку, который как ни в чем не бывало сидел у шатра и обстругивал ножом палку. Что-то сказав, Гузархан снисходительно посмеялся, надвинул на Саидкины глаза дервишскую шапку и ушел. — Вставай, Ромка, — позвал Саидка. — Совсем с голоду помирать будешь. Идем, кушать немножко будем. Он принес почти целую лепешку и все ту же жестяную банку еще горячего чая, зеленый урюк и щепоть соли. — Где ты взял урюк? — В тугаи ходил, урючина там есть… Большая… Роман накинулся на еду, давясь кусками лепешки. Саидка ел степенно; скупая, но радостная улыбка не сходила с его лица. — Гузархан-хальфа к роднику пошел, — сказал он. — Там прохладно. Немножко алычи есть… Э-э, спать целый день будет. Мадарип-ишан уехал. Хорошо! Ругать никто не будет. Нам тоже хорошо, да? — Мне тогда будет хорошо, когда я удеру отсюда, — с грустью произнес Роман. — Нельзя, — отрицательно затряс головой Саидка. — Нельзя! У тебя нога болит, далеко не уйдешь. А вдруг Гузархан увидит? Он все может сделать! У них еще Саттар-хальфа был. Немножко горбатый. Помер недавно. Страшный он был! Его все боялись. Женщины тоже боялись, которые верующие сильно. Он керосин им приносил, спички давал, читал молитву и говорил: «аминь»… Роман слышал, что когда-то случалось такое: сами себя сжигали несчастные женщины, кем-то обманутые, оскорбленные. Такие рассказы исходили от старух, которые прятали под сеткой лицо от солнца и людских глаз. Но тогда он ничего не знал о волосатых людях. Даже не предполагал, что существуют такие. О боге он знает, что его нет и никогда не было. И вдруг, пожалуйста!.. «Шайтаны» и их покровитель аллах! — Когда война была, волосатые люди от войны укрывались. Мой отец тоже… «Там убивают», — говорил. Дивоной стал. А с дивоны что возьмешь? Кому он нужен? — Саидка засмеялся, обнажив ровные блестящие зубы. — Он совсем никому не нужен. А Гузархан-хальфа, о-о, какое нехорошее он делал… Сам говорил мне: учись, пока я не помер. Хвалился. Однажды, когда война была, его на базаре задержали. Привели в военкомат и сказали начальнику: «Вот какого здорового привели, один сто фрицев убьет. Сила!» А он стал прыгать. Джар в военкомате устроил. Доктор говорит: «Э-э, мы его давно знаем. Притворяется. Отправляйте поскорее на передовую. Пускай фашистам эти спектакли показывает». А Гузархан спрашивает командира: «Можно мне, пожалуйста, туда сходить… Живот шибко болит…» Начальник, конечно, говорит: «Иди!» Гузархан подхватил халат и бегом… — Предатель! — с возмущением сказал Ромка. — Его надо было судить, как врага народа! Саидка умолк и больше не смеялся. Он глядел в пустоту, печально, с горькой, все еще державшейся в уголках губ усмешкой. — Эх, бари-бир, — вздохнул Саидка. — Тебе не надо бояться, Ромка. Гузархан, конечно, хитрый, но я тоже немножко хитрый. — Выручить хочешь меня? — спросил Ромка. — Ага…МАЛЬЧИШКИ ХОТЯТ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ…
Тяжелый, как полный бурдюк, сидел Мадарип-ишан на сером ишачке и ехал вдоль заросшего камышом арыка. Ишачок тянул из последних сил, семеня тонкими ножками. Воздух полнился томительно-сладким запахом джиды, росшей по обочинам сухого арыка. В кустах, свистя и попискивая, шныряли птицы. Мадарип-ишан, свесив на грудь голову, не то думал, не то дремал. В это утро ему почему-то все не нравилось. С некоторых пор он стал замечать, что люди раздражают его. Даже самые близкие вызывают иногда в нем тоску и ожесточение. А все оттого, что не стало в них прежней покорности, усердия к молитве, честности в дележе подаяния — так и норовит каждый утаить от него хоть малую толику. Он много раз молил аллаха дать этим людям — его хальфам и мюридам — веру и благочестие, но молитвы не приносили облегчения. На душе по-прежнему лежали тоска и сумрак. Его верные хальфы либо умерли, либо состарились и ослабели разумом. Молодые — в них нет твердости духа. Они скорее попадают в ловушки, расставленные неверными. А с тех пор как закончилась война и объявлена амнистия, многие просто покинули Мадарип-ишана. Трус — он всегда остается трусом и негодяем, думал старый ишан. И мюриды пошли не те — подаст лепешку и считает, что он откупился от самой смерти. Часто стал задумываться Мадарип-ишан. Даже ночи не приносили ему покоя. Сквозь тревожную дремоту он постоянно слышал чьи-то шаги, твердые и стремительные. Он, прямой потомок кокандского Худоярхана, живет в обличии нищего и нет конца этому унижению и страданиям. Перед затуманенным взором ишана текла его жизнь. Он вспомнил, как ждал своего конца: сидел в одиночке и молился. Не один десяток лет прошел с того дня, но он не забыл и как сейчас слышит тревожный лязг дверного засова. В камеру входит милиционер, лицо его непроницаемо, повелительным кивком головы он указывает на дверь, к выходу. Значит, все кончено… Но почему-то он оказался не на краю могилы, а в глухом темном саду. Чей был сад, он не знал. И кто тот человек, что привел его сюда — он тоже не знал. В памяти осталось только призрачное лицо милиционера, на мгновение освещенное коптилкой в камере. У его ног лежал хурджун и галоши. Была холодная и ненастная ночь. Он сунул в галоши озябшие ноги, перекинул через плечо хурджун и пошел. Так началась вторая жизнь Ариф-ишана. С этой минуты он стал Мадарип-ишаном не только для людей, не знавших его, но идля близких и для себя. Далеко от жилья, в безлюдной Аванской степи Мадарип-ишан нашел старое волчье логово, разрыл его руками, углубил. Оно стало его домом. Затем сюда по одному стали сбегаться уцелевшие от разгрома мюриды и хальфы. В кишлаки пришла не только весна, но и новая жизнь. Мадарип-ишан понял: могучий поток, ворвавшийся в жизнь, разрушает все старое, включая веру в аллаха. Теперь его хальфы, прикрываясь пыльными халатами странников, бродили по кишлакам и в тайных беседах, во время жарких молитв призывали людей вернуться к старому. А кто мешает этому, тех нужно убирать, пока есть сила в руках. Один за другим падали вожаки деревенской бедноты от рук замаскировавшихся басмачей. И подозрения за эти убийства не падали на «волосатых людей». Никому не верилось, что эти заросшие до глаз люди способны на что-то, кроме гнусавого пения, молитв и попрошайничанья. Их даже верующие обходили стороной, с «шайтанами» лучше не связываться. Однажды в Коканде Мадарип-ишан попал в милицию. Он прикинулся душевнобольным. Его поместили в сумасшедший дом. Месяц он пробыл там и с успехом выдержал испытание. Как невменяемого, его передали «родственникам» — то были его благодетели. И до сих пор Мадарип-ишан вспоминает этот случай и довольно улыбается. Но улыбка все реже появлялась на его лице. С тревогой и страхом смотрел он, как бросали его верные сторонники. Их оставалось всего несколько человек, сильно скомпрометировавших себя перед Советской властью. Поэтому, когда в его сети попал совсем молодой Алихан Рузыев, Мадарип-ишан, уже много лет не видавший такой удачи, воспрянул духом. Однако, когда Мадарип-ишан узнал, что его ученый молодой хальфа стал охладевать к молитве, серьезно встревожился. С Алиханом ишан связывал свои надежды. Он восхищался остротой ума Алихана, его ученой рассудительностью. Думалось, что пройдет немного времени, и он, Мадарип-ишан, рукой Алихана и его разумом напишет свой, новый коран. И вдруг Алихан перестал быть послушным и набожным, позабыл про молитвы, перестал слушать ишана. Ишану казалось, что в хальфу вселился иблис. Он стал умолять аллаха вернуть Алихану прежнее послушание. Не помогло. Только изгнание шайтана может теперь спасти его. Алихана связали и долго били палками. Били несколько дней кряду. Обливали водой. Жгли огнем тело. Пускали кровь. И снова били. Алихан перестал двигаться. Он тихо стонал, а из глаз текли слезы. Тело покрылось гнойными ранами. Мадарип-ишан сказал хальфам: — Отнесите подальше. Если аллаху угодно, он обретет разум и силу, вернется сам, если нет — мы, грешные, ничего не сумеем сделать. Мы не виноваты. Алихана отнесли в тугаи. И вот он исчез из тугаев. Ни следов, ни костей на том месте, где он был брошен, не оказалось. Мадарип-ишану есть о чем подумать. А вдруг произошло не так, как ему хотелось? — Аллах всемилостив, он не допустит, чтобы торжествовали враги, чтобы они растоптали святую веру… И все-таки Мадарип-ишану стало не по себе. Он слез с ишака и прилег на траву, прислушался к неспокойному стуку сердца. Он считал, что только одному ему принадлежит слава создания «истинной религии». То, что в свое время сделал Топовалды-ишан, было лишь робким началом. Топовалды-ишан не сумел дать своим делам божественного объяснения. Мадарип-ишан другое дело: он во всем старался подражать пророку. Вначале, как и пророк, он воевал против своих врагов оружием. Правда, у него не было знаменитого Зульфикара-пронзителя, каким поражал врагов Мухаммед, — в его руках была только новенькая винтовка, изготовленная в Англии. Потом он, как и Мухаммед, укрылся от людских глаз в Аванской степи — здесь не было горы Хары, но молитва, как он полагал, отовсюду звучит одинаково. Если кто-нибудь из его учеников не мог обрести трясучей «святости», он сердился и считал, что человек все еще находится в лапах иблиса, и «жертву иблиса» били палками до тех пор, пока на него не снисходила благодать аллаха. Хальфы — его ученики и проповедники — разносили по кишлакам необыкновенные легенды о божественном происхождении Мадарип-ишана. О нем говорили, что пятикратный намаз каждый день он совершает не где-нибудь — в Мекке! А хальфа Гузархан пошел дальше всех, он рассказывал, что даже осел ишана наделен мудростью. Будто Гузархан-хальфа сам был свидетелем, когда ишак Мадарип-ишана вдруг заговорил человеческим голосом и громко возвестил, что он везет на своей спине величайшего из учеников пророка.После отъезда Джуры Насыровича день у ребят начинался так: утром они приходили в школу, кормили питомцев живого уголка, чистили клетки и шли в сад. Душанба жил теперь в саду, в легкой летней времянке. На нем был, хотя и поношенный, но добротный костюм, который еще недавно носил сам учитель. На голове — новая тюбетейка. Лицо чистое — ни ссадин, ни синяков — уже тронул загар. Особенно изменились глаза Душанбы — теперь в них светилась сама жизнь. И чем больше работал Душанба, чем больше уставал, тем светлее были его глаза, тем больше было в них радости. Усталость делала его добрым. Трудился он дотемна и поздним вечером садился у огонька, на котором тихо урчал медный кумган с закипающей водой. Он испытывал такое блаженство, какого не приходилось испытать за всю жизнь. Здесь он был человеком. И только воспоминания о прошлом все еще тревожили Душанбу. И как только он начинал уже чересчур задумываться — возле него появлялись ребята. И опять все становилось на свое место. …Они присели отдохнуть. Душанба утер рукавом пот на лице, взглянул на только что прорытый арык, по которому струилась желтоватая вода, и сказал: — Какие молодцы! Уверен, что учитель будет доволен работой. Пока все идет хорошо. Силы у вас хватает, — не без лукавства сощурился он, — и не только для сада… Это уж я по себе знаю: крепкие у вас кулаки, как зимние груши. Мальчишки рассмеялись. Смеялся и Душанба, поглядывая на ребят добро и ласково. — Но где ваш дружок, маленький кореец? — спросил Душанба. — Я что-то не вижу его. А парень он, кажется, смелый. Верно? — Еще бы! — воскликнул Иргаш. — Ромка храбрый. — Мировой пацан Ромка! — поддержал друга Федя. — У него все хорошее, и голова тоже, характер немножко плохой: горячий сильно, — пояснил Иргаш. — Скоро придет. К дедушке Хвану пошел. — И неожиданно спросил: — Душанба-ака, а вы больше не пойдете туда? Понимаете, туда?.. Душанба давно ждал этого вопроса. — Не пойду, — после долгого молчания глухо ответил он, пряча глаза от ребят. — Душанба-ака, а вот те… — снова заговорил Иргаш. — Ну, которые вас… Те, с которыми вы были, они где-нибудь есть? — Конечно, они где-то есть, но лучше не думать о них… не надо… И сейчас же почему-то вспомнились спутники его недавних скитаний. Они будто вышли к нему из могильного сумрака, окружили плотным кольцом, чтобы он не смог вырваться. А через их головы глядели глаза Мадарип-ишана, налитые кровью и злобой. Тут же стоял, как кряжистый карагач, Гузархан-хальфа. Рядом — Рауф-хальфа, сухой, как палка, Гияс, Касымали, дивона-Муслим. — Да, они все еще есть, — вздохнул Душанба. — Но вам не следует опасаться, они никогда сюда не придут! — А где они, Душанба-ака? — продолжал Иргаш, преследуя свои, пока еще тайные цели. — Мы можем их видеть? — Зачем вам они? — насторожился Душанба. Он, кажется, только этого и боялся. — Они совсем не стоят того, чтобы встречаться с ними. — Вот и хорошо, Душанба-ака, — подхватил Иргаш. — С такими нам и хочется поговорить. Вы скажите, где они. Мы их разыщем и тогда… Душанба налег грудью на черенок кетменя и покачал головой. — Нельзя поступать так легкомысленно, — сдерживая волнение, сказал он. — Вы справились со мной, потому что я был болен и беззащитен. У меня не было сил. Там другие люди. Они сильные и так просто не дадутся вам в руки. — А как же тогда? — не отступал Иргаш. — Пусть они продолжают обманывать людей, да? — Вы сами говорите, что они нехорошие, что они враги. Надо всем пойти против них, — горячо проговорил Федя. — Не надо горячиться, ребята, — успокаивал Душанба не столько ребят, сколько себя. — Давайте подумаем, как лучше сделать. Найдем выход. Обязательно найдем…
ГОСТЬ ДЕДУШКИ ТУРГУНБАЯ
Он появился на базаре неожиданно и шумно, вместе с облаками пыли, рвавшимися из-под колес мотоцикла, черный от жаркого степного солнца. Подкатил к навесу, заглушил мотор и пошел навстречу старику. — О-о, Алимджан, сынок, ты очень кстати, — обрадованно заговорил Тургунбай-ака. — Здравствуй, сынок! Здравствуй! Как здоровье твое? Как самочувствие? Помогает ли аллах тебе в нелегком деле? — Здравствуйте, Тургунбай-ата, очень рад видеть вас здоровым и как всегда жизнерадостным, — весело отвечал гость, сжимая в своих пропахших бензином ладонях руки Тургунбая. — У меня все хорошо. Только вот не замечал, чтобы мне помогал аллах. — Это верно, — заулыбался старик, расправляя усы. — Добрые люди тебе помогают. Это уж я хорошо знаю. Да и мне он что-то не помогает, — добродушно посмеивался Тургунбай. — Тепло у вас, — сказал Алимджан и, сняв куртку, отряхнул с нее пыль. — Тепло! Алимджан — рослый, с широкой костью и скуластым спокойным лицом степного жителя; на лбу черный чуб, как у подростка, первый раз отпустившего волосы. Взгляд открытый, чуть-чуть мечтательный. Тургунбай-ата хорошо знал отца Алимджана, погибшего на войне. Они были соседями. С пеленок знал и самого Алимджана. А теперь возле него стоял не чумазый мальчишка, а возмужавший и сильный человек. — Уважаемый — под навес! — между тем весело хлопотал Тургунбай-ата. — Отдохни от жары и дороги. А я сейчас выберу такую дыню, це-це-це! Никакой падишах такой дыни не кушал. Уж я-то знаю, где ее найти. Алимджан наслаждался сочными ломтями дыни, длинными, как полинезийские пироги. Над ними кружились осы, слетавшиеся на сладкий запах. Потом они пили горьковатый, утоляющий жажду чай и беседовали. Алимджан собрался было немного вздремнуть, чтобы переждать жару, но Тургунбай-ата сам завел разговор на такую тему, что отдых пришлось отложить. — Скажи мне, сынок, правда, что в наших местах все еще бродят дервиши, которых в народе прозвали шайтанами? — А разве они обещали бросить бродяжничество? — вопросом на вопрос ответил Алимджан. — Давно я о них не слыхал, — продолжал дедушка Тургунбай, медленно отхлебывая из пиалы чай. — И вот совсем недавно они вроде бы опять появились. А вчера я встретил старика на дороге. Оч-чень не понравился мне этот старик. На Ариф-ишана сильно похож. Ты, конечно, не знаешь, что это за человек был. Но я-то его хорошо знал! — Да и я немного слышал, — усмехнулся Алимджан. — Его осудили как басмача и контрреволюционера еще в двадцать пятом году. Правда, меня тогда и на свете не было… — Как?! Ты уже успел узнать? А я хотел удивить тебя! Значит, опоздал. И все-таки, сынок, не мог я ошибиться. Нет! Хорошо знал его. Он тоже поглядел на меня, но сделал вид, что не заметил. На земле лежал, недалеко от дороги. А рядом ишак его пасся. — Да-а, — неопределенно произнес Алимджан и, вскинув на Тургунбая-ата большие веселые глаза, спросил: — Вы не сказали мне о другом: как ребятам удалось найти волосатого человека? — Ах, да! — воскликнул Тургунбай-ата. — Самое главное-то забыл! А все это Ариф попутал, не видать бы мне его никогда! Правильно ты говоришь — мальчишки нашли его в тугаях и привели ко мне. Ну, что о нем можно сказать? Больной, жилец из него плохой. — Жилец из него будет, — твердо сказал Алимджан. — Раз уж он попал к ребятам — толк будет. — Хорошо! А что ты скажешь мне про Ариф-ишана? — Чего вам сказать? Это — Мадарип-ишан. Лицо Тургунбая-ата вытянулось от удивления, глаза недоверчиво впились в гостя. — Как ты сказал, сынок? Мадарип-ишан? — Да, именно так я сказал: Мадарип-ишан. Конечно, Ариф-ишан не воскрес из мертвых, потому что на том свете он не был никогда. Просто он стал жить в ином, так сказать, образе. — А чем занимается? — Что они сейчас делают? — переспросил Алимджан. — Ходят да людей обманывают. Находятся еще такие простаки, которые всему верят. Всякий вздор несут, нас с вами ругают. Грозят небом и адом. Собираются где-то в тугаях и пляшут, как загробные тени. — Для меня это новость, сынок. — Вот видите, Тургунбай-ата!.. Это же мертвецы, хотя они и живут еще. Кто за ними пойдет теперь? — Алимджан отрезал ломоть дыни и впился в нее обветренными губами. — Замечательная дыня, не оторвешься!.. Алимджан отбросил подальше обглоданную дынную корку и, сполоснув руки, стал собираться в дорогу. — Большое спасибо за угощение, — улыбнулся Алимджан. — И еще. Если вдруг здесь кто-нибудь новый появится, я надеюсь на вас… Старик важно кивнул головой. Он знал, что Алимджан работает теперь «в органах». Натянув на лоб большие, круглые очки, гость толчком ноги запустил мотор мотоцикла.По запутанным кишлачным тупикам и проулкам нехотя разбредался скот. В подворотнях, задыхаясь от пыли, хрипло тявкали собаки. А во дворах уже слышалось позвякивание посуды. Вкусно пахло дымком. В это время Федя Звонков, усталый, в заляпанных глиной штанах, добрался, наконец, до своего двора. У калитки его встретила женщина. Это была мать Романа. Федя сразу заметил, что она чем-то взволнована. — Тебя-то мне и надо, Федюшка, — печально сказала она, держась за калитку. — Ромку не видал? — Н-нет, не видал, — не сразу отозвался Федя. — Вы мне говорили, что он к дедушке Хвану ушел. Мать вдруг всхлипнула и закрыла лицо руками. — Дедушка Хван сегодня сам пришел. Ромки у него не было, — проговорила она сквозь слезы. — Не приходил он к нему. — Как не приходил?! — воскликнул Федя, чувствуя, как в лицо бросилась горячая кровь. Но женщина уже не слушала Федю. Опустившись на чурбак, стоявший возле калитки, она горько рыдала. — Не плачьте, тетя, — успокаивал ее Федя. — Ромка смелый, никуда не денется. Найдем мы его… Федя забыл про голод, который раньше времени пригнал его к дому, тотчас повернулся и растворился в пыльном сумраке вечера. А через четверть часа Федя и Иргаш уже сидели у Душанбы в беседке. Неяркий свет «летучей мыши» падал на их встревоженные лица. — Куда он мог деваться? — спросил Душанба. — Кто знает? Пошел к своему деду, но там его не было. Не приходил, — повторил Федя рассказ Ромкиной матери. — А на бахче, у дедушки Тургунбай, он не может быть? — продолжал расспросы Душанба. — Один? Нет! Не может, — ответил Иргаш. А Душанба почему-то вспомнил Мадарип-ишана. И ему подумалось, что Ромка — этот ершистый мальчуган — выслеживает ишана, идет, как охотник по следу зверя, туда, в тугаи. Душанбу охватило волнение. — А где живет его дедушка? — спросил он. — Может, сходить к нему? — Далеко. В другом районе, — ответил Иргаш. — Бувайда район называется. А какой кишлак не знаем. Душанба тяжело вздохнул. Место хорошо знакомо ему. Именно там и бродят «волосатые».
Саидка торопился. Ему хотелось прийти в кишлак ночью, незаметно, как он делал всегда. Но летняя ночь слишком коротка: не успеешь попрощаться с солнцем и приглядеться к почти осязаемой темноте — на востоке уже снова пылает заря и гонит прочь тьму. В такое время лучше не попадаться на глаза людям — они ничего не пропускают незамеченным. Так учит Мадарип-ишан своих приближенных, а он опытный человек. Укрывшись за обвалившимся дувалом, Саидка огляделся и незаметно юркнул в узкий, как рукав халата, проулок. Он был уверен, что Иргаш еще спит, нежится, ему торопиться некуда. Потоптавшись возле горбатой калитки, украшенной резьбой, он решил ждать Иргаша в его же саду. На улице стоять неудобно. Но, когда он перелез через дувал и уже приготовился спрыгнуть вниз, услыхал чей-то голос: — Ага, попался! Теперь я знаю, кто в наш сад за грушами повадился… Внизу, задрав голову, стоял Иргаш в своей парадной фуражке. В руках у него была кривая, как хоккейная клюшка, палка. — Ты все же нехороший человек, Саидка, — сердито проговорил Иргаш, — слезай, чего сидишь. — Я не за грушами, — выдавил из себя Саидка и съежился. — Слезай. Саидка хотел спрыгнуть с дувала, но рваный халат подвел: зацепившись полой за сучок, Саидка повис, как мешок с сыром. — Так и надо тебе! Не лазай по чужим садам, — в сердцах проговорил Иргаш, но тут же мигом взобрался по лестнице на дувал и помог Саидке спуститься на землю. — Ромка велел сказать: выручайте, — заторопился Саидка. — Он ногу сломал… А рядом… волосатые люди, — докончил гонец и в изнеможении опустился на землю. Иргаш опрометью кинулся в дом. А когда он вернулся с лепешкой и куском вяленой баранины, Саидка уже спал, уронив на грудь голову. Иргаш сунул в сонные Саидкины руки еду и помчался со двора. …И вот они уже вместе с Федей стоят возле спящего Саидки… — А где он? Где Ромка? — не поняв второпях существа дела, допытывался Федя. — Саидка знает, — сказал Иргаш. — Подождем немного, не будем будить. Долго шел, наверное… Саидка, сладко почмокав губами, тяжело вздохнул, открыл глаза и первое, что увидел, — еду. Она была у него в руках. Как здорово! Наверно, только во сне такое бывает! Отломив кусок лепешки, он затолкал его в рот, затем принялся за баранину. Нет, это не сон — во сне не бывает так вкусно! — Чего будем делать? — не выдержал Федя. — Пойдем туда, — с набитым ртом ответил Саидка. — Скоро пойдем. Далеко это, покушать хорошенько надо… Прежде чем отправиться в дорогу, Саидка с большим вниманием оглядел своих спутников. Затем, подтянув штаны, поправил висевший на тесемке кривой нож в кожаных ножнах. — Нож есть? — спросил он. И заметив, как ребята растерянно переглянулись, сказал: — Без ножа нельзя ходить. В тугаи пойдем, там волки есть, шакалы… Шли они знакомой дорогой — к бахче дедушки Тургунбай. Деда на месте не оказалось, и Иргаш не стал искать его. С трудом скрывая радость, вынес из кибитки ружье и старый засаленный подсумок. Потом взглянул на ребят и сказал: — Пригодится. Пошли скорее… — Стрелять умеешь, да? — спросил Саидка, когда они, миновав бахчу, вышагивали по дороге. — А чего трудного? Много раз стрелял. — Я тоже стрелял из этой винтовки, — похвалился Федя. — Она крепко бьет, только плечо потом немножко болит. — Почему болит? — не понимал Саидка. — Выстрелом отдает. Она вон какая. Старинная, — объяснил Иргаш. Но Саидка, должно быть, не понял, как и что может отдавать винтовка, и только восхищенно поцокал языком. — Прицелиться можешь? Мушку взять?.. — продолжал он. — Могу. На двести метров могу. Давай ставь свою шапку, — засмеялся Иргаш. — Сейчас дыра будет. Жаркая степь уступила место болотам, камышу. Густой запах прелой травы словно тисками сдавливал грудь. Идти стало труднее. Саидка не спускал глаз с чавкающей под ногами жижи, чтобы не потерять едва заметную тропинку. — Ночью тоже здесь шел? — спросил Федя. — Ага. Федя больше не стал ни о чем спрашивать. Здесь даже днем страшно, а как же ночью на этом болоте?
ДОГАДКА ДУШАНБЫ
Тревожное предчувствие не оставляло Душанбу. Когда он подошел к арыку, чтобы умыться, в кустах по ту сторону промелькнул мальчишка. Душанба узнал в нем Саидку и остановился. Никак не ожидал он встретить здесь порученца Мадарип-ишана. Что привело его сюда? Он еще раз пригляделся к кустам, но Саидка больше не появлялся. Утро у Душанбы было испорчено. Работа никак не шла. Он часто поглядывал на ворота: ждал ребят. Школьники пришли в сад, как обычно, но среди них не было ни Иргаша, ни Феди. «Что-то случилось, — думал Душанба, давая задания своим помощникам. — Эти ребята всегда были первыми и вдруг не пришли…» Перед обедом Душанба подозвал к себе маленького застенчивого Кулдаша и сказал ему: — Зайди, пожалуйста, дружок, к Иргашу Курбанову и узнай, не заболел ли он. А если его не будет дома, сходи к Феде Звонкову. Только обязательно найди их! Малыш кивнул головой и помчался, сверкая пятками. «Может, выманил их куда Саидка? — думалось Душанбе. — Они, конечно, и не представляют, куда может увлечь их…» Кулдаш вернулся очень скоро и сказал, что дома у Иргаша и Феди не знают, куда девались ребята. — Они к дедушке Тургунбаю убежали, — убежденно сказал Кулдаш. — Правда, учитель. У дедушки хорошо сейчас — дыни поспели! — Пожалуй, верно, — успокаивал себя Душанба. — Чего я так тревожусь? Вот-вот они прибегут с огромной дыней. Весь день прождал Душанба. Ребята не пришли. Он подошел к арыку, постоял на том месте, откуда заметил Саидку. Ни шороха, ни звука. Не мог же Саидка весь день проторчать в кустах, не за этим он сюда приходил! Срезав толстую тутовую палку и перейдя по жердочкам на противоположный берег, он решительно зашагал к дороге. На бахчу Душанба пришел поздно. Пес, почуяв чужого, хрипло тявкнул, поднял к небу покрытую старыми рубцами морду. Тургунбай-ата притопнул на него, приказал замолчать. — Салам алейкум, Тургунбай-ата! — как изваяние встал у костра Душанба и приложил к груди руку. — Ваалейкум салам, добрый человек, — ответил старик, приветливо глядя на гостя. А Душанба тем временем успел незаметно заглянуть под навес и в ветхий шалаш — нигде никого. — А гостей разве у вас не было? — спросил он, все еще беспокойно оглядываясь по сторонам. — Кто вы, почтеннейший, скажите, пожалуйста? Я что-то не могу вас припомнить, — проговорил Тургунбай-ата, потирая пальцами сморщенный лоб. — О-о, я ваш старый знакомый! — Не помню… Не помню… Память стала плохая. — Д-да-а. Я тот человек, которого вы и мальчишки нашли в тугаях и привели в кишлак. Вспомнили? — печально усмехнулся Душанба и наклонил голову. — Так, так, — не мог скрыть старик своего удивления. — Так, да разве можно признать вас? Вон какой, оказывается, вы человек. Хороший человек, исправный, — продолжал дедушка Тургунбай, разглядывая со всех сторон Душанбу. — А о каких же гостях вы спрашиваете, уважаемый? — Не было ли у вас сегодня внучонка? — Иргаша не было, дорогой мой. С тех пор я всего один раз его видел. Добрые люди говорят, что эти озорники как познакомились с вами, родителей своих совсем позабыли. — Это не так, Тургунбай-ата, — возразил Душанба. — Не я тому виной. Работы в саду много. Не хотят подводить учителя. А я хоть и старше их по возрасту, но только помощник им. Тургунбай-ата не на шутку встревожился. Ему показалось, что Душанба что-то не договаривает. — А разве Иргаш должен был прийти ко мне? — спросил он. — Не знаю. Я посылал к нему Кулдаша. Он вернулся и уверил меня, что Иргаш и Федя ушли к вам. — Постойте, постойте, дорогой гость. Постойте… — Тургунбай-ата скрылся в своем жилище. И сейчас же раздалось его возмущенное восклицание: — Так я и знал! Ружье взяли, безобразники! Ох-хо, вот напасть на мою голову… Душанба понял, что опасения его не были напрасными. Саидка принес в кишлак какую-то тревожную весть. И если сейчас же не распутать эту нить — потом может быть поздно. А над степью тем временем густела ночь. — Придется идти, Тургунбай-ата, — сказал он. — Думаю, что утром доберемся до места. — О чем вы говорите? О каком месте? Я что-то не могу понять, — развел руки старик. — Не берусь предугадывать — боюсь, как бы наши ребята не попали «к волосатым шайтанам». — Помолчав немного, он пробормотал: — Н-да, веселое дело — путешествие ночью, а идти надо. — Ох-хо, идти, конечно, надо, — растерянно проговорил потрясенный старик. — Обязательно надо идти… А как я оставлю бахчу? Слышишь, старый? — подошел он к лежащей на земле собаке. — Ухожу, бахчу и все хозяйство на тебя оставляю. Запомни: за то, что прокараулил винтовку, я с тобой буду говорить особо. Ты у меня ответишь по всей строгости. Пес лежал, глядя на хозяина виноватыми глазами, кончик хвоста его чуть шевелился. Он не любил, когда хозяин сердился. Но что сделаешь? Служба есть служба…Мальчишки все ближе подбирались к убежищу «волосатых шайтанов». Здесь была ночь еще более жуткая, чем там, в начале дороги. Над болотом плавал белый туман, в камышах что-то без умолку булькало, плескалось, тяжко вздыхало. Бесшумно скользили ночные птицы, чуть не задевая ребят крыльями по лицу. И только Саидка не обращал на это никакого внимания: он прислушивался и приглядывался к другому. — Тише! — вдруг скомандовал он и припал к земле. — Ждите здесь. Сперва я один схожу. Узнаю все. Нырнув в темноту, он слился с нею, оставив после себя лишь слабый шорох камыша. Иргаш, сжав обеими руками ружье, затаил дыхание. А Федя лежал между большими кочками, как на спине верблюда, напряженно вглядывался в темноту, но ничего не мог увидеть за сплошной стеной кустов. — Слышь, Капитан, — шепнул Федя. — Скаж-ж-и Са-ид-ке, что никуда больше не пойдем. Понял, да? — Сиди и слушай хорошенько. — Ни-че-го не слы-шу. — Не мешай мне… Федя замолчал. «Где же Ромка? Может, они уже расправились с ним? Эх, Ромка!..» Послышался слабый треск камыша — это возвратился Саидка. Он сел возле Иргаша и, вздохнув, сказал: — Нельзя туда. Большой джар делают: пляшут, ухают. — А Ромка где? Что он делает? — Не знаю. Не пройдешь к нему. Они возле землянки костер жгут. Прыгают. Сейчас они очень злые, нельзя им мешать. — А мы что будем делать? — спросил Федя. — Здесь сидеть. Ждать будем. — А потом? — Утром они уйдут. Один человек останется, — разъяснил Саидка, не переставая прислушиваться к шуму, доносившемуся из камышей. — Кто останется — не знаю. Может, Гузархан-хальфа, может, отец мой. — Твой отец? — удивился Иргаш. — Он здесь? — Конечно, он всегда здесь, — печально подтвердил Саидка. — Где Мадарип-ишан, там отец всегда бывает. Саидке больно от такого признания. Больно, потому что это самое большое горе в их доме. Он не знает, как от него избавиться. А кто знает?.. Что будет завтра? Может опять Саидку сломит дикая воля отца и он по-прежнему будет собирать ему жестянки и сушить тыквочки? А пока отец и Мадарип-ишан далеко от Саидки, ему легко дышится, он просто счастлив, что хоть на время видит другую жизнь. — Стрельнем разок, — с неожиданной решительностью предложил Иргаш, чуть слышно лязгнув затвором. — А? — А потом с трех сторон нападем на них, — поддаваясь соблазну, поддержал Федя. — Нельзя! — замахал руками Саидка. Гузархан-хальфа нас вместе с ружьем в камыши забросит. — Будем ждать утра. Нечего придумывать всякое, — сказал Федя и стал удобнее устраиваться. — Утром очень хорошо будет, — подтвердил Саидка. — Тихонько подползем, совсем незаметно. И Ромка будет наш. Он ждет. Саидка скоро уснул, ткнувшись шапкой в кочку. Уснул и Федя. А Иргаш для себя решил: спать нельзя. Кто-то должен быть на часах. Поначалу он прислушивался к возне, которая доносилась из камышей, а когда там затихло, привалился боком к сухой кочке и стал искать на небе знакомые звезды. Но их у него было не так много: Полярная Звезда, Большая и Малая Медведицы, о которых рассказывал Джура Насырович. А вон Млечный Путь — бесконечно большая и светлая дорога. Сперва звезды казались ему очень большими и яркими, как электрические лампочки, что горят в колхозном Дворце культуры. Но потом они стали мигать, меркнуть и скоро Иргаш перестал их видеть. …Первым проснулся Саидка. Проснулся от холода. С солончаковых болот поднимался туман, цепляясь за кусты и камыш. Медленно вставало солнце, по утреннему неяркое и холодное. Халат не спасал Саидку, стуча зубами от холода, он подполз к Иргашу. — Иргаш! Вставай! Вставай! — зашептал он на ухо предводителю. Иргаш сразу же вскочил. Он тоже промерз до костей. Федя выбрался из своего верблюжьего седла и переминался с ноги на ногу. — Надо бы костер развести, — проворчал он. — Тогда бы не замерзли. — У тебя, Звонок, никакой военной смекалки, — Иргаш возмущенно глядел на Федю. — Зачем костер? Чтобы они тихонечко подкрались к нам, как к сонным горляшкам на чердаке? Да? — Но ты же не спал? С винтовкой дежурил… Иргаш виновато отвернулся. Ребята тронулись в путь. Саидка прокладывал дорогу в мокрой, выбеленной росой осоке. Роса градом обливала их с каждого куста тамариска, с каждой одинокой камышинки. Наконец Саидка присел и подал знак остановиться. — Никого нет. Все ушли, — шепнул он. — Наверно, один Гузархан сидит здесь. Что будем делать? — Действовать. Ждать нечего, — ответил Иргаш командирским тоном. — Где сидит Ромка? — За кустом джиды. Там землянка есть. Совсем близко. — Ясно. Как только я выстрелю вверх, — продолжал Иргаш, — с трех сторон бежим к землянке. Ты, Саидка, иди влево, Федя — направо, а я прямо отсюда. Ромка увидит — и к нам. Задача понятна? — спросил Иргаш и поправил на голове фуражку. — Все понятно, — едва слышно пролепетал Саидка. Федя ничего не сказал, а только кивнул головой. — Приготовиться! На-чи-на-ем!.. Иргаш вскинул ружье и выстрелил. Вздрогнули сухие метелки камыша. В стороне, хлопая крыльями, поднялась птица. А там, на бугре, который приготовились штурмовать ребята, послышался ответный крик. Иргаш выше поднял ружье и закричал: — А-а-а!.. За мно-о-о-ой!.. Федя и Саидка с перекошенными от крика ртами бежали вперед, повинуясь воле командира. Но как только они вбежали на бугор, в растерянности остановились… Возле шатра стояли дедушка Тургунбай и Душанба. Поодаль от них на коленях стоял растрепанный человек и прижимал к голой груди петуха. Это был Рауф-хальфа. Иргаш сразу бросился к нему. — Куда Ромку девали? — закричал он. — Сознавайтесь! Где он? — Отвечайте, Рауф-хальфа! — сдержанно, но строго поддержал Иргаша Душанба. — Где мальчик? Куда вы его девали? Хальфа молился, воздев к небу руки. Казалось, его ничто больше не интересовало в этом мире. «Отвечайте!» — слышал он голос Алихана. Да, да, он не ошибся, только голос этот звучал сейчас сильно и властно, не как раньше. — Отвечайте!.. Рауф-хальфа кончил молитву, из-под прикрытых век глянул на окруживших его людей и зарыдал, сморщив и без того дряблые щеки. Но слез не было, тогда он вдруг захохотал, запрокинув голову. Душанба махнул рукой и сказал: — Эх вы, старый обманщик. Перед вами стою я, воскресший из мертвых, Алихан-хальфа! Вы сомневаетесь? Откройте глаза и хорошенько посмотрите, я стою перед вами! Не желаете! Тем хуже для вас… — и уже тихо, только для своих спутников, добавил: — Ничего не скажет… А Рауф-хальфа продолжал бесноваться. Алихан толкнул его в бок и прикрикнул: — Довольно, несчастный!.. Рауф-хальфа упал на землю и притих. Тургунбай, недовольно поглядев на внука, потянул из его рук ружье. Ветерок, налетевший с предгорий, вытеснил из оврагов и впадин туман, разорвал его на клочки и разогнал, как овечью отару по тугаям. И закурились гребни барханов горячим красным дымком. Стало жарко. «Куда мог деться Роман?» — мучительно размышлял Саидка, уже дважды обшаривший землянку, заросли кустарника. Ромки нигде не было. Решили тронуться в обратный путь, заявить об исчезновении мальчика в милицию и снова начать поиски. Люди уронили дырявый шатер дервишей, забрали пленника и спустились в лощину, по которой скучно петляла тропинка. — Дедушка, как вы сюда попали? — спросил Иргаш, стараясь все же держаться на почтительном расстоянии от Тургунбай-ата. — Никогда не думай, что ты один умный на свете, — пробормотал старик. — Другие тоже кое-что соображают, если на плечах у них не тыква, а голова. Хе, ты думал, что, если вам попала в руки моя винтовка, — так дедушка всегда именовал свое старенькое ружье, — вы самые храбрые, и победа уже сидит у вас в кармане? Ошибаетесь. Кроме винтовки человеку нужно кое-что иметь, — продолжал ворчать дед. — А за то, что ты винтовку взял без спроса, тебе еще будет. Бесстыдник. Иргаш слушал дедушку, а думал о другом. Что с Ромкой? Где он?..
ПОБЕГ
Этот серый осел с порыжевшей от времени холкой никогда еще, наверно, не бежал с такой прытью. Он мчался, как необъезженный степной скакун, то подкидывая задом, то вздергивая голову, так что седок едва удерживался на его спине. А всадник, вцепившись в веревочный недоуздок, сжав ногами бока «скакуна», не переставал погонять ишака. Вихрем ворвавшись в кишлак, он помчался по улицам, вызывая неодобрительные взгляды встречных. У крыльца, над которым висела большая вывеска с единственным словом «Милиция», наездник осадил ишака и беспомощно сполз на землю. Сполз и… заплакал. — Вот это джигит! — воскликнул милиционер и подбежал к Ромке. — Что случилось, сынок? Почему плачешь? — Нога… Больно, — кусая губы, всхлипывал Роман. — Тогда, дорогой мой, ты спутал адрес: тебе надо в больницу, а здесь милиция. — Мне сюда и надо… — С помощью милиционера Роман поднялся на ноги. — Я целую банду преступников нашел… В больницу, да? Милиционер ухмыльнулся. — Постараюсь помочь тебе, пойдем, если сможешь. — Смогу. Еле ступая на больную ногу, Роман поковылял за милиционером. В глубине темного коридора, пропахшего сапожной мазью, они остановились. Милиционер стукнул согнутым пальцем в дверь и, приоткрыв ее, спросил: — Товарищ Саитбаев, можно к вам? Посетитель важный заявился, — подтолкнул он к двери Романа и добавил: — Тебе повезло, джигит. Оперуполномоченный товарищ Саитбаев здесь. Желаю удачи… Сперва Роман растерялся: в комнате ничего не было, кроме простого стола, двух табуреток и дивана, на котором лежала свернутая постель. «Разве бывают такие кабинеты у больших начальников?» — подумал Роман. Но тут он увидел человека, который стоял возле окна, курил и весело улыбался. — Ну и конь у тебя, — сказал он, покачав головой. — Что ты с ним сделал, если он и сейчас еще бегает, задрав хвост? — Ничего не делал, — смущенно ответил Роман. — Сам хорошо понимает, когда торопиться надо. — О-о, какой он у тебя умный. Ты сам его так воспитал? — Н-нет, — произнес Роман. Он сразу же решил, что здесь надо говорить только правду, перед ним не дружки-приятели, а человек с незнакомым званием — опер-уполномочен-ный! — Чужой это ишак, — произнес он сухо и твердо. — Я его у тугайных людей забрал… — Забрал? У тугайных людей? Интересно… — протянул Саитбаев. — Отчаянный ты парень. А звать-то тебя как? — Зовут меня Роман Пак. — Ого! Очень приятно, товарищ Роман Пак! — Саитбаев снова заулыбался широкой добродушной улыбкой. — Тогда уж давай по порядку, Роман, — сказал и раздавил в пепельнице дымившийся окурок. Роман подсел к столу и вытянул ногу, боясь ее потревожить. Но что надо рассказывать по порядку — он пока не совсем ясно представлял и поэтому смущенно поглядывал то на высокого чубатого парня, то на свои давно не мытые, пропахшие ослиным потом руки. Саитбаев пришел ему на помощь. — Ну и как же ты узнал, что этот метеор-ишак — частная собственность тех самых людей? — А я сам был у них. — В гостях? — Нет. Случайно, — вздохнул Роман. — Ногу повредил. В общем… Роману хотелось во что бы то ни стало обойти начало своего приключения. Зачем говорить о Саидке? Он только запутает все дело. Лучше умолчать. — В общем, в тугаях был и повредил ногу. Зашиб немножко. Потом нашел развалюху, землянку такую… Меня туда один мальчишка привел. Хорошо устроился в развалюхе, прилег, чтобы нога немножко поджила. А тут, оказывается, волосатые люди… базар устроили. И главного видел. Только он не как все — без волос. Зовут его Мадарип-ишан. И еще я кое-что про него знаю. — А где в это время находился мальчишка? — перебил Саитбаев. — Он… Он еще днем убежал, чтобы ребятам нашим сказать. Ну, знаете, чтобы они выручили… — Хм, выручили? — усмехнулся Саитбаев. — Интересно. Чтобы тебя выручили. Так? — Ага. — Но ведь выручают тех, кому угрожает какая-нибудь опасность. А тебе… Насколько я понял, за тобой не гнались. И в «развалюху» тебя никто не сажал. Верно? — Правильно, — сконфуженно промолвил Роман. — Ну, ладно, — опять закурил Саитбаев. — А мальчишка — его Саидкой зовут, так, кажется? — Как вы угадали? — Какой бы из меня был оперуполномоченный, если бы не умел угадывать. Сам подумай! — Правильно, Саидкой его зовут… Но не стал я его ждать. Долго сильно. Потом, придет или не придет — тоже вопрос, — продолжал он не так уж бойко. — Возле развалюхи ишаки паслись. Ихние. Подкрался я к серому — и на него! Сперва я тихонько ехал, чтобы не услышали они. А уже потом — вовсю… — Все хорошо, Роман. — Саитбаев вытянул под столом ноги. — Очень увлекательно ты рассказываешь. Молодец. Как в кино, правда? А что ты от меня хочешь услышать? — Что? Я теперь знаю, где они… Пойдемте, сведу вас туда, сами увидите. А потом… делайте с ними что хотите… Зачем они старую жизнь к нам тянут? Зачем людям головы забивают всякими глупостями? Да еще избивают! — О-о! Правильно! Хорошо ты, братец, разбираешься в этих делах. Толково разбираешься!.. А тебя они не тронули, кстати? — прищурился Саитбаев. — Или ты что-то скрываешь от меня? Роман, насупившись, отрицательно замотал головой. — Ну вот, видишь, тебя они не тронули… Значит, можно будет подумать и насчет твоего приглашения побывать у ишанов… Ты-то сам пошел бы еще туда? — Конечно! — чуть не вскочил с табуретки Роман. — Я же знаю, что вам нужны смелые ребята. Знаю! «Подвиг разведчика» видел несколько раз. Я хочу таким же быть! — «Подвиг разведчика»? — переспросил Саитбаев, с интересом глядя на мальчугана, и подошел к нему. — Вот и хорошо, что ты хочешь быть таким, значит — будешь. И приключения будут. И что-нибудь другое… А насчет твоего рассказа я тебе вот что скажу… Не горячись, разведчику горячиться строго запрещается. Терпение и выдержка. И будет порядок. Можешь поверить мне. Ходить к ним пока не надо. Делать там нечего… Понял? — Немножко понял, — сопя, ответил Роман. — Вот и хорошо, — похлопал его по плечу Саитбаев и, улыбнувшись, спросил: — Как, домой один доберешься или тебя подвезти? Конечно, не на твоем иноходце — у меня мотоцикл там стоит. А может, в больницу? — Нет. У меня больше ничего не болит. Дойду. Мне не так далеко, — ответил он и, превозмогая боль в ноге, пошел к двери.ВОЗВРАЩЕНИЕ
Мадарип-ишан, глядя на свою поредевшую свиту, с трудом скрывал страх и раздражение. Облюбованное место в тугаях пришлось оставить после прихода незваных гостей. Теперь они расположились у родника, с трудом пробивавшегося сквозь камни. Местность эта называлась Рохиб-чашма. Здесь не было деревьев, какие росли в тугаях, не было блаженной прохлады, какая была на старом месте. Здесь были оранжевые холмы, серые, нагоняющие тоску пески да редкий колючий кустарник. У самого ручья зеленым пятном прилип куст тальника, опутанного ежевикой. Поодаль — боярышник, обвязанный красными тряпками — это молитву творили женщины. Родниковая вода чистая и такая студеная, что, когда пьешь ее, зубы немеют от холода. Когда-то Мадарип-ишан лечил этой водой басмаческие раны и старался внушить своим пациентам, что вода эта из божественного колодца Зем-зем, которым пользовался сам пророк Мухаммед, когда его одолевал недуг. Святая вода исцелит правоверного от любых ран и болезней — твердил он. А когда басмачи сгорали в гангренной горячке, он молитвенно разводил руками и, закатив глаза, говорил: «Так аллаху угодно, правоверные! Не надо роптать, печалиться. Грех!» …Мадарип-ишан сидел на кошме и задумчиво глядел, как из-под гладкого, точно череп буйвола, камня кудрявой живой струей бил ключ, как кружились в вечном хороводе песчинки. О чем он думал?.. «Годы… ох, эти годы! Они отбирают у человека радость и силу, а взамен дают горе и немощь», — думал Гузархан-хальфа, ближе подсаживаясь к ишану. — Эх-хе, бедный Рауф-хальфа, сохрани и помилуй его аллах, — .сказал он, вздыхая. — Не печалься, придет, — молвил Мадарип-ишан, очнувшись от забытья. — Не придет, ишан-ака, никогда не придет к нам Рауф-хальфа, — продолжал Гузархан. — Своими глазами видел, как горячо он молился и призывал на помощь аллаха. Не помогло. Ишан поднял на хальфу тяжелый, холодный взгляд. — Да, да, он пошел с ними и понес с собой петуха. Он не оставил его… Гузархан зачерпнул тюбетейкой воды из ключа и долго пил короткими, обжигающими глотками. Напившись, напялил на голову мокрую тюбетейку и крякнул. — Все видел, — продолжал он, устремив суровый взгляд на Муслима-дивону, самозабвенно дравшего ногтями голову. — Там был Тургунбай с мальчишками. Они бы никогда не догадались прийти на болото, если бы даже внушил им такую мысль сам дьявол. С ними был Алихан-хальфа и… С-саидка, — последнее слово он прокричал, будто ему перехватило горло. — Они привели в наш дом тех, кого нам совсем не нужно. Муслим-дивона откинул назад спутанные, как лошадиная грива, космы и яростно затряс головой. Разве мог его Саидка привести к ним чужих? Нет!.. Нет!.. — О-о, жалкие изменники! — прохрипел Мадарип-ишан и воздел к небу руки. Его дряблые щеки побагровели, морщины расправились. — Велик и един аллах. Велик и един Мухаммед, пророк его, — припал он головою к земле. — Пророк был беспощаден к своим врагам. Но кто осмелится сказать, что он поступал несправедливо?! Он мстил вероотступникам, но сам был безгрешен… — Ядовитой змее отрубают голову, чтобы она не укусила, — мрачно заметил Гузархан-хальфа. — А?.. Что ты хотел сказать?.. Что? — ишан уставил на хальфу налитые кровью глаза. — Судить законом аллаха, ишан-ака. Судить! — вскрикнул Гузархан, потрясая большими черными кулаками. Муслим-дивона растерялся. Он будто все еще не понимал, к чему призывает Гузархан: то глупо улыбался, то хмурился. Он чего-то ждал. А Мадарип-ишан теперь глядел прямо на него и тоже ждал. — Предательство — великий грех, его не прощает аллах, — наконец произнес ишан. — Великий грех! — едва слышно прохрипел Муслим-дивона. Угловатое лицо его, заросшее до самых глаз, перекосил страх. Он вскинул руки и побежал прочь от ручья. Бежал изо всех сил и кричал что-то непонятное. Но никто даже не поглядел ему вслед. Мадарип-ишан по-прежнему глядел на камень, из-под которого бил родник, словно прислушивался к журчанию ручейка. Гузархан-хальфа молча поднялся, сел на ишака и поехал по тропинке, по которой только что убежал Муслим-дивона… Роман еще спал, а возле калитки уже собрались ребята. Вышла Ромкина мать с ведрами в руках, обрадовалась и сказала: — О, дружки-приятели! Если сами не разбудите, придется вам ждать до вечера. Он любит поваляться, а сегодня причина уважительная: нога болит, он и вовсе может весь день пролежать. Идите уж, поднимите его, лежебоку! — Вот здорово! Вы пришли? Так рано? — протирая глаза, бормотал Роман. — Хорошо, что пришли. Правильно… — А чего не дождался нас? — опросил Иргаш. — Мы всю ночь искали тебя по болоту. — Вы там были?! — А то как же, — сказал Федя. — Ты в беду попал, а нам, думаешь, наплевать на все? — Зачем не стал ждать? — с запоздалой обидой спросил Саидка. — Я говорил тебе: приду скоро, выручать будем. Зачем не ждал? Роман спустил ноги с кровати и стал рассказывать: — Почти всю ночь они прыгали, вроде «нечистую силу» гоняли. Потом чепуху болтали разную. А на костре жирнющая шурпа варилась. Такая вкусная!.. — Ты пробовал? — Смеешься, Звонок! А я чуть не умер от голода. Никогда еще так есть не хотелось. А от шурпы луком и вареным мясом так сильно пахло! Даже шею, вот это место, — показал он рукой, — в узел стягивать стало. Судороги начались. А они, как назло, уселись недалеко от меня и едят-прихваливают. Наверно, сознание я потерял. Вобщем, не помню. Поглядел — их на том месте нет. Костер потух и только пепел белел немножко. Я бы не ушел, сидел бы и ждал, как уговорились с Саидкой. Ишаки к землянке подошли, один все ближе к моей землянке прижимается. Я затаился, совсем дышать перестал, а потом — цап его за холку! Он вырываться, башкой мотает, но я уже у него на спине! — А нога? — спросил Саидка. — Чего нога? — не понял Роман. — A-а, бари-бир, не чуял ее в этот момент. Вцепился в ишака и айда! — Наверно, всю ночь скакал, — продолжал Ромка. — Не заметил, как тугаи проехал. Даже когда колючки царапали — не больно было. Этот серый ишак как конек-горбунок мчался. — О деле говори, чего про ишака завел, — не вытерпел Федя. — Ага, сейчас перехожу, — спохватился Роман. — В милицию я прискакал. Прямо в милицию! Вот уж этого никак не ожидали ребята. Саидка даже в лице переменился. Его всегда пугали милицией, особенно много страшного о милиции рассказывал Мадарип-ишан. Иргаш немного отодвинулся от Ромки, точно хотел разглядеть его с расстояния. А Ромка — он рассказывал, выписывая руками замысловатые узоры. — Даже не в самую милицию! С чекистом разговаривал! — обвел Роман ребят торжествующим взглядом. — Наверно, очень большой начальник. Я его знаю, и вы знаете — он на черном ИЖе всегда катается. А живет не в Ашлаке. В Маргилане, наверно. Может, в Фергане… Рассказал все, а он даже ни разу не перебил меня. Слушал. Только несколько раз покачал головой: «Да, Роман, ты очень смелый парень. Бесстрашный». Правда! — Махнув рукой, Роман закончил уже другим тоном: — Будешь смелым, когда в такую историю попадешь. Вот Саидка — настоящий герой! Саидка покраснел и спрятал глаза. — Что, неправильно говорю? Правильно. Если бы не Саидка, они бы растерзали меня! Им что? Бари-бир!.. Я говорил, а начальник немножко записывал. Напоследок сказал: «Спасибо, Роман. Хорошо, что зашел ко мне. А в этом деле мы разберемся, не беспокойся». — Надо их всех в кишлак привести, а уж потом разбираться, — сказал Федя. — Душанба и дедушка Тургунбай одного привели, — сказал Иргаш. — С петухом который. — Они там были? — И дедушка, и Душанба раньше нас туда пришли. — О, я знаю этого старика с петухом! — воскликнул Роман. — Саидка говорит, что он хороший старик. Где он? — В Коканд отправили, — сказал Федя. — Его врач должен осмотреть, а потом уж будут решать, что с ним делать. — А дедушка обещал мне взбучку дать хорошую за винтовку, — смущенно улыбнулся Иргаш. — Только он все равно ничего не сделает. Забудет. Он всегда так, — уже весело сказал Иргаш. Мальчишки говорили каждый о своем. Только Саидка молчал, он вообще не знал, о чем говорить. Он слушал веселые разговоры друзей и думал о том, как теперь сложится его жизнь. Ведь тропинку, по которой он ходил раньше, разорвала пропасть…КУДА ТЯНУТСЯ НИТИ…
Закончив разговор с Романом, Алимджан Саитбаев тут же сел на мотоцикл и помчался в Фергану. Он еще вчера должен был съездить туда, но дела задержали. В Маргилане, возле базара, где дорога поворачивает на Алтыарык и Коканд и где обычно ожидают люди автобус или попутную машину, он увидел дедушку Тургунбай, рядом с ним сидел старик, прижимающий к груди петуха, а перед ними стоял, прислонившись спиной к стволу тополя, кишлачный доктор Мирзакул. Доктор что-то оживленно говорил, непрестанно размахивая руками, будто пытался убедить в чем-то несговорчивых собеседников. Саитбаев слегка притормозил, но тотчас же мотоцикл яростно взревел, удаляясь от перекрестка. Тургунбай-ата заметил это и подумал: «Э-э, хотел остановиться, поглядеть… Стыдно стало, что старик его работу делает. Укатил…» Начальника своего Саитбаев не застал на месте. Встретила его секретарь — немолодая, с волевым лицом женщина. — Алимджан-ака, вас ждет почта! Получите! Саитбаев сел за стол, раскрыл объемистую потертую папку и погрузился в жизнеописание басмаческого курбаши Курасадхана, который вместе с жалкими остатками своей разгромленной банды бежал за границу. Добрые хозяева Курасадхана — англичане — приютили его в одной из своих колоний. Так и жил он там подачками, пока не попал под копыта арабского скакуна. Кончина Курасадхана, хотя и бесславная, была обставлена по мусульманскому ритуалу: возле правоверного собрались и духовники, и табибы, и душеприказчики. Курасадхан опустил грехи всем врагам своим. Простил и долги, которые был обязан вернуть еще при жизни. Какой могут иметь они смысл, когда должник прощается с белым светом? Многое простил умирающий, но еще больше потребовал: поставить на месте его захоронения приличный мазар и назначить хранителем мазара благочестивейшего из благочестивых — Ариф-ишана. Это требование привело в уныние приближенных: Ариф-ишан живет в Советском Узбекистане и давно носит другое имя. Но Курасадхан не стал слушать возражений: ишан должен быть доставлен. Выполнить волю умирающего было поручено юзбаши (сотнику) Хаджиусману. Все, что шло в письме дальше, Саитбаев перечитал несколько раз. Курасадхан завещал свое личное имущество все тому же Ариф-ишану. Заканчивался документ сообщением о том, что Хаджиусман совершил паломничество к могиле святого, а затем куда-то исчез. Вскоре после этого была нарушена граница, но поиски перебежчиков результатов не дали. — Может быть, это был Хаджиусман? — задумался Саитбаев, вышагивая по комнате. — И, возможно, гостит здесь у того, к кому его посылали… Значит, кое-что уже ясно. Если только не помешает дедушка Тургунбай в своем желании помочь… Придется съездить в Коканд.Оставив ишака возле старой мельницы, Гузархан долго сидел, уронив на колени голову. Потом нахлобучил на глаза шапку и пошел, загребая босыми ногами. По людным местам, как всегда, он шел чуть подпрыгивая, поворачивая назад голову и разглядывая пятки, будто на них что-то можно было увидеть, кроме многолетней грязи. Под вечер Гузархан зашел в чайхану. Он решил переночевать здесь и терпеливо ждал, когда разойдутся по домам последние посетители. Ему нужен был чайханщик Урунбай-ата, в прошлом один из близких людей Мадарип-ишана, за ним и следил сейчас Гузархан. Урунбай-ата тоже заметил гостя и время от времени кидал в его сторону тревожный взгляд. Хорошее заведение чайхана, сиди, пей чай, думай о своих делах и надеждах, а можно и не думать, свернуться калачиком на камышовой циновке или на паласе и уснуть. Никто тебя не потревожит, никто не посмеет отказать тебе в этом удовольствии. Чайханщик заберет выручку и уйдет домой, а ты будешь спать и видеть чудесные сны. Гузархан очень любил чайхану, но сейчас думал не о волшебных сновидениях под кровом чайханы. Как только подошел Урунбай-ата с чайником и двумя пиалушками в руках, Гузархан спросил его: — Алихан-хальфа не заходит к вам? — Нет, любезнейший, — ответил старик, усаживаясь против гостя. — А чего ему здесь делать? У него работа… Косым взглядом Гузархан скользнул по лицу чайханщика и взял из его руки пиалу. Отхлебнул глоток, поставил пиалу. — Неприветливый вы сегодня, Урунбай-ака, — заметил он. — Даже о здоровье своего пира[5] не спрашиваете. Не узнаю вас. Старик, печально вздохнув, погладил седую бороду. — Простите, хальфа-ака, старый стал, бестолковый совсем. А работы много. Люди теперь не очень засиживаются, все торопятся, у всех есть дело. Устаю очень. — Правоверный не должен уставать в служении, — с укором продолжал Гузархан. — Не так ли? Не забыли же вы об этом, Урунбай-ака. — Как забыть такое, помню, — зевнув, ответил старик. — Очень хорошо помню. — От вас давно нет добрых дел, Урунбай-ака, давно нет назира. — Недостатки, уважаемый, сами понимаете, — бормотал чайханщик, пряча глаза. — Сына недавно женил, дочка замуж вышла, двое еще учатся — везде деньги нужны. И по правде сказать, сколько я передавал вам и денег, и всего другого, а что имел за это? Одни неприятности. И-и, даже спасибо никто не скажет. Гузархан вытаращил глаза и хотел было прикрикнуть на чайханщика, как поступал раньше, но тот предупредил его, подняв руку. — Чистую правду говорю, Гузархан-ака. Не обижайтесь. Теперь все люди работают, пользу государству приносят, и друг другу, конечно. А вы все свое — старинку тянете. Несколько раз видел я Алихана-хальфу. В школьном саду работает. И живет там. Каждый день трудится. Человеком стал. Гляжу я на него и думаю: хорошо бы и вас к делу пристроить. Хотите — я вам помогу найти подходящую работу? Нельзя теперь бездельничать! От людей совестно! — Что с вами, Урунбай-ака?! — воскликнул Гузархан. — Не узнаю! Может, это не вы? — Нет, уважаемый, я все тот же чайханщик Урун-бай, каким был. И вере своей не изменял. А на жизнь глаза не закроешь. Вон она какая!.. На Алихана-хальфу можете и вы поглядеть, если хотите. — Мне только этого и не хватало, — проворчал Гузархан. Вскочил с места. Плюнул с ожесточением. — Будь проклят ты вместе с Алиханом-предателем! Пусть гром поразит твою голову!.. — Швырнул в угол пиалушку и убежал. Он шел через пустынную базарную площадь и бормотал что-то несвязное. Редкие прохожие, что попадались навстречу, отступали в сторону. А в узкие улицы уже заползала ночь, скрыв в черных объятиях еще не остывшие стены дувалов, приглушив голоса. Он шел, а голова кружилась от обиды, причиненной чайханщиком. Давно уже примечает Гузархан, что некогда почтительные и верные люди становятся безразличными, а то и вовсе встречают пира с открытой враждебностью. Не всегда говорят так смело, как этот чайханщик: одни избегают встречаться, другие прикидываются глупцами и будто не догадываются, чего от них хотят. «Меняются люди, весь свет меняется, — думал Гузархан-хальфа, — а мы все те же… Вчера эти люди были послушны и преданны, а сегодня они готовы переловить своих духовников и отправить в милицию или в сумасшедший дом. Неужели они забыли, что когда-нибудь их накажет аллах?! Нет, они просто перестали верить… А ишан-ака — он ничего не может сказать нового, такого, чтобы заставило снова поверить ему. Люди забыли страх и стали счастливы. Быть может, и Алихан-хальфа счастливей всех нас? Счастливей меня?.. А вот ишан-ака ничего не видит… И я тоже…» Целую ночь бродил он по неосвещенным кишлачным переулкам и думал. На него кидались собаки, и тогда он трусливо бежал или отбивался камнями. Его окликали ночные караульщики, но он не останавливался: брел, куда несли ноги, и бормотал, как в тревожном сне. Перед рассветом, совсем выбившись из сил, Гузархан присел возле дерева и задремал. Дремал он недолго. Осторожно ступая, Гузархан прошел в глубь сада, к едва заметному в темноте строению, припал ухом к стене. Ему показалось, что саманная стена неожиданно заговорила шепотом. Но то было всего лишь чье-то дыхание, доносившееся изнутри. «Худжра — она будет последним местом нечестивца, — подумал Гузархан. — Здесь его могила, мазар и никто не придет поклониться на могилу вероотступника…» Он скинул с плеч халат и бесшумно, тенью скользнул в темный провал, служивший дверью. Его опахнуло запахом сухих трав и урюка. У стены громоздились ящики, связки сухого камыша, инструменты. И вдруг в этой тишине твердо, точно в насмешку над нею, прозвучал голос: — Я знал, что вы придете, Гузархан!.. Гузархан вздрогнул и остановился, как вкопанный. — Вы пришли за мной? Что молчите?.. А Гузархан стоял, чуть подавшись назад, и не дышал. По телу липкими ручьями расползался пот, руки била мелкая дрожь. — Подходите ближе, — звал голос Алихана. — Подходите, если вы намерены что-то сказать. Шуметь здесь нельзя… Рядом со мной — дети, — сказал он совсем тихо. — Они спят. Нельзя их будить… — Дети?! У вас дети?! — прошептал Гузархан, не веря своим ушам. — Да, дети. — Кто дал вам детей, безбожник? — Люди, добрые люди, Гузархан. — Прокля-я-ятье!.. Гузархан выхватил нож, замахнулся, но вместо того, чтобы поразить нечестивца, ткнул себе в руку и отшвырнул нож в темноту, туда, где слышался голос Алихана. Зажав рапу, он выбежал из сарая. Боль в руке унесла начавшее закипать бешенство…
УЧИТЕЛЬ ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
Джура Насыров не заметил, когда в купе появился молодой парень с широким лицом степняка и густым черным чубом. — Какая станция? — приподняв взъерошенную голову и заглядывая в едва тронутое рассветом окно, опросил Насыров. — Коканд, — ответил вошедший. Это был Саитбаев. Не задавая больше вопросов, Насыров повернулся лицом к стене. Саитбаеву очень хотелось последовать его примеру, но он боялся проспать. Сел к столику, опустив на руки голову, и перед глазами тут же встал кривой басмач Курасадхан. Даже фотографии его не видел, и, тем не менее, перед ним стоял он, живой басмач, знакомый по книгам и кинофильмам. «Вот тебе и кривоглазый курбаши… решил причислить себя к лику святых. У правоверных появился еще один святой „великомученик“!.. Итак, Курасадхана больше нет… Но ведь живут же еще ему подобные. Живут, на что-то надеются, чего-то ждут, хотя руки их теперь не только оружия — палку едва удерживают. Где-то там топчет чужую землю еще один известный курбаши — Хамракулбек… А Вали Каюмхан? Живут на подачках иностранных разведок и чем могут благодарят своих хозяев. А чем — известное дело… Похоже, что они решили волосатых нищебродов использовать. „Нищеброды“… Чье это словцо, такое меткое? Кажется, Шишкова… Хорошо, если это первый выход на них. А вдруг уже кто-то проторил к ним дорожку? И неужели мы могли просмотреть что-то?» …Сквозь сон он почувствовал прикосновение чьей-то руки, услышал голос: — Товарищ, а товарищ, вам неудобно, повернулись бы на бок. Саитбаев открыл глаза. Полное купе солнца. В чуть приоткрытое окно, отбрасывая к потолку исхлестанную занавеску, врывался ветер и вносил в вагон запах полыни. Против него сидел только что умывшийся и чисто выбритый сосед по купе. — Извините, не хотелось будить, — сказал он, виновато улыбаясь. — Но пришлось, уж слишком громко вы говорить стали. Саитбаев сдержанно поблагодарил и, скинув вельветовую куртку, пошел умываться. Когда он вернулся в купе, Насыров уже раскладывал на столике завтрак: сыр, холодную курицу, тугие, в каплях воды, свежие помидоры. — Садитесь завтракать, — пригласил он Саитбаева. — Сейчас принесут чай. — Но у меня нет ничего с собой, Джура Насырович, — ответил Саитбаев. — Как, вы знаете меня?! — с удивлением спросил учитель, во все глаза глядя на своего спутника. — Конечно, знаю. Если бы я не знал, с какой стати стал бы с вами даже во сне разговаривать. — Ну, это вы шутите! — Шучу, разумеется. Но вас я действительно знаю. Вы учитель из Ашлака и возвращаетесь домой из отпуска. Вы были в санатории? — Ставлю вам пять. Вы угадали. — Нет, отгадывать я не умею и даром ясновидения не обладаю. Просто хорошо знаю, где вы были. — И каким образам? — А вы разве меня не знаете? Насыров старался вспомнить, видел ли он когда-нибудь этого парня с лицом стопного табунщика и сильными руками рабочего человека. По возрасту он молод. И война, конечно, прошла мимо него — тогда он был мальчиком. — Нет, не знаю, товарищ, — признался Насыров. — Алимджан Саитбаев! Будем знакомы. — Он показал свое удостоверение. — Очень рад. Сразу же вопрос. Наша встреча случайна? — И да, и нет, — присаживаясь к столику, сказал Саитбаев. — Мне давно хотелось познакомиться с вами. И вот представился случай… — О чем будет разговор: о школе или… — Нет. В школе все хорошо. Не беспокойтесь. Дело вот в чем, — начал Саитбаев, помешивая ложечкой в стакане. — Есть в Ашлаке мальчик Курбанов, а проще сказать — Саидка. Вы его знаете? — Да, знаю. — Ну и чем примечателен этот паренек? Расскажите. — Чем примечателен? Тем, что единственный из кишлака не учится в школе… Конечно, мы виноваты в том, что он не учится, — немного помолчав, печально проговорил учитель. — Редкий случай… Отец у него знаете… Наверно, он не позволяет. Парнишка, в общем-то, не глупый и озорником его не назовешь… Осенью нам удается посадить его за парту, но проходит немного времени и… — Теперь будет учиться, — улыбнувшись, сказал Саитбаев. — Он уже работает в вашем саду и ночевать остается там, в хижине Душанбы, вместе с ребятами. — У Душанбы?! — вскинулся учитель. — Вы и это знаете? Это правда?.. — Конечно. Вот поэтому-то мне и хочется с вами поговорить. Вы не замечали у Саидки кусочка кожи на шнурке, с которым он никогда не расстается? Тумар? — Н-нет, не замечал… Не замечал, — повторил он. — Ну, ладно. Главное, что ребятам удалось оторвать Саидку от бродяг, — проговорил Саитбаев. — Но это еще не все… У меня есть небольшая просьба. — Если это в моих силах, пожалуйста. — Надо так сделать, чтобы Саидка пока не оставался ночевать в саду. Сможете так сделать? — Наверное, — недоуменно протянул Насыров. — И это вся просьба? — Да, пока вся. Позавтракать и напиться чаю они так и не успели. Поезд, сбавляя бег, подходил к станции. Саитбаев не стал ждать его полной остановки, кивнул головой учителю и вышел из купе.После ночного визита Гузархана Алихан уже не мог заснуть. Он вышел из худжры, сполоснул из кумгана лицо и руки и принялся за работу. Ребята спали, спасаясь от комаров под легким пологом — пашшаханой. Алихан не стал их будить. Из головы не выходила мысль: почему Гузархан бросил нож и убежал? Что с ним случилось? Не мог же он испугаться спящих детей? Что ему дети, если он никогда не имел и не знал их? Дети и дом не для него… «В доме и в семье — зло», — вспомнил он слова, не раз слышанные от своего бывшего пира. Теперь, когда «шайтаны» знают, где он и что с ним, они не оставят его в покое… Но вот поднялись ребята. Надо покормить их. — Зачем не разбудили нас, Душанба-ака? Мы теперь меньше успеем сделать… Вчера и позавчера мы просыпались раньше, — поздоровавшись, с легкой обидой проговорил Иргаш. Алихан не стал спорить. Он молча принялся за свой завтрак. Против него, на циновке, сидел Саидка. На нем не было его замызганного халата и дервишской шапки — свое одеяние он скинул в тот же день, когда вернулся из тугаев. Скинул и забросил за штабель сухих кизяков у себя во дворе. Волосы ему остриг Иргаш, не так уж ровно, как бы это сделал парикмахер, зато теперь не торчат грязные вихры. Федя отдал ему совсем еще новую тюбетейку. Ромка — штаны и рубашку. Саидка стал неузнаваем, неузнаваемы стали его глаза, улыбка. А Душанба, глядя на него, все больше тревожился. Он не хотел рассказывать ему о встрече с Гузарханом, но был уверен, что и за Саидкой отныне будет ходить опасность. А вот как устранить ее, он не знал и поэтому тревожился. В полдень за Саидкой пришла сестренка Рано и сказала, что его зовет мать. Алихан отозвал Саидку и, придерживая за плечо, тихо, едва скрывая волнение, сказал: — Будь осторожен, Саиджан. Понял ты меня? Саидка только моргал глазами: почему Алихан так встревожился, ничего ведь не случилось. — Еще раз прошу тебя, дружок… Саидка мотнул головой и, толкнув сестренку, пошел за нею. К вечеру, когда уже разошлись ребята, в саду появился Джура Насырович. Алихан радостно вскрикнул и схватил руки учителя. Учитель тоже обрадовался встрече. — Все ли у вас хорошо, Алихан-ака? — спрашивал он. — Здоровы ли вы? Устали? — Ой, Джура-ака! Я здоров и чувствую себя хорошо. Очень рад за вас, что вы вернулись! Раны больше не беспокоят? — О, врачи теперь такие волшебники! Посмотрели, пощупали и сказали: ни-ни! Они прошли в беседку и сели. В саду уже появились птицы, отдохнувшие от дневного зноя, и робко пробовали голоса, чтобы затем не умолкать до полуночи. — Не успел приехать и так много узнал хорошего. Тургунбай-ата рассказывал мне о вашем походе в тугаи. Заслужить похвалу старого партизана — надо быть действительно очень смелым. Он не разбрасывается словами. — Ничего хорошего мы не сделали, Джура-ака, — печально склонил голову Алихан. — Тургунбай-ата достоин уважения, но он преувеличивает. А вам скажу: не уверен я, что все это благополучно кончится. — Что вы имеете в виду? — насторожился учитель. — Этот самый наш поход может вызвать злобу и месть «волосатых». Сумасшедших не судят — они очень хорошо усвоили эту часть закона. — Да? — Конечно. Мадарип-ишан это испытал на себе. А когда ему удалось — сказал: «Душевная болезнь — наша охранная грамота. Не стыдитесь ее». И вот с тех пор… Насыров вспомнил Саитбаева и пожалел, что того нет рядом. — Мне все-таки надо пойти и рассказать, — тяжело вздохнул Алихан. — Не хотелось… Но вижу — больше нельзя откладывать. Боюсь, что может что-нибудь случиться. А что касается меня — будь что будет, я заслужил… — Верю вам, — тихо сказал учитель. И опять подумал о Саитбаеве — как он хотел видеть его в эту минуту! А вдруг совет, который он собирался дать, окажется неподходящим и помешает делу? Но почему он, Саитбаев, тогда сам не сказал о Душанбе, не предупредил, что можно и чего нельзя. Такой человек, как Саитбаев, ничего не мог упустить из виду, не имел права… — Если вы решили отказаться от этих жалких фанатиков, от всего прошлого, следует сказать главное, Алихан-ака. А главное, как я его понимаю, надо сказать открыто, полным голосом, чтобы все слышали. Понимаете? — Не совсем. — Послушайте меня, Алихан-ака, я ваш друг и не желаю ничего вам плохого. Вы никогда не думали о том, чтобы написать в газету? — В газету?.. — Да, да, именно в газету, — убежденно продолжал Насыров. — Ее прочтут все, среди читателей окажутся и те, кто еще верит духовникам. Будут и ваши… — вырвалось у Насырова, но он тут же поправился, — те… знакомые… И хорошо, если они почитают статью. Это, Алихан-ака, будет здорово! Подумайте хорошенько. Я помогу вам, Алихан-ака, — почему-то прошептал он. — Вы начните, а потом вместе подумаем. Получится хорошо, уверяю вас. Алихан ничего не сказал. Помолчал. Потом, как будто на что-то решившись, крепко пожал руку Насырову.
ОДНОРУКИЙ СТОРОЖ
Федя заметил его на большом перекрестке в Маргилане и сразу же вышел из автобуса, в котором ехал из Ашлака в Фергану. Рауф-хальфа сидел возле арыка, держа на коленях петуха. Укрывшись за стволом тополя, Федя стал наблюдать за стариком. «Быстро он возвратился из Коканда, — подумал Федя. — Наверно, удрал…» Рауф-хальфа сидел, не двигаясь, и, казалось, дремал. Но это только казалось. На самом деле, прищурив глаза, он внимательно поглядывал по сторонам, разглядывая прохожих, сновавших туда-сюда по шумному перекрестку. Но вот он неожиданно поднялся и пошел в сторону базара. Рауф-хальфа остановился возле старой мечети, в которой теперь размещался красильный цех какой-то артели. Он потряс жестянками, из-за угла показался сторож — старый и однорукий, с кривым ножом на поясе. Поглядел, покачал осуждающе головой и что-то сказал старику. Слов Федя не расслышал, он только заметил, как Рауф-хальфа плюнул, повернулся и зашагал прочь. Однорукий караульщик, покачивая головой, глядел ему вслед. А Рауф-хальфа шел теперь по избитой копытами обочине гладкой ашлакской дороги. «И куда это он путь держит? — думал Федя. — А я теперь за ним, как нитка за иголкой… Вот и Ашлак показался — значит, отмахали уже километра четыре». Рауф-хальфа начал раскачиваться, как пьяный, и, шатаясь, свернул на ту улицу, где живет Саидка. Остановился возле калитки и постучал в нее кулаком. Не дождавшись ответа, зашел во двор. Федя, забравшись на дувал, быстро вскарабкался на шелковицу, поднявшуюся над крышами кибиток. Отсюда очень хорошо виден весь Саидкин двор. А вот и он, Саидка — почти голый, в одних штанах, заляпанных глиной и засученных выше колена. Руки и ноги у Саидки тоже в глине, перемешанной с соломой. Рауф-хальфа подошел к Саидке, что-то сорвал с его худенькой черной шеи и быстро спрятал себе за пазуху. А Саидка стоял с растопыренными руками, удивленно глядя на него. Так и стояли они друг против друга несколько минут. Федя не слышал их разговора, но уже сама встреча старика с Саидкой настораживала. — Понятно, он, наверно, примазался к нам, чтобы все узнавать, а потом передавать своим ишанам. Все! Ясно теперь! Он слез с дерева, балансируя, пробежал по дувалу и спрыгнул вниз. Рауф-хальфа в это время был уже далеко от Саидкиной калитки. Федя побежал в другую сторону. …В сад он не вбежал, а влетел и сразу же наскочил на Иргаша. — Иргаш! У нас ЧП! — крикнул он и потащил удивленного Иргаша за собой. — Саидка, понимаешь, этот Саидка… Он опять с ними кошки-мышки заводит! Своими глазами видел, — он задыхался и никак не мог стоять на одном месте, словно вместо ног у него были пружины. — А еще тот, с петухом который, знаешь? Вот он к Саидке и заявился домой. Пожалуйста!.. Выпалил и замолчал, не спуская глаз с Иргаша. А Иргаш, присев на корточки, как ни в чем не бывало разглядывал муравьев, бегавших у него под ногами. Федя начал сердиться. — Молчишь, Капитан? Говорить тебе нечего? Вы с Ромкой уж больно за него заступаетесь. Надо разобраться! — Хорошо, что хоть ты разбираешься, — невозмутимо ответил Иргаш. — Здорово разбираешься! Надо работать, а ты? Весь день тебя нет. Ромки нет — нога у него болит. У тебя что болит? А урюк падает и гниет. В саду одни девчонки да малыши… Что они могут? И Душанба один ничего не сделает. Вот. — Я за коноплей в Фергану ездил. Корма в живом уголке нет. Не знаешь, что ли? — оправдывался Федя. Но он не сказал, что вернулся пустым, без корма. Все равно Иргаш сейчас не поймет его. — И Саидка сегодня не пришел. Почему не пришел? — поднял на Федю глаза Иргаш. — Ну я же тебе объяснил: старик с петухом к нему приходил. Понимаешь или нет? — Ты всегда, Звонок, что-нибудь забываешь. Рассеянный! Отец у Саидки кто? Дивона. Что еще? — Говорил-то он не с отцом, а с Саидкой. Да еще что-то сорвал у него с шеи. Или, может, мне это показалось? — Тебе всегда что-нибудь кажется! Приняли мы Саидку к себе в товарищи? Приняли. Значит, должны верить ему. Помогать тоже должны. — Он поднялся и пошел. — И болтаться нечего, урюк собирать надо!.. И все-таки то, что рассказал Федя, занозой вонзилось в душу Иргаша. Неужели Саидка способен на подлость? Как после этого он будет глядеть в глаза ребятам? Иргаш старательно вспоминал каждый день, каждый час, прошедшие после той утренней встречи с Саидкой, и ничего плохого не видел в его поступках, такого, чтобы заставило не верить ему. «Обратно не пойдет, — заключил он. — Как бы ни тащили его к себе „волосатые“ — не пойдет!» — Ромку не видал? — спросил Иргаш. — Не видал, — буркнул Федя. — Не очень злись и не забивай голову себе чем не нужно, — уже не так строго сказал Иргаш. — Если он сварил плохую шурпу, сам и кушать ее будет. Только я совсем другое думаю…Дом однорукого сторожа красильного цеха, скрытый высоким дувалом, стоял на тихой кривой улочке, в махалле Ак-мечеть. А улочку называли по-разному: одни — Беш-арык, другие — Безрукий тупик, но сам безрукий имел свое имя — Мадумар-ткач. И никому здесь не приходило в голову, что Мадумар вовсе не Мадумар — с детства у него было другое имя. Жил он тогда в Коканде и вместе с отцом торговал мясом и овчиной. А когда у кокандских богачей провалилась затея с «Кокандской автономией», ушел в басмаческую банду, к самому Курасадхану. Однако, судьба бандита не могла и не была к нему благосклонна: два раза он попадал в плен к красным; первый раз сумел обмануть — отпустили, а второй — был приговорен к расстрелу, но ночью подкопал стену и убежал. И это не все: в бою ему отсекли руку вместе с зажатой в ней кривой саблей. Плохо, трудно жить без руки, но что ж поделаешь? Из коровьего хвоста руку не сделаешь и не пришьешь ее, как рукав к халату. Хорошо, что он не вернулся в Коканд — все бы знали, где Мадумар оставил руку. А мальчишки — эти озорники — не давали бы проходу и кричали бы вдогонку: безрукий басмач! В Маргилане же он почитаемый человек, старые люди степенно кланяются ему, молодые уступают дорогу. Старенький имам всегда очень радушно встречает его в мечети и приглашает на почетное место. У имама нет другого выбора — мечеть пустует, с каждым годом меньше становится посетителей. Да и в людях плохо разбирается старый имам. Он не знает, что Мадумар-ткач больше чем аллаха почитает предводителя дервишей Мадарип-ишана. Мадарип-ишан редко бывает у Мадумара, а если и бывает, только тайно, чтобы никто не видел. Хальфам-ишана дорога к Мадумару совсем закрыта. Чтобы разговаривать с ними о каких-то серьезных и тайных делах, надо передать ему заветный тумар. А если нет его? Мадумар захлопнет перед носом пришельца Калитку и даже имени не спросит. А тумаров всего два: один у Мадарип-ишана, и никто не знает, где он хранит его. А второй — у самого Курасадхана. Так и жил себе Мадумар-ткач спокойно в тихом тупичке, давно уже не ткал яркий, как звездное небо, ханатлас, а караулил на сушилке пряжу. Покой Безрукого тупика был нарушен неожиданно и в такое время, когда правоверные, забыв мирскую канитель, стоят на молитве. Неуверенно звякнуло кольцо на калитке. Безрукий продолжал молиться: «Мальчишки-проказники озорничают. Вот я их проучу», — подумал он. Но кольцо тихонько брякнуло еще раз. Мадумар-ткач поднялся и, не окликнув, открыл калитку. Перед ним в душном сумраке вечера стоял нищий. Мадумар скорее сердцем почувствовал, чем понял умом, кто стоит перед ним. Он шагнул в сторону и пропустил нищего во двор. — Что вам надобно, почтеннейший? — спросил он сразу охрипшим голосом. — Благодарение аллаху за то, что он помог мне найти вас живым и здоровым, Мадумар-ака. Я счастлив, — ответил нищий и оборвал на шее гайтан с кусочком кожи. — Возьмите, это вам… Мадумар-ткач тихо притворил калитку, заложил ее палкой и проводил гостя в мужскую половину дома. Пока он хлопотал во дворе и распоряжался, что приготовить для гостя, тот, привалившись к стене, задремал. Безрукий включил свет и только теперь внимательно разглядел тумар. Все было правильно. И даже молитва, та, которую больше всего любил повторять Курасадхан, — не вся, первая половина молитвы. Так должно быть. — Как видите, все правильно, — заплетающимся языком прошептал нищий. — Я очень извиняюсь, Мадумар-ака. Оч-чень извиняюсь… Не помню, когда последний раз спал. И была ли вообще такая благословенная аллахом ночь. Не знаю… Зовите меня Хаджиусман. Больше я вам ничего не скажу сегодня, любезнейший… — Умойтесь с дороги, я помогу вам, — сказал безрукий. — А пока приведите себя в порядок, плов будет готов. Нельзя натощак ложиться, уважаемый, аллах не даст вам спокойного сна. Тяжело подниматься на ноги Хаджиусману, но он — гость, нельзя перечить хозяину дома. Вода немного освежила голову, однако для большого разговора он еще не был готов. После плова его еще сильнее стал клонить сон и, наконец, свалил. Ночь для Мадумара-ткача была сплошным испытанием. Он постелил себе у порога — на всякий случай. Несколько раз за ночь вставал и выходил во двор, сердито ворчал на ишака, фыркавшего под навесом, на собаку, вдруг начинавшую ни с того ни с сего тявкать. И только перед рассветом, когда ночную духоту разогнал предутренний ветерок, он ненадолго забылся. …Прежде чем открыть глаза, Хаджиусман нащупал в изголовье нож и, услышав осторожные шаги, подскочил, как ужаленный. — Не бойтесь, уважаемый, это я, — послышался вкрадчивый голос хозяина. — Не тревожьтесь, здесь никого нет. Хаджиусман убрал из-под подушки руку. Лицо его блестело от пота, а маленькие недоверчиво-колючие глазки так быстро перебегали с предмета на предмет, что Мадумар-ткач, с сочувствием покачав головой, сказал: — Натерпелись вы, оказывается, страху. — Всякое было, Мадумар-ака, — тихо вздохнул гость. — Думал, погибну в песках от жажды и змей. Никогда еще столько не видал гадов. Даже во сне лезут на меня проклятые твари. Вот и сейчас… Счастье мое — проводники попались опытные. — Ничего, бог милостив. Все будет хорошо, — успокаивал хозяин. — Страх и усталость — позади. Я уверен, вы привезли радостные вести. Хаджиусман так сощурил глаза, что стали видны только красные, припухшие складки. Закусив клок бороды, он молчал. — Как наша надежда? — Не надо! — прервал Хаджиусман и поднял руку, словно запросив пощады. — Не надо. По воле всевышнего я и взял на себя столь опасный труд, уважаемый Мадумар-ака, — начал он, сдерживая осипший от постоянной жажды голос. — Я пришел, чтобы выполнить его последнюю волю и распорядиться завещанием. — О-о, великий аллах! — Да, его нет с нами. Аллах уготовил ему святую жизнь. Он заслужил. Они шептали молитвы, призывая всевышнего быть мудрым и великодушным, когда перед ним предстанет его раб и храбрейший воин. Пусть будет ему там хорошо и весело. Пусть успокоится его мятущаяся душа. Единственной рукой, черной и жесткой, как корень саксаула, Мадумар-ткач огладил бороду. Лицо его было дряблым. Глаза потухли, одинокая слеза тускло поблескивала на впалой щеке. — Джигиты, которые, благодарение аллаху, еще живы и не переметнулись в стан наших врагов, — тихо продолжал Хаджиусман, перебирая беспокойными пальцами скрученный кончик бельбока[6],— решили воздвигнуть мазар на его могиле. На чужой стороне нелегко это сделать. Но нельзя допустить, чтобы память о славном Курасадхане заросла дикой травой. Хаджиусман говорил тихо, но горячо, как в споре, хотя хозяин и не собирался ему возражать. — А как Ариф-ишан? Да продлит аллах его жизнь! — Мадарип-ишан, — поправил гостя хозяин. — Он жив и, кажется, здоров. Но где — не знаю. Давно не заходит. А увидеть его — это нелегко. — Мне он нужен, и как можно скорее. — Не торопите меня, — сказал Мадумар-ткач. — Подвернется счастливый случай — и я дам ему знать. Он будет рад. — Чему рад? — Тому, что вы здесь, уважаемый. — Спасибо. Но будет ли он рад пойти со мной? — Отчего же, если можно уйти? — минуту поразмыслив, ответил безрукий. — У него здесь немного радости, вы сами скоро узнаете. Хозяин, извинившись перед гостем, стал собираться на работу. Теперь ему надо обязательно торчать на перекрестке, слоняться по базару, чтобы увидеть Гузархана или, на крайний случай, хальфу Рауфа. Только они могут выполнить его поручение. Гость тоже поднялся, но безрукий остановил его. — Вам придется посидеть пока взаперти, уважаемый. Здесь никто не помешает. Отдыхайте и набирайтесь сил. — Он вышел и тотчас же вернулся с большим чайником. Потом принес казанок с разогретым пловом, корзину фруктов. Когда все расставил на камышовой циновке, указал на нишу, задернутую занавеской. — Здесь святая пища — книги! — И, приложив к груди руки, не поворачиваясь к гостю спиной, вышел.
САИДКИНА РАДОСТЬ
В саду каждый день прибавлялось работы — начался массовый сбор урожая. Не успеешь управиться с этим, как зазвенит первый звонок — кончился ребячий отпуск, садись за парты! А Иргашу казалось, что он еще не отдыхал совсем: не побывал в горах и в степи, не наслушался птиц, не накупался в арыке. И даже кинофильмов не посмотрел досыта. Может, поэтому он и торопился: хотел поскорее закончить все дела и наверстать упущенное. Но «поскорее» никак не получалось. Сперва Ромки не было, потом Звонок ни с того, ни с сего опустил руки, а теперь и Саидка несколько дней глаз не кажет. А с ним надо еще как следует разобраться, и если он на самом деле… В глубине сада кто-то закричал: — Саидка-а-а!.. Ребята, Саидка заявился!.. По тропинке между деревьев и куртинок одичавшей розы бежал Саидка, по уши обляпанный глиной, в самане, но счастливый и веселый. Следом за Саидкой, слегка прихрамывая, торопился Роман. — Еле нашел нашего прогульщика! — кричал Ромка. — Нигде его нет! На улицу не выходит! Прячется! Думаете, где я его разыскал? В земле! Не смейтесь! Зарылся в землю, как тот маленький черный зверек. Как его зовут, Звонок? — Крот, — подсказал Федя не очень любезно. — Вот, точно, крот! Закопался и месит глину! Иргаш надел фуражку, висевшую на сучке, и пошел навстречу ребятам. Строго поглядев на радостно улыбающегося Саидку, Иргаш спросил: — Чего долго не приходил? О тебе ребята, знаешь, как беспокоятся? А ты пропал. Нехорошо! И работы полно. А Саидка улыбался и глядел на ребят счастливыми и в то же время виноватыми глазами. — Правильно говорит Капитан, — вмешался Федя. — Отвечай, почему не приходил? — Работа есть. Дома работа есть, — ответил Саидка и заговорщицки оглянулся по сторонам, будто решил открыть ребятам важный секрет. — Отец домой пришел. Совсем переменился. Пришел и сказал: «Давай будем глину месить. Дом поправлять будем. Дувал хороший тоже делать надо. В общем, жить человеком надо. Хватит». Дома сейчас хорошо стало. Мама не плачет. Рано тоже не плачет. Совсем хорошо!.. А Рауф-хальфа, у которого петух, к нам приходил, отца спрашивал, а я соврал немножко: сказал, его дома нету. Он очень рассердился. Тумар, который был у меня на шее, сорвал! Сказал мне: не будет у тебя счастья. И сильно ругался. Потом убежал. Зачем мне такой тумар? Его Мадарип-ишан дал. Пускай забирает себе! Зачем мне такое счастье?! Иргаш незаметно толкнул Федю, тот поморщился, но промолчал. Иргаш заглянул Саидке в глаза и сказал совсем другим тоном: — Если у тебя такое серьезное дело, Саиджан, — работай дома. Мы справимся. Правильно, ребята? — Конечно, — подтвердил Федя. — Закончим здесь, тебе поможем. Все придем, большой хошар сделаем. Ага? — А я и сейчас могу помогать, — шагнул вперед Роман. — По деревьям лазить не могу — нога не зажила. А сырцовый кирпич сделаю. — Нет, нет, ты пока не ходи, Ромка, — сразу потускнел Саидка. — Потом… Я сам тебе скажу. Он, знаешь, пока не совсем… Он пока не любит людей. Пускай немножко один дома побудет. Пускай… Потом будет хорошо. — Кибитку поправишь, дувал новый сделаешь, потом что? — спросил Иргаш весело. — Не знаешь?! В школу пойду. Учиться буду. Хлопок собирать. В саду работать. Всегда вместе с вами буду! Хорошо, да? — Еще бы! — воскликнул Ромка. Мальчишки смеялись. И веселее всех было Саидке. Потом, взглянув на солнце, он заторопился. — Пойду. Дело есть. Да? Работу надо скорее делать. Мой отец, наверно, давно ждет. Ругается. И, не слыша возражений, побежал к воротам, что-то радостно выкрикивая.Время бежало с такой скоростью, что даже саитбаевский ИЖ не мог угнаться за ним. Саитбаев только что вернулся из Шахимардана, собирался поужинать, но не тут-то было! Во дворе его перехватил дежурный и сказал, что днем уполномоченного разыскивал по телефону «Катта начальник» — большой начальник. Саитбаев поглядел на часы — было около десяти вечера. Двор уже потонул в сумерках, вот-вот все закроет густая душная тьма. Решив разговоры с начальством отложить до утра, он закурил сигарету, открыл окно. В комнату вползла ночь. И вдруг что-то ударило его в лицо. — Вот, черт! — схватился он за щеку, решив, что это какой-нибудь жук влетел в раскрытое окно и угодил в него. Еще раз провел по щеке ладонью, включил свет и увидел на полу скомканную бумажку. Развернул ее. «Товарищ уполномоченный, у нас в Ашлаке опять появились волосатые гости. Нам они совсем не страшны, мы ни капельки их не боимся. Но они могут навредить Саиду Курбанову. Допускать этого никак нельзя, потому что Саидка неплохой парень и от них совсем отшатнулся. Пишут вам все ребята». Саитбаев кинулся к окну, но в темноте ничего не было видно. — «Пишут вам все ребята», — повторил Саитбаев и чуть-чуть улыбнулся. — Хорошо, спасибо за всеобщее доверие, но не слишком ли много авторов письма… Подсев к столу, Саитбаев стал писать докладную записку, чтобы утром отправить ее с фельдсвязью. Докладная получилась короткой: «Все хорошо. Гости приехали. Готовим торжественную встречу. Настроение отличное». Потом добавил: «Пошлите в мое распоряжение машину. Она пригодится». Запечатал как полагается и сдал дежурному. На улице он постоял несколько минут, приглядываясь к темноте, а потом повернул за угол. Постучал в калитку. Ему открыли. И уже в просторной, хорошо освещенной комнате, с большим, во всю стену книжным шкафом они радостно пожимали друг другу руки — Саитбаев и учитель Насыров. — Простите за поздний визит, Джура-ака. Простите. Ничего другого не мог придумать, вы мне нужны, — сразу заявил Саитбаев. — Что вы, что вы! Очень рад видеть вас у себя в любой час, — замахал руками учитель. — Пожалуйста, проходите к столу. Садитесь в кресло. И… выплачивайте долг. — Какой?! — удивился Саитбаев. — А Саидкин тумар? О нем вы так ничего и не сказали, хотя я догадываюсь, что в нем-то вы и находите нечто таинственное и, конечно, преступное. Может, раскроете секрет?.. — Для вас нет секрета, — сказал Саитбаев. — Тумар — всего лишь пароль для разговора. Не такая уж большая тайна, но ее хранить нужно, — многозначительно посмотрел он на учителя. — Верно. Тайна есть тайна. И мною она будетсохранена. — Паролем является не кожаный шестиугольник, — продолжал Саитбаев, — а молитва, записанная на нем. Тумаров два, а молитва одна. Она разделена на две части. Совпадение текста молитвы двух ладанок и будет паролем. Видите, как просто. — А причем же здесь Саидка? — Владелец одной половины молитвы по каким-то только ему известным причинам передал свой тумар другому человеку — Саидке! — Да-да, очень интересно! И Саидка знает… что ему передали? — Конечно, нет! Вот, пожалуй, и все об этом. Теперь о другом, Джура-ака. Я зашел к вам совсем по другому делу. Саитбаев вынул из кармана записку, подал ее учителю. — Почерк знаком вам? Не Романа Пака? — Никак нет, — засмеялся учитель. — На этот раз не угадали. Почерк Романа Пака — единственный во всей школе. Иероглифы на камне, а не почерк. Вы бы не разобрались в нем. Мне и то не всегда удается. Эту же записку написал Федя Звонков. — Спасибо за справку, — серьезно проговорил Саитбаев. Вот о чем я хочу вас попросить: предостеречь своих ребят от каких бы то ни было шагов. Здесь уже не игрой в «сыщики-разбойники» пахнет. Более серьезное дело… Они могут помешать… Осторожно, без нажима нужно немного охладить пыл ребят… А теперь, — он взглянул на часы, — мне пора идти. До свидания!
ДУШАНБА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Тургунбай-ата был сердит, как мулла, облаянный кишлачными псами. Он ехал с опущенной головой и ничего, казалось, не видел, кроме пыльного загривка своего ленивого ишака. Даже в строгую пору уразы ему не приходилось так голодать, как в эти дни. И виноват во всем не кто-нибудь, а его внучонок Иргаш. «Эх-хе, что делается с постреленком? От рук отбивается! Чужим людям придется кланяться в ноги, чтобы принесли старику кусок лепешки… И чего ты думаешь, старый чапан: порядок это или беспорядок? Где ты видел, чтобы хорошие внучата так поступали. Никогда еще такого не было! И родители не замечают… Я вот пожалуюсь учителю, тогда он у меня запрыгает, негодник. Прощение будет просить. А я еще подумаю, стоит ли его прощать. В такое ответственное время оставить колхозную бахчу без присмотра! И все из-за внучонка!» С такими мыслями дедушка Тургунбай въехал в родной кишлак. И первое, что бросилось ему в глаза — безлюдные улицы. Даже собак не слышно и не видно. Что случилось? Неужели полуденный зной разогнал всех людей по прохладным углам? Нет, так не бывает. А вот и чайхана над арыком, здесь всегда есть с кем переброситься словом, но почему-то и она закрыта… Дедушка Тургунбай ткнул палкой ишака, будто тот был виноват в опустевших улицах, и продолжал свой путь дальше. Но за первым же поворотом перед ним вырос… провинившийся внук Иргаш. Дедушка Тургунбай придержал ишака и поднял уже палец, чтобы погрозить внучонку. Но тот опередил: — Дедушка, не ругайтесь! Чистосердечно признаюсь — виноват! — заторопился Иргаш. — Потом все объясню. Возьмите газеты! Возьмите! Я очень спешу. Учитель поручил всем раздать… Он сунул в руки все еще сердитого деда газеты и помчался. — Ты совсем с ума спятил! — крикнул старик. — Куда мне их столько? Дыни заворачивать, что ли? И перепелки мои политикой не занимаются! — Вы потом все узнаете! — крикнул Иргаш. — Я на площадь! Там все! Там… — Эх, какой бестолковый парень, — проворчал Тургунбай-ата, откровенно любуясь внуком. Обычно тихая в такое время кишлачная площадь теперь выглядела как в дни больших базаров. — Уж не беда ли какая стряслась? — с тревогой подумал старик. — И чего Иргаш не объяснил толком? Сунул газеты и удрал, а что я могу прочитать в них, да еще без очков? Ох и парень!.. Оставив ишака возле первого же тополя, он стал пробиваться ближе к трибуне. Ему хотелось разглядеть, кто там стоит? Уж не приехал ли какой-нибудь большой начальник или ученый из Ферганы или из Ташкента? Но когда он, наконец, протискался настолько, что мог разглядеть стоящих на трибуне, то просто не поверил своим глазам. На трибуне было всего два человека: учитель Джура Насыров и «косматый», которого мальчишки называют Душанбой. — Хмы, что же будет дальше? Тургунбай-ата повернулся к стоящему возле продавцу из магазина и проворчал: — Зачем столько народу собралось? Какая невидаль… — А вы разве не слышали, Тургунбай-ака? Человек, который стоит рядом с учителем, пятнадцать лет состоял в секте «косматых», был дервишем… А теперь бросил их, да еще написал в газету о проделках «волосатых», призывает всех, кто еще верует, порвать с религией — этим обманом людей. Башка, оказывается, у него работает! — Башка для того и дана человеку, чтобы работать, — важно произнес Тургунбай-ата и повернулся к трибуне. Учитель что-то говорил, взмахивая рукой, но голос его сюда не долетал. Когда Джура Насыров кончил говорить, к перилам трибуны подошел Алихан. Он был бледен и взволнован, чисто выбритая голова блестела на солнце, как яичная скорлупа. — Уважаемые! — начал Алихан, едва преодолевая волнение. — Мне почти нечего добавить к тому, что я написал о себе. Газету вы прочитали. Теперь вы видите меня — человека, который долго обманывал вас, злоупотреблял вашим доверием, ел ваш хлеб, пил ваш чай, а приносил за все ваше добро не благодарность, а зло и вред. Каюсь перед вами! Можете наказать, можете простить — ваша воля. Я не буду в обиде. Я очень глубоко ошибся, послушав ишана, поверив в святость и бескорыстие. Какая святость? Все они невежественные и жалкие стяжатели! Трудно было мне переступить этот порог, порвать с прошлым. Но это легче, чем продолжать жить во лжи, во мраке, в унижении!.. Слабый голос Алихана потонул в прибое голосов. «Правильно он сделал, молодец, что ушел от этой грязной свиньи, Мадарипа. Очень одобряю, — думал дедушка Тургунбай, всегда презиравший волосатых нищих. — Все они живут обманом. С контрреволюцией путались. Курасадхану помогали…» Выбравшись из толпы, Тургунбай-ата остановился, чтобы передохнуть, и почувствовал на плече чью-то руку. Обернулся — возле него стоял Алимджан Саитбаев. — Салам алейкум, Тургунбай-ата, — с теплой улыбкой поздоровался Саитбаев. — Что вы скажете об этом, — махнул он головой в сторону трибуны. — Ничего не скажу, сынок, — тихо проговорил старик. — Вы больше нас знаете. Я старый человек. Мне уже семьдесят! А в таком возрасте, прежде чем один раз ответить, нужно десять раз подумать. — И, покачивая головой, пошел к своему ишаку, который, подогнув ногу, понуро стоял у дерева.— Докладывай, Федя, тебе первое слово, — распорядился Иргаш и впился зубами в яблоко. — Чего докладывать? Газеты раздал, ни одной не осталось, — ответил Федя. Яблоко оказалось твердым и зеленым, как маргиланская редька. Иргаш сморщился. — Кому раздал? — спросил он. — Старикам в первую голову, старухам… Правильно, — одобрил Иргаш. — В Павульган тоже ходил, две газетки передал в крайний дом, где Саидкина тетка живет. Тетка взяла газетки, а на меня поглядела подозрительно, будто я пришел кур воровать, а не по серьезному делу. Калитку захлопнула, чуть нос мне не прищемила. И еще долго что-то ворчала. — По глупости, — сказал Иргаш. — А самого главного там не видал? — Нет. Тетка еще одна на супе сидела, посуду чистила. — Можно мне, Капитан? — спросил Роман. Он сидел на опрокинутом ящике и молчал, что уж никак на него не похоже. — Давай. — Я самому Кары-Максуду одну газетку передал, — не без хвастовства начал Роман. — Пришел в мечеть. Ну, меня, конечно, туда не пустили. А тут сам Кары-Максуд вышел, я ему и передал газетку. Взял. Саидку видел. Рассказал ему, какие у нас дела происходят. Говорит, что у него тоже все хорошо. А вот отец — пока не в своей тарелке, так все ничего, а как только кто придет к ним, опять за старые штучки берется — начинает дурь показывать. Подозрительно все это… — Ты, Ромка, заходи к Саидке каждый день. Такое тебе поручение, — сказал Иргаш. — Поглядывай, как у него дела идут. Чтобы опять его не мучили и голову ему не морочили. Чтобы не потащили его к себе. — Он сам не пойдет к ним. Ручаюсь чем хочешь! — Ручаешься, а все равно надо смотреть. И Душанба беспокоится. Замечал? — Нет. — А я замечал. Переживает, а молчит. Боится чего-то. Сказал бы нам все, что у него на душе. — Просто он не нашего возраста, — заметил Федя. — Джура Насырович понимает его и другие взрослые… — А по-моему, ему стыдно, что он дурил, народ обманывал… Хорошо, что ли? Он ведь большой. Мне бы и то стыдно было, — сказал Роман. — Сразу всего не узнаешь, — заключил Иргаш. — Подождем. Куда нам торопиться? Он теперь не в тугаях, а с нами…
ВСТРЕТИЛИСЬ…
Хаджиусман ходил из угла в угол по сумрачной мехмонхоне. Он уже несколько дней сидит в запустелой, пропахшей сыростью и мышами комнате с единственным окном. Сидит и ждет. Порой ему кажется, что он в ловушке, и каждый шорох отдается в нем глухим тяжелым ударом. Он вздрагивает и застывает у двери. На полу валяется скомканная газета со статьей Алихана Рузыева. — Какой же бездельник этот Мадумар, тянет и тянет, — зло бормочет Хаджиусман. — Не верю, что так трудно связаться с ишаном. Не верю… Он подходит к окну и осторожно, как вор, высовывается из-за косяка. А что можно увидеть из окна? Клочок серого, без единой травинки, двора да корявый ствол шелковицы, по которому торопливо бегут муравьи; листвы не видно, она едва слышно шелестит над крышей. Ни одной живой души. Даже кошка не пробежит за целый день. — Ох-хо, и сам он забегает только на минутку, чтобы принести еду… Боится или хитрит… Говорит, что хальфа все еще не вернулся от ишана. В доме послышался гул, словно где-то в далеком углу гудели шмели. Хаджиусман нащупал нож. Через минуту отворилась дверь мехмонхоны и появились сперва хозяин, за ним нищий с петухом под мышкой. Хаджиусман, сдержанно ответив на приветствие, ощупал незнакомца строгим взглядом. Безрукий чуть наклонился к Хаджиусману. — Это Рауф-хальфа, он может ответить на ваши вопросы, уважаемый. А я отлучусь ненадолго. Извините, — он взмахнул пустым рукавом и вышел. Рауф-хальфа опустил на пол петуха и погрозил ему пальцем. — Сиди смирно! — сказал он и, кряхтя, уселся рядом. А Хаджиусман все разглядывал гостя и увидел то, что нужно: амулет на бурой, как голенище старого ичига, шее нищего. Между тем Рауф-хальфа не собирался начинать разговора. Он достал из-за пазухи кусок лепешки, сдул с него пыль и стал грызть. — Вы голодны? — Хэ, голодный? Эх-хе, я никогда не был сытым, — проворчал Рауф-хальфа. — Неужели Мадумар-ака не догадается устроить хоть маленькое угощение, как вы думаете? Хаджиусману не понравилось откровенное нахальство нищего. Он резко заметил: — Гостю грешно вмешиваться в дела хозяина дома! Он протянул руку к амулету. Но старик отпрянул к стене и халатом закрыл шею. — Где вы взяли его? — спросил Хаджиусман. — Аллах знает. Тогда Хаджиусман подал хальфе свой амулет-тумар. Рауф-хальфа подал ему свой. Хаджиусман долго разглядывал почерневший кусок кожи, прочитал нацарапанную на нем молитву. Он старался быть спокойным и важным, но внутреннее волнение выдавало его. — Где Мадарип-ишан? — спросил он. Рауф-хальфа вытряхнул из рукава газету и подал ее гостю. — Это мне известно, — сказал Хаджиусман, — аллах не простит ему! — Ох-хо, аллах милостивый, — вздохнул Рауф-хальфа и спрятал недоеденную лепешку. — На все его воля. Он все видит и ничего не прощает. Найдет богоотступника. Ишан-ака день и ночь молится и просит ниспослать на голову отступника страшное возмездие… Тяжелое время наступило, уважаемый таксыр. Очень тяжелое. Рауф-хальфа говорил тихо, мягким голосом. На глаза навертывались слезы, и он стирал их грязным засаленным рукавом. — Вы плачете? — Как же не плакать, уважаемый! — воскликнул Рауф, подняв влажные, полные скорби глаза. — Когда я увижу его? — Не сегодня и не завтра. Нет у меня его благословения. Ишан-ака знает, что вы, благодарение всевышнему, уже на нашей земле. Велел передать вам, чтобы во всем полагались на меня. Из наших сюда никто не явится. Все будут молиться и ждать, пока аллах не укротит бесовские силы врагов наших. — А вы? Почему вы не с ними? — тихо спросил Хаджиусман. — Э-э, меня никто не считает за человека, любезнейший, — ответил Рауф-хальфа и, сняв с головы шапку, вытащил помятую бумагу. — Вот здесь все написано. Хаджиусман вырвал из рук нищего бумагу и уткнулся в нее. То была справка, в которой говорилось, что Рауф Ахмедов душевнобольной человек, без определенных занятий и места жительства. И поскольку он не опасный для окружающих — подлежит направлению в дом престарелых. Хаджиусман покачал головой. — Хорошо, мудро придумано… Лицо Хаджиусмана опять окаменело. О, если бы знал Курасадхан, он не послал бы его в свой смертный час в страну безбожников. Здесь ни на что нельзя положиться. Никому нельзя верить. Старый бродяга Рауф-хальфа не только не успокоил его, но вызвал еще большее раздражение и подозрительность. С такими нужно быть очень осмотрительным, осторожным. Хаджиусман подошел к окну, выглянул во двор. Там суетился Мадумар. В окно потягивало сладким запахом жирного плова. Хаджиусман, повернулся к стоящему у двери старику. — Какое поручение дал вам Мадарип-ишан? — С вами быть, уважаемый, — ответил хальфа. — Если вы пожелаете — сводить вас в Шахимардан, на святой родник Сят-кяк, чтобы целебной водой его смыть ваши недуги, поклониться могилам блаженных имамов, побывать на святом мазаре Абубакира, где живет угодный аллаху хромой отшельник Тимур… — Тимур?! — перебил старика Хаджиусман. — Вы сказали: хромой отшельник Тимур? — Именно так и сказал, — подтвердил Рауф-хальфа. — Его все зовут Тимурленгом, как того полководца. Но он — совсем дряхлый шейх, живет на мазаре и ждет, когда… — Тимур… Хромой Тимур… — повторял Хаджиусман, силясь что-то вспомнить. — Уж не тот ли это Тимур… Но его считают умершим! — Нет, он жив, слава богу, — вкрадчиво произнес Рауф-хальфа. — Курасадхан знал его. Все курбаши, какие на Фергану и Вуадыль ходили, знали его. Мадумар-ака тоже знает… Хаджиусман повеселел. Даже Мадумар заметил перемену в настроении гостя, когда зашел в мехмонхону с полотенцем и стопкой лепешек. — О, вы так разговорились, что и о еде забыли! — начал он. — Одними речами сыт не будешь, надо чего-то… Помогите мне, уважаемый Рауф-хальфа, принести сюда казан с пловом. — Это можно. — Спасибо, спасибо, дорогой Мадумар-ака, — приложил руку к груди Хаджиусман. — Ни один правоверный не откажется от плова. Мы съедим его и поблагодарим хозяина. Только один вопрос: почему вы ничего не сказали мне о Тимуре? О хромом Тимуре, который охраняет мазар святого Абубакира? — Простите меня, старого осла: забыл! Голова стала совсем дырявая, как решето… Виноват… Да и человек он маленький, незаметный — кто вспоминает такого? — Когда сможем тронуться в путь? — перебил его Хаджиусман. — Сегодня нельзя. Завтра тоже нельзя, — вслух рассуждал Рауф-хальфа, будто раскладывал перед собой карты. — А потом что?.. Так… Надо посмотреть хорошенько, может, следят за нами. Вы, Мадумар-ака, посматривайте кругом. Делать вам нечего — глядите и все примечайте. — Вы, я вижу, опытный человек, Рауф-хальфа, — заметил Хаджиусман. — Я благодарен вам. И прошу прощения, что вначале мне показалось, будто вы… Немного того… — покрутил гость пальцами возле виска. — А как же! Жизнь научит, уважаемый… Не успел он закончить свою мысль, как вдруг встрепенулся петух, загорланил, точно на заре, оглушив всех пронзительным криком. — Вот слышите! — воскликнул хальфа и весь просиял от радости. — Все будет хорошо, так говорит святая птица!..Ночь Иргашу казалась бесконечной. Накануне ребята были на похоронах покончившего с собой Гузарханз, и Иргаш был еще под впечатлением этого. Иргаш вышел на улицу. Было прохладно и шока тихо. Постоял немного, вслушиваясь в тишину, хотел уже вернуться домой, поваляться еще немного в постели, как услышал шаги. Обернулся. По теневой стороне улицы, возле самого арыка, гуськом ехали трое на ишаках. Иргаш прижался к дувалу. Одного он сразу узнал. Тот ехал впереди, в дервишской шапке, из-под которой выбивались космы седых волос, под мышкой — петух. Но двое других Иргашу были незнакомы. Один из них, ехавший следом за Рауфом-хальфой, был в светлом халате, на голове — чалма. Он не молодой, но и не такой старый, как безрукий, что замыкал маленький караван. Иргашу показалось, что безрукого старика он где-то видел, но где — не мог припомнить. — Надо за Звонком забежать. Он же прирожденный Шерлок Холмс! Он влетел в калитку Фединого двора и, подпрыгнув, пробарабанил пальцем по окну, возле которого тот всегда спал. Но вместо лохматой головы и облупленного носа Иргаш увидел добродушно-простое лицо тети Маши, Фединой матери. — Где он, тетя Маша? — с нетерпением спросил Иргаш. — Не знаю, милый, — ответила тетя Маша. — Вчера вечером сам Джура Насырович приходил. На легковушке уехали куда-то. Сказал дня на два, чтобы не беспокоились. …Иргаш пришел в сад и нехотя принялся за работу. Теперь, когда неожиданно появилась новая тайна, работа не шла на ум. Все! Теперь он будет считать, что их дружба с Федькой Звонком кончилась. Хитрости и обман не прощают. Почему сам уехал куда-то, а Иргашу не сказал. Настроение Иргаша не укрылось от внимательного взгляда Душанбы, тот подошел ближе и участливо спросил: — Что-нибудь случилось, Иргаш? — Нет. — Ты плохо выглядишь. Может, тебе нездоровится? — Нет, — односложно отвечал Иргаш, кидая в корзину пригоршни высохшего, но все еще липкого урюка. И потом, будто вспомнив, сказал: — Старика, который с петухом, сейчас видел. С ним еще двое в чалмах. Один безрукий. — Без-ру-кий?! — по слогам переспросил Душанба. — Где они? — Не знаю, — пожал плечами Иргаш. — Туда поехали, — махнул он рукой в сторону тракта. — А не к Муслиму-дивоне они заехали? — спросил Душанба, встретившись с настороженными глазами Иргаша. — Может, ты не заметил, куда они направлялись? — Нет. Они прямо поехали. Точно… Иргаш немного помялся и, как бы между прочим, спросил: — А Джура Насырович не приходил? — О-о, еще вчера в Фергану уехал. Какой-то смотр облоно устраивает. А какой — не сказал. Этого Иргашу было достаточно. И как он не догадался! Конечно, что сейчас можно смотреть в школах? Живые уголки, опытные хозяйства, сады и все такое прочее. Вот облоно и устроил такой смотр в какой-нибудь ферганской школе. И вызвали туда всех срочно-пресрочно. — Звонок с ним укатил, да? — спросил он с наигранным равнодушием. — Он, кажется, хотел взять его, — неуверенно ответил Душанба. — Он и взял его, Душанба-ака! — воскликнул Иргаш. — Точно, я знаю. Кого еще он мог взять на такой смотр? Конечно, Звонка! Там, наверно, живые уголки будут. Звонок самый подходящий…
ТИМУРЛЕНГ
Высоко в горах, там, где в огромной каменной чаше покоятся ледяные воды Синего озера, стоял старинный мазар, увенчанный золотым серпиком полумесяца. Сохранилась молва, что лежит в этом мазаре под тяжелым камнем святой шейх Абубакир-ибн-Муталлеб-Хасан. Откуда появился в горах этот шейх и почему он святой — никто не знал. Не знал, наверно, и хромой старец Тимур, живший с незапамятных времен на мазаре. А может и знал хитрый старик, да помалкивал. А то, что он хитрый, сразу видно по его маленьким юрким глазам, которые никогда не стоят на месте. Старик сильно хромает на правую ногу, за это его и прозвали Тимурленгом. Мазар возвышался над озером. Со стороны можно подумать, что это не мазар, а старинный дворец с узкими, как щели, окнами. Во внутрь мазара люди не заходят: страж — хромой Тимур — не пускает их туда. Они глядят в эти щели и в дверь, когда она бывает открыта. Поклонившись праху Абубакира, паломники идут к озеру, чтобы совершить омовение в неправдоподобно синей воде священного озера. В двадцати шагах от мазара стоит худжра, в которой живет хромой Тимур. В ней ничего нет, кроме истертых циновок, пыльной кошмы, залатанного чайника и нескольких пиалушек. Чуть подальше худжры — полуразвалившийся сарайчик. В нем когда-то хозяин держал козу, пока ее не разорвали волки. Теперь там дрова и всякий хлам. Старику, должно быть, надоело отшельничество, он все чаще спускается вниз, к людям, говорят, что он ходит ночевать к своему старому другу в маленький кишлачок, которого почти не видно за огромными серыми валунами. Но паломники, хотя и нередко ищут его, не обижаются. Паломник пошел сознательный, он тоже понимает, что нет большой радости сидеть одному на жестоком солнцепеке. Вокруг мазара — ни одного деревца, на камнях ничего не растет, кроме колючек да хрупкого лишайника. А внизу хоть и валуны, но есть лоскутки доброй земли. Есть яблоневые и урюковые сады, есть чайхана и жирный, остро наперченный плов. А без плова даже у святого мазара не может прожить человек. А вообще-то живет Тимур на мазаре тихо и мирно. Давно забылось жестокое время басмачества, давно заросли раны. Даже друзья стали забывать — все реже заходят они сюда. Годы — тяжело стало подниматься на высокую гору. В дни большого паломничества на мазар приходят дервиши, а иногда — Мадарип-ишан, самый близкий друг и духовный наставник. Тогда Тимур распахивает портальные двери мазара и встает, как часовой на посту. Здесь Мадарип-ишан ведет себя особенно важно, так положено по сану, но только не с Тимуром — своим старым сподвижником в «священной войне» и безропотным рабом. Только один Тимур знает тайну мазара Абубакира. И когда Мадарип-ишан приходит сюда, его ничто не интересует — одна тайна. Только она! Поэтому Тимур не дожидается вопросов и докладывает: — Да хранит вас аллах! Все хорошо, ишан-ака. Все на своем месте. Все по-старому, даже моя хромая нога не выправляется. — Спасибо, — отвечает ишан и вяло протягивает руку. Тимур хватает ее и целует. — Старею, Тимур-ака, горы теперь не по моим ногам. А вы все еще шутите… Они долго беседуют — целую ночь. Им никто не мешает. Говорят о своей молодости, о джигитской удали и покорности аллаху. Вспоминают минувшее и даже плачут. Почему жизнь пошла не той дорогой, на которую они тащили ее, как строптивого ишака? Неужели кровь, пролитая сынами ислама, никогда не обернется радостью? — Старею, Тимур-ака, — говорит Мадарип-ишан и опять тяжело вздыхает. — В старости — мудрость и слава, ишан-ака, — старается ободрить Тимур. Но Мадарип-ишан думает совсем о другом. — Старею, — повторяет он с хмурой задумчивостью. — И все мы стареем… Ночью одолевают кошмары, а днем — немощь и тоже страх. Постоянно лезет в голову какая-то гадость… Дурное предзнаменование… Аллах прогневался на меня за ваши грехи… Решил я, Тимур-ака, ключ к святой тайне, — он дергает засаленный гайтан кожаной ладанки, что болтается у него на шее, — передать Саидке, сыну Муслима-дивоны. Так будет лучше. Надежней… Вдруг злой враг станет на моем пути?.. Нельзя допустить, чтобы он прикоснулся к тайне. А Саидка — смышленый паренек, послушный… Может, со временем аллах благословит этого юнца быть моим преемником. Об этом своем решении Мадарип-ишан поведал хромому Тимуру в день Курбанхаита, когда последний раз приходил на поклонение. Немало прошло времени с тех пор, но старик не может забыть холодной безнадежности, которой повеяло тогда от слов ишана. И ему показалось, что вместе с ишаном на мазар пришла сама беззубая старость, горбатая и усталая, в морщинах и клочьях седины. Счастье Тимура, что на поклонение святому Абубакиру приходят не только старики, случается и молодые заглядывают на мазар. Эти все хотят знать, везде лезут и слишком много смеются. Только вчера он встречал учителя из кишлака Ашлак и его ученика — сероглазого русского парнишку. Они не расспрашивали о святом Абубакире. Их интересовал мазар. А что мог рассказать о мазаре Тимур. В архитектуре он не разбирается. Так и объяснил: смотрите сами. Учитель и парнишка долго любовались красотой мазара, ощупывали камни, кусочки окаменевшей извести. Старик отступил от строгих правил — позволил зайти в мазар; там их тоже все интересовало: надгробье, сводчатые стены и глубокие ниши. Потом ходили купаться на озеро, а когда вернулись — Тимур сидел у мазара и пил чай. — Не откажите, уважаемый таксыр, отведать мое бедное угощение. Вода из Синего озера. Знаменитая вода! Учитель не отказался. Чай, действительно, был вкусен. Радость охватила Тимура, когда учитель, прощаясь, дал ему совсем новенькую ассигнацию, на которую, как смекнул Тимур, можно прожить целую неделю. Добрый человек учитель. Старику понравилось и другое: первый раз за много лет его поблагодарили за то, что он хорошо ухаживает и держит в чистоте помещение. Одного не понял старый страж: почему учитель и мальчишка не пошли по дороге, что ведет вниз, а отправились на гору по тропинке? Но это их дело, может, им захотелось на архаров поглядеть. Ощупав в тощем бельбоке хрустящую бумажку, он зашагал вниз. Праздник кончился, теперь сюда не скоро придут паломники. Самое время посидеть в чайхане.Ехали они шагом, изредка перекидываясь малозначащими словами, ехали, как богомольцы-паломники, у которых впереди далекий, утомительный путь. В селения не заезжали, пробирались стороной, тутовыми рощами. Хаджиусман глядел по сторонам и старался припомнить места, которые были знакомы с детства. Не сведи его злая судьба с Курасадханом, он, Хаджиусман, сын мутавали Бабадуста, и сейчас бы жил в кишлаке Азан или в Маргилане, или в самом Коканде. И если бы не служил в мечети, на худой конец, торговал бы в ларьке ханатласом или остроносыми калошами. Но аллаху не угодно было видеть джигита в услужении, он показал ему другой путь. Сейчас не хотелось лезть в туман прошлого, не хотелось тревожить воспоминания, но они сами наплывали, заставляя учащенно биться сердце. Перебравшись через железнодорожную насыпь, они спустились в лощину и выехали на тропу, что петляла между голыми курганами. Слева от курганов поднимались кирпичные корпуса стройки, в поклоне сгибались стальные шеи башенных кранов, без умолку гудели самосвалы, покрикивали паровозы, деловито ворчали экскаваторы. Дым и пыль заслоняли солнце, и вся стройка вставала в оранжевой мгле. Хаджиусман молча покачал головой. На его чалму и белый халат ложилась мягкая серая пыль. — Ох-хо, как люди мучаются! Там, наверно, и есть ад? — указав камчой в сторону стройки, спросил он. — Большой нефтезавод строится, уважаемый Хаджиусман-ака, — сказал Рауф-хальфа. — Люди говорят, что хорошо зарабатывают и живут в светлых домах, в достатке. — Много болтают, — заметил Мадумар, — их только слушай. — Да, да, Мадумар-ака, — отозвался Хаджиусман. — Нельзя слушать безбожников… И опять воцарилось молчание. Говорить не о чем. Там другая жизнь, совершенно не понятная им. Тихо поскрипывают седла, устало фыркают ишаки, где-то уныло гудит шмель. — Уважаемые! Где могила моего родителя Бабадуста-ата? — заволновался Хаджиусман. — Неужели мы проехали это место?.. Почему вы не сказали мне? Кишлак Азан где-то здесь?.. Может, мы по другой дороге едем? — Правильно едем, — мрачно проговорил Мадумар. — Мазар вашего родителя был не на кладбище, а возле дороги, там и дом ваш стоял, — сказал Рауф-хальфа. — Конечно, — подтвердил Хаджиусман. — Кто же мог не выполнить завещание родителя? — Об этом и говорю, — продолжал хальфа. — Во-о-он то место, — указал он на бурое облако пыли. — Самый большой цех там строится. Кишлака Азан давно нету, на его месте новые большие дома стоят. Рабочие живут. А рядом — Комсомольское озеро и много-много ребят там купается… — О-о, аллах! — глухо простонал Хаджиусман. — Порази их громом, нечестивцев!.. Больше он ничего не сказал, опустил голову и перестал смотреть по сторонам. Проезжая мимо развалин заброшенного кишлака, он подумал: «Хоть здесь еще стариной пахнет — и то слава богу. Сюда не успели забраться. Вон камни — остатки мечети! А это что?.. — он прислушался. — Чу, кажется, голос азанчи звучит над святыми развалинами?..» И с досадой поморщился: то был голос одинокого жаворонка. Кому он пел? Может, солнцу. Может, птенцам своим, которые укрылись в развалинах. «Эх, бездельник! Что тебе не петь — ты свободен!» — ругнулся про себя Хаджиусман. Мадумар стеганул ишака и поравнялся с Хаджиусманом. — Местность эта ничего вам не напоминает? Вон тот заброшенный сад в низине? — взмахнул пустым рукавом Мадумар. — Арык? Он давно высох, разве только родничок остался… — Не могу припомнить, Мадумар-ака, — Хаджиусман привстал на стременах, поглядел из-под ладони вокруг. — Нет, не припоминаю… Мадумар подобрал здоровой рукой пустой рукав и с силой сжал его в черном заскорузлом кулаке, словно вновь ощутил острую, давно забытую боль. — Руку потерял здесь, — хрипло прошептал он, с ненавистью оттолкнув пустой рукав. — Здесь был мой последний бой с красными… — Да, да, вот теперь, пожалуй, и я начинаю вспоминать, — также шепотом проговорил Хаджиусман. — Кишлак, кажется, тогда и был разрушен? — Тогда, — угрюмо подтвердил Мадумар. — В кишлаке жили очень плохие люди… Курбаши приказал выгнать всех из кибиток и забрать с собой. Но куда брать, сами посудите? Мы едва уносили ноги. И если бы не грязные оборванцы из того кишлака, красные бы порубили всех. Мы тогда прикрыли ими свое отступление. Ну и, конечно… — Помню. Теперь помню… — Как не помнить, — задумчиво продолжал Мадумар. — Я чуть не каждую ночь вижу того желтоглазого аскера на красном коне, и сабля его — она, как молния… Рука в сторону отлетела, а я… После молнии наступила черная ночь… Очень долго стояла черная ночь. Свет я увидел только в доме Саттара-хаджи. Вас уже тогда не было здесь… Никого… — тяжело вздохнул Мадумар. — Все ушли с Курасадханом, а я так и остался в доме Саттара, а потом… Хаджиусману казалось, что ему читают страшную книгу. Но это не книга — его жизнь. Его судьба. У кого она лучше, у него или у Мадумара? А может, у Рауфа-хальфы? Но хальфа, кажется, спит. Медленно покачивается его порыжевшая на солнце шапка; что-то свое возмущенно бормочет петух. Но Рауф-хальфа слышит разговор спутников. Порой он вздыхает и тихонько шепчет: «Ох-хо, аллах милостивый… Кому польза от этой дикой жизни, неужели тебе? Дай бог! Ох-хо…» И опять слышится однообразный перестук ослиных копытцев: чак-чак-чак… В полдень, когда жара стала невыносимой, путники спустились в неглубокий овраг, над которым печально никли ветви деревьев. — Святой ключ Сят-кяк, — сказал Рауф-хальфа и остановил ишака у небольшого чистого озерка на дне оврага. — Можно отдохнуть. Можно покушать. Можно немножко руки и ноги лечить. Все можно. Хаджиусман наклонился, чтобы зачерпнуть кружку воды, но не успел. Большая маринка шлепнула по воде хвостом, окатив его брызгами, а кружка, булькнув, мягко осела на дно. — Их! Кидаются, как собаки! — проворчал Хаджиусман. — Голодные? Никто не кормит несчастных… — Нет, они сыты, — ответил Рауф-хальфа. — Это аллах посылает их для того, чтобы порадовать и развеселить усталого путника. — Сколько развелось рыбы здесь, Мадумар-ака, я что-то не помню, чтобы раньше ее было так много. — Раньше, уважаемый, за ними только духовники следили, — продолжал Рауф-хальфа, — а нынче духовникам не до маринок. Ребятишки следят. Дети. И как только они везде поспевают! — Старый вы человек, хальфа-ака, а на языке у вас, извините меня, какие-то глупости, — сердито прервал Мадумар. — Аллах следит за всем, а не мальчишки. Он единственный властелин всему! Мадумар нахмурился и отвернулся. Хаджиусман неторопливо жевал лепешку, запивая студеной, пахнувшей рыбой, водой. Рауф-хальфа, подсунув под голову шапку, лежал под кустом, отгоняя от себя мух. Потеряв всякую надежду заснуть, он поднялся и сказал: — Кусают, проклятые… Ох-хо, на Шахимардан дорога пойдет в эту сторону, — показал он рукой, взглянув на Хаджиуомана. — Она пойдет через Каптархану, через Вуадыль. Мадумар-ака очень хорошо знает туда дорогу. — А вы? — насторожился Хаджиусман. — И я тоже знаю. Я все дороги знаю… Мне придется Мадарип-ишана искать, уважаемый. Боюсь, что ишан-ака будет огорчен, если вас не увидит. На меня будет сердиться. Поезжайте одни, а я приеду позже. И может, уговорю его. — Как, Мадумар-ака? — спросил Хаджиусман. Мадумар молча пожал плечами. — Вы, пожалуй, правы, Рауф-хальфа, — согласился Хаджиусман. — Конечно, так будет лучше. Теперь они вели разговор о дороге, о кишлаках, которые должны встретиться им, о шейхе Тимуре. И когда все было оговорено. Рауф-хальфа умылся, сотворил молитву и ушел, оставив своих спутников у родника.
ПОЕДИНОК
Иргаш вышел на улицу, оглядел ее и, опустив голову, побрел к саду. Не спится Иргашу. И не спится от того, что не нравились ему последние события. Учитель все еще не вернулся из командировки — живые уголки в других школах изучает. И Звонок тоже. Эх, Звонок, Звонок, хотя бы открытку написал! Ромка бы сообщил, но он, кажется, совсем разболелся. Доктор обмазал Ромкину ногу гипсом и строго-настрого приказал — дать ей полный покой! «Не послушаешься — на всю жизнь с одной ногой останешься». Теперь Ромка лежит в постели и разглядывает потолок. А Иргаш один. Но ничего, придет время, соберутся они все, и тогда Иргаш скажет свое слово. Он уже подходил к саду, как вдруг услышал крик. За ним бежала Рано, сестренка Саидки. — Вот, еще тебя не хватало, — проворчал Иргаш, хмурясь. Рано, завернувшись в старую, с длинными кистями, шаль, казалась тоненькой и черной, как обгоревшая камышинка. Снизу, из-под кистей, торчали босые ноги, сверху — нос да испуганные глаза. — Чего кричишь на весь кишлак? — Дома у нас плохо. Беда пришла к нам, Иргаш! — Она надрывно всхлипнула и зарыдала, опустившись на землю. — Говори толком! Что случилось? Не плачь только! — крикнул Иргаш, меняясь в лице. — Отец… Ночью… Саидку утащил… Иргаш схватил девчонку за руку. — Как утащил?! Куда? Да говори же, говори скорей! — Не знаю… Мама тоже не знает… Только они ушли по дороге в тугаи… — Эх, вы!.. Беги в сад, там есть дядя — Душанба его зовут… Все расскажешь ему. Понятно? — А ты сам? — проговорила Рано, не переставая всхлипывать. — Делай, что тебе говорят! Быстро!.. Иргаш метнулся по улице, пока еще твердо не зная, что делать. На площади, возле хозяйственного магазина, он увидел коня. Иргаш не запомнил, что говорил он завмагу, выпрашивая коня «на несколько минут! Очень нужно!» Но разрешение было тут же получено! Он подбежал к коновязи, отвязал коня и ловко, как настоящий джигит, прыгнул в седло. Припав головой к гриве, он скакал по обочине дороги. «Скорей! Скорей!» — стучит в голове Иргаша. Из-под копыт коня вырывается пыль и желтым облаком повисает над дорогой. «Скорей! Скорей!» У дороги стояли двое молодых чабанов, разве что чуть постарше Иргаша. — Эй, друг, ищешь что ли кого? — окликнул один из них Иргаша, прижимая к ноге залаявшую собаку. Иргаш осадил коня. — Тут двое случайно не проезжали? — тяжело дыша, спросил он. — На ишаке проехал один старик, вроде, недавно. Мальчишка с ним… — Мальчишка?! — Да, сзади сидел. Туда поехали, — палкой показал пастух. …Муслим-дивона сидел под урючиной и что-то жевал. Саидки не было. Услышав стук копыт, Дивона вскочил на ноги и захохотал — он узнал всадника. — A-а, земляк! За мной приехал? Садись! Гостем будешь! — Где Саидка? Куда его девали? Где Саидка? — Иргаш спрыгнул с коня. — Э-э-э, щенок, тебе Саидка нужен, — гнусаво протянул Муслим-дивона, — а мне нужен ты. — И враскачку пошел на Иргаша. Иргаш подпрыгнул, ухватился за толстую ветку и, отчаянно работая ногами и руками, взобрался на урючину. Саидкин отец стоял внизу, злыми глазами смотрел на мальчика и что-то шептал, покачивая головой. Иргаш взобрался повыше, оглядывая местность, и увидел сначала привязанного к кусту ишака, а потом Саидку. Закутанный в халат, он лежал тут же, у ног ишака. Муслим-дивона вез своего сына Мадарип-ишану. — Саи-и-идка-а! — закричал Иргаш что было силы. — Зачем орешь, как ишак! — крикнул Муслим, поглядев наверх. — Нет Саидки. Я здесь! — Са-а-аи-и-идка!.. Муслим-дивона, сбросив с себя лохмотья, сел на землю, прислонившись спиной к дереву. — Негодник, сам слезешь. Мне торопиться некуда. Эх-хе, аллах накажет тебя! Спаситель!.. Саидку ему подавай… Всех, кто идет против всевышнего, он наказывает смертью. Да, да, смертью и мукой! Мукой! Иргаш невольно передернул плечами, ему становилось страшно от угроз и причитаний Муслима-дивоны. — Погибнете все! — кричал Муслим. — Погибнете, нечестивцы!.. Сперва ты издохнешь. Саидка околеет, как вонючий пес. Потом предатель Али… Но он не успел закончить: перед ним будто из-под земли вырос сам Алихан. Муслим отчаянно закричал и схватился за нож. — Оставьте нож, — спокойно и твердо сказал Алихан. — Я пришел не за тем, чтобы драться с вами. Где ребята? Дивона завертелся, запрыгал и заплакал от бессильной злобы. — Пусть будет проклята та мать, которая дала жизнь изменнику святой веры! Будь проклята!.. Да! Да!.. Тьфу! Тьфу!.. — плевался он и рвал на себе остатки грязных лохмотьев. А Иргаш уже змеей скользил по стволу дерева. …Руки и ноги Саидки были связаны веревкой из колючей овечьей шерсти. Во рту — тряпка. Иргаш кинулся к нему и зубами стал развязывать узлы. — Жив? Ну, окажи, жив? — он похлопал то Саидкиным щекам и, схватив за плечи, посадил перед собой. — Жив? Скажи, что жив!.. Саидка молчал, на бледном испуганном лице его появилась слабая, неуверенная улыбка. Ему надо было говорить, а не улыбаться. Но кроме улыбки у него пока ничего не получалось…ТАЙНА «СВЯТОЙ» МОГИЛЫ
С утра путники поднимаются на высокую гору, а конца пути не видать. Петляет узкая турья тропа шириною в куриный шаг среди горячих камней и редких кустов почти черной арчи. Трудная дорога, даже ишаки надсадно фыркают и встают на колени, точно просят у неба милости. И хотя Хаджиусман почти не слезает с ишака, халат его взмок от пота, а ичиги стали тесны — ноги отекают. Давно хочется пить. Из-под ног ишаков то и дело срываются, как осатанелые, большие сизоватые птицы — кеклики. Хаджиусман каждый раз вздрагивает — и раздраженно ворчит: «Нечистая сила! Тьфу!..» А еще его пугают змеи — они тоже часто встречаются. «И чего поехали не по той дороге, которая ведет вдоль Шахимардансая? — недоумевает Хаджиусман. — Надо же тащиться по таким козьим кручам!» — Эй, Мадумар-ака, может быть, эта гора в конце концов приведет нас на седьмое небо? — кричит Хаджиусман. — Вы скажите! С грехами туда не пускают, помолиться надо. Мадумар поворачивает голову и, недовольно морщась от неуместной шутки, отвечает: — Не гневите аллаха, Хаджиусман-ака, здесь труднее, но безопасней… А гора скоро кончится. Разве вы никогда здесь не были? — Все горы, на которых довелось мне побывать, невозможно запомнить, уважаемый. И опять едут они друг за другом и молчат. Опять вздрагивают при каждом взлете кеклика. Вскрикивают при появлении змеи и бормочут заклинания. И вдруг голубой простор, сверкающий и необъятный, как море, открылся странникам. «Наконец-то!» Молча, точно по уговору, они расстелили лоскутья кошмы и стали молиться. Помолившись, путники сели отдохнуть. Мадумар, свертывая кошму, покосился на Хаджиусмана и мотнул головой в сторону. — Там его и забросали камнями, — сказал он, поправляя сбившуюся набок чалму. — Памятник… Кто знал, что он будет такой великий? Хамза, Хамза — везде сейчас есть Хамза. А тогда один был Хамза — безбожник! — Не надо, уважаемый, — проговорил Хаджиусман с глухим раздражением в голосе. — Зачем?.. Вы лучше скажите, где мы будем искать Тимура? Или, может, пойдем прямо к нему, на мазар? — О, сейчас он сидит там, — указал Мадумар вниз. — Чай пьет, плов кушает, сказки рассказывает. Этот старик умеет жить. А на мазаре чего высидишь? — И добавил: — Мадарип-ишана ждать разве не хотите? — А вы уверены, что хальфа приведет его? Мадумар, не ответив, поднялся и, порывшись в хурджуне, вернулся на свое место. — Черствая, но все-таки лепешка. Покушайте, — сказал он и положил перед Хаджиусманом узелок с едой. …Вечером хромого шейха нашли в чайхане. Старый Тимур внимательно приглядывался к гостю, точно хотел узнать в нем другого человека. А между тем гость был тот самый, с кем Тимур встречался когда-то у Курасадхана и в Чимионе, и в Вуадыле, и в тайном стане дервишей и духовников, замысливших расправу над Хамзой. Он не помнит, как тогда его называли, Хаджиусманом или как-нибудь иначе, но это он… Странники опять ехали по запутанной козьей тропе, которая вела их в гору. В густых фиолетовых сумерках Тимур казался совсем маленьким. Теперь он молчал. Хаджиусман принес ему такую весть, что жизнь как-то сразу потускнела и потеряла для него смысл. Почему-то страшно было жаль себя. Чего ради он до сих пор сидел на мазаре святого Абубакира? Никогда еще он не подымался к мазару с чувством такой тяжелой тоски и горечи. Когда ишак остановился, он неуклюже слез с него и сказал: — Слава аллаху, приехали… Хаджиусман внимательно поглядел по сторонам. — С вами никто не живет? — Нет, уважаемый. Никого сюда не затащишь. Старик долго возился с замком и тихо ворчал: — Испортился, что ли… — Не часто бываете. Ржавеет. — Не от этого — замку столько же лет, сколько и мне, а может, и больше. Наконец железная дверь заскрежетала на ржавых навесах и отворилась. Из черной утробы мазара подуло затхлым запахом прелого тряпья и сырости. Хаджиусман почувствовал, как тревожно застучало сердце. Дрожащими руками он вцепился в Тимура, прислушиваясь к странному шуму под куполом мазара. — Что такое? — Э-э, так всегда здесь гудит. Над головами у них проносились летучие мыши. Где-то вверху, под каменным сводом, крикнула сова. Кто-то жалобно пискнул и в темноте вдруг засветились два зеленых огня. Хаджиусман еще крепче ухватился за Тимура. — Не бойтесь, это кот… Ух ты, тварь несчастная! Пакостник, — заругалсяТимур. — Сейчас я зажгу светильник. Сейчас… Подрагивающий огонек керосиновой лампы медленно растворил темноту мазара. — Закрыли ли вы дверь мазара, Тимур-ака? — спросил Хаджиусман. — Нет, уважаемый, открытой она осталась. Пусть проветрится здесь. — Напрасно. Закройте, пожалуйста. Хаджиусман подошел к стене, ощупал ее. Ему казалось, что он теряет самообладание и вот-вот, не выдержав, упадет. Ему не приходилось бывать на этом мазаре раньше, но он знал, что под плитой надгробья лежат не кости святого — здесь похоронена тайна одного из самых жестоких басмачей… Он пришел за нею. — Тимур-ака, помогите мне чуть-чуть, — сказал Хаджиусман, пробуя сдвинуть надгробье. Тимур вцепился в камень. Положил на плиту свою единственную руку и Мадумар. — Взяли!.. Плита, сухо поскрипывая, отодвинулась. — Еще разок! Еще! — командовал Хаджиусман. — Еще раз! Еще!.. Плита медленно поддавалась, открывая черный подвал. В лицо пахнуло холодом. — Посветите сюда, Тимур-ака. Ближе… Ближе!.. Тимур и Мадумар, казалось, оцепенели. Они стояли на краю каменной ямы, на дне которой что-то тускло поблескивало. В руках Тимура ходуном ходила керосиновая лампа. А Хаджиусман, склонившись над ямой, потянул веревку. Заскрипели деревянные блоки. — Ага, понятно, — прохрипел Хаджиусман. — Идите сюда, Тимур-ака. Вы, Мадумар-ака, тоже немножко можете помочь нам… Страшно брать в руки колючую волосяную веревку. Страшно оттого, что ни Тимур, ни Мадумар не знали, что там, на ее конце. Зато Хаджиусман не выказывал больше ни волнения, ни страха и изо всех сил тянул веревку. Блоки натружено и зловеще скрипели. Наконец, царапая стенки ямы, на поверхности показался довольно большой, обитый медью, сундук. Тимур и Мадумар боязливо отступили. Хаджиусман смело поднял крышку и принялся деловито разбирать содержимое сундука. Первое, что он извлек из него, был халат. Хаджиусман повертел его в руках, с видом знатока ощупал богатую парчовую ткань и отбросил. — Мадумар-ака, возьмите! Вам подойдет. Потом он вытащил и развернул темное полотнище. Это было зеленое басмаческое знамя с истрепанными краями, местами порванное, в пятнах крови. В молитвенном молчании Хаджиусман прижал его к груди. — Что такое? — Разве не видите, Мадумар-ака?.. Он еще раз тряхнул знаменем и сунул его за пазуху. Снова полез в сундук и стал выкидывать из него какие-то тряпки. Появилось оружие: новый, густо смазанный английский карабин. Один, другой, третий. По лицу Хаджиусмана струился пот. Вытащив саблю, Хаджиусман выпрямился во весь рост. Ножны ее и эфес в виде изогнувшейся змеи усыпаны драгоценными камнями, тонкий ремешок портупеи и темляк расшиты жемчугом. — Вот оно — завещание пророка, с которым ходил в бой Курасадхан! — воскликнул Хаджиусман, разглядывая на клинке арабскую вязь. — «Хвала аллаху, вездесущему, всевидящему, — шептал он. — Меч — это ключ к небу и аду!» Хаджиусман перевернул клинок. — Слушайте: «Сражайтесь, не робейте: врата рая — под сенью мечей. Тот получит доступ в него, кто пал, сражаясь за веру!» — Понятно, — так же тихо сказал Мадумар. Хаджиусман опять уткнулся головой в сундук: теперь он вынимал пулеметные ленты, в руках очутилась двухвостка-камча с инкрустированной рукояткой. — И это все?! А где остально-о-е? — хрипло протянул Хаджиусман, подняв глаза на Тимура. — Где-е?! — Не знаю, уважаемый, что вы ищите? — растерянно пробормотал Тимур. — Как не знаете?! Где золото Курасадхана?! — с угрозой вырвалось из пересохшей глотки Хаджиусмана. — Где з-з-золото?! Тимур, упав на колени, взмолился: — Видит аллах, я ничего не знаю. Спрашивайте у Мадарип-ишана. Он хозяин всему, что есть на мазаре. — У Мадарип-ишана?! — Хаджиусман размахнулся и ударил старика в лицо. Мадумар схватил Тимура за шиворот, хромец кричал во весь голос, увертываясь от яростных ударов. В разгар драки упала лампа. Мгла поглотила мазар. И вдруг в этой тяжелой тьме, наполненной шумом возни и керосиновым чадом, раздался сильный, привыкший командовать, голос: — Оста-но-ви-тесь!.. Хаджиусман бросил старика и упал на колени. Растрепанный и избитый лежал на полу Тимур. Мадумар ничего не видел, он лежал ничком, как мертвый. Когда в мазар зашли какие-то люди, а среди них светловолосый подросток, Тимур поднял голову. Ему показалось, что он уже видел где-то этого мальчишку и стоящего рядом с ним молодого мужчину. Но где? Он очень похож на того доброго ашлакского учителя, которого он недавно угощал чаем…НОЧЬ ОЖИДАНИЙ
Под вечер на бахчу прикатил Алимджан Саитбаев. Приткнув насквозь пропыленный мотоцикл к копне клевера, он направился к дедушке Тургунбаю, который копошился возле перепелиных ловушек. — A-а, салам алейкум! — радостно заговорил старик, подняв на Алимджана смеющиеся глаза. — Гостям здесь всегда рады, сынок. — Спасибо, отец. Очень рад видеть вас в добром здоровье и радости. — Саитбаев ловко выдернул зубами сигаретку из пачки и закурил. — Что новенького? — Э, какие могут быть новости у нас, — махнул рукой Тургунбай-ата. — Ловлю перепелок, караулю арбузы и дыни… Вот и все новости. Старик догадывался: Алимджана занесло к нему не желание отдохнуть и насладиться охлажденной в арыке дыней. Поглядев с той же снисходительно доброй улыбкой на парня, он спросил: — Чайку согреть, сынок, дыню принести или домой торопишься? — Хочу задержаться, — ответил Алимджан. — Если вы, конечно, позволите. — Как не позволить? Что ты говоришь? Если у человека есть важное дело, ему даже аллах мешать не имеет права. — И понизив голос, спросил: — А может, задерживаешься ты для того, чтобы охранять меня? Вроде слухи ходят, что кое-кто на старого Тургунбай, если не нож, то зубы точит… — Разве могут найтись такие? Я думаю, у вас одни друзья на белом свете… — Сегодня отправил одного телохранителя, — улыбаясь, продолжал дедушка Тургунбай. — Приковылял кое-как и заявил: не уйду от тебя, дедушка, пока всех злодеев не переловим. А чего меня охранять? Вон мой охранник, — показал он на дремавшего под навесом пса. — Всю жизнь только и смотрит, чтобы кто не обидел меня… А приходил-то ко мне вчера Романджан. Прыгает, как воробей: нога-то все еще болит у него. А дома усидеть не может. Отправился искать моего внучонка Иргаша. А тот, оказывается, на коне поскакал Саидку выручать. Да и сам чуть в беду не попал… Хорошо, что Алихан подоспел и выручил внучонка, а то еще неизвестно, чем бы дело кончилось… — Алихан где? В кишлаке или в город уехал? — Нет, — вздохнул старик, скрывая тревогу. — Не уехал. Сказал, что ему в кишлак какой-то надо сходить. Дедушка Тургунбай неторопливо разливал чай. — Давай лучше подкрепимся немного, сынок, а там и отдохнуть не грех… Напившись чаю, Саитбаев ушел под навес и прилег. Но стоило ему закрыть глаза, как сейчас же вставал перед ним весь прожитый день. Откуда-то выплывал мазар святого Абубакира, на каменном полу его — испуганные посланцы Курасадхана. Наконец-то удалось одержать главную победу: разоблачить темную тайну мазара, которому поклонялись люди. — Что там еще такое? — услышал Алимджан сонный голос старика. — Аллах, кажется, кого-то еще нам посылает. Слышишь, сынок? Саитбаев не ответил: он знал, кто должен был прийти сюда. И в это время к костру подошли люди. Их было трое: впереди шел грузный человек в распахнутом халате, руки его были закинуты за спину. За ним — косматый старик с кетменем на плече, замыкала шествие женщина. Остановились возле огня. — Сынок, да ты погляди, кто пришел? — Недоуменно оглядывал непрошеных гостей дедушка Тургунбай. — Это же Мадарип-ишан. Саитбаев внимательно глядел на пришельцев. — Салам алейкум, добрые люди, — наконец сказал старик с кетменем и, положив руку на грудь, поклонился. — Ваалейкум ассалам, — почтительно ответил Саитбаев. — Как ваше здоровье, Рауф-ата? — Благодарение аллаху, все хорошо, таксыр. Спасибо. Грех гневаться. Хорошо, — повторял Рауф-хальфа, не переставая кланяться. — Благополучно… Ничего не случилось, — продолжал он, мотнув головой в сторону ишана. — Женщина — это его… последняя жена, Матлуба. У нее он гостил нынче. Хорошая женщина… Обижается сильно, надоело, говорит, быть женой нечестного человека. На людей совестно глядеть, а она ведь в колхозе… Вот и помогла… Дедушка Тургунбай в растерянности переводил глаза с одного на другого. — Эх-хе, — вздохнул он. — Ничего не видал. Ничего не слыхал. Ничего не знаю. Везде ничего. А катаешься ты, сынок, на своем железном ишаке, оказывается, не ради одного удовольствия. Теперь и я кое-что понимать начинаю. — Он взглянул еще раз на Рауфа-хальфу и, качая головой, промолвил: — Вот уж никогда бы не подумал…ЗДРАВСТВУЙ, ЧЕЛОВЕК!
Опустела худжра в школьном саду, не курится возле нее дымок, не пахнет луком от холодного, закопченного казана — никто не живет здесь. Редко приходят и ребята, и то только на одну минуту, для того, чтобы найти нужный инструмент или взглянуть на топчан, где вечерами сиживал Душанба. Саидка оправился от пережитого и теперь ни на день не разлучался с мальчишками. Ромка забросил палочку и с безудержным увлечением мечтает о новых подвигах. Федю по-прежнему чаще всего можно увидеть возле питомцев живого уголка, внимательно наблюдающим за их загадочной жизнью. Иргаш ходит в своей блестящей парадной фуражке и все так же охотно откликается на обращение к нему — «Капитан». Все были на своих местах. Даже Рауф-хальфа со своим петухом оказался при деле — птичником на колхозной ферме. Впрочем, теперь его называли просто Рауф-ата. Не было лишь Душанбы, который как в воду канул. И никто точно не мог сказать, куда он девался. Ребята были встревожены. — Что говорить? — сказал Саидка. — Искать надо. Я знаю места, где они прятались. В Оше знаю. И в Намангане знаю. Всюду пойдем. Но в это время заскрипела калитка, и во двор вошел Джура Насырович. — Вот вы где прячетесь, разведчики! Письмо нам! — крикнул он очень весело. — Нам всем. Душанба пишет!.. Ребята кинулись навстречу учителю. Он развернул письмо и стал читать. «…Вначале я хочу сказать: большое спасибо! Спасибо за все хорошее, что вы с таким терпением и верой отдавали мне. Когда я вспоминаю эти минуты, ребята, мне делается очень стыдно. Стыдно до слез за все мое прошлое. Я хотел умереть, но вы прогнали от меня смерть и заставили поверить, что жизнь — замечательная штука, когда она настоящая, правильная. Живу я в Голодной степи. Вы знаете, какая это степь. Работа у меня очень хорошая. Строим большой совхоз. Обнимаю вас всех и крепко жму руки. Большое, большое спасибо всем и особенно дорогому учителю! Ваш Душанба — Алихан Рузыев».Джура Насырович вложил письмо в конверт и подал Иргашу. — Ответить надо. — Конечно! А мы найдем его там? — Обязательно! Ведь мы уже нашли его.
Примечания
1
Бари-бир — все равно (узб.). (обратно)2
Ата — отец (узб.). (обратно)3
Дивона — сумасшедший, помешавшийся на религиозной почве (узб.). (обратно)4
Насвай — вид табака. (обратно)5
Пир — духовный наставник дервишей. (обратно)6
Бельбок — поясной платок. (обратно)
(обратно)
Последние комментарии
1 час 1 минута назад
6 часов 46 минут назад
7 часов 53 минут назад
8 часов 50 минут назад
9 часов 5 минут назад
18 часов 15 минут назад