Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т.1.
БЫТИЕ, ПОЗНАНИЕ, ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В ФИЛОСОФСКОЙ ДОКТРИНЕ ТОМАСА ГОББСА
Имя Томаса Гоббса (1588-1679) занимает весьма почетное место не только в ряду великих философских имен его эпохи – эпохи Бэкона, Декарта, Гассенди, Паскаля, Спинозы, Локка, Лейбница, но и в мировом историко-философском процессе. Идеи Гоббса многократно становились предметом пристального внимания. Интерес к ним не ослабевает и в 400-ю годовщину рождения философа.ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ЖИЗНИ ГОББСА И ЕГО ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Томас Гоббс родился 5 апреля 1588 г. в семье сельского священника. Получив первоначальное образование в приходской школе, способный мальчик продолжил учебу в соседнем местечке Мальмсбери, а затем в частной школе другого городка. За годы обучения в школе Томас хорошо овладел древними языками – латинским и греческим. Он стал в 15 лет студентом одного аз колледжей старейшего университета Англии – Оксфордского. Пятилетнее пребывание здесь не только углубило познания юного Гоббса в древних языках, но и дало возможность получить обычное в те времена образование, основу которого составляла традиционно-аристотелевская логика и физика. Ученая степень бакалавра искусств предоставила Гоббсу право преподавания логики в том же Оксфордском университете. Однако молодой философ не воспользовался этим правом, так как схоластический характер образования был далек от его понимания целей научно-философского познания мира. Гоббс принял предложение барона Кавендиша, близкого к придворным кругам, взять на себя заботы по воспитанию его сына. Преимущества такой работы перед деятельностью университетского преподавателя состояли в том, что она оставляла больше свободного времени для продвижения в науке и философии. Перед философом открылась возможность совершить ряд длительных путешествий на Европейский континент. Первое из них было в 1610 г., когда Гоббс вместе со своим воспитанником прожил во Франции и Италии около трех лет. По возвращении в Англию состоялось весьма важное для философского развития Гоббса знакомство с крупнейшим английским (а можно сказать, и европейским) философом – знаменитым Фрэнсисом Бэконом (1561 -1626), которого К. Маркс и Ф. Энгельс назвали «настоящим родоначальником английского материализма и всей современной экспериментирующей науки» [1]. Ко времени их знакомства Бэкон опубликовал свой главный методологический труд «Новый Органон» (1620). Из других философских контактов Гоббса, оказавших на него значительное влияние, следует назвать имя английского философа и политического деятеля Герберта Чербери (1583 -1648), считающегося родоначальником английского деизма. Социально-философское мировоззрение Гоббса формировалось в весьма напряженный, насыщенный событиями период английской и европейской истории. Во второй половине XVI в. Англия пошла по пути колониальной экспансии и вступила в напряженную борьбу с другими державами, в особенности с Испанией. Школьные годы Гоббса приходятся на конец правления королевы Елизаветы I (1558- 1603), когда борьба с Испанией достигла наибольшей остроты. Но для формирования социально-философского мировоззрения Гоббса еще большее значение имели события внутри самой Англии. В царствование преемника Елизаветы Якова I (1603-1625) страна стояла на пороге буржуазной революции (которая фактически и началась в 1640 г.). Она серьезно изменила социальную структуру Англии и оказала значительное историческое социально-психологическое и идеологическое влияние не только на собственно английское общество, но и на другие западноевропейские страны. Вооруженная борьба в годы революции между роялистами, группировавшимися вокруг короля Карла I, и партией парламента явилась разрешением многолетнего противостояния королевского абсолютизма, опиравшегося главным образом на феодальное дворянство и стремившегося к ограничению и даже ликвидации парламента, с торгово-промышленной буржуазией (на ее мануфактурной стадии), интересы которой и выражало большинство членов парламента. Особенности английской буржуазной революции, менее зрелой по сравнению с буржуазной революцией во Франции ? конце XVIII в., состояли, в частности, в том, что среди ее движущих социальных сил было так называемое новое дворянство – класс землевладельцев, втянутых в торгово-промышленную деятельность. Но решающую роль в победе революции сыграла поддержка ее антикоролевских и антифеодальных акций народными массами – городскими (особенно лондонскими) и деревенскими (значительная прослойка свободного крестьянства, давшая много бойцов парламентской армии). Разгром роялистов и казнь Карла I (1625-1649) по приговору верховного трибунала, созданного парламентом в 1649 г., привели в том же году к учреждению республики (commonwealth) в Англии (1649-1653). Дальнейшая борьба победившей буржуазно-дворянской парламентской партии против радикально-уравнительских течений (особенно лавеллеров и диггеров), отражавших чаяния различных слоев народных масс, привела к установлению диктатуры Оливера Кромвеля, вождя парламентской армии, протекторат которого продолжался несколько лет – вплоть до его смерти (1653-1658). В это короткое время в Англии была провозглашена республика. Однако новый подъем демократического движения в стране заставил буржуазные круги восстановить в стране монархию Стюартов. Власть сына Карла I Карла II (1660-1685) хотя и была ограничена парламентом, но вместе с тем отличалась чертами глубокой абсолютистской реакции и контрреволюционного террора. К этому времени закончилась философскай деятельность Гоббса. Для понимания формирования мировоззрения философа необходимо осмыслить идеологическую сторону этих социально-политических событий. Б Англии еще в XVI в. король Генрих VIII под влиянием реформационного движения против католической церкви в Германии (лютеранство) , а затем и в других странах провел реформацию, установившую англиканскую церковь. Лишив римского папу власти над церковью Англии, овладев значительной частью церковного имущества и провозгласив себя главой национальной церкви, Генрих VIII сохранил многие важнейшие элементы католицизма в организации, догматике и богослужении англиканской церкви, ставшей важнейшей опорой абсолютизма. В борьбе против него парламентская партия, отвергая компромиссное по отношению к католицизму англиканство, избрала в качестве своей религиозной платформы пуританство, как стал именоваться в Англии кальвинизм – наиболее радикальное направление протестантизма, непримиримое по отношению к католицизму. В ходе развития революции и формирования различных политических направлений среди антироялистов пуританство распалось на две основные фракции. Более радикальными стали индепенденты, выступавшие против любой общегосударственной религии, навязываемой верующим светскими и церковными властями, за максимальную свободу толкования Библии и свободу религиозной совести. Крайние индепенденты, среди которых было немало верующих из народных масс, становились приверженцами различных еретических общин. Гоббс был воспитан в духе пуританизма. Религиозная проблематика, как увидим, получила основательную разработку в его произведениях. Философ размышлял над социальной действительностью Англии, наблюдая жизнь некоторых стран Европейского континента (прежде всего Франции и Италии). Общение с континентальной наукой и философией весьма способствовало становлению системы его философских воззрений. В 1628 г. публикуется первый труд Гоббса – его перевод (с древнегреческого на английский) знаменитого сочинения великого античного историка Фукидида. Оно посвящено событиям Пелопоннесской войны (между союзом древнегреческих полисов во главе с Афинами и другой их группой во главе со Спартой), отстоящим от времени Гоббса более чем на два тысячелетия. Труд этот оказался весьма актуальным для Англии той эпохи (как, впрочем, и для некоторых других западноевропейских государств). В 1629 г. последовала новая поездка во Францию (продолжавшаяся полтора года). В интеллектуальном плане она примечательна тем, что Гоббс ознакомился здесь со знаменитым сочинением Евклида «Начала». Известное в Западной Европе уже со времен средневековья, но получившее широкое распространение (в латинских переводах с древнегреческого) с эпохи позднего Возрождения, это сочинение в XVII в. стало оказывать сильное рационализирующее воздействие на философию. И Гоббс одним из первых испытал такое влияние. Через несколько лет английский философ изучает другое выдающееся произведение, трактовавшее вопросы астрономии и механики и подводившее научный фундамент под геоцентрическую теорию Коперника,- сочинение Галилео Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира – Птолемеевой и Коперниковой» (1632). Это происходит во время третьего путешествия Гоббса на континент в 1634-1636 гг. В Париже Гоббс сближается с Мерсенном (1588-1648), вокруг которого группировался кружок французских ученых и философов. Особенно замечательным среди них был крупнейший французский материалист (и священник) Пьер Гассенди (1592 -1655), возродивший атомистическое учение Эпикура и Демокрита и оказавший в силу этого большое влияние на развитие естественнонаучной мысли XVII в. (в частности, на И. Ньютона). В 1636 г. во время поездки в Италию, при посещении Флоренции, Гоббс встречается с Галилеем. Когда началась революция в Англии (созывом так называемого Долгого парламента в 1640 г.), Гоббс, близкий к аристократическим кругам (он был тогда на службе у младшего Кавендиша), в значительной мере из опасений быть обвиненным сторонниками парламента в верности королевскому абсолютизму снова покидает Англию и в 1640 -1651 гг. живет в Париже. Основания для опасений у Гоббса появились, в частности, потому, что в начале работы Долгого парламента (заседавшего до 1653 г., когда он был разогнан Кромвелем) он написал сочинение по вопросам права, в котором защищал необходимость сильной государственной власти. Тем самым определилось основное направление философских интересов Гоббса как теоретика общественной жизни. И хотя это произведение тогда не было опубликовано (публикация была в 1650 г.), оно получило распространение в рукописи. Почитатели Гоббса издали его как два произведения – «Человеческая природа» и «О политическом теле». Последнее длительное пребывание Гоббса во Франции сыграло огромную роль в его философской деятельности. Здесь он познакомился с научными и философскими идеями Р. Декарта (1596 -1650), получавшими все большее распространение. Хотя сам французский философ жил в Нидерландах (во время пребывания в Париже в 1648 г. он познакомился с Гоббсом), через Мерсенна Гоббсу была передана рукопись важнейшего философского произведения Декарта – «Метафизические размышления». Философ написал на нее «Возражения» с сенсуалистическо-материалистических позиций. В 1642 г. это произведение было опубликовано Декартом вместе с «Возражениями» Гоббса, Гассенди и других философов (и теологов) и с «Ответами» на эти «Возражения» самого автора. Полемика с Декартом способствовала выработке Гоббсом оригинальой и стройной системы философских воззрений. Но главный его интерес был по-прежнему сосредоточен на социальных вопросах, которые оставались сверхактуальными для Англии, где началась революция и гражданская война. Это объясняет, почему обнародование своей системы Гоббс начал с третьей (последней) ее части, которую он назвал «О гражданине» (издано в 1642 г. в Париже на латинском языке, в 1647 г. появилось второе издание в Амстердаме, большим тиражом). Из других событий парижской жизни Гоббса следует указать на его весьма важный диспут в 1646 г. с епископом Бремхоллом по сложному вопросу о свободе человеческой воли. В том же году философ стал преподавать математику проживавшему в Париже сыну Карла I принцу Уэльскому (будущему Карлу II). Роялисты, введенные в заблуждение защитой Гоббсом сильной и централизованной государственной власти, видели в нем солидарного с ними теоретика. Но они весьма заблуждались. Это стало ясно, когда в 1651 г. в Лондоне было опубликовано самое обширное (и самое знаменитое) произведение Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (на английском языке). Оно представляло не только новую и более радикальную редакцию сочинения «О гражданине» – его первая часть трактовала общефилософские вопросы (включая вопросы истолкования человеческой природы). Вскоре после выхода этого произведения Гоббс переехал в Лондон, где Кромвель торжествовал победу как над роялистами, так и над революционной стихией народных масс. Он одобрительно отнесся к возвращению Гоббса. Здесь, на родине, философ завершил изложение своей системы, опубликовав в 1655 г. сочинение «О теле» (на латинском языке), а в 1658 г. сочинение «О человеке» (тоже на латинском языке). Три главных произведения: «О теле», «О человеке» и «О гражданине», отличающиеся единством замысла и исполнения, носят общий заголовок – «Основ философии». В годы реставрации Карла II Гоббс переживал весьма трудные времена. Роялистская и в особенности клерикальная реакция подвергла философа травле, обвиняя его прежде всего в атеизме – весьма распространенное и опасное в те времена обвинение («О гражданине» и «Левиафан» были включены папской курией в «Список запрещенных книг»). Отводя эти (и другие) обвинения, Гоббс был вынужден защищаться в небольших специальных работах. В 1668 г. в Амстердаме появилось издание на латинском языке «Левиафана», в которое автор внес ряд изменений, затемняющих его симпатии к передовой государственности, функционирующей в соответствии со строжайшей законностью, и его глубокую вражду к клерикальным посягательствам на нее. Характерно и то, что здесь же автор усиливал выпады против мятежей, в которых проявлялась в период революции энергия народа, поскольку она, по убеждению Гоббса, тоже подрывала стройное здание государственности.ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГОББСА
В европейских странах философская мысль XVII в. развивалась в сложном взаимодействии с научным знанием и религиозно-теологическим содержанием духовной жизни. Различие областей знания науки и религии выразилось в вариантах концепции «двух истин» (или «теории двойственной истины»). Один путь к истине – постижение Священного писания, Библии – требует умелой экзегезы, правильного истолкования (к чему способны в первую очередь церковнослужители). Другой путь открывается в изучении мира силами человеческого ума (в средне-исковом сознании лишь с помощью бога). Противоречие между философией и религией усилилось в эпоху Возрождения. В противоположность принципу геоцентризма, характерному для средневекового мировоззрения и ориентированному на человека, пассивно уповающего на всемогущего бога, философы-гуманисты разрабатывали принцип антропоцентризма. Отнюдь не отказываясь от понятия бога, в фокус своей философской мысли они ставили активно действующего (а не только молящегося) человека. В противоположность потустороннему «царству бога», упованиями на которое было пронизано средневековое мировоззрение и конкретизировавшая его мистикосхоластическая философия, некоторые философы-гуманисты выдвигали идеал «царства человека», которое возможно осуществить в реальной, земной жизни. Подкрепление и конкретизацию такого идеала гуманисты (особенно более ранние) искали в различных памятниках античной культуры, противопоставлявшейся многими из них аскетическим идеалам культуры средневековой. Но сама внутренняя логика гуманистической философии приводила ее носителей к углублению интереса к природе, к мечтам о ее покорении. Такого рода мечтания, опиравшиеся на все более крепнувшее естествознание, особенно усилились в эпоху позднего Возрождения. В этом контексте весьма показателен тот факт, что первая академия, возникшая в эпоху Возрождения под названием «платоновская» академия, учрежденная во Флоренции в 1459 г., была чисто гуманитарной организацией. Однако в дальнейшем в Италии возникают кружки и общества, члены и приверженцы которых занимались прежде всего экспериментальными исследованиями природы и математическим осмыслением многих из этих экспериментов. В Англии крупнейшим пропагандистом экспериментального исследования природы стал Фрэнсис Бэкон, соединивший философскую мысль позднего Возрождения с философскими стремлениями XVII в., все более настойчиво ориентированными на естественные науки. Именно Бэкону, можно считать, принадлежит популярный лозунг «Знание – сила», который он конкретизировал в своем «Новом Органоне», где и была сформулирована разработанная им методология опытно-индуктивного исследования природы. При этом автор четко проводил концепцию «двух истин», заострив ее против какого бы то ни было посягательства религиозной догматики на «естественную философию». К. Маркс и Ф. Энгельс называли Гоббса «систематиком бэконовского материализма» [2]. Эта характеристика неоднозначна. Свою литературную деятельность Гоббс начал в сущности как гуманист последних десятилетий позднего Возрождения. Неприязнь к схоластике обратила его к произведениям античных авторов, в частности и в особенности к Фукидиду. И дальнейшем, в контактах с Бэконом и тем более с континентальными философами и учеными антисхоластицизм Гоббса получил глубокую мотодологическую основу. Сейчас лишь отметим, что бэконовский девиз «Знание – сила», который в полной мере разделяли Декарт и другие передовые философы той эпохи, был присущ и Гоббсу, написавшему, например, в начале сочинения «О теле» (составившего первую часть его «Основ философии»), что «своими величайшими успехами человеческий род обязан технике» [3], которая была бы невозможна без открытий физики и геометрии. Технические успехи человечества, свидетельствующие о подчинении природы и о расширении сферы культуры, полагал Гоббс вслед за Бэконом,- важнейший фактор предотвращения бедствий революции, разрушительных для культуры. Другая сторона отличия философских систем Гоббса и Бэкона проявляется в их отношении к теологии. Хотя последний достаточно решительно отстранял какие бы то ни было посягательства религии на методологию «естественной философии», но вместе с тем в своем истолковании бытия (роль которого в системе воззрений Бэкона не столь значительна, как его методологии) он оставлял определенное место «естественной теологии» (theologia naturalis). Впервые она была разработана в западноевропейской схоластической традиции Фомой Аквинским (во второй половине XIII в.) в контексте его концепции подчинения положений аристотелевской метафизики христианско-католическому вероучению, теологии христианства. Гоббс более последовательно провел различение философии и теологии. В публикуемых произведениях (в частности, в 4-м пар. XVIII гл. «О гражданине» в данном томе) читатель встретится с анализом понятия вера. Вера – внутреннее согласие, обозначающее доверие к чужому знанию. Автор делает различие между убеждением, опирающимся на собственный разум, и верой, безоговорочно принимающей чужое суждение, мудрость которого не вызывает сомнения. Вера становится абсолютной, когда ее предмет – положения Священного писания. Эта религиозная вора выше человеческого восприятия и никакому логическому анализу не поддается. Поэтому Гоббс сравнивает процесс постижения тайн веры с приемом целительных пилюль, которые не следует разжевывать, ибо в противном случае они но окажут своего действия. Гоббс рассматривал религию как важное средство сохранения целостности государственной организации, которая в его глазах составляла основу основ человеческой культуры. Поэтому для философа понятие бога – основа важнейших понятий догматической теологии. Однако он не признавал возможности познания бога, на чем и основывалась «естественная теология». Итак, догматическая теология в понимании Гоббса (и множества других философов и теологов) – это так называемая богооткровенная теология (theologia inspirata), зафиксированная в Писании и основывающаяся на авторитете церкви. Такая позиция английского философа закономерно приводит его к резкому противопоставлению философии и теологии, что выражено им неоднократно, но особенно недвусмысленно в первой главе сочинения «О теле» [4]. На страницах и этого, и других произведений Гоббса читатель встретится с его резкими выпадами против схоластиков (начиная даже с древних «отцов церкви») за то, что они преимущественно образные материалы Священного писания в контексте своих многочисленных экзегетических упражнений, как правило, искусственно сочетали с аристотелевскими, платоновскими и другими идеями античной философии. В обращении «К читателю» в произведении «О теле» автор подчеркнул, что, начиная с первого раздела этого произведения, озаглавленного «Логика», «я зажигаю светоч разума» [5]. Понимание философии здесь совершенно рационалистическое, явно картезианское (без единой ссылки на Декарта и даже упоминания его имени), поскольку философия есть скорее «естественный человеческий разум» (ratio naturalis), познание посредством «правильного рассуждения» (per rectam ratiocinationem), объясняющего действия из познанных нами причин или «производящих оснований» и, наоборот, выясняющее причины или «производящие основания» (generalionibeus) из известных нам действий [6]. Как уже отмечалось, говоря о философии, Гоббс стремится избегать термина «метафизика», широко употреблявшегося схоластиками и теологами. Он считает этот термин случайным, появившимся как название книг, переписанных после физики (традиционное мнение). В четырех разделах сочинения «О теле» обозначены основные сферы философских интересов Гоббса. Первый отведен логике (именуемой также исчислением, о чем будет сказано в дальнейшем), которая, таким образом, как и у Аристотеля, предшествует всем другим отраслям философского знания, являясь как бы введением в них. Второй раздел, в котором рассмотрены основные определения и категории бытия, назван совсем по-аристотелевски – «первая философия» (еще раз, таким образом, принципиально устраняя термин «метафизика», с которым в схоластической традиции были укоренены представления о бестелесности, сверхчувственности ее объектов (о сверхъестественности философии)). В третьем разделе рассмотрены законы движения, неотделимые от проблемы величин, а в четвертом – более конкретные явления природы, составившие физику. В двух последних разделах сочинения «О теле» Гоббс выступает как последовательный сторонник механицизма. Однако в этом отношении он не оригинален по сравнению с Галилеем, которого он весьма почитал, и в особенности с Декартом, под влиянием которого он находился в этой области своих интересов, хотя ни разу в этом не признался. (Поскольку материалы этих двух последних разделов сочинения «О теле» давно устарели и носят частный характер, в данном издании мы опускаем большую часть их содержания, повсюду сохраняя не только названия глав, но и всех параграфов внутри их.) Следует подчеркнуть фундаментальность понятия тело в философском мировоззрении Гоббса, как, с другой стороны, и его ограниченность. Понятие тело объединяет прежде всего физические, природные, естественные тела. Но важнейшее из них – человеческое тело, человек как физическое существо. К нему прикован особо пристальный философский взгляд Гоббса. Науку о человеческом теле он считает «наиболее полезной частью физики». Вторая часть «Основ философии» – «О человеке» (но тем же основаниям) трактует человека главным образом как природное, естественное тело. Но все же это своеобразное тело – самодвижущееся, со сложной психологической жизнью и познавательной деятельностью, наиболее очевидно представляемой его речью, без которой не было бы возможно человеческое общение. И в этом – решающее обстоятельство, делающее возможным – через человека – переходить к сфере «искусственных тел», куда Гоббс фактически включает всю культуру, содеянную человеком,- не только ее зримо-телесные проявления, обычно именуемые нами материальной культурой, но и многообразные институты человеческого общежития, самым важным и всеобъемлющим из коих является государство. Будучи главным продуктом человеческой деятельности и культуры, оно одновременно и совершенно необходимое условие ее. Здесь начинается уже вторая часть философии Гоббса – философия государства, социальная философия Гоббса (называемая им также моральной, или гражданской, философией – philosophia moralis, civilis). Этим разделом своей философской системы Гоббс особенно гордился. Говоря о заслугах Галилея, Кеплера, Гассенди, Гарвея и других естествоиспытателей (и по-прежнему замалчивая Декарта) в создании науки о физической природе и о человеке как части ее, он подчеркивал, что именно он продвинул по сравнению с древними философами (Аристотелем и другими) науку об обществе и государстве, считая, что это было сделано им уже в сочинении «О гражданине» (и некоторые видные философы того времени были согласны с Гоббсом). В данном издании сочинения «О гражданине» (как и более ранняя «Человеческая природа») и «Левиафан» публикуются полностью, без всяких сокращений.МЕТОДОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ ГОББСА
Передовая философия XVI-XVII вв., отражая становление социально-экономической и культурно-исторической буржуазной формации, вырабатывала новые методы познания действительности. Многовековое господство схоластики, как особенно красноречиво подчеркнул Бэкон, не привело к открытию новых, эффективных истин, способных увеличить могущество человека, его власть над природой. Наиболее характерная черта схоластической философии – ее умозрительность. Даже то начало эмпиризма, которое в теолого-философской системе Аквината было почерпнуто у Аристотеля, становилось в этой системе чисто умозрительным эмпиризмом, не имевшим никакого практического значения. Развитие производства, экономики, искусства, науки и других сфер в эпоху Возрождения и тем более в XVII в. делало необходимым осмысление многообразного жизненного опыта. Отсюда развитие эмпиристических и сенсуалистических тенденций и положений у ряда философов-гуманистов, наиболее ярко у Телезио (1509 – 1588) и Кампанеллы (1568 – 1639). Еще более последовательным и весьма красноречивым эмпиристом стал Фрэнсис Бэкон. В «Новом Органоне» он не просто провозгласил опыт главным двигателем человеческих знаний. Основным руслом приобретения новых знаний, открытия эффективных истин, согласно Бэкону, должен стать не опыт как пассивное наблюдение и созерцание мира, природы и человека (в основном таковым он и был в аристотелизме, затем и в средневековой схоластике), а опыт как эксперимент, посредством которого исследователь «вопрошал» природу и получал конкретные ответы (наиболее показателен здесь не столько сам Бэкон, далекий от экспериментального естествознания, а Галилей). Экспериментальное же естествознание для формулировки действительно эффективных истин нуждалось в математическом осмыслении. Именно в эту эпоху древнегреческая математика не только была возобновлена, но и получила развитие, совершенно не известное античности (алгебра, аналитическая геометрия, математика переменных величин). Успехи математического естествознания (хотя и не только они) преломились в философии в господство рационалистической методологии. Суть ее состояла в том, что, не отказываясь от опытно-экспериментального исследования природы, ее приверженцы считали более важным и даже решающим в научном познании действия самого человеческого ума по осмыслению результатов познания, причем основу такого осмысления составляли правила и приемы математики. Бэкон обычно рассматривается как основоположник эмпиристической методологии в философии Нового времени. Разумеется, и она не могла обойтись без определенной рациональной обработки результатов опытно-индуктивного исследования природы, но такая обработка не заключала в себе математического осмысления. Автору «Нового Органона» был совершенно чужд так называемый гипотетико-дедуктивный метод, завоевывавший все больший авторитет по мере успехов математики и математического естествознания. Однако данный метод занимал большое место в рационалистической методологии Декарта, великого философа, математика и естествоиспытателя. Гоббс в принципе склонялся к эмпиристическому направлению философской методологии, ибо традиция эмпиризма укоренилась в английской философии с конца средневековья (в особенности со времени деятельности виднейшего схоластика-номиналиста первой половины XIV в. Уильяма Оккама). Читатель не раз встретится в произведениях Гоббса с принципиальным выражением его сенсуалистической позиции (обычно связанной с номинализмом), предельно четко зафиксированной в начале первой главы «Левиафана»: «...нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально, целиком или частично, в органах ощущения...» [7] В сущности с него и начинается человеческое познание (как и само сознание), ибо без ощущений, подчеркнуто здесь же, нет ни представлений, ни памяти, ни понимания (присущего не только человеку, но и животному). Следовательно, можно считать, что ощущение неотделимо от человеческой жизни (как наяву, так и во сне), ибо оно доставляет знание фактов (cognitio), без чего невозможна никакая обыденная, повседневная жизнь. Но образов ощущения, фиксирующих факты, совершенно недостаточно для объяснения феномена науки (scientia). Понятие ее навеяно прежде всего математикой, которой Гоббс в отличие от Бэкона весьма интересовался. Конечно, он не был гением математики, каким был Декарт. Гоббс знал только элементарную математику Евклидовых «Начал». Но и на их основе он проникся духом математического естествознания своего времени. Например, в 6-м параграфе VI главы сочинения «О теле» автор, считавший геометрию и арифметику чистой математикой, физику трактует как прикладную математику, подчеркнув, что «бесполезно изучать философию природы, не начав с изучения геометрии...» [8]. О высокой оценке математики Гоббсом свидетельствует и то обстоятельство, что первый раздел данного произведения он назвал «Исчисление, или Логика». Из него же (см. в особенности IV гл. «О силлогизме») ясно, что автор хорошо был знаком с традиционной аристотелевско-схоластической логикой (усвоенной им в университете). Но подобно Бэкону, Галилею, Декарту и некоторым другим видимм философам-методологам той эпохи, Гоббс, весьма низко оценивал эвристическую роль фигур и модусов силлогизма. Как и названные ученые и философы (впрочем, за исключением Бэкона), автор «Основ философии» видел большую образовательную пользу в изучении математики, чем такой логики. В конце 13-го параграфа IV главы сочинения «О теле» автор подчеркнул, что для построения правильных умозаключений «нужны не столько правила, сколько практика», прежде всего практика математических доказательств. Он проводит здесь аналогию с тем, как малые дети учатся ходить: не зная никаких правил, они овладевают ходьбой благодаря множеству попыток [9]. Следует здесь отметить, что Гоббс, как и наиболее проницательные философы века, не усматривая эвристической ценности традиционной логики, как бы прозревал необходимость логики математической. На путь ее создания встал младший современник Гоббса, великий философ-рационалист и математик Г. В. Лейбниц (1646-1716). Отличие научного знания от простого знания фактов заключается в его достоверности, но не единичного постижения, констатации (в этом отношении знание факта предельно достоверно), а во всеобщности, необходимости утверждаемого содержания, что невозможно извлечь ни из какого опыта. Уже в первом своем философском произведении «Человеческая природа» автор подчеркнул, что, сколько бы раз опыт ни подтверждал то или иное предположение, из этого мы «вообще не можем получить никакого положения, имеющего характер всеобщности» [10]. Таким образом, философ пришел на первый взгляд к антисенсуалистическому выводу, требующему углубления его эмпиристической и сенсуалистической позиции. В новаторской – по сравнению со схоластикой – философии XVII в. оформились две противоположные, можно сказать, позиции в объяснении достоверного знания математического типа, отличающегося всеобщностью и необходимостью утверждаемого в нем содержания. Одна из этих позиций защищалась континентальным рационализмом (в более узком, собственно гносеологическом содержании этого важнейшего философского термина) и в годы литературной деятельности Гоббса была представлена Декартом. Знание математического типа, знание дедуктивное, выводимое из немногих положений, французский философ объяснял в духе платонизирующей традиции. Безошибочность дедукции математического типа Декарт связывал с наличием в человеческом уме так называемых врожденных идей, отождествляемых с интеллектуальными интуициями; ясность, отчетливость и очевидность этих интуиции-идей делает их абсолютно надежными исходными основаниями выводимых из них более частных истин (проверяемых и конкретизируемых опытно-экспериментальным путем). Как представитель эмпиристической и сенсуалистической позиции в объяснении генезиса знания Гоббс увязывал истины математического типа, врожденность которых он категорически отрицал, только с опытом, но не с непосредственным чувственным опытом, ибо последний бессилен обосновать всеобщность и необходимость такого рода истин. Поэтому Гоббс трактовал как другую, более высокую и сложную разновидность опыта человеческую речь, выраженную в конкретных словах языка. Как уже упоминалось, Гоббс продолжал номиналистическую линию истолкования общих понятий, которая сложилась в Англии уже в XIV в. В противоположность схоластическому реализму, наделявшему понятия наиболее существенными характеристиками бытия, по отношению к которым конкретные единичные вещи трактовались как нечто весьма неустойчивое и производное, номинализм приписывал подлинное существование самим вещам. Понятийное же мышление номиналисты связывали с деятельностью человеческого ума, которая приобретала конкретную осязаемость в речи, в языке. Гоббс развил эту позицию в новых условиях становления знания. В рационалистической традиции, заложенной Декартом, мышление, трактовавшееся главным образом как логико-философское, составляло самосущую сферу, противопоставленную телесно-материальному миру. Заостряя эмпирико-сенсуалистическую традицию, Гоббс фактически сводил мышление к языку. Если ощущения образуют непосредственный опыт человека (в принципе он присущ и животному), то речевая деятельность людей формирует более высокий уровень мыслительного опыта (до которого животный мир уже не поднимается). Большая заслуга Гоббса в этом контексте состояла в том, что он развил знаковую концепцию языка. Сам речевой опыт как бы распадается у Гоббса на два уровня. Первый из них в сущности психологический. Бесчисленное множество образов-мыслей, возникающих у каждого человека как прямое следствие воздействия на него внешних факторов, бесследно исчезло бы из его сознания, если бы не было закреплено в самых различных словах, которые как бы переводят внутреннюю речь в речь внешнюю. И уже здесь слова становятся знаками для различных вещей. В принципе знаком можно считать любое предшествовавшее ему или последовавшее за ним событие, если события представляются мыслящему субъекту так или иначе связанными. Например, туча может служить знаком предстоящего дождя, как и сам дождь – знаком, возможно, не видимой нами тучи. Слова же в качестве знаков вещей первоначально наполнены индивидуально-психологическим содержанием, и на этом уровне они весьма субъективны. Такого рода слова-знаки Гоббс обычно называет метками (nota) разнообразных вещей. Но слова не могут застыть на этом уровне, поскольку изолированная индивидуальная жизнь какое-то продолжительное время в принципе невозможна. Человеческое же общение наполняет слова-метки более глубоким, логическим содержанием. Поэтому они и становятся знаками в собственном смысле слова (signum). Конечно, и на этом уровне они полностью не утрачивают своей произвольности и условности, но таковая значительно ограничивается, сужается. Концепция языка как знаковой системы, развившаяся в последние десятилетия, признает языки естественные, которыми люди владеют как бы от природы, и языки искусственные, символические, создаваемые ими для определенных целей и употребляемые в различных науках. Номиналистическая позиция Гоббса отрицает наличие естественных языков, ибо все они возникают в результате многообразных соглашений между людьми. Непрерывное образование новых слов и различие языков у племен и народов и свидетельствуют, по убеждению английского философа, об искусственности языков. Более или менее значительная произвольность слов, характерная для номиналистической традиции, выражается у Гоббса и в частом обозначении слов именами (nomina – откуда произошел сам термин номинализм), которые всегда условны по отношению к вещам. Слова, становящиеся знаками в силу взаимного соглашения, стимулируют обмен мыслями и делают более интенсивным общение людей между собой. Теория имен, в которую входит построение предложений (суждений), умозаключений, является предпосылкой понятия науки. Это понятие в эмпирикосенсуалистической методологии Гоббса отличается от аналогичного понятия рационалистической методологии Декарта. Именно элемент конвенционализма характеризует понятие науки у Гоббса, что является следствием его концепции языка. Номиналистическая концепция языка заключала в себе антисхоластический момент, так как содержала критику концепции реализма понятий, которая трактует понятия как извечные сущности. Схоластики связывали представления обыденного мышления с различными понятиями традиционной философии (особенно аристотелевской). Поэтому схоластический реализм, особенно в эпоху Возрождения, сплошь и рядом выступал как вербализм, подменявший предметное знание словесной игрой. Онтологизируя слова-понятия, схоластики-реалисты не видели их многозначности, игнорировали ее. Догматизм схоластического вербализма нередко сочетался с верой в магическую силу слов. Фрэнсис Бэкон, ставший на путь совершенствования научно-философского языка, подверг критике так называемые идолы «рыночной площади», возникающие в результате некритического отношения к словам, характерного не только для подавляющего большинства людей в их обыденных взаимоотношениях, но и для философов-схоластиков, черпающих слова из того же запаса и слепо следующих за различными священными или освященными временем авторитетами. Гоббс весьма иронически относился к такого рода словесному догматизму, четко сформулировав свою позицию по этому вопросу в IV главе «Левиафана» («О речи»): «...для мудрых людей слова суть лишь марки, которыми они пользуются для счета, для глупцов же они полноценные монеты, освященные авторитетом какого-нибудь Аристотеля, или Цицерона, или Фомы, или какого-либо другого ученого мужа»[11]. Совершенствование познания невозможно без стремления к выработке все более точного и гибкого научного и философского языка. И это очень не простая задача, подчеркнул наш философ в 8-м параграфе III главы сочинения «О теле»: «...язык, что паутина: слабые... умы цепляются за слова и запутываются в них, а сильные легко сквозь них прорываются» [12]. Слабость ума и состоит в том, что он не понимает многозначности слов, почему и запутывается в них, «как птица в силке,- говорится в указанном выше месте «Левиафана»,- и, чем больше усилий употребит, чтобы вырваться, тем больше увязнет» [13]. Осознание неоднозначности слон и выявление их многозначности имеет у Гоббса прямое отношение к объяснению достоверности научного знания математического тина. Здесь снова проявилось различие между рационалистической методологией Декарта и сенсуалистической методологией Гоббса. Для первого из них, как уже отмечалось, исходные основания знания – интеллектуальные интуиции, предельные, абсолютные истины, непосредственные усмотрения понятийно мыслящего ума – главные проявления присущего ему «естественного света». Сенсуалистическая позиция Гоббса исключает такие внеопытпые понятия. Английский философ не признает интуиции и противопоставляет им дефиниции – по возможности точные определения слов, фиксирующие то их содержание, которого требует научный контекст. «Свет человеческого ума,- подчеркнуто в V главе «Левиафана» («О рассуждении и научном знании»),- это вразумительные слова, однако предварительно очищенные от веяной двусмысленности точными дефинициями» [14]. Следовательно, составление точных определений, снимая проблему интеллектуальных интуиции, играет первостепенную роль в сенсуалистическо-номиналистической методологии Гоббса. Значение таких определений и в том, что они проясняют темноту схоластических универсалий. С помощью строгих определений Гоббс стремился к уточнению, максимальному ограничению понятий аристотелевской «первой философии», от которых зависело множество более частных понятий других наук. Различие в научно-философской методологии Гоббса и Декарта отнюдь не исчерпывалось только противопоставлением дефиниций интуициям. За таким противопоставлением скрывалась и более глубокая противоположность номиналиста и сенсуалиста, склонявшегося в своем учении о бытии к материализму, и рационалиста, который в своем убеждении в самодостаточности мышления (и даже человеческого духа вообще) раскалывал бытие на телесное и духовное, чтобы в конечном итоге утвердиться на позициях идеализма. Высказанные принципиальные расхождения Гоббса и Декарта наиболее выразительно и концентрированно проявились в «Возражениях», которые Гоббс сделал на декартовские «Размышления о первой философии» (во французском переводе «Метафизические размышления»), и в «Ответах» Декарта на эти (как и на все другие) «Возражения» [15]. В качестве последовательного номиналиста Гоббс признавал реальность, объективность существования только единичных вещей. Все сущее единично, конкретно. Знание его ощущение, сохраняющееся в памяти,- философ трактует как абсолютное знание (см. вособенности начало IX гл. «Левиафана»). Таковым он отнюдь не признает общие понятия, которые даны только нашему уму. Поскольку, следовательно, по убеждению автора «Левиафана» (гл. IV), «в мире нет ничего более общего, кроме имен» [16], последние суть знаки не вещей самих по себе, а только наших мыслей о них. Соответственно утверждается, что истина есть свойство не вещей, а суждений о них, и поэтому понятно, что между именами и вещами нет никакого сходства и невозможно никакое сравнение [17]. Здесь уже выявляются слабости последовательного номинализма Гоббса, проявившиеся в отрыве слова от понятия и даже в противопоставлении их. С позиций такого номинализма наиболее общие понятия – самые отвлеченные имена, имена имен. Именно с такой трактовкой и связано углубление конвенционализма Гоббса по отношению к науке. Произвольны не только знаковое содержание языка, но и положения наук, основывающихся на нем. Если восприятие фактов и их наличие в памяти, согласно Гоббсу,- абсолютное знание, то их связь, устанавливаемая в науке,- знание только относительное. Онтологическое содержание истинности английский философ полностью отрицает – «истина и ложь суть атрибуты речи, а не вещей» [18]. Позиция Гоббса тем самым прямо противоположна позиции Декарта, в силу которой достоверность научно-математического знания, основывающаяся на интеллектуальных интуициях, совпадающих с сущностями вещей, абсолютна, а все чувственные их иллюстрации всегда относительны. В свете охарактеризованной позиции Гоббса закономерно его утверждение (опять в противоположность Декарту), что условны даже математические аксиомы. Вместе с тем Гоббсова трактовка идей, которые определяют содержание человеческого сознания, по сравнению с трактовкой Декарта отличалась достаточно четким материализмом исходной сенсуалистической установки. Для Декарта идея – все то, что непосредственно воспринимается человеческим умом, существует в сознании, по отношению к которому предметы – уже нечто вторичное. Для Гоббса же не было никакого сомнения в первичности предметов, своими воздействиями порождающих в сознании многообразные идеи ощущения. Знаменитое рассуждение Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую», в силу которого мышление обладает безусловным приоритетом в существовании перед бытием, решительно отвергалось Гоббсом (как и Гассенди, возражавшим Декарту со сходных сенсуалистических позиций) . Английский номиналист считал этот вывод французского рационалиста произвольным, равносильным выводу «Я прогуливаюсь, следовательно, я прогулка». Основоположение Декарта о мышлении как определяющем свойство человека Гоббс расценивает как своего рода пережиток схоластического реализма, поскольку именно схоластики рассуждают но принципу «Разум познает, зрение видит, а воля хочет». Сенсуалистическо-материалистическая позиция Гоббса, отвергнув врожденность идей, бесспорную для Декарта, тем самым отвергла и врожденность главной из них – идеи бога. Утверждая такую врожденность, Декарт исходил из так называемого онтологического доказательства существования бога как актуально бесконечного существа, идея которого всегда налична в сознании. Поэтому данная идея, по Декарту, самая ясная из всех наших идей. Для Гоббса же она самая темная универсалия, которая образуется в результате нашей неспособности сосчитать бесконечное или положить предел увеличению или уменьшению чего-либо. Английский номиналист убежден, что воспринять мы можем только конечное, бесконечность же существует для него лишь как потенциальная, а не актуальная. Гоббс в сущности признает лишь беспредельность, а не бесконечность, которая обладает только отрицательным значением и не пригодна ни для какого положительного утверждения. Мы установили ряд существенных различий между методологией и гносеологией Гоббса и Декарта. Но их методологии объединяют и существенные черты сходства, которые следует именовать общерационалистическими чертами, закономерно возникающими в результате связи философского мышления с научным исследованием. Каждое из этих исследований аналитично, поскольку оно стремится выявить те максимально простые элементы, из которых складываются все более и более сложные объекты (в том числе и тот, который интересует исследователя). Сам по себе метод анализа был уже в античности (в эпоху Платона и Аристотеля и в «Началах» Евклида). Однако особенно большую интенсивность он начал приобретать в научно-философской мысли Нового времени, когда выявилась несостоятельность расплывчатых и темных схоластических универсалий, невозможность обрести на их основе подлинно эффективные и продуктивные знания. В этой ситуации великий естествоиспытатель Галилей, уделявший большое внимание методологии научного знания, поставил проблему аналитического и синтетического методов (он называл их резолютивным и композитивным), вне и без которых невозможны как научное исследование, так и философское обобщение. Гоббс, неоднократно подчеркивавший свой пиетет по отношению к науке Галилея, прочно усвоил необходимость аналитического, или разъединительного, метода в научно-философском мышлении, ибо только он дает возможность правильно разлагать чувственные восприятия и получать в результате такого разложения наиболее убедительные принципы как последние элементы природы, позволяющие объяснять максимальное количество ее явлений. В сочинении «О теле» автор подчеркнул ( в 4-м пар. гл. VI «О методе»), что для научного познания природы (и тем более человека) необходимо использовать аналитический метод, при помощи которого только и можно выявить понятия, обладающие подлинной общностью [19]. Аналитический метод составляет первую половину исследования, ибо он дополняется синтетическим, или объединительным, методом. От выявленных посредством анализа принципов и элементов мира этот метод восхождения ведет к постижению всей сложности вещей и даже мира в целом. Однако соотнесенность аналитического и синтетического методов Гоббсу последовательно провести не удалось (впрочем, не только ему). Как не раз подчеркивал Ф. Энгельс, методология механистического материализма XVII-XVIII вв. оставалась метафизической, антидиалектической. У Гоббса (как до него у Ф. Бэкона, а после него у Дж. Локка) метафизичность, всегда связанная с той или иной абсолютизацией, проявилась в преобладании установки на максимальную аналитичность. Согласно автору сочинения «О теле», доскональное выявление частей означает полное постижение целого, ибо «целое и совокупность всех его частей идентичны» [20]. Синтетический метод тем самым не выявляет нечто качественно совершенно новое, а выступает в сущности лишь как некое интегративное действие, определяемое анализом. Вместе с тем раскрыть более глубокое единство в применении аналитического и синтетического методов Гоббсу не удалось и потому, что он был но в состоянии – в силу отсутствия диалектико-исторического подхода к научному мышлению в его эпоху – дать убедительное объяснение достоверного знания математического типа. У родоначальника эмпиристической методологии Нового времени Бэкона разработанный им опытно-индуктивный метод, выявляющий «формы» как некие неизменные элементы природы, фактически тоже был методом аналитическим. Синтетический же метод, который в ту эпоху выступал и как метод гипотетико-дедуктивный, у Бэкона фактически отсутствовал. У Декарта опытно-экспериментальное исследование природы выступало как необходимое подкрепление, иллюстрация истин, открытых именно гипотетико-дедуктивным путем, у Гоббса же можно констатировать методологический дуализм, поскольку опытно-индуктивный метод, с одной стороны, и гипотетико-дедуктивный – с другой, фактически равноправны. При этом каждый из них применяется в различных областях научного исследования. Область применения первого, опытно-индуктивного, преимущественно аналитического метода – прежде всего физика. Сфера же применения дедуктивно-синтетического метода, конечно, математика, но наряду с ней – этика и политика. Они, по убеждению Гоббса, чисто дедуктивно строят свои выводы, исходя из принципов человеческой природы, которые нам предстоит рассмотреть. Человек обладает двуединой природой. С одной стороны, он – тело в бесчисленном ряду других природных тел. С другой же стороны, он – носитель умственно-психических свойств, позволяющих ему создавать искусственные «тела» мира культуры. И здесь для осмысления его природы требуется уже дедуктивно-синтетическая методология. Ее дуга-мистичность сам автор подчеркнул в посвящении к произведению «О человеке». «Получилось так,- читаем мы здесь,- что в данный раздел вошли две части, совсем не похожие друг на друга. Ибо одна из них очень трудна, а другая очень легка; одна опирается на дедуктивные выводы, а другая – на опыт; одну смогут понять лишь немногие, и другую – все. Следовательно, между этими мастями как бы простирается бездна. Но этого нельзя было избежать, ибо таково было требование метода, которому я следовал во всем моем труде» [21]. МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ И ФИЗИКА Номиналистические принципы методологии Гоббса в сочетании с сенсуализмом и эмпиризмом с необходимостью приводят к материалистическим положениям в учении о бытии. Философ не мыслит его иначе как телесное. Каждое проявление бытия единично, и любая единичность является телом. Его определение звучит материалистически: «Телом является все то, что не зависит от нашего мышления и совпадает с какой-нибудь частью пространства, т. е. имеет с ней равную протяженность» [22]. В различных местах публикуемых теперь произведений читатель встретится и с фундаментальным термином субстанция, широко употреблявшимся как в эпоху Гоббса, так и в течение ряда веков до него. Но этот термин философ использует как бы неохотно. Нужно иметь в виду, что понятие субстанции (а не сам этот латиноязычный термин, возникший в поздней античности) развивалось едва ли не одновременно с философией, выражая успехи анализирующего ума, который вопреки многообразию и изменению вещей усматривает некое внутреннее единство и в каждой из них, и в более широкой сфере – как материальной, так и духовной. Классическое учение о максимально общих и при этом прямо противоположных субстанциях – материальной и духовной – составляет суть метафизики Декарта. Выступая против нее с позиций сенсуализма и последовательного номинализма (при обсуждении картезианских «Метафизических размышлений»), Гоббс решительно отбросил понятие субстанции в ее универсальном смысле. Понятие же субстанции в ее индивидуальном, эмпирическом смысле Гоббс кое-где сохраняет. Но именно этот смысл сближает понятие субстанции с понятием тола, и последнее, можно сказать, поглощает первое. Итак, онтология, как затем и физика,- тоже весьма близкие у Гоббса области философского знания – сконцентрирована вокруг понятия тела. Математизированный механицизм онтологии Гоббса обобщенно выражен в его учении о теле и сопутствующих ему акциденциях, свойствах. Идея акцидентального как чего-то более или менее случайного, преходящего, противоположного субстанциональному, устойчивому, восходит к аристотелевским «Метафизике» и «Физике» и в эпоху средневековья довольно широко употреблялась в схоластической философии. Гоббс (как и Декарт) использовал эти термины, но переосмысливал их рационалистически и механистически (Гоббс к тому же, как отмечено выше, вместо слова субстанция охотное пользовался словом тело). Он различал при этом как бы три слоя акциденций с точки зрения присущности их толам. Протяженность и фигуру (в смысле внешней, геометрической формы) следует считать неотъемлемыми свойствами любого тела. От них отличаются такие акциденции, как движение и покой, которые свойственны хотя и многим, но отнюдь не всем телам, ибо одни из них движутся, а другие покоятся (таково общее положение доньютоновской механики). Еще более неустойчивы и менее связаны с телами все те акциденции, которые им приписываются в результате чувственного восприятия их человеком. Таковы все осязательные, цветовые, слуховые, обонятельные и другие свойства, зависящие но только и не столько от тела, сколько от воспринимающего его субъекта, человека. Здесь Гоббс по-своему решает фундаментальную проблему взаимодействия субъекта и объекта, которая в античности была впервые поставлена Демокритом, в Новое время возобновлена Галилеем (1623) и стала одной из важнейших проблем механистической и рационалистическо-сенсуалистической гносеологии философов-новаторов XVII в. Онтология Гоббса трактует проблемы материи, пространства и времени. Выше мы констатировали, что Гоббс исключает понятие абстрактной, универсальной субстанции и неохотно пользуется понятием субстанции применительно к единичным вещам. С этих позиций великий сенсуалист-номиналист не только отрицает реальность материальной (как и духовной) субстанции Декарта, но и считает необоснованной категорию аристотелевско-схоластической нечувственной, а только умопостигаемой первоматерии (materia prima) как субстрата телесного универсума. Для Гоббса эта фундаментальная аристотелевско-схоластическая категория полностью лишена онтологического содержания. По убеждению номиналиста, она только универсальное имя, выражающее нашу способность мыслить любое тело независимо от всех его акциденций, за исключением количества. Такое перечеркивание какого бы то ни было онтологического содержания всеобщего при всей его направленности против схоластического понятийного реализма подрывает устои материализма Гоббса. Эта линия его философской мысли подкрепляется и конкретизируется номиналистической трактовкой пространства и времени. В истолковании пространства Гоббс, с одной стороны, разделял континуалистскую идею Декарта, согласно которой невозможна абсолютная пустот», полнейшая незаполненность пространства. Эта идея открывала перед английским материалистом возможность четкой формулировки понятия тела, протяженность которого составляет его совершенно неотъемлемую акциденцию. Но с другой стороны, Гоббс не принимает глобальной идеи Декарта, объявившего протяженность универсальной мировой субстанцией, отождествлявшейся с материальностью. Пространство для английского философа только способность тела иметь длину, ширину и глубину, оно всегда конкретная протяженность конечного тела. Нельзя поэтому, с его точки зрения, говорить о пространстве как о некой безграничном вместилище тел. Понимание пространства, таким образом, лишь акциденция нашего сознания, порождаемая, однако, реальной величиной тела: «...пространство есть воображаемый образ (phantasma) существующей вне нас вещи, поскольку она просто существует, т. е. поскольку мы не имеем в виду никакой другой акциденции, кроме бытия вещи, вне представляющего сознания» [23]. С позиции номинализма трактует Гоббс и время. Реальное движение можно зафиксировать лишь как движение конкретных тел, и время только воображаемый образ этого движения, поскольку мы представляем в нем нечто совершающееся раньше и совершающееся позже. Бессмысленно говорить поэтому о времени самом по себе, о некой абсолютном времени. Если пространство – образ бытия вещи, то время – образ ее движения, существующий не в самих вещах, а в нашем мышлении о них. Если, говорится в сочинении «О теле» (VII 3), мы рассуждаем о временах наших предков, то тем самым мы вовсе не думаем, что они продолжают существовать и после их смерти, а только имеем в виду существование тех времен и памяти вспоминающих о своих предках. Если же принять но внимание зависимость нашего календаря от движения Солнца и Луны, то, безусловно, обоснован вывод, что «никакого времени вообще не существует, не существовало и не будет существовать» [24]. Концепцию пространства и времени Гоббса иногда называют реляционной, связывающей пространственные и временные характеристики о различными особенностями материальных объектов и их взаимоотношениями (в названном месте Гоббс считает эти свои воззрения согласующимися о позицией Аристотеля по данному вопросу). Понимание Гоббсом пространства и времени более созвучно их современной трактовке, чем так называемая субстанциональная концепция пространства и времени, утверждающая их полную объективность и независимость от реальных вещей и процессов (крупнейшим сторонником этой концепции был младший современник Гоббса И. Ньютон). Механицизм материализма автора «Основ философии» весьма последовательно и ярко выражен в концепции причинности. Этот механицизм сформировался под решающим влиянием физики Галилея, как затем и трактовки причинности, развитой Декартом. Отклонения Гоббса от физики последнего определялись его номинализмом. Необходимо также указать, что механицизм Декарта и Гоббса следует понимать как механицизм в широком доньютоновском смысле этого грекоязычного термина. Напомним, что лишь в «Математических началах натуральной философии» Ньютона (1687) были окончательно зафиксированы законы механики как точной науки о движении макротел. В трудах же Галилея, Декарта и Гоббса были сформулированы, так сказать, предварительные законы механики. Их философское значение для развития и углубления материалистического мировоззрения стало громадным, поскольку законы механики были провозглашены всеобщими объективными законами самой природы. Конечно, с позиций диалектического материализма законы эти упрощенны, а их универсализация совершенно несостоятельна. Однако при строго историческом к ним подходе очевиден огромный прогресс знания в самой универсализации этих законов, знаменовавшей целую эпоху в развитии философского мировоззрения. Чтобы это стало очевидным, нужно вспомнить представления о закономерности, уходящие своими корнями в до-философские тысячелетия. Они возникали тогда в результате примитивной аналогии между взаимодействующими мирами: антропосоциальным, собственно человеческим, и природным. Отсюда обычный простой перенос особенностей субъекта (прежде всего коллективного и лишь затем индивидуального) на объективный мир природы. Такой перенос означал социоантропоморфическое понимание объективных закономерностей у подавляющего большинства античных философов (с весьма глубокой при этом биоморфной основой). Однако прогресс аналитического мышления, определяемый взаимодействием философии с научным знанием, развивавшимся, конечно, и в древности, приводил некоторых античных философов к физическим представлениям о причинности, к таким представлениям, в которых сохранялось лишь сравнительно немного социоантропоморфических элементов. Здесь невозможно пройти мимо великого творца атомистического материализма Демокрита, сформулировавшего достаточно четкое детерминическое учение, наиболее чуждое мифологическим представлениям, которыми были пронизаны многие другие философские концепции. Детерминизм Демокрита, простейшей моделью которого служило движение атомов в бесконечной вселенской пустоте и их бесчисленные соударения и сцепления, нередко характеризуется как механистический. Если под механицизмом понимать радикальный редукционизм, сводящий все сложнейшие явления к максимально простым телесным элементам, перемещение которых в пространстве и образует эти явления, то можно говорить и о механицизме Демокрита, но в том широком (и даже в максимально широком) смысле, который был определен выше. Но детерминизм Демокрита в античности не имел сколько-нибудь значительных перспектив углубления вследствие весьма скромного запаса научных знаний (в особенности практически полное отсутствие эксперимента в тогдашней «физике», естествознании) и незначительной связи этих знаний с человеческой практикой. Сказанным во многом объясняется преобладание в античной философии антропосоциоморфических представлений об объективной закономерности (полностью не исчезнувшей даже из воззрений Демокрита). В платоновском круге идей, колоссальное влияние которых прошло через всю античность, а затем и средневековье, социоантропоморфические представления наиболее концентрированное свое выражение получили в телеологическом принципе объяснения всего сущего. Противоположность телеологии каузальному детерминизму – одно из главных проявлений противостояния «линий» Платона, с одной стороны, и Демокрита – с другой, о чем писал В. И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме». Телеологизм Аристотеля заключался в его учении о причинности (составившем в сущности основное содержание его метафизики), в признании, с одной стороны, материальных (отчасти и действующих) причин как главного выражения телесного начала бытия, а с другой – причин конечных (целевых) и формальных, выражающих активное начало бытия, подчиняющего себе и действующие причины, и тем более причины материальные. Допуская реальное объяснение изменении бытия, аристотелизм в конечном итоге подчинял его идеальному фактору цели и формы. Отсюда многовековое господство аристотелевского толеологизма, приспособленною схоластикой к теоцентрическому мировоззрению средневековья. Ренессансная натурфилософия XVI – начала XVII в. (например, учение Джордано Бруно) отвергла аристотелевско-схоластические представления, включая и понимание причинности. Но, не имея еще возможности аффективного взаимодействия с математическим и механистическим естествознанием, натурфилософы оставались на позициях социоантропоморфического, биоморфно-органистического мировоззрения. Поэтому у подавляющего их большинства сохранялся телеологический подход к миру и важнейшим процессам, совершающимся в нем. Философы-новаторы XVII в. свою решительную борьбу против схоластики видели в опровержении телеологии (в аристотелевско-схоластической традиции, обычно связанной с емкой и неоднозначной категорией формы). Первым среди них стал Ф. Бэкон, хотя его отвержение телеологического объяснения природы не было достаточно решительным, как у последующих новаторов. Целевые причины, согласно автору «Нового Органона», совершенно бесполезны в физике, но они неискоренимы в мировоззрении (о чем свидетельствуют так называемые призраки рода) и должны фигурировать в метафизике. Но ее главное содержание – осмысление форм, в котором Ф. Бэкон, используя эту традиционную категорию, оставался под известным влиянием ренессансной натурфилософии, признавая, например, биоморфный гилозоизм, универсальную оживотворенность природы. У великого английского эмпириста, таким образом, понятие формы и цели все же разъединялось. Более радикальный математический аналитизм, основанный Галилеем и философски углубленный Декартом, привел их к убеждению в том, что доскональное понимание природы возможно лишь на путях выявления ее простейших элементов математического порядка – линий, плоскостей, фигур и движений как перемещений в пространстве. Гоббс полностью разделял этот радикальный аналитизм в истолковании бытия. Читатель неоднократно встретится в произведениях Гоббса с отрицанием упрощенного и несостоятельного антропоморфизма применительно к истолкованию процессов природы (см., в частности, его рассуждения, которые даны в начале гл. II «Левиафана», а также опровержение гилозоистических воззрений, в особенности присущих ренессансным натурфилософам, в пар. 5 гл. XXV «О теле», публикуемом в данном томе). Для Гоббса (как и для Декарта) «причина движения какого-либо тела может заключаться только в соприкасающемся с ним и движущемся теле» [25]. Наиболее значимыми являлись два вида причинности – Как материальная, так и действующая. При этом действующей причиной объявлялось активное тело, а тело, испытывающее его непосредственное воздействие, оказывалось подлинной материальной причиной. Поскольку они в сущности всегда выступают сопряженно, автор сочинения «О теле» трактует их как ту полную причину [26], которой вполне достаточно для объяснения любого действия. В принципе он признает наличие как формальной (сущностной), так и тем более целевой причины, игнорирование которой сделало бы совершенно непонятной деятельность живых существ, в особенности человека, ибо такая деятельность невозможна без чувств и воли. Но обе эти разновидности причин – нечто вторичное, производное по отношению к материально-действующей причинности. Особенность в истолковании причинности, характерная для Р. Декарта, Т. Гоббса, Б. Спинозы и ряда других крупнейших философов не только XVII, но и следующего, XVIII в., заключается в том, что, упрощая реальность причинных связей, они вместе с тем описывали подлинные, хотя и простейшие, закономерности бытия. Упрощенная мировоззренческая картина в духе механистического редукционизма приводит английского материалиста и к отрицанию случайности, иллюзия которой возникает, по его мнению, лишь в результате нашего незнания подлинных причин происходящего. Гоббс рассматривает возможность (potentia) и действительность (actus) как моменты акта взаимодействия, описывая их тождество и различие. Философ соотносит категории причинности и времени: «Причина относится к прошедшему, возможность – к будущему» [27]. (Это соответствие предвосхищало идею создания модальной логики.)МЕХАНИСТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ГОББСА И ЕЕ ТРУДНОСТИ
Механистические принципы своей физики Гоббс распространял и на объяснение жизнедеятельности человека, рассматриваемого в аспекте его естественной телесности. Великий философ, физик, математик, физиолог Рене Декарт, опиравшийся, в частности, на открытие кровообращения английским врачом Уильямом Гарвеем (высоко ценимым и Гоббсом) и собственное открытие безусловно-рефлекторной, непроизвольной деятельности человека, сформулировал знаменитый тезис, согласно которому животное представляет собой лишь сложную машину. Этот тезис Декарт распространял и на человека – до границы его высшей мыслительной деятельности, определяемой наряду с материальной особой духовной субстанцией. Гоббс фактически не только усвоил тезис о деятельности организма в качестве механизма, но и более последовательно его проводил. Особенно четко он выразил эту идею во Введении к «Левиафану», где человеческий организм уподоблен машине, а его жизнь представлена как результат движения таких его членов, или частей, как сердце-пружина, нервы-нити, суставы-колеса, сообщающие движение всей человеческой машине. Такого рода механицизм Гоббс распространил и на психику. Начало психики образуют ощущения, которые возникают в результате взаимодействия внешнего движения, исходящего от тел, и внутреннего движения – встречного по отношению к внешнему. В XXV главе сочинения «О теле» и в некоторых главах сочинения «О человеке» достаточно подробно описаны психические явления (нередко в их связи с явлениями человеческой нравственности). Здесь, в частности, говорится, что «опыт есть запас образов, накопленный путем восприятия многих вещей» [28]. В названных произведениях (как и в первых главах «Левиафана») автор рисует довольно подробную картину того, как на основе ощущений возникают представления, воспоминания, сновидения, чувства и страсти, как они связаны с особенностями мозга. Центральное понятие психологии, как в сущности и гносеологии Гоббса,- это понятие образа (phantasma может быть передано и словом призрак). В соответствии со своим учением о теле и его акциденциях философ трактует образы величины, фигуры, движения и покоя как полностью соответствующие объектам восприятия. Все же остальные образы – цвета, звука, запаха и т. п. следует считать именно «призраками», возникающими в субъекте, но не отражающими подлинного объекта. Здесь Гоббс высказал идею, общую всем философам-новаторам того века,- идею так называемых первичных и вторичных качеств (как назовет их младший современник Гоббса Джон Локк уже после его смерти). Образы, трактуемые в качестве «призраков» (или «фантомов»), Гоббс еще в «Человеческой природе» назвал «великим обманом чувств», который, однако, ц исправляется самими же чувствами. Но механистическое решение психофизической проблемы не удовлетворяло философа, который, видя его уязвимость, упрощенность, не мог предложить взамен более убедительной концепции. В цитированной выше XXV главе «О теле» автор выразил неразрешимость того удивительного универсального явления, что «из тел, существующих в природе, некоторые обладают отображениями почти всех вещей, другие же не обладают никакими» [29]. Имеются и немалые трудности мри объяснении феномена отображения, психики, которой Гоббс в принципе наделяет и животных. Оперирование образами восприятия (XXV 8) позволяет и им иметь определенное «соображение» (discursus). Однако Гоббс не раз подчеркивает, что человек отличается от животного фактом речи, словесных знаков. ? только их наличие делает возможной науку, оперирующую истинами максимальной общности. Отвергая декартовскую духовную субстанцию и присущие ей врожденные идеи, Гоббс не может вместе с ними отбросить И понятие ума. Именно наличие его дало возможность создать первые простые истины, выраженные слонами. Обычно они приписываются Адаму. Он олицетворяет все человечество. За Адамом же стоит бог.ПОНЯТИЕ БОГА И ЕГО ПРОТИВОРЕЧИЯ
Понятие бога, несмотря на всю свою аморфность и неопределенность,- древнейшее из всех мировоззренческих понятий, уходящее в те времена, когда политеистические представления о богах, господствовавшие в дофилософской мифологии, сменились в древнеклассовый период человеческой истории представлениями монотеистическими. Понятие единого бога, отображая развитие человека и созданной им культуры, человеческой социальности в отношении к природе, преломляет различны» стороны этого развития, центральным субъектом которого оставался человек. Понятие единого бога монотеистических («мировых») религий, разработавших сложную догматику своих культов, было использовано многими философами при решении трудных мировоззренческих вопросов в различной оппозиции догматическим вероучениям. Такими противоречиями была наполнена античная духовная культура и античная история философии (достаточно вспомнить Ксенофана, а тысячелетие спустя конфликты неоплатоников со сформировавшимся уже христианским вер учением). Нередки были они и в эпоху средневековья, несмотря на подавляющее господство тогда религиозно-теологической идеологии. Но еще более обострились мировоззренческие проблемы, непосредственно связанные с понятием бога, в эпоху Возрождения и тем более в XVII в., когда в Европе возникли различные вероучения внутри христианства, а главное, появились глубокие и многосторонние философские системы, опиравшиеся на научное знание и развитие культуры. Та фундаментальная закономерность историко-философского процесса, которая в марксистско-ленинской методологии характеризуется как борьба материализма и идеализма, в XVII в. не может быть понята вне различных аспектов проблемы бога. И в произведениях Гоббса читатель встретится с множеством проявлений и отзвуков борьбы вокруг этой проблемы. Переходя к ней, укажем на ее глобальные аспекты. Один из них отражает вопросы единства мира и человека как его необходимого и даже завершающего звена. Философы-материалисты (например, Демокрит с его атомистической концепцией) подходили к идее материального единства мира, но эта идея не могла получить эффективного подкрепления и углубления вследствие неизбежной слабости ее обоснования возможностями тогдашней науки. К тому же из этого единства выпадал человек, феномен которого требовал (и требует всегда) еще более значительного научного анализа. Монотеистическое же «объяснение» единства мира и человека трактовало бога как сверхприродное существо, сверхъестественному творчеству которого и обязаны своим происхождением мир и человек. С этой онтологической функцией понятия единого бога тесно связана и гносеологическая. Развитие культуры сопровождается прогрессирующим усложнением познавательной проблематики. Решающая особенность религии как важнейшей формы общественного сознания состоит, как известно, в том, чтобы подчеркнуть скудость человеческих сил, и прежде всего его познавательных сил, перед неисповедимой силой сверхъестественной божественной личности. Отсюда – мистифицирующая функция или сторона понятия бога. Суть ее в том, чтобы зафиксировать, подчеркнуть, что сфера непознанного всегда превосходит сферу познанного, толкая человека в сторону агностицизма, недооценки и приуменьшения своих познавательных сил. Вместе с тем понятие бога имеет не только мистическую сторону. Обратная позиция изолировала бы религию от реально действующего на основе своих познавательных успехов человека, все время расширяющего пределы культуры и раскрывающего все новые и новые возможности своей познающей природы. Отсюда противоположная мистифицирующей интеллектуализирующая функция понятия бога. Издревле она выражалась в идее божественного всезнания, в абсолютизации истин, открытых человеком, но приписанных богу. Эта функция понятия бога скорее философская. Бог мыслится в таком контексте как абсолют, неразрывно объединяющий субъект и объект, и вместе с тем как актуальная бесконечность, объявляемая носителем познавательных свойств. В античности такое понятие бога как самосущего ума, пребывающего вне мира, не создавшего мир, но делающего его полностью познаваемым, развил Аристотель. Иной вариант божественного абсолюта в эпоху Гоббса был сформулирован Декартом. В своем так называемом онтологическом доказательстве существования божественного абсолюта он исходил из наличия в любом человеческом уме идеи актуальной, как бы завершенной бесконечности, которую французский рационалист признавал самой ясной из всех идей, от рождения присущих нашему уму. В силу этой идеи бог не может быть обманщиком и человек способен к безграничному познанию мира. Правда, позиция Декарта не тождественна позиции Аристотеля, поскольку первый из них воспринял христианско-монотеистическую идею творения мира сверхприродным богом. Но, говоря об этой стороне философского мировоззрения Декарта, как затем и Гоббса, необходимо указать, что большинство, если не подавляющее большинство, философов-новаторов того века (впрочем, и следующего XVIII) придерживалось деистических воззрений. Они зародились во второй половине предшествующего XVI в. как противопоставление «естественной религии», фактически отождествляемой с вполне светской (и элитарной тогда) моралью свободных от суеверий людей, морали подавляющего большинства, переполненной суевериями. Деизм имел и более широкий аспект, связанный с отношениями бога и мира. Суть этих отношений, в особенности у Декарта, состояла в минимизации роли бога в процессах мира (как и в жизни человека). Французский философ приписывал богу минимум сверхъестественных, не поддающихся пониманию креационистских действий, выразившихся в творении мировой материи и сообщении ей первичного двигательного импульса («первотолчка»), в результате которого первоначальный хаос материи совершенно закономерно (и уже независимо от бога) сложился в стройное мироздание. Деистических элементов немало и у Гоббса. Правда, его деизм существенно отличается от деизма Декарта, так как номиналист и сенсуалист не может принять онтологического обоснования божественного бытия (естественного для рационалиста и приверженца интеллектуальной интуиции). Будучи сенсуалистом и номиналистом, признающим постигаемость только конечного, Гоббс не принимает никакого абсолюта, делающего мир насквозь познаваемым для человеческого ума. Гоббс объявлял идею актуальной бесконечности – этого солнца интеллектуальной ясности для Декарта (как затем и для Спинозы) – самой темной из универсалий, наделенной только отрицательными признаками. Можно сказать, что Гоббс апеллирует скорее к мистифицирующей стороне понятия бога, подчеркивая в духе отрицательной (богооткровеннои) теологии, что можно и должно говорить о существовании бога, но невозможно ничего сказать о его атрибутах (см. в особенности «О гражданине» XV 14). Бог существующий, но непознаваемый даже усиливает в душах верующих преклонение перед ним. При этом бог находится за пределами мира, что в общем утверждают и другие деисты. Характерно, что с позиций деизма Гоббс выступал против пантеистических представлений, которые в ту эпоху были довольно широко распространены в радикальных кругах христианских сектантов (в частности, выступавших в период английской революции). Согласно же Гоббсу, пантеистические представления (хотя термин «пантеист» возник в самом начале XVIII в.), так или иначе отождествлявшие бога с природой (воззрения эти были затем всесторонне развиты Спинозой), отрицая обособленность бога от природы и не трактуя его как причину мира, фактически отрицают и существование бога (см. «О гражданине» XV 14; «Левиафан» XXXI «О царстве Бога при посредстве природы»). Мистифицирующая сторона понятия бога у Гоббса, значительно более интенсивная, чем у Декарта, этого радикального рационалиста, выразилась у первого из них в большей степени агностицизма по важнейшему мировоззренческому вопросу – о величине и происхождении мира (конечно, здесь не следует забывать и о том, что в отличие от Декарта Гоббс не был значительным физиком). Декарт, как известно, сформулировал космогоническую гипотезу, в которой стремился показать, каким образом наш солнечный мир, получив первичный двигательный импульс от бога, развился из первоначального хаотического состояния. При этом эволюционную идею, заключенную в этой гипотезе, Декарт в принципе распространял и на живой мир (который он, правда, подчинял законам механики). Гоббс был далек от подобных воззрений. Вопрос о величине и продолжительности мира, по его убеждению, совершенно неразрешим. Ответ на эти вопросы он предлагал даже искать у теологов. И тем более неразрешим вопрос о появлении человека, речь которого высоко поднимает его над животными (см. «О человеке» I 1, где противоположные мнения о происхождении человеческого рода, сообщаемые Диодором Сицилийским, представляются Гоббсу неубедительными). В решении этих проблем Гоббс обращается к Ветхому завету. Как механистический материалист, не усматривавший органической связи между материей и движением (до этой идеи поднялись только посленьютоновские материалисты следующего XVIII в.), Гоббс, подобно Декарту, обращается к помощи бога (см. «О гражданине» XIII 1; «Левиафан» XII и др.) как первоисточника движения. Но все последующие движения осуществляются «в порядке вторичных причин» без дальнейшего вмешательства бога. Гоббс склоняется к космологическому аргументу, восходившему к Аристотелю и сводившемуся к мысли, что мировая цепь причинности должна иметь последнюю первопричину (см. в особенности «Левиафан» XII, XXXI). Заголовок последней главы «О царстве Бога при посредстве природы» четко передает деистическое понимание закономерности, царящей в природе. Однако трактовки мира и бога у Гоббса и Аристотеля существенно различаются. И это различие – различие между органицистом и механицистом. Для Аристотеля бог – это перводвигатель, в силу того что, будучи бестелесным завершением бытия, первоумом, он представляет собой наивысшую, последнюю цель мироздания. Но сам по себе божественный перводвигатель неподвижен. Эта телеологическая позиция совершенно неприемлема для Гоббса не только в частностях (поскольку, как мы видели выше, он полностью устранял действие конечных причин), но и глобально. Бог для Гоббса, если он действительный перводвигатель, не может извечно пребывать неподвижным. Для механистически мыслящего деиста бог – это некий «первомотор». Более того, отвергая любое бестелесное бытие, Гоббс не может допустить, чтобы слово дух (spiritus) могло быть отнесено к чему-то совершенно бестелесному. В «Человеческой природе» (XI 4) он поэтому трактует всякий дух как «естественное тело», настолько тонкое, что оно не воспринимается человеческими чувствами. Характерно, что за подкреплением этого утверждения автор обращается здесь (затем многократно и в «Левиафане») к текстам Священного писания, в которых нет речи о бестелесности духов. Правда, Гоббс, постоянно подчеркивающий незримость бога как творца (opifex) мироздания, прямо не распространяет этих своих утверждений на бога. Все рассмотренные особенности Гоббсовой концепции бога дают полное основание считать философа представителем деистской формы материализма, как об этом говорит Ф. Энгельс [30].ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ МОРАЛИ И ПРОБЛЕМА ЕГО СВОБОДЫ
Человек, утверждает Гоббс, не только тело в ряду бесчисленного множества других природных, физических тел, но и разумное существо, наделенное сознанием и речью. Иными словами, он – субъект морали, а тем самым и политики. Человек – действующее существо, творящее многообразный мир культуры, различные «искусственные тела». Их изучает моральная, или гражданская, философия, использующая дедуктивно-синтетическую методологию. А она требует самого общего, наиболее значимого исходного понятия. Таковым и выступает у Гоббса понятие человеческая природа. Здесь автор «Человеческой природы» пользуется весьма широкой универсалией, которая в той или иной форме прошла через всю историю философии. Каким бы последовательным номиналистом он ни был и сколь бы радикально ни отрицал бытийный статус общего, обойтись без него не может в сущности ни один номиналист, в особенности без столь широкой универсалии, как «человеческая природа», мыслимая как вневременное понятие. В соответствии с марксистской методологией наибольшая уязвимость этого понятия определяется именно этой вневременностью, внесоциальностью, внеклассовостью. С позиций историзма и классовой социальности данное понятие как понятие абстрактного индивида подверг критике К. Маркс. Вскрывая несостоятельность понятия робинзонады, развившееся в западноевропейской социальной философии XVI-XVIII вв., как ключ к уразумению гражданского общества той эпохи, он писал, что у ряда теоретиков того времени, занимавшихся этой проблематикой, конкретно-исторический индивидуум эпохи разложения феодализма и становления капитализма«представляется идеалом, существование которого относится к прошлому; он представляется не результатом истории, а ее исходным пунктом... по исторически возникшим, а данным самой природой» [31]. Следовательно, предельно широкое понятие «человеческой природы» появляется в результате переноса конкретно-исторических черт индивидуума той или иной эпохи на всю человеческую историю. Для Гоббса, учитывая его положение идеолога имущих классов, руководивших английской буржуазной революцией, таким конкретным прототипом и послужил буржуазный индивид этой столь важной эпохи английской истории (к тому же и «новодворянский» индивид мало чем от него отличался). При всей справедливости марксистского подхода к проблеме «человеческой природы» вообще и к ее постановке Гоббсом в частности невозможно отвлечься от того широкого философского контекста, в котором это понятие употребляется. А между тем оно играет примерно ту же роль (особенно в собственно социальной философии), что и понятие бога. Тем более что понятия эти тесно связаны и второе просто невозможно без первого. Знакомясь с произведениями Гоббса, читатель убедится в глубокой проработке им понятии «человеческая природа». Философ постоянно выдвигает на первый план эгоистическую природу человека. IIри этом он многократно подчеркивает действие той закономерности человеческого существования, которая была зафиксирована уже в древности (особенно стоиками),- закономерности самосохранения, присущем каждому человеку. Безусловно, эта закономерность отражает развитие личностного начала в развитии культуры, «величайшее благо – самосохранение; величайшее природное зло – разложение...»[32] – читаем мы в заголовке 6-го параграфа XI главы «О человеке» (в начале самого параграфа самосохранение названо «первым из всех благ... Ибо природа устроила так, что все хотят себе добра» [33]). Но у огромного числа людей стремление к самосохранению сближает их с животным миром. В Предисловии к сочинению «О гражданине» автор оговаривается, что он не считает людей злыми от природы (испорченными в своем подавляющем большинстве, как учили христианские церковники). Дурни не сами желания, с неизбежностью вытекающие из животной природы человека, а реальный результат тех действий, в которых осуществляются эти желания, поскольку от природы люди лишены воспитания и по следуют рассудку. Поэтому «люди от природы могут испытывать страсть, страх, гнев и прочие животные аффекты», ищут по столько друзей, сколько почести и выгоды, а «всякое общество создается либо ради пользы, либо ради славы, то есть из любви к себе, а не к ближнему» [34]. Основу жизни человека в сообщество себе подобных составляет сложная игра человеческих интересов. Именно она, по словам автора «Левиафана», препятствует созданию пауки о праве как общественной справедливости. Учения из этой области «постоянно оспариваются как пером, так и мечом,- читаем в XI главе названного произведения,- между тем как учения о линиях и фигурах не подлежат спору, ибо истина об этих последних не задевает интересов людей... Я не сомневаюсь,- продолжает автор,- что если бы истина, что три угла треугольника равны двум углам квадрата, противоречила чьему либо праву на власть или интересам тех, кто уже обладает властью... учение геометрии было бы если не оспариваемо, то вытеснено сожженном всех книг по геометрии» [35]. Патроном в этой статье и некоторые принципы моральной теории Гоббса. И здесь он исходит из положений своего номинализма и натурализма (поскольку человек прежде всего естественное «тело»). Для философа поэтому характерно отвержение категорий добра и зла как определения самого бытия. ? соответствии с методологией схоластического реализма они мыслились как вневременные ценности, дарованные человечеству внеприродным богом. Гоббс же убежден, что слова «добро» и «зло» выраражают прежде всего ситуации, переживаемые людьми в конкретных обстоятельствах их жизни. «Добро» всегда обозначает все то, что им полезно и нравится, к чему они стремятся, а «зло» – все противоположные состояния. Здесь Гоббс выступил одним из предшественников утилитаризма, получившего в дальнейшем развитие именно в Англии. Моральная сторона деятельности человека невозможна без того или иного осознания своей свободы. Следует признать определенную заслугу ранних христианских философов, «отцов церкви» (в особенности Августина), в том, что они подчеркнули огромную роль свободы человеческой воли в деятельности человека, принципиально отличающейся вследствие этого от деятельности животных, что было в общем нехарактерным для большинства античных (древнегреческих) философов, у которых собственно рациональные факторы человеческой деятельности затеняли волевые. Но выдвижение на первый план фактора свободной воли Августином и другими «отцами церкви» сопровождалось антинатуралистической трактовкой человеческого духа. Отсюда индетерминизм в понимании свободы воли, свидетельствующей о чисто спонтанных свойствах человеческого духа. Такая система воззрений на деятельность человека закономерно вписывалась в теоцентрическое мировоззрение христианских философов, в силу которого бог – сверхъестественная личность с присущим ей провидением и предопределением, распространявшимися и на природный и на человеческий мир. Бесчисленные богословские споры, перешедшие из раннехристианской в схоластическую философию, вращались вокруг «тонкой» и во многом надуманной проблемы соотношения божественного предопределения и божественной благодати (для немногих людей) и свободы их воли (которая подавляющее большинство ведет к греховным поступкам) . Философы-новаторы XVII в., опираясь на некоторые воззрения философов-гуманистов, в своей трактовке человека как вполне природного существа в противоположность схоластикам и церковникам, многие из которых придерживались воззрений Августина, распространяли принципы разработанного ими механистического детерминизма и на деятельность человека. В первом томе настоящего издания читатель найдет полемику Гоббса с епископом Бремхоллом – весьма показательный документ, характеризующий диаметрально противоположное понимание ими человеческой деятельности. Позиция Гоббса по трудному вопросу свободы сложилась еще до этой полемики (начавшейся в 1646 г.) уже в сочинении «О гражданине», а затем и в «Левиафане». В них Гоббс вскрыл несостоятельность трактовки понятия свободы воли как основы индетерминистических действий человека. Он противопоставляет ему понятие обдумывания (deliberation – мы бы сказали, мотивации), которое в принципе присуще не только человеку, но и животному (в отношении последнего, конечно, понятие мотивации не подходит). Обдумывание продолжается в течение большего или меньшего времени и заканчивается определенным действием. Понятию свободы воли автор «Левиафана» противопоставил понятие свободы (liberty, freedom). Относясь прежде всего к деятельности человека, оно вместе с тем в определенном аспекте характеризует и процессы самой природы. Натурализация свободы – одна из основных идей автора «Гражданина» и «Левиафана». В последнем из них читатель найдет утверждение, что понятие свободы «может быть применено к неразумным созданиям и неодушевленным предметам не в меньшей степени, чем к разумным существам» [36]. Освобождается даже вода, если разбить тот сосуд, в котором она содержится. Но осмысление свободы особенно сложно применительно к человеку с его многообразными отношениями с миром предметов и в особенности людей. Здесь человек обычно располагает большей или меньшей степенью свободы, ибо он, по словам автора «Гражданина» (IX 9), «...может быть свободен в одном отношении... и не свободен в другом...» [37]. Важнейшая философская идея, сформулированная в данном контексте Гоббсом,- это диалектическая идея сочетания, определенного единства свободы и необходимости (за Гоббсом по этому пути затем последовал и Спиноза) . Понятие свободы отнюдь не противоречит понятию необходимости, как представляется поверхностному взору, а дополняет его. Более того, как тело невозможно без протяженности, так свобода – без необходимости. «Свобода и необходимость совместимы» [38]. Свободное течение реки направляется необходимостью ее русла. Еще более важно совмещение свободы и необходимости в действиях людей. Но это имеет место только в добровольных действиях. «Так как добровольные действия,- читаем мы там же,- проистекают из воли людей, то они проистекают пи свободы, но так как всякий акт человеческой воли, всякое желание и склонность проистекают из какой-нибудь причины, а эта причина – из другой в непрерывной цепи... то они проистекают из необходимости»[39]. Характер человеческой свободы бывает различным, ибо он определяется конкретно сочетанием свободы с определенной необходимостью. Для того чтобы убедиться в этом, нужно рассмотреть общественно-государственную доктрину Гоббса.УЧЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
Это учение следует рассматривать как итог философской доктрины Гоббса. В значительной мере, если не главным образом, оно вытекает из понятия человеческой природы, в которой объединены начала естественного и искусственного тел. Социальная концепция Гоббса стала эпохальной концепцией, где в основу положено взаимодействие начал коллективного, общественно-государственного и индивидуально-личностного. Динамика этих фундаментальных противоположностей проходит через всю человеческую историю и проявляется в общественно-экономических формациях, отражая различие глубинных процессов, происходящих в них. Не входя в подробности этой общесоциологической закономерности, необходимо отметить, что в социальной философии античности наметились два противоположных воззрения относительно понятий общества и государства. Одно из них, сформулированное Платоном, а затем (по-другому) Аристотелем, а позже (и иначе) стоиками, видело в обществе-государстве определяющую реальность, в прямой зависимости от которой стояла личность, сколь бы яркой, выдающейся и инициативной ни была она сама по себе. Эта фундаментальная позиция свое лапидарное выражение нашла в широко известном афоризме Аристотеля «Человек – животное общественное», ставшем на века и тысячелетия одним из самых популярных афоризмов, определяющих социальную суть человека. Но рабовладельческая античность выявила множество многогранных и сложных образцов глубоких и инициативных личностей (и сами философы, особенно наиболее выдающиеся из них, могут служить важнейшей иллюстрацией этого великого явления истории). Отсюда возникновение таких идейных построений, в которых исходное социальное начало усматривалось в человеческом индивиде. Уже у некоторых софистов намечалась такая позиция. В особенности же она характерна для великих атомистов – Демокрита и том более Эпикура. Их определяющее онтологическое понятие атома в сущности распространялось и на человека как исходное начало социальности и творца культуры. Феодально-корпоративное общество средневековья с резко преобладавшим в нем религиозно-теоцентрическим мировоззрением в общем было чуждо индивидуалистическим интерпретациям общественно-государственной жизни. Эпоха Возрождения с ее богатством раннебуржуазной культуры, важнейшим компонентом и условием которой стал именно индивидуализм – и как явление самой общественной жизни, и как ее объяснение,- дала возможность такого рода интерпретациям. Именно в них философы-гуманисты весьма часто обращались к социальным концепциям античных мыслителей. Еще более важное свойство ренессансных концепций общества и государства и тем более обществоведческих теорий XVII в. состояло в отрыве этих теорий от господствовавшего в средние века (а у многих конфессионально настроенных авторов и в Новое время) теологического контекста. Карл Маркс подчеркнул, что «уже Макиавелли, Кампанелла, а впоследствии Гоббс, Спиноза, Гуго Гроций, вплоть до Руссо, Фихте, Гегеля, стали рассматривать государство человеческими глазами и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии» [40]. Из перечисленных здесь имен для нас сейчас наиболее важны имена Н. Макиавелли и Т. Гоббса. Макиавелли (1469-1527) дал одну из самых последовательных трактовок социальной жизни с позиций индивидуализма, наделяя сугубо эгоистическую «человеческую природу» по существу антисоциальными свойствами и рассматривая общество как нечто производное от интересов индивида, как своего рода неизбежное зло. Гоббс в общем следовал в том же русле, хотя он значительно расширил и обогатил его. Автор «Гражданина» и «Левиафана» стремился доказать несостоятельность известного положения аристотелевской «Политики» (хотя само по себе это положение следует признать натуралистическим) – положения о том, что муравьи, пчелы и другие животные должны считаться общественными существами, ибо никто не наблюдал их изолированной жизни – вне общества себе подобных. Гоббс не оспаривает этих фактов, но акцентирует специфику человеческой природы, радикально отличающейся от природы чисто животной своей разумностью и духовностью. Животные живут чувственными стремлениями, и тот факт, что они не достигают при этом уровня разумности, предопределяет стихийную согласованность их жизни, поскольку стремления муравьев или пчел направлены к общему благу, не отличающемуся у них от частного. Такое тождество общего и частного совершенно исключено в условиях человеческого общежития. В силу органических особенностей своей природы каждый человек поглощен прежде всего собственными интересами: только удовлетворив свои материальные и другие потребности, если позволяет время, люди обращаются к общественным делам. В человеческом общежитии индивидуальное и частное – это нечто первичное, а общественно-государственное – вторичное и производное. Такая позиция полностью определялась и номиналистической методологией Гоббса. Индивидуалистическая трактовка английским философом общества и государства в конкретных условиях своей эпохи не была однозначной. Следует отметить ее прогрессивную сторону. Она, в частности, состояла в том, что Гоббс, выступая против феодального корпоративизма и иерархизма, подчеркивал принципиальное равенство людей как природных существ. Здесь крупнейший социальный философ своего века продолжал и углублял ту линию, которую в предшествующие века проводили итальянские гуманисты. В своей борьбе против феодального иерархизма, который социальное неравенство людей возводил к сверхъестественному установлению бога, гуманисты подчеркнули принципиальное равенство всех людей независимо от их социальной принадлежности и положения в обществе. В эпоху Гоббса, и прежде всего на его родине, начался знаменательный период дезинтеграции феодализма и появился новый класс буржуазного общества. Отражая этот процесс, автор «Гражданина» и «Левиафана» в формулировках о принципиальном равенстве человеческой природы выразил и определенное демократическое содержание своей социально-философской доктрины. Так, в начале XIII главы «Левиафана» он подчеркнул, что «природа создала людей равными в отношении физических и умственных способностей». Физические и умственные различия людей не столь значительны, чтобы, основываясь на них, кто-либо «мог претендовать на какое-нибудь благо для себя, на которое другой не мог бы претендовать с таким же правом» [41]. Однако убеждение Гоббса в принципиальном равенстве людей по их природным свойствам вовсе не приводило его, как увидим, к требованиям социального равенства в классовом смысле. Природное сходство людей в его социально-философской доктрине было призвано прежде всего служить той теоретической платформой, опираясь на которую Гоббс строил свое объяснение происхождения и сути самого сложного феномена социальной жизни – государства. И в античности (например, у того же Аристотеля), и в рассматриваемую эпоху понятия общества и государства обычно сближались, но все же не отождествлялись (по крайней мере у наиболее глубоких социальных мыслителей) . Правда, понятия общества ни в античности, ни в эпоху средневековья выработано не было, но известные его элементы появлялись по мере осознания роли национальных, экономических и других факторов, и в особенности когда философы задавались целью объяснить сущность государства через его происхождение. В античности сформировались лишь некоторые предпосылки решения (облеченные в мифологическую форму) этого огромной теоретической трудности вопроса. В эпоху теоцентрического средневековья он был так или иначе привязан к образам и сказаниям Священного писания. В начале же Нового времени (в особенности начиная с Макиавелли), как подметил и К. Маркс в цитированных выше словах, наиболее смелые и проницательные мыслители предпринимали попытки объяснить феномен государства, исходя из разума и опыта. Гоббс и стал в XVII столетии крупнейшим из таких мыслителей. Разумеется, у него не могло еще появиться социально-историческое объяснение этого сложнейшего феномена (его отдельные элементы черпались в истории античности или в том же Священном писании). Однако рационалистическое объяснение происхождения и сущности государства, исходящее из методологии дедуктивно-синтетического метода, разработано автором «Гражданина» и «Левиафана» основательно. Важнейшая идея Гоббса, выражающая динамику его понимания происхождения государства, состоит в мысли о двух состояниях любого человеческого общества. Первое из них он именует естественным состоянием (status naturalis), когда еще отсутствует всякая государственная организация. Ее образование переводит тот или иной народ из состояния естественного в состояние государственное, гражданское (status civilis). Было бы модернизацией трактовать естественное состояние как своего рода первобытное общество, о котором в ту эпоху могли существовать более чем смутные представления (навеянные некоторыми ветхозаветными образами, как и первыми сведениями, полученными из вновь открытых стран). В действительности «естественное состояние» представляло собой прежде всего рационалистическую абстракцию, с помощью которой Гоббс стремился выявить особенности человеческой природы в ее наиболее «чистом» виде. Но в этом своем стремлении английский философ примыкал к могучей традиции естественного права (jus naturale), основы которой были положены в античности. Наибольшую роль сыграла при этом философия стоицизма. Именно с ней связаны позднеримские юристы, которые, отправляясь от понятий положительного, гражданского права (jus civile) и так называемого права народов (jus gentium), одновременно отождествляя в духе стоицизма разум и природу, подводили под эти понятия определенную теоретическую базу. Понятие естественного права – понятие социоморфическое, так как социальность приписывалась всему естественному. Отсюда натуралистическое содержание понятия естественного права. Оно было устранено в тех построениях теологизированной философии средневековья, которые тоже иногда использовали данное понятие. В эпоху позднего Ренессанса в кругу других античных философских учений и идей широкое распространение получила и концепция естественного права (вместе с рецепцией римского гражданского права, которое в Италии было уже в эпоху средневековья). Понятие же естественного права, воспринятое в контексте возобновляемой философии стоицизма, стало важнейшим руслом, по которому в передовую философию той эпохи вливалось натуралистическое истолкование социальности, государственности, культуры. Крупнейшим систематизатором учения о естественном праве был старший современник Гоббса нидерландский юрист, политический мыслитель (и деятель) Гуго Гроций (1583 -1645) – один из тех, кто, по словам К. Маркса (см. выше), стал смотреть на происхождение общества и государства, опираясь на опыт и разум. Гроций в контексте своего понимания естественного права возобновил и понятие общественного договора как конкретного источника государственной организации людей (в античности к этой идее вплотную подошли Эпикур и его последователи) . В многочисленных вариантах доктрины естественного права, выражавших потребности становящегося буржуазного общества, проявились стремления его сторонников к выработке строжайшей законности, которая должна воцариться в государстве, вытесняя аморфные обычаи и тем более произвол различных феодальных владык. Такие устремления были присущи сторонникам так называемого юридического мировоззрения, усматривавшим в праве основу основ государственной жизни. Томас Гоббс и был наиболее значительным из этих социальных философов, отличаясь от большинства из них тем, что разработанная им социальная доктрина являлась органической составной частью общефилософской. Естественное состояние человеческой жизни, согласно автору «Гражданина» и «Левиафана», отличается от государственного, гражданского максимальной интенсивностью господства естественного права. В этом догосударственном, чисто природном состоянии по существу нет и морали, ибо в своей естественности человек живет, предаваясь неустойчивости чувственных желаний, страстей. Отсюда натуралистический характер естественного права, которое отображает чувственную природу человека в ее близости к животному миру. Совершенно очевидно также, что в естественном состоянии не может быть и сколько-нибудь устойчивой частной собственности, ибо естественное право означает право каждого человека на любую вещь, любое имущество. Господство естественного права фактически означает неограниченность человеческой свободы в стремлении поддерживать свое существование и улучшать его любыми доступными средствами, в чем и проявляется универсальный закон самосохранения человеческой природы (если не всего животного мира). Гоббс не жалеет красок для изображения алчности и даже хищности людей в их естественном виде. События на его родине в годы гражданской войны, надо думать, придали дополнительную яркость этим краскам. Философ обобщает эту мрачную картину широко известным с древнеримских времен афоризмом «Человек человеку волк» (его первоначальный автор – известный древнеримский комедиограф Плавт). Все сказанное делает совершенно понятным, почему автор «Гражданина» и «Левиафана» характеризует естественное состояние как «войну всех против всех», «войну каждого против каждого». И это тотальное состояние войны выявляет иллюзорность свободы на ее чувственном уровне, игнорирующем любую необходимость в условиях естественного состояния человечества. Такое состояние грозит ему самоистреблением. Отсюда жизненная необходимость для всех людей сменить естественное состояние на состояние гражданское, государственное. Его главный, определяющий признак – наличие суверенной и совершенно обязательной власти для всех без исключения граждан. Такая власть учреждается путем общественного договора, который заключают между собой все атомизированные индивиды, становящиеся в результате его гражданами, подданными учреждаемой власти. То, что именуется договором (contractus, pactum – также соглашение), не следует мыслить упрощенно, как некий кратковременный акт, переводящий участников договора из состояния естественного в государственное. В действительности в первом из них люди все время испытывают страх за свою жизнь, руководствуясь инстинктом самосохранения. Поэтому и договор между ними следует скорее понимать как процесс непрерывного осознания людьми невыносимости их естественного состояния и необходимости установления состояния государственного. Договор, разумеется, невозможен без наличия человеческой речи. Именно она выводит людей из их индивидуалистического одиночества. Речь, будучи главным выражением и инструментом познания, тем самым выступает и решающим фактором культуры, ибо, подчеркнул автор «Левиафана», «без способности речи у людей не было бы ни государства, ни общества, ни договора, ни мира, так же как этого нет у львов, медведей и волков» [42]. В факте образования государственности проявляется, как совершенно очевидно, раздвоенность человеческой природы. Ее естественная компонента – базис естественного права, где царит стихийная и непривлекательная борьба людей, их взаимоотталкивания. Но человеческая природа невозможна и без другой, разумной компоненты, которую Гоббс обычно именует истинным, или правым, разумом (recta ratio). Создание «искусственных тел», и прежде всего важнейшего, исходного из них – государства, мыслится в социальной философии Гоббса сугубо идеалистически -как результат действия наивысших духовных потенций человека. Автор «Гражданина» и «Левиафана» называет их естественными законами (leges naturales), законами самой природы (leges naturae). Здесь имеется в виду все та же «человеческая природа», но уже в другом своем качестве. В противоположность природно-чувственному содержанию естественного права человеческий дух изначально наделен законами как высшими неколебимыми моральными установками. Они с необходимостью толкают людей на путь общественного договора, как бы автоматически переводя человечество в состояние государственности и гражданственности. Первый из естественных законов, свойственный всем без исключения людям, вытекает из тотального стремления к самосохранению, из страха смерти. Закон этот поэтому постоянно толкает людей на путь мирных отношений, ибо даже самый худой мир, безусловно, лучше войны. Всего естественных законов автор «Гражданина» насчитывал двадцать (в том числе закон, вскрывающий неприглядность, глупость и аморализм пьянства). Важнейшее положение Гоббсова учения о естественных законах состоит в том, что все они сводятся к «золотому правилу» морали, известному множеству людей в различных землях и странах, но, увы, не очень-то соблюдаемому людьми. Закон этот (зафиксированный и в Новом завете) гласит: «Не делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы было сделано по отношению к тебе» [43]. Эта абсолютная моральная аксиома формулирует как бы самоограничение неистребимого человеческого эгоизма. Следовательно, естественные законы выражают сугубо разумную и моральную природу человека. В принципе они действуют и в условиях естественного состояния, но они выявляются здесь скорее как тенденции, подавляемые страстями. Для их полного проявления необходим общественный договор, устанавливающий государственную власть. Лишь ее приказания придают естественным законам повелительную силу закона гражданского права. Совершенно очевиден здесь идеализм Гоббса, далекого от понимания экономического содержания юридических законов, отождествляемых им с моральными. Различие между юридическими и «естественными», т. е. моральными, законами, по Гоббсу, состоит в сущности лишь в том, что гражданские законы – писаные, а моральные – неписаные. Для автора «Гражданина» и «Левиафана» государство прежде всего институт, реализующий разумность человеческой природы, ибо только в условиях гражданского состояния человек становится подлинно моральным существом, каковым он не может быть в естественном состоянии. Такая идеализация гражданских законов вполне понятна у сторонника юридического мировоззрения, мечтавшего о воцарении подлинного порядка в обществе, устраняющего произвол, порождаемый вседозволенностью различных феодальных владык и тем более короля. С другой стороны, полное отождествление юридических законов с моральными в социально-философской доктрине Гоббса проливает конкретный свет на его концепцию свободы, возможной, как мы видели, лишь в определенном сочетании с необходимостью. Концепция эта не просто абстрактно-философская, но и конкретно-социальная. В условиях хорошо организованного правового строя свобода означает беспрекословное подчинение юридическим нормам, устанавливаемым в силу всеобщего договора. Однако его всеобщность не означает, что участники договора передают носителям власти все без исключения присущие им естественные права. Поэтому далеко не все отношения между подданными и сувереном могут и тем более должны определяться законами. Автор «Гражданина» (XIII 15; XIV 3), с одной стороны, подчеркивает необходимость сильной государственной власти, не позволяющей своим подданным вести себя по собственному произволу. С другой же – он видит вред чрезмерного регулирования жизни людей детальными законами, угнетающими личную инициативу граждан и тем более убивающими их нолю к жизни. «Существует большое различие между законом и правом,- подчеркнуто здесь,- ибо закон – это узы, право же есть свобода, и они противоположны друг другу» [44]. Хотя государство, по Гоббсу, возникает в результате всеобщего договора участников, появляющаяся в результате власть трактуется антидемократически. Для сопоставления нелишне указать, что в других вариантах договорных теорий того же века подчеркивался как раз приоритет народа как подлинного суверена государственной власти (такая теория была, например, сформулирована в Англии младшим современником Гоббса известным поэтом и политическим мыслителем Джоном Мильтоном, а в следующем веке во Франции – великим писателем и социальным философом Руссо) . Гоббс же видел в государственной власти самосущую ценность, свободную от любых посягательств, могущих ее ослабить или тем более разрушить, что отбросило бы общество вспять к естественному состоянию. Такую концепцию власти Гоббс обосновывал тем, что подданные вступают в договорные обязательства друг с другом, свободно отказываются от большинства принадлежащих им естественных прав и уже не вправе востребовать их обратно у власти, возникающей в результате их же договора. Поэтому дело власти приказывать, а граждан – подчиняться. Ведь в самих этих приказаниях-законах выражен не произвол, а разумная необходимость, поэтому без них невозможна нормальная жизнь. Конечно, можно подметить определенную дифференциацию понятия власти и некоторую эволюцию формулировок у автора «Гражданина» и «Левиафана», хотя в общем ом следует тем политическим классификациям, которые были сформулированы Аристотелем и другими античными политическими мыслителями. Так, в первом, английском издании «Левиафана», отражая революционные изменения в Англии с позиции буржуазных кругов, установивших диктатуру Кромвеля, для обозначения государства Гоббс использовал термин «общественное благо» (commonwealth), являющийся английским эквивалентом латинского термина «республика». Однако в условиях реставрации Стюартов и воцарившейся реакции в феодальном духе автор «Левиафана» в его латинской редакции 1668 г., не меняя ни принципов, ни общего духа этого произведения, заменил этот термин словом «монархия». При этом Гоббс оставался этатистом («государственником»), сторонником сильнейшей централизованной власти и противником ее разделения (что будет обосновано его младшим современником Джоном Локком, теоретиком буржуазного либерализма, отразившим завершение английской буржуазной революции в 1688 г.). Разделение же власти, по Гоббсу, только ослабило бы ее. При этом форма государственного правления – демократическая, аристократическая или монархическая, по его убеждению, не является решающей, ибо «народ правит во всяком государстве» [45], поскольку действию естественных законов суверен подчинен так же, как последний из его подданных. В этом проявился идеализм Гоббсовой философии государства. Хотя философ видел фактическое неравенство среди подданных государства, стремление одних господствовать над другими, а тем самым и различие качества той свободы, которой они фактически обладают, он сохранил иллюзию нелицеприятия законов по отношению как к богатым, так и к бедным.ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ И ПРОБЛЕМА РЕЛИГИИ
Отношение культуры, созданной человеческой деятельностью, к природе – одна из глобальных проблем философской мысли. Она неоднократно поднималась античными философами. По-иному эта проблема встала с возникновением христианско-монотеистического мировоззрения. Выше говорилось о двух взаимосвязанных гносеологических функциях понятия бога – мистифицирующей и интеллектуализирующей. Первая – собственно религиозная, а вторая – философско-рационалистическая. Христианство, опираясь на платоновско-пифагорейские идеи, рассматривало концепцию бога-творца интеллектуалистически. В сверхъестественном творчестве, как оно описано в Ветхом завете (и в Книге бытия, и в дальнейшем, в Книге премудрости Соломона), бог руководствуется не только доброй волей, но и достаточно конкретными идеями своего ума (бог «все расположил мерою, числом и весом», говорится в одном из мест (II 21) второй из названных книг). В эпоху Возрождения и тем более в XVII в. проблема соотношения природы и искусства – в широком смысле, как человеческая искусность в различных сферах деятельности,- стала играть в передовой философии огромную роль. Увязывание этой проблемы с понятием бога наиболее очевидно проявлялось в деистических интерпретациях. Для Гоббса понятие бога является объектом богооткровенной теологии, не имея никакого отношения к реальному человеческому познанию. Однако присутствие бога ощущается там, где ставится вопрос о создании величайшего из искусственных тел, каким является государство. Оно создается людьми посредством всеобщего общественного договора, в самом этом акте человек подражает природе и, поскольку сама она является продуктом божественного творчества, как бы подражает и самому богу. Государство для Гоббса – огромный искусственный человек, созданный для охраны и защиты естественного человека. Создание государства автор «Левиафана» прямо уподобляет словам «fiat [да будет] или... сотворим человека, которые были произнесены Богом при акте творения» [46]. История человечества, как мы видели, начинается для Гоббса с Адама. В лишенном историзма воззрении Гоббса Адам был тоже создан богом, который и научил его речи, сообщил первые названия-имена. Речь не только решающий носитель и фактор человеческого познания, но и важнейший фактор культуры, без которого было бы невозможно и возникновение государства. Мысль о человеке как творце государственности, уподобляя этот процесс божественному творчеству, связывается Гоббсом с мыслью о создании людьми государства путем отчуждения значительной части принадлежащих им естественных прав. Но возникшее таким образом государство не случайно именуется «великим Левиафаном», библейским чудовищем, символизирующим огромную силу и неодолимость человеческого изобретения. Левиафан, созданный людьми, приобретает самостоятельность, возвышается над ними, выходит из-под их контроля. Он властен над своими подданными-гражданами, а они под ним сплошь и рядом безвластны. В такой форме Гоббс одним из первых в Новое время сформулировал весьма важную социально-философскую концепцию отчуждения. Следует также подчеркнуть, что государство, как самый значительный результат человеческого творчества, составляет, по Гоббсу, и главное условие культуры, ибо «вне государства – господство страстей, война, страх, бедность, мерзость, одиночество, варварство, невежество, дикость; в государстве – господство разума, мир, безопасность, богатство, благообразие, взаимопомощь, утонченность, науки, доброжелательство» [47]. Идеализм учения Гоббса о государстве, как мы видели, вытекает прежде всего из выведения юридических законов из моральных норм, называемых «естественными законами». Однако вместе с тем автор «Основ философии» подчеркнул, что «философия государства связана с философией морали, но не настолько тесно, чтобы ее нельзя было отделить от последней» [48]. К тому же, как замечено выше, в социальной философии Гоббса не может быть и полного отождествления государства с обществом уже в силу неполного отчуждения естественных прав индивида в пользу носителей государственной власти при ее учреждении. Человек в качестве естественного тела обладает множеством чисто природных свойств. Свое многообразное выражение они находят в материальных интересах людей. Их роль особенно увеличивается в условиях государственного общежития, вместе с которым возникает и частная собственность. Государство обязано способствовать росту изобилия продуктов земли и моря, что невозможно без стимулирования подданных к труду и прилежанию (см. в особенности гл. XXIV второй части «Левиафана»). Не раз говорит его автор и о деньгах, этой «крови государства» [49]. Все сказанное делает понятной роль Гоббса в качестве ближайшего предшественника буржуазной английской политической экономии. Можно отметить в этой связи, что ее родоначальник Уильям Петти (1623-1687) был знаком с философом и испытывал влияние его идей. Важнейшее проявление духовной культуры человечества – религия. В XXXI главе «Левиафана» автор подчеркивает этимологическую и определенную смысловую связь между латиноязычными словами «культура» (обработка земли, воспитание детей и т. п.) и «культ Бога», без которого невозможна никакая религия [50]. Проблема религии у Гоббса не проста, противоречива, как противоречиво само понятие бога. Можно утверждать, что в этой проблеме у автора «Основ философии» и «Левиафана» существует как бы два слоя – слой собственно моральный и слой социальный. Хотя они, конечно, связаны друг с другом, но первый ближайшим образом характерен для мировоззрения интеллектуальной элиты, а второй – «толпы», т. е. главным образом народных масс. Именно этот, собственно социальный слой более всего связан с анализом Священного писания, Библии, занимающим весьма значительное место уже в «Гражданине» и еще большее в «Левиафане». При этом показательно, что в своем «Предисловии к читателям», предшествующем сочинению «О гражданине», автор подчеркнул, что не высказывается «ни за, ни против богословских учений» [51]. Общепсихологические корни религии в понимании Гоббса – в страхе людей прежде всего перед грозными и непонятными силами природы. Здесь английский философ продолжил ту линию материалистическо-атеистической мысли, начало которой было положено античными философами (Демокрит и другие). Гоббсова концепция бога, как и концепция религии,- деистическая. По-видимому, истоком своим они имеют взгляд Херберта Чербери. Согласно произведению Гоббса «О человеке» (написанному позже всех других его основных произведений, см. в особенности XII 5; XIV 1, 4, 7, 8, 12, 13 и др.), в основе всякой религии лежит убеждение в существовании незримого божественного существа. Вера в него как загадочного творца мироздания и человека и благоговение перед ним составляют естественное благочестие (pietas naturalis). Оно же именуется естественной религией (religio naturalis), в которой к вере в существование божественного существа прибавляется определенный культ – совокупность внешних действий богопочитания. Именно эта концепция естественной религии, отождествляемой с моралью, легла в основу деизма. Деизм автора «Основ философии» и «Левиафана» преимущественно связан с концепцией «естественной религии», ибо в ту эпоху даже передовые философы, бросавшие вызов господствующим официальным вероисповеданиям, не мыслили возможности подлинной морали, не ориентированной на понятие бога (за крайне редким исключением, какое сформулировал, например, в конце того же XVII в. французский философ Пьер Бейль). В «Гражданине» мы находим (например, XIV 19) утверждение автора о том, что атеисты не признают тех естественных законов, на которых зиждется вся человеческая мораль. Здесь же автор добавляет, что, хотя свет разума (lumen rationis) убеждает в существовании бога, люди, погрязшие в поисках наслаждений, богатств и почестей, как и люди, не привыкшие правильно рассуждать (recte ratiocinari), и тем более люди недалекие (insapientes), закономерно становятся атеистами, безбожниками [52]. В другом месте того же произведения (XVI 1) Гоббс характеризует атеизм как самонадеянность разума, не ведающего страха [53]. Осуждая, таким образом, атеизм как аморализм и недомыслие – воззрение, обычное даже для передовых философов того века, например для Спинозы, Гоббс усматривает во много раз большую моральную и социальную опасность в бесчисленных суеверных страхах, переполнявших тогда официальные, «позитивные» религиозные вероисповедания и их носителей, многочисленных церковников, которым внимало подавляющее большинство людей, народные массы. Критику современной ему практики как в «Гражданине», так и в «Левиафане» Гоббс осуществляет с позиций деизма, но реально эта критика обнаруживает светские, материалистические позиции Гоббса, близкие атеизму. Еще более очевиден рационалистический (в широком смысле этого слова) подход Гоббса к содержанию Библии, четко выраженный в XXXII главе «Левиафана»: «Хотя в слове Божием есть многое сверх разума, т. е. то, что не может быть ни доказано, ни опровергнуто естественным разумом, но в нем нет ничего, что противоречило бы разуму. А если имеется видимость такого противоречия, то виной тому или наше неумение толковать [слово Божие], или наше ошибочное рассуждение» [54]. Рационалистическо-материалистическая установка Гоббса по отношению к реальной религии проявляется в решительном отвержении каких бы то ни было чудес как беспричинных событий. Чудеса признаются (скорее же провозглашаются) в отношении библейских времен, поскольку с ними в Священном писании связано формирование христианской религии, однако времена эти давно и безвозвратно миновали. Отвергнув с позиций механистически истолкованной причинности объективность случайных событий, Гоббс подчеркивает и возможность необъяснимого и сверхъестественного чуда (еще при жизни Гоббса эту идею еще более заострил Спиноза). В критике церковной практики Гоббс предстает перед читателем как убежденный и даже агрессивный антиклерикал, которому присущи просветительские устремления. Весьма красноречиво в этом смысле название четвертой части «Левиафана» – «О царстве тьмы», направленной прежде всего против католической церкви (теснее всех другиххристианских церквей сросшейся со схоластической философией), хотя автор не намного выше ее ставит и протестантские церкви (возобладавшие в Англии и ожесточенно боровшиеся друг с другом в период революции). В этой части самого обширного своего труда его автор довольно проницательно усматривает в христианстве множество положений и образов, унаследованных от язычества. Глава XLN данного труда посвящена демонологии и другим языческим суевериям. Ангелы и духи, фигурирующие в Священном писании и трактуемые здесь как добрые, так и злые, по категорическому убеждению философа, совсем не являются полностью бестелесными, бесплотными существами. Между тем практика изгнания бесов (и столь близкое к ней различное колдовство), тоже унаследованная из язычества, основана как раз на этой мнимой бестелесности духов. Он выражает иногда робкие надежды на их преодоление. Например, совершенствование образования детей в школах и в особенности юношества в университетах он видит в освобождении их от господствовавшей схоластики, подчиняющей философию теологии. В своих просветительских упованиях Гоббс утверждает в сочинении «О «О человеке» (XIV 13), что «толпа (vulgus) постепенно становится образованнее и начинает и конце концов понимать значение употребляемых ею слов» [55] и по мере углубления такого понимания начинает все более скептично относиться к «учителям религии», у которых слова ханжески расходятся с творимыми ими делами. Для рационалистическо-просветительской позиции Гоббса по отношению к библейским сюжетам весьма показательно его стремление раскрыть их земную основу, что для него означало прежде всего выявление государственно-политического содержания, в котором иудейская, а затем и христианская церковь рассматриваются как орудия объединения приверженцев вокруг того или иного суверена (этим в сущности объясняется и название третьей части «Левиафана» – «О христианском государстве»). Но если теократия библейских времен (и прежде всего та, которая первоначально реализована Моисеем, имевшим непосредственный контакт с богом) была явлением исторической закономерности, то притязания современной ему церкви – а это были главным образом притязания католицизма – приносят общественно-государственной жизни громадный вред. Особый вред общественно-государственной жизни церковники с их догматической ослепленностью доставляют своими притязаниями на политическое руководство массами. Смуты, нередко приводившие к кровопролитиям в годы гражданской войны в Англии, по убеждению Гоббса, во многом были спровоцированы именно такими церковниками. Отсюда решительная позиция автора «Гражданина» и «Левиафана» за подчинение церкви государственному руководству. В сущности его исследование текстов Священного писания преследовало именно эту цель как одну из главных. Несмотря на все свои просветительские стремления, основывающиеся на концепции деистической «естественной религии», Гоббс в качестве социально-политического реалиста отлично понимал необходимость существовавших массовых религий со всей их извилистой догматикой. Но избежать опасности всякого рода смут, подрывавших государственность и культуру, можно, по убеждению автора «Левиафана», лишь подчинив ее жизнь государственному руководству. Отсюда своего рода итоговая формула его позиции по отношению к религии, которую мы находим в VI главе названного произведения: «Страх перед невидимой силой, придуманной умом или воображаемой на основании выдумок, допущенных государством, называется религией, не допущенных -суеверием. Когда же воображаемая сила в самом деле такова, как мы ее представляем, то это истинная религия» [56].УЧЕНИЕ ГОББСА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ
Значение и роль больших философских учений выявляется как при жизни их создателей, так и после их смерти. В XVII в., еще при жизни Гоббса, некоторые из его гносеологических, онтологических и социально-философских идей восприняли такие выдающиеся философы, склонявшиеся к натурализму и материализму, как Гассенди (1592-1655) и Спиноза, в дальнейшем некоторые материалистические идеи Гоббса получили развитие у крупнейших английских философов той же эпохи – у Локка и Толанда (1670-1722). Концепция естественного права, столь обстоятельно разработанная Гоббсом, имела видных сторонников в европейских странах XVII-XVIII вв. Руссо, высоко ценивший его идеи в преддверии Великой французской революции, сделал из этой концепции радикальные революционно-республиканские выводы, оказавшие огромное воздействие на М. Робеспьера и руководимых им якобинцев в разгар этой революции. О роли идей Гоббса в духовной жизни той эпохи не менее красноречиво свидетельствуют и многочисленные полемические (иногда весьма ожесточенные) сочинения, исходившие из реакционно-роялистского и клерикального лагеря. Идеи «Левиафана» были атакованы во многих десятках печатных выступлений, например крупнейшим тогда теоретиком абсолютизма и божественного происхождения неограниченной королевской власти Робертом Филмером (1588 – 1653), автором сочинения «Патриарх, или Естественная власть королей». Против идей «Левиафана» он выступил с памфлетом «Наблюдения относительно происхождения правительства». Здесь он, с одной стороны, высказал свое согласие относительно неделимости суверенитета, обоснованной автором «Левиафана», но с другой – полностью отверг его предпосылки относительно естественного, основанного на договоре происхождения верховной власти. В дальнейшем сходные идеи развил граф Эдуард Кларендон (1609-1674) в сочинении «Краткое обозрение опасных и губительных ошибок для церкви и для государства в книге м-ра Гоббса «Левиафан»» (1676, посвящена Карлу II). В основном те же идеи, что сформулировал Филмер, Кларендон попытался развить как систематическое опровержение «Левиафана». Еще больше печатных выступлений последовало со стороны собственно клерикальных авторов. Один из них, епископ Джон Бремхолл (1594-1663), представлен в данном томе своей полемикой с Гоббсом по проблеме свободы воли. Позже, в 1658 г., он выступил со специальной книгой «Поимка Левиафана, или большого кита», в которой опровержение идей Гоббса пытался осуществить с чисто теологических позиций. О ряде других «опровержений» идей «Левиафана» клерикальными авторами не имеет смысла упоминать в столь кратком обзоре[57]. Из резких инвектив, направленных против Гоббса за пределами Англии, следует упомянуть книгу немецкого протестантского теолога Христиана Кортхольта «О трех великих обманщиках» (Киль, 1680, на лат. яз.). Переиначивая старинную атеистическую легенду, согласно которой большинство человечества в своем религиозном ослеплении пошло за Моисеем, Христом и Магометом, которых следует считать обманщиками (поскольку сторонники иудаизма, христианства и мусульманства настаивают на истинности только своей религии), Кортхольт изображает великими обманщиками трех «натуралистов» и по существу атеистов – Херберта Чербери, Гоббса и Спинозу. Собственно философскую борьбу против материализма Гоббса (как и Гассенди, отчасти и физика Декарта), приводившую многих философов к материализму, вела весьма активная школа английских платоников XVII в., сложившаяся в Кембриджском университете,- Г. Мор (1614 – 1687), Р. Кедворт (1617-1688), Д. Гленвиль (1636-1680) и др. Названные учения они трактовали как возобновление античного атомизма и различных форм атеизма. С позиций христианского теизма и креационизма они противопоставляли этим учениям платоновско-неоплатонические идеи, отрицая объективность пространственно-временных закономерностей, которые они связывали с деятельностью мировой души, подчиненной богу, и т. д. В дальнейшей истории философии методология Гоббса (наряду с методологией Бэкона) с ее сильнейшей эмпирической стороной и ярко выраженным материализмом в истолковании природы и человека была высоко оценена материалистами XVIII в. (прежде всего Д. Дидро в его знаменитой «Энциклопедии») . В новой и новейшей философии, философской историографии учение Гоббса не привлекает столь пристального и широкого внимания, как философия Декарта или тем более Спинозы (хотя в историях философии Гоббсу обычно отводится значительное место). Это обстоятельство можно объяснить тем, что по сравнению с произведениями названных философов доктрина Гоббса отличается большей определенностью и однозначностью. Это более всего относится к материалистической онтологии и методологии английского философа. Но наибольшую популярность в наше время имеет его социально-политическая философия. Так, крупнейший немецкий буржуазно-либеральный социолог Фердинанд Теннис (1855 – 1936), один из виднейших основоположников профессиональной социологии в Германии (который ввел, в частности, в свою теоретическую социологию немаловажное различение «общности» и «общества»), уделял значительное внимание учению Гоббса [58], а также издавал его труды. Теннис высоко ценил учение Гоббса и его роль в формировании европейской философии Нового времени, которая, решительно порывая со схоластикой, стремилась максимально учесть достижения науки. Аналогичную оценку гоббизма сформулировал старший современник Тенниса, весьма влиятельный немецкий философ-идеалист Вильгельм Дильтей (1833-1911). Один из основоположников так называемой философии жизни, Дильтей немало сделал для исследования становления новой европейской философии в своем труде «Функция антропологии в культуре XVI и XVII веков». Характеризуя философскую позицию Гоббса, тесно связанную с научными достижениями эпохи, Дильтей показывает, что данная система, начиная с методологии, через материалистическую онтологию и физику выстраивается в антропологию, на которой основывается учение об обществе, государстве, праве и религии. Характеристика Дильтея в принципе приемлема, но лишь за одним исключением – немецкий идеалистический историк философии рассматривает гоббизм как «промежуточное звено между материализмом древних и позитивизмом», в силу чего Гоббс становится предшественников Конта [59]. Естественно, как идеалист, Дильтой не видит для учения Гоббса другой перспективы, кроме позитивистской. Близкую к оценке Дильтея характеристику этого учения с точки зрения передовой для своей эпохи рационалистической позиции, тесно связанной с наукой, формулируют и современные авторы, например М. Голдсмит в своей книге «Гоббсова наука политики» [60], первая часть которой посвящена рассмотрению общефилософских воззрений Гоббса. Еще более радикальны и исторически достоверны оценки этих воззрений, которые мы находим в работах англоязычного автора Лео Стросса «Политическая философия Томаса Гоббса. Ее основа и ее генезис», а также «Естественное право и история». Здесь (особенно в последней книге) подчеркивается атеистический характер воззрений Гоббса, а многократное привлечение им теологии и текстов Священного писания – только маскировка его подлинного атеизма. Она рассчитана скорее на подрыв авторитета Библии, ибо религия должна полностью подчиняться государству, которое в ней в сущности не нуждается. Для Стросса Гоббс – первый представитель радикального просветительства, провозвестник атеистического безрелигиозного общества [61]. Эту чисто политическую трактовку философии Гоббса следует признать чрезмерной и неприемлемой вследствие такой радикальности. Но в буржуазном гоббсоведении имеются и прямо противоположные трактовки, которые отрицают существенную роль естественнонаучного момента в социально-политической доктрине Гоббса. С этой точки зрения все наиболее существенное в этой доктрине обязано христианской традиции естественного права, в естественнонаучном знании эта доктрина якобы не нуждается, а без теологии была бы совершенно непонятной. Весьма показательна здесь статья А. Тэйлора, утверждающего принципиальную несовместимость естественнонаучного и морально-политического компонента философии Гоббса. Если его этическая теория с начала и до конца представляет собой доктрину долга, строгую деонтологию, то «определенная форма атеизма абсолютно необходима для того, чтобы выполнить эту теоретическую работу» [62]. Деистический натурализм и материализм Гоббса изображаются как теистическая деонтология. Эта точка зрения более несостоятельна, чем прямо противоположная позиция Стросса. Воззрение, близкое к Тэйлору, развил в своей книге «Политическая философия Гоббса: его теория долга» X. Уоррендер. Здесь автор, в частности, подчеркивает, что «Гоббсова теория политического общества основана на теории долга», которая «принадлежит традиции естественного права. Законы природы вечны и неизменны, и в качестве велений Бога они обязывают всех мыслящих людей и таким образом приводят их к вере во всемогущее существо, подданными которого они являются». С этой теистической точки зрения теология выступает у Гоббса не простым дополнением его политики, а образует стержень его учения. Естественные законы не только совпадают с повелениями бога, но просто немыслимы без них [63]. Более прямолинейно, чем Уоррендер, Ф. Худ утверждает в своей книге «Божественная политика Гоббса», что «Писание было единственным источником моральных убеждений Гоббса», что «вопреки углублявшейся его погруженности в науку, его понимание мира и человека оставалось фундаментально религиозным» [64] В свете всего содержания данной статьи читателю должна стать ясной несостоятельность столь тенденциозных религиозно-теистических интерпретаций морально-политического учения Гоббса. Конечно, неприемлема в своих крайностях и противоположная позиция Стросса. В прошлом и в марксистской советской литературе были попытки аналогичного упрощенного понимания доктрины Гоббса (например, в книге А. Ческиса «Томас Гоббс». М., 1929), но в послевоенные годы в тех немногих работах, которые у нас появились (Е. М. Вейцмана, Б. В. Мееровского, И. С. Нарского, В. В. Соколова и др.), философия великого английского материалиста и социального философа рассматривается с марксистских позиций в должном исторической перспективе. В. В. СоколовОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О ТЕЛЕ
Достойнейшему мужу Вильяму, графу Девонширскому [65], моему высокочтимому господину Первая часть «Основ философии», будущего памятника моей преданности Вам и Вашей благосклонности ко мне, написание которой после издания третьей части долго откладывалось мной, теперь наконец закончена. Я преподношу и посвящаю ее Вам, достойнейший господин. Книжечка эта невелика по объему, но содержательна, и если то, что правильно, имеет не меньший вес, чем то, что велико, то она достаточно велика. Вы увидите, что она легка для понимания и ясна для внимательного читателя, хорошо знакомого с математикой, т. е. для Вас. Вы увидите также, что почти все в ней ново, однако новизна ее никому не причинит вреда. Я знаю, что раздел философии, трактующей о линиях и фигурах, завещали нам, хорошо потрудившись над ним, древние и что этот раздел является в то же время наилучшим примером истинной логики, с помощью которой они смогли открыть и доказать свои знаменитые теоремы. Я знаю также, что гипотезу суточного вращения Земли, впервые высказанную древними, а вместе с ней и родившуюся от нее астрономию, т. е. небесную физику, позднейшие философы задушили словно словесной петлей. Таким образом, начало астрономии (за исключением фактов, полученных с помощью наблюдения) следует, как мне кажется, отнести не далее как к Николаю Копернику, который в прошлом столетии вернулся к воззрениям Пифагора, Аристарха и Филолая [66]. После него, когда уже стало известно о движении Земли и возникла трудная проблема – объяснить падение тяжелых тел, наш современник Галилей, преодолевая эти трудности, первым открыл нам главные врата всей физики, а именно указал природу движения. Поэтому, как мне кажется, только с него и следует начинать летосчисление физики. Науку же о человеческом теле, эту наиболее полезную часть физики, с достойной удивления проницательностью открыл и обосновал в своих книгах о движении крови и возникновении живых существ Вильям Гарвей, главный медик королей Якова и Карла и единственный, насколько мне известно, человек, который, преодолевая зависть, при жизни утвердил новое учение. До них в физике не было ничего достоверного, кроме свидетельств различных людей и рассказов о явлениях природы, если только можно считать последние достоверными, ибо они ведь не более достоверны, чем рассказы о человеческих делах. И лишь после них в течение очень короткого времени астрономию и общую физику отлично продвинули вперед Иоганн Кеплер, Пьер Гассенди, Марен Мерсенн [67], а специальную физику человеческого тела – умы и прилежание врачей, или подлинных естествоиспытателей – медиков, особенно же наших высокоученых мужей из Лондонского общества [68]. Следовательно, физика – новое явление. Но философия общества и государства (Philosophiacivilis) является еще более новой, она не старше (и я бросаю вызов своим недоброжелателям и завистникам, дабы они увидели, сколь немногого они добились), чем написанная мной книга О гражданине. Но действительно ли это так? Разве среди древнегреческих философов не было таких, которые бы трактовали о физике и о государстве? Безусловно, среди них были люди, претендовавшие на это, о чем свидетельствует высмеивающий их Лукиан [69]; о том же свидетельствует и история государств, из которых такие философы слишком часто изгонялись публичными эдиктами. Но это вовсе не значит, что такая философия существовала. В Древней Греции имела хождение фантастическая концепция, внешне похожая на философию (в сущности же мошенническая и нечистоплотная), которую неосторожные люди принимали за философию, присоединяясь к тем или к другим учителям ее, хотя и несогласным друг с другом. Таким учителям мудрости эти люди доверяли за высокую плату своих детей, хотя они не могли научить их ничему, кроме того, как вести споры, а также, пренебрегая законами, решать любой вопрос по собственному произволу [70]. В эти времена появились первые после апостолов учители церкви; и когда они в борьбе против язычников начали защищать христианскую веру с помощью естественного разума, то они и сами начали философствовать и смешивать с учениями Священного писания некоторые воззрения языческих философов. Первоначально они переняли от Платона некоторые наименее опасные из его учений. Впоследствии же, заимствуя из Физики и Метафизики Аристотеля множество неудачных и неверных положений, они едва ли не предали крепость христианской веры, впустив в нее врага. С этого времени место ????????? (богопочитания) заняла схоластика, именуемая ??????'??? (теологией); она шествовала, опираясь на здоровую ногу, каковой является Священное писание, и на больную, каковой была та философия, которую апостол Павел назвал суетной, а мог бы назвать и пагубной. Ибо эта философия возбудила в христианском мире бесчисленные споры о религии, которые привели к войнам. Эта философия подобна Эмпусе афинского комедиографа [71]. В Афинах ее считали божеством, обладающим меняющейся внешностью, причем одна ее нога была медной, а другая – ослиной. Как полагали, ее послала Геката [72], чтобы известить афинян о предстоящем несчастье. Я думаю, что против этой Эмпусы нельзя придумать лучшего заклятия, чем разграничение правил религии, т. е. правил, согласно которым следует чтить Бога и которые следует искать в законах, и правил философии, т. е. учений частных людей. При этом учения религии должно доставлять Священное писание, а философские учения – естественный разум. И это, несомненно, так и произойдет, если я буду правильно и ясно трактовать основы только философии, как я и стараюсь делать. Так, в третьей, уже изданной посвященной Вам части всякое как духовное, так и светское – правительство возведено мной к одной и той же высшей власти, причем я использовал наиболее прочные доводы и не вступал в противоречие с божественным словом. Теперь же, приведя в порядок и ясно изложив истинные основания физики, я приступаю к тому, чтобы отпугнуть и прогнать эту метафизическую Эмпусу не посредством борьбы, а посредством дневного света. Я уверен (если только страх, почтение и сомнение пишущего могут придать какую-то уверенность в написанном), что все доказано мной правильно; при этом в первых частях данной книги я опирался на определения (дефиниции), а в четвертой – на гипотезы, не являющиеся абсурдными. Если же какой-либо из моих выводов покажется Вам доказанным не столько полно, чтобы это могло удовлетворить всех, то причина будет в том, что я не излагал все для всех, а писал некоторые вещи только для геометров [73]. Все же у меня нет сомнения в том, что в целом книга сможет удовлетворить Вас. Остается еще вторая часть – О человеке, раздел которой об оптике, состоящий из восьми глав, я написал шесть лет тому назад, прибавив к ним чертежи, относящиеся к различным главам. Остальное же, если позволит Бог, я завершу в меру своих сил [74], хотя, будучи уже научен оскорбительными нападками и мелкими придирками некоторых людей, не разбирающихся в предмете [75], я знаю, что тот, кто станет говорить об истинной природе человека, обретет значительно меньше благодарности, чем он того заслуживает. И тем не менее я буду нести свою ношу и не стану жаловаться на зависть, а лучше отомщу завистникам, идя далее в избранном мной направлении. Ибо мне достаточно Вашей благодарности, которой я обладаю; я же в меру своих сил буду всегда проявлять к Вам благодарность, молясь всемогучему и всеблагому Богу о сохранении Вашего здоровья и жизни. Нижайший слуга Вашего превосходительства Томас Гоббс. Лондон, 23 апреля 1655 г.К ЧИТАТЕЛЮ
О философии, основы которой я здесь собираюсь изложить, ты, любезный читатель, не должен думать как о чем-то, при помощи чего можно раздобыть философский камень, или как об искусстве, которое представлено в трактатах по метафизике. Философия есть скорее естественный человеческий разум, усердно изучающий все сотворенные вещи, чтобы сообщить правду об их порядке, их причинах и следствиях. Философия есть дочь твоего мышления и всего мира, она живет в тебе самом, правда, в еще не ясной форме, подобно Мира-прародителю в период его бесформенного начала. Ты должен действовать, как скульпторы, которые, обрабатывая бесформенную материю резцом, не творят форму, а выявляют ее. Подражай акту творения! Пусть твое мышление (если ты желаешь серьезно работать над философией) вознесется над хаотической бездной твоих рассуждений и экспериментов. Все хаотическое должно быть разложено на составные части, а последние следует отличить друг от друга, и всякая часть, получив соответствующее ей обозначение, должна занять свое прочное место. Иными словами, необходим метод, соответствующий порядку творения самих вещей. Порядок же творения был следующим: свет, отделение дня от ночи, протяженность, светила, чувственно воспринимаемое, человек. Заключительным актом творения явилось установление закона (mandatum). Порядок исследования будет, таким образом, следующим: разум, определение, пространство, созвездия, чувственное свойство, человек, а после достижения последним зрелости -гражданин. В первом разделе первой части, озаглавленном Логика, я зажигаю светоч разума. Во втором разделе, названном Первая философия, я различаю посредством точного определения понятий идеи наиболее общих вещей, с тем чтобы устранить все сомнительное и неясное. Третий раздел посвящен вопросам пространственного протяжения, т. е. геометрии. Четвертый раздел описывает движение созвездий и, кроме того, чувственные свойства. Во второй части всей системы, если на то будет божья воля, я подвергну рассмотрению природу человека, а в третьей – уже ранее изложенный нами вопрос о гражданине. Я следовал тому методу, который сможешь применить и ты, если он встретит твое одобрение. Ибо я не навязываю тебе ничего своего, а только предлагаю твоему вниманию. Каким бы методом ты, однако, ни пользовался, во всяком случае я бы весьма рекомендовал твоему вниманию философию, т. е. стремление к мудрости, недостаток которой в самое недавнее время причинил всем нам много несчастий. Ибо даже те, кто стремятся к богатству, любят мудрость: ведь сокровища радуют их лишь потому, что они как в зеркале могут увидеть в них собственную мудрость. Таким же образом и те, кого привлекает государственная служба, ищут только место, где бы они могли проявить свою мудрость. Даже падкие на удовольствия люди пренебрегают философией только потому, что не знают, какое огромное наслаждение может доставить постоянное и мощное соприкосновение души с прекраснейшим из миров. И наконец, если бы я не имел никакого другого основания рекомендовать тебе философию, то я сделал бы это (поскольку человеческий разум в такой же мере не терпит пустого времени, как природа – пустого пространства) затем, чтобы ты мог приятно заполнить ею часы досуга и не был вынужден от чрезмерного безделья мешать людям занятым или сближаться с людьми праздными, что принесло бы вред тебе самому. Прощай! Томас Гоббс. 72РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ИСЧИСЛЕНИЕ, ИЛИ ЛОГИКА
ГЛАВА I О ФИЛОСОФИИ
1. Введение. 2. Развернутое определение философии. 3. Рассуждение. 4. Что такое свойство. 5. Каким образом о наличии свойства заключают исходя из производящего основания, и наоборот. 6. Цель философии. 7. Польза. 8. Предмет. 9. Части. 10. Заключение. 1. Философия, как мне кажется, играет ныне среди людей ту же роль, какую, согласно преданию, в седой древности играли хлебные злаки и вино в мире вещей. Дело в том, что в незапамятные времена виноградные лозы и хлебные колосья лишь кое-где попадались на полях, посевов же и посадок не было. Поэтому люди питались тогда желудями, и всякий, кто осмеливался попробовать незнакомые или сомнительные ягоды, рисковал заболеть. Подобным же образом и философия, т. е. естественный разум, врождена каждому человеку, ибо каждый в известной мере рассуждает о каких-нибудь вещах. Однако там, где требуется длинная цепь доводов, большинство людей сбивается с пути и уклоняется в сторону, так как им не хватает правильного метода, что можно сравнить с отсутствием сознательных посевов. В результате люди, которые довольствуются желудями повседневного опыта и не ищут философии или отвергают ее, считаются, согласно общему мнению, обладающими более здравыми понятиями, чем те, кто не придерживаются общепринятых мнений и, поверхностно усвоив сомнительные взгляды, подобно безумцам, беспрестанно спорят и ссорятся между собой. Я, правда, признаю, что та часть философии, которая трактует о величинах и фигурах, прекрасно разработана. Но, поскольку я не вижу, что другие ее части разработаны с таким же усердием, я решаюсь лишь развить по мере моих сил немногие элементы всей философии, как своего рода семена, из которых, как мне кажется, может вырасти чистая и истинная философия. Я вполне сознаю, как трудно выбить из головы воззрения, внедрившиеся и укоренившиеся в ней благодаря авторитету краснорочивейших писателей; эта трудность усугубляется еще и тем, что истинная (т. е. точная) философия сознательно отвергает не только словесные белила и румяна, по и почти всякие прикрасы. Первые основы всякой науки действительно далеко не ослепляют своим блеском: они скорее скромны, сухи и почти безобразны. Но так как среди людей, несомненно, есть и такие, хотя бы их и было немного, кому во всем доставляет удовольствие истина сама по себе и надежность довода, то я считал своей обязанностью прийти этим немногим на помощь. Итак, я перехожу к делу и начинаю с самого определения понятия философии. 2. Философия есть познание, достигаемое посредством правильного рассуждения (per rectam ratiocinationem) и объясняющее действия, или пиления, из познанных нами причин, или производящих основании, и, наоборот, возможные производящие основания – из известных нам действий. Чтобы понять это определение, нужно учесть, во-первых, что хотя восприятие и память (способности, которыми человек обладает вместе со всеми животными) и доставляют нам знание, но так как это знание дается нам непосредственно природой, а не приобретается при помощи логического (ratiocinaiido) рассуждения, то оно не есть философия. Во-вторых, следует помнить, что, поскольку опыт целиком основывается на памяти, а предусмотрительность (prudentia), или предвидение будущего, является не чем иным, как ожиданием вещей, подобных тем, которые уже встречались нам в нашей практике, предусмотрительность не должна быть причислена к философии. Под рассуждением я подразумеваю, учитывая все сказанное, исчисление. Вычислять – значит находить сумму складываемых вещей или определить остаток при вычитании чего-либо из другого. Следовательно, рассуждать значит то же самое, что складывать и вычитать. Если кто-нибудь захочет прибавить: и то же самое, что умножать или делить, то я ничего не буду иметь против этого, так как умножение есть то же самое, что сложение одинаковых слагаемых, а деление – то же, что вычитание одинаковых вычитаемых, повторяемое столько раз, сколько это возможно. Рассуждение (ratiocinatio), таким образом, сводится к двум умственным операциям – сложению и вычитанию. 3. Поясним, однако, с помощью нескольких примеров то, как мы обычно рассуждаем без слов, т. е. складываем или вычитаем что-либо в уме, в безмолвно протекающем мышлении. Видя какой-нибудь дальний предмет неясно и не будучи еще в состоянии определить, что это такое, мы все-таки уже ощущаем в этом предмете то, в силу чего он называется телом. Подойдя ближе и увидев, что тот же самый предмет, сохраняя известное положение, находится то в одном, то в другом месте, мы получим о нем новое представление, благодаря которому назовем его одушевленным. И если мы затем, подойдя вплотную к такому предмету, увидим его фигуру, услышим его голос и убедимся в наличии других фактов, являющихся признаками разумного существа, то у нас образуется третье представление, хотя еще и не выраженное словом, а именно представление, в силу которого мы называем кого-либо разумным существом. Когда мы, наконец, точно и во всех подробностях видим весь предмет и узнаем его, наша идея его оказывается сложенной из предыдущих идей, соединенных в той же последовательности, в какой в речи складывается в название разумное одушевленное тело, или человек, отдельные имена – тело, одушевленное, разумное. Точно так же в результате сложения представлений четырехугольник равносторонний, прямоугольный получается понятие квадрат. Дело в том, что в нашем уме может сложиться представление четырехугольник без представления равносторонний, точно так же как представление равносторонний четырехугольник – без представления прямоугольный. Усвоив себе в отдельности эти представления, наш ум может объединить их в одно понятие, или в единую идею,- квадрат. Таким образом, ясно, как наш ум образует путем соединения свои представления. Может происходить и обратное. Находясь лицом к лицу с каким-либо человеком, мы имеем в уме всю идею его. Когда же этот человек удаляется и мы следуем за ним только своим взором, то мы прежде всего теряем идею тех вещей, которые суть признаки разума; однако нашим глазам еще представляется одушевленное тело, и, таким образом, из всей идеи человек, т. е. разумное одушевленное тело, вычитается идея разумное, в результате чего остается идея одушевленное тело; немного погодя, с увеличением расстояния между нами и удаляющимся, мы утрачиваем идею одушевленность, и у нас остается только идея тела; наконец, когда уже ничего не видно, вся идея утрачивается. Эти примеры, как я полагаю, в достаточной степени выясняют сущность той операции исчисления, которую без слов производит ум. Не следует поэтому думать, будто операция исчисления в собственном смысле производится только над числами и будто человек отличается (как, согласно свидетельству древних, полагал Пифагор) от других живых существ только способностью считать. Нет, складывать и вычитать можно и величины, тела, движения, времена, степени, качества, действия, понятия, отношения, предложения и слова (в которых содержится всякого рода философия) . Прибавляя или отнимая, т. е. производя вычисление, мы обозначаем это глаголом мыслить, что означает также исчислять, или умозаключать (?????????). 4. Действия и явления суть способности, или предрасположения, тел, на основании которых мы различаем их друг от друга, т. е. познаем, что одно равно или не равно другому, сходно или не сходно с ним. Если, как в предыдущем примере, мы достаточно близко подходим к какому-нибудь телу, чтобы заметить, что оно движется или идет, то мы отличаем его от дерева, колонны и других известных нам неподвижных тел. Таким образом, присущая живому существу способность к движению является тем свойством, с помощью которого мы отличаем его от дерева, колонны и других известных нам неподвижных тел. Таким образом, присущая живому существу способность к движению является тем свойством, с помощью которого мы отличаем его от других тел. 5. Как, зная производящее основание, можно прийти к познанию действия, легче всего уяснить себе на примере круга. Представим себе, что перед нами плоская фигура, чрезвычайно похожая на фигуру круга. В этом случае мы на основании простого чувственного восприятия не сможем решить, является ли она на самом деле кругом или нет. Иное дело, если нам известно, как возникла данная фигура. Предположим, что она была образована путем передвижения по окружности какого-нибудь тела, один конец которого оставался неподвижным. Зная это, мы можем сделать следующее умозаключение: передвигаемое тело, все время находящееся на одном и том же расстоянии, примыкает сначала к одному радиусу, потом к другому, третьему, четвертому и всем остальным по очереди; следовательно, линия одной и той же длины, проведенная из одной и той же точки, будет везде достигать периферии, т. е. все радиусы будут равны. Мы познаем таким образом, что вышеуказанным путем возникает фигура, все точки периферии которой удалены от ее единственного центра одинаково -на длину радиуса. Подобным же образом мы можем, исходя из данной фигуры, сделать умозаключение относительно ее если не действительного, то хотя бы возможного возникновения; познав только что выясненные свойства круга, нам легко определить, образует ли круг приведенное указанным образом в движение тело. 6. Цель, или назначение, философии заключается, таким образом, в том, что благодаря ей мы можем использовать к нашей выгоде предвидимые нами действия и на основании наших знаний по мере сил и способностей планомерно вызывать эти действия для умножения жизненных благ. Ибо молчаливая радость и душевное торжество от преодоления трудностей или открытия наиболее сокровенной истины не стоят тех огромных усилий, которых требует занятие философией; я и не считаю возможным, чтобы какой-либо человек усердно занимался наукой с целью обнаружить перед другими свои знания, если он не надеется этим ничего другого. Знание есть только пуп, к силе. Теоремы (которые в геометрии являются путем исследования) служат только решению проблем. И всякое умозрение в конечном счете имеет целью какое-нибудь действие или практический успех. 7. Однако мы лучше всего поймем, насколько велика польза философии, особенно физики и геометрии, если наглядно представим себе, как она может содействовать благу человеческого рода, и сравним образ жизни тех народов, которые пользуются ею, с образом жизни тех, кто лишен ее благ. Своими величайшими успехами человеческий род обязан технике, т. е. искусству измерять тела и их движения, приводить в движение тяжести, воздвигать строения, плавать по морям, производить орудия для всякого употребления, вычислять движения небесных тел, пути звезд, календарь и чертить карту земного шара. Какую огромную пользу извлекают люди из этих наук, легче понять, чем сказать. Этими благами пользуются не только все европейские народы, но и большинство азиатских и некоторые из африканских народов. Народности Америки, однако, равно как и племена, живущие поблизости от обоих полюсов, совершенно лишены этих благ. В чем причина этого? Разве первые более даровиты, чем последние? Разве не обладают все люди одной и той же духовной природой и одними и теми же духовными способностями? Что же имеют одни и не имеют другие? Только философию! Философия, таким образом, является причиной всех этих благ. Пользу же философии морали (philosophia moralis) и философии государства (philosophia civilis) можно оценить не столько по тем выгодам, которые обеспечивает их знание, сколько по тому ущербу, который наносит их незнание. Ибо корень всякого несчастья и всех зол, которые могут быть устранены человеческой изобретательностью, есть война, в особенности война гражданская. Последняя приносит с собой убийства, опустошения и всеобщее обнищание. Основной причиной войн является нежелание людей воевать, ибо воля человека всегда стремится к благу или по крайней мере к тому, что кажется благом; нельзя объяснить гражданскую войну и непониманием того, насколько вредны ее последствия, ибо кто же не понимает, что смерть и нищета – огромное зло. Гражданская война возможна только потому, что люди не знают причин войны и мира, ибо только очень немногие занимались исследованием тех обязанностей, выполнение которых обеспечивает упрочение и сохранение мира, т. е. исследованием истинных законов гражданского общества. Познание этих законов есть философия морали. Но почему же люди не изучили этой философии, если не потому, что до сих пор никто не дал ясного и точного ее метода? Как же иначе понять то, что в древности греческие, египетские, римские и другие учители мудрости смогли сделать убедительными для не искушенной в философии массы свои бесчисленные учения о природе богов, в истинности которых они сами не были уверены и которые явно были ложны и бессмысленны, а с другой стороны, не смогли внушить той же самой массе сознания ее обязанностей, если допустить, что они сами знали эти обязанности? Немногих дошедших до нас сочинений геометров достаточно, чтобы устранить всякие споры по тем вопросам, о которых они трактуют. Можно ли думать, что бесчисленные и огромные тома, написанные моралистами, не оказали бы подобного действия, если бы только они содержали несомненные и доказанные истины? Что же другое могло бы быть причиной того, что сочинения одних научны, а сочинения других содержат только звонкие фразы, если не то обстоятельство, что первые написаны людьми, знавшими свой предмет, последние же – людьми, ничего не понимавшими в той науке, которую они излагали, и желавшими только продемонстрировать свое красноречие или свой талант? Я не отрицаю, что книги последнего рода все же в высшей степени приятно читать: они в большинстве случаев очень ярко написаны и содержат много остроумных, полезных и притом совсем необыденных мыслей, которые, однако, чаще всего не могут претендовать на всеобщее признание, хотя и высказаны их авторами в форме всеобщности. Поэтому такие сочинения в различные эпохи в различных местах могут нередко служить так же хорошо для оправдания преступных намерений, как и для формирования правильных понятий об обязанностях по отношению к обществу и государству. Основным недостатком этих сочинений является отсутствие в них точных и твердых принципов, которыми мы могли бы руководствоваться при оценке правильности или неправильности наших действий. Бесполезно устанавливать нормы поведения применительно к частным случаям, прежде чем будут найдены эти принципы, а также определенный принцип и мера справедливости и несправедливости (что до настоящего момента еще пи разу но было сделано). Так как из незнания гражданских обязанностей, т. е. науки о морали, проистекают гражданские войны, являющиеся величайшим несчастьем человечества, то мы по праву должны ожидать от их познания огромных благ. Итак, мы видим, как велика польза всеобщей философии, не говоря уже о славе и других радостях, которые она приносит с собой. 8. Предметом философии, или материей, о которой она трактует, является всякое тело, возникновение которого мы можем постичь посредством размышлений и которое мы можем в каком-либо отношении сравнивать с другими телами, иначе говоря, всякое тело, в котором происходит соединение и разделение, т. е. всякое тело, происхождение и свойства которого могут быть познаны нами. Это определение, однако, вытекает из определения самой философии, задачей которой является познание свойств тел из их возникновения или их возникновение из их свойств. Следовательно, там, где нет ни возникновения, ни свойств, философии нечего делать. Поэтому философия исключает теологию, т. е. учение о природе и атрибутах вечного, несотворенного и непостижимого Бога, в котором нельзя себе представить никакого соединения и разделения, никакого возникновения. Философия исключает также учение об ангелах и о всех тех вещах, которые нельзя считать ни телами, ни свойствами тел, так как в них нет соединения или разделения, ни понятий большего и меньшего, т. е. по отношению к ним неприменимо научное рассуждение. Она исключает также историю, как естественную, так и политическую, хотя для философии обе в высшей степени полезны (более того, необходимы), ибо их знание основано на опыте или авторитете, но не на рассуждении. Она исключает всякое знание, имеющее своим источником божественное вдохновение, или откровение, потому что оно не приобретено нами при помощи разума, а мгновенно даровано нам божественной милостью (как бы некое сверхъестественное восприятие). Она, далее, исключает не только всякое ложное, но и плохо обоснованное учение, ибо то, что познано посредством правильного рассуждения, не может быть ни ложным, ни сомнительным; вот почему ею исключается астрология в той форме, в какой она теперь в моде, и тому подобные скорее пророчества, чем науки. Наконец, из философии исключается учение о богопочитании, так как источником такого знания является не естественный разум, а авторитет церкви, и этого рода вопросы составляют предмет веры, а ненауки. 9. Философия распадается на две основные части. Всякий, кто приступает к изучению возникновения и свойств тел, сталкивается с двумя совершенно различными родами последних. Один из них охватывает предметы и явления, которые называют естественными, поскольку они являются продуктами природы; другой – предметы и явления, которые возникли благодаря человеческой воле, в силу договора и соглашения людей, и называется государством (civilas). Поэтому философия распадается на философию естественную и философию гражданскую. Но так как, далее, для того чтобы познать свойства государства, необходимо предварительно изучить склонности, аффекты и нравы людей, то философию государства подразделяют обычно на два отдела, первый из которых, трактующий о склонностях и нравах, называется этикой, а второй, исследующий гражданские обязанности,- политикой или просто философией государства. Поэтому мы, предварительно установив то, что относится к природе самой философии, прежде всего будем трактовать о естественных телах, затем об умственных способностях и нравах людей и, наконец, об обязанностях граждан. 10. И хотя, может быть, вышеприведенное определение не понравится некоторым ученым, которые утверждают, что при свободе произвольных определений можно вывести что угодно из чего угодно (хотя, как мне думается, не трудно было бы показать, что данное мной определение согласуется с общим пониманием всех людей). Однако, для того чтобы ни для меня, ни для них не было повода к диспутам, я открыто заявляю, что намерен здесь излагать только элементы той науки, которая исходя из причин, производящих какую-нибудь вещь, хочет исследовать ее действия или, наоборот, на основании познания действий какой-нибудь вещи стремится познать производящие ее причины. Пусть поэтому те, кто желает другой философии, определенно знают, что им придется ее искать в другом месте.ГЛАВА II О НАИМЕНОВАНИЯХ
1. Необходимость для запоминания чувственных образов, или меток. Определение метки. 2. Необходимость меток для обозначения умственных представлений. 3. В обоих случаях первое место принадлежит именам. 4. Определение имени. 5. Имена являются знаками не вещей, а мыслей. 6. Каким вещам дают имена. 7. Положительные и отрицательные имена. 8. Противоречащие имена. 9. Общие имена. 10. Имена первичного и вторичного порядка. 11. Имя всеобщее, частное, индивидуальное, неопределенное. 12. Имя однозначное и многозначное. 13. Имя абсолютное и относительное. 14. Имя простое и сложное. 15. Описание категорий (предикамента). 16. Некоторые соображения относительно категорий. 1. Каждый из своего собственного, и притом наиболее достоверного, опыта знает, как расплывчаты и непрочны мысли людей и как случайно их повторение. Ибо никто не способен представить себе множество без чувственно воспринимаемых и ясно представляемых единиц измерения, цветов – без их чувственно воспринимаемых и ясно представляемых образов, чисел – без их наименований (расположенных в соответствующем порядке и запечатленных в памяти). При отсутствии указанных вспомогательных средств все добытое человеком с помощью умозаключений мгновенно ускользает и может быть вновь приобретено лишь посредством новой работы. Отсюда следует, что для занятия философией необходимы некоторые чувственные объекты запоминания, при помощи которых прошлые мысли можно было бы оживлять в памяти и как бы закреплять в определенной последовательности. Такого рода объекты запоминания мы будем называть метками (Notae), понимая под этим чувственно воспринимаемые вещи, произвольно выбранные нами, с тем чтобы при помощи их чувственного восприятия пробудить в нашем уме мысли, сходные с теми, ради которых мы применили эти знаки. 2. Далее, если бы даже человек выдающегося ума посвятил все свое время мышлению и изобретению соответствующих меток для подкрепления своей памяти и преуспеяния благодаря этому в знаниях, то ему самому эти старания явно принесли бы небольшую пользу, а другим – вовсе никакой. Ведь если метки, изобретенные им для развития своего мышления, не будут сообщены другим, то все его знание исчезнет вместе с ним. Только тогда, когда эти метки памяти являются достоянием многих и то, что изобретено одним, может быть перенято другим, паука может развиваться на благо всего человеческого рода. Вот почему для развития философских знаний необходимы знаки, при помощи которых мысли одного могли бы быть сообщены и разъяснены другим. Знаками (signa) же друг друга нам служат обычно вещи, следующие друг за другом, предваряющие или последующие, поскольку мы замечаем, что в их последовательности существует известная правильность. Так, темные тучи служат знаком предстоящего дождя, а дождь – знаком предшествовавших темных туч, и это происходит только потому, что мы редко наблюдаем темные тучи, за которыми не следовал бы дождь, и никогда не видели дождя без предшествующих туч. Среди знаков некоторые естественны, например те, о которых мы только что говорили; другие же произвольны, т. е. выбираются нами по произволу: сюда относятся свешивающийся плющ для обозначения виноторговли, камень, указывающий границу поля, и определенные сочетания слов, обозначающие наши мысли и движения нашего духа. Разница между метками и знаками состоит в том, что первые имеют значение для нас самих, последние же – для других. 3. Если издаваемые людьми звуки так связаны, что образуют знаки мыслей, то их называют речью, а отдельные части речи – именами. Но вследствие того что для приобретения философских знаний, как указывалось, необходимы метки и знаки (метки – чтобы мы могли вспомнить собственные мысли, знаки – чтобы мы могли сообщить их другим), мы пользуемся в обоих случаях именами. Однако они служат метками до того, как их начинают применять в качестве знаков. Ибо если бы на Земле существовал только один-единственный человек, то имена могли бы служить лишь тогда, когда было бы кому сообщить их. Кроме того, имена, каждое само по себе, могут служить только метками для оживления мыслей в памяти; знаками же эти имена служат лишь тогда, когда их соединяют в определенном порядке в предложения, части которых они образуют. Слово человек, например, возбуждает в слушателе идею человека, но это слово (если не прибавлено, что человек есть живое существо или что-нибудь соответствующее) не есть знак того, что в уме говорящего была именно эта идея; оно только показывает, что говорящий хотел сказать нечто, началом чего является слово человек, но могло бы быть также слово человекообразный (homogeneum). Поэтому имена по своему существу прежде всего суть метки для подкрепления памяти. Одновременно, но во вторую очередь они служат также для обозначения и изложения того, что мы сохраняем в своей памяти. 4. Отсюда вытекает следующее определение имени. Имя есть слово, произвольно выбранное нами в качестве метки, чтобы возбуждать в нашем уме мысли, сходные с прежними мыслями, и одновременно, будучи вставленным в предложение и обращенным к кому-либо другому, служить признаком того, какие мысли были и каких не было в уме говорящего. Вкратце замечу только, что я считаю возникновение имен результатом произвола, что является, по моему мнению, предположением, не подлежащим никакому сомнению. Ибо тот, кто наблюдает, как ежедневно возникают новые имена и исчезают старые и как различные нации употребляют различные имена, кто видит, что между именами и вещами нет никакого сходства и невозможно никакое сравнение, не может серьезно думать, будто имена вещей вытекают из их природы. Ибо если некоторые имена животных и вещей, которые употребляли наши прародители, были установлены самим Богом, то он ведь установил их по своему усмотрению. Да и эти имена позднее, во время постройки вавилонской башни, и вообще с течением времени вышли из употребления, были забыты и заменены другими, произвольно изобретенными и применяемыми людьми. И наконец, каково бы ни было употребление слов в обыденной жизни, во всяком случае философы, стремившиеся сообщить другим свои знания, всегда имели и будут иметь возможность, даже – необходимость выбирать по собственному усмотрению имена для отчетливого обозначения своих мыслей, чтобы быть понятыми. Ведь и математикам никто, кроме их самих, не указывает слов, когда они называют изобретенные ими фигуры параболами, гиперболами, циссоидами, квадратрисами или обозначают величины как А и В. 5. Так как, согласно определению, имена как составные части речи есть знаки наших представлений, то отсюда ясно, что они не есть знаки самих вещей. В самом деле, в каком еще смысле сочетание звуков в слове камень может явиться знаком камня, если не в том, что слушатель, исходя из этого сочетания, заключает: говорящий думал о камне. Таким образом, спор о том, обозначают ли имена материю, форму или нечто представляющее их соединение, и другие подобные тонкости метафизиков вытекают только из ложных представлений. Кто основывается на таких представлениях, не понимает слов, о которых он спорит. 6. К тому же вообще не необходимо, чтобы каждое имя было именем некой вещи. Ведь подобно тому, как слова дерево, человек, камень суть имена самих вещей, так и образы человека, камня, дерева, возникающие во сне, имеют свои имена, хотя это и не вещи, а только воображаемые их образы. Ведь мы можем помнить и о них, а поэтому и они должны, подобно вещам, иметь свои метки и знаки. Точно так же и слово будущее является именем, но будущее как вещь не существует, и мы не знаем, наступит ли когда-нибудь то, что именуется нами будущим. Однако это слово имеет определенный смысл: привыкнув связывать в мышлении прошлое с настоящим, мы обозначаем такого рода связь словом будущее. Мы обозначаем именем и то, чего нет, не было, не будет и не может быть, говоря: то, чего нет, не было и не будет, или, короче, невозможное. Наконец, и слово ничто есть имя, но по самому смыслу своему не может обозначать вещи. И тем не менее как полезно это слово, когда мы, например, вычитаем 2 и 3 из 5 и, чтобы закрепить в памяти окончательный результат, а именно то, что у нас не остается никакого остатка, применяем выражение в остатке – ничего! На том же основании мы можем также, вычитая большее число из меньшего, правильно обозначить остаток как меньше, чем ничто. Такого рода остатки ум измышляет ради научных задач, и он стремится удерживать их в памяти, чтобы в случае надобности иметь возможность пользоваться ими. Так как, однако, всякое имя имеет отношение к объекту наименования, то независимо от того, существует ли он в природе как вещь или нет, мы все же можем в научных целях обозначить всякий такой объект как вещь, причем безразлично, существует ли эта вещь в действительности или только в представлении. 7. Имена различаются между собой прежде всего тем, что некоторые из них положительны, или утвердительны, другие же – отрицательны; последние обычно называются также привативными или бесконечными. Положительными являются те имена, которые мы применяем при сходстве, равенстве или тождестве рассматриваемых вещей; отрицательными – те, которые мы применяем при различии, несходстве и неравенстве этих же вещей. Примерами первых могут служить слова человек и философ, ибо слово человек означает любого из какой-либо толпы людей, а философ – любого из какой-либо совокупности философов, так как нее они подобны друг другу. Точно так же и Сократ является положительным именем, так как всегда обозначает одно и то же лицо. Отрицательными являются те имена, которые получаются путем прибавления к положительным именам отрицательной частицы не, например: не-человек, не-философ. Положительные имена, однако, возникли ранее отрицательных, ибо без первых было бы невозможно образование последних. В самом деле, лишь после того, как стали применять слово белый для обозначения определенных вещей, а затем слова черный, голубой, прозрачный и т. д. для обозначения других вещей, не было возможности обозначить одним именем отличия всех этих цветов от белизны, число которых бесконечно, кроме простого отрицания белого, т. е. словом не-белое или равнозначащим выражением, в котором повторяется слово белое (например, непохожее на белое). Посредством отрицательных имен мы указываем себе и другим, чего мы не думаем. 8. Положительные и отрицательные имена исключают друг друга; они не могут быть применены к одной и той же вещи. Однако какое-либо из двух исключающих друг друга имен применимо к любой вещи, ибо все, что существует, есть человек или не-человек, белое или не-белое и т. д. Это положение настолько очевидно, что не требует дальнейшего доказательства или объяснения. Однако оно становится темным, когда говорят, что одна и та же вещь не может одновременно быть и не быть; оно становится абсурдным и смешным в том случае, когда говорят, что все существующее или существует, или не существует. Достоверность этой аксиомы (состоящей в том, что к любой вещи одно из двух взаимно исключающих имен применимо, а другое нет) является принципом и основой всякого умозаключения и в силу этого всей философии. Поэтому вышеуказанное положение должно быть сформулировано настолько точно, чтобы оно само по себе было ясно и понятно всякому. Оно и является таковым, кроме тех, кто в результате чтения обширных и ученых метафизических исследований на эту тему дошел до того, что потерял способность понимать самые понятные вещи. 9. Некоторые из имен, несомненно, общи многим вещам, такие, как: человек, дерево; другие же – свойственны вещам единичным, а именно: тот, кто написал Илиаду, Гомер, этот, тот. Так как общее имя применяется ко множеству отдельно взятых вещей (но к каждому порознь, а не ко всем одновременно: человек есть имя не человеческого рода, а отдельных людей – Петра, Ивана и других), то оно называется всеобщим (universale). Следовательно, это всеобщее имя не обозначает ни существующей в природе вещи, ни всплывающей в уме идеи (idea) или образа (phantasma), но всегда есть обозначение какого-то слова, или имени. Поэтому если мы говорим, что живое существо, камень, привидение или что-нибудь другое суть универсалии, то это следует понимать не так, будто человек или камень были, есть или могут быть универсалиями, а лишь так, что соответствующие слова (живое существо, камень и т. д.) – универсалии, т. е. имена, общие многим пещам; представления же (conceptus), соответствующие этим вещам в нашем уме, только образы и призраки (imagines el phanlasniata) отдельных живых существ и других вещей. Чтобы понять значение всеобщих имен, или универсалий, не требуется поэтому никакой другой способности, кроме воображения, при помощи которого мы вспоминаем, что такие имена возбуждают в уме представления то тех, то других вещей. Из общих имен одни в большей, другие -в меньшей степени общи вещам. Большей степенью общности обладает имя, применимое к большему числу, а меньшей – имя, применимое к меньшему числу вещей. Так, слово живое существо обладает большей общностью, чем человек, лошадь или лев, ибо оно включает в себя все эти слова. При сопоставлении более общего и менее общего имен первое называют родовым (genus), или общим (generale), именем, а второе – именем видовым (species), или особенным (speciale). 10. Отсюда возникает третье подразделение имен, а именно деление на имена первичного и вторичного порядка. К первым относятся имена вещей (человек, камень), к последним – имена имен и предложений (всеобщий, частный, род, вид, умозаключение и т. п.). 11. В-четвертых, некоторые имена имеют определенное, или ограниченное, а другие – неопределенное (indetermmala), или неограниченное (indefinita), значение. Определенное и ограниченное значение имеет, во-первых, имя, которое относится лишь к одной вещи и называется индивидуальным, например: Гомер, это дерево, то живое существо и т. д. Во-вторых, такое значение имеет всякое имя, к которому прибавлено одно из слов: каждое, любое, то и другое, одно из двух и т. п. Такого рода имя считается также всеобщим, ибо оно обозначает каждую из вещей, общим именем которых является. Определенное значение такое имя имеет потому, что при его произнесении слушателю представляется именно та вещь, на которую говорящий хочет обратить его внимание. Неопределенное (indefinita) значение имеет прежде всего имя, к которому прибавлены слова: какое-то, некоторое и т. д. Такие имена называются частными (particulare). Неопределенное значение имеют, кроме того, обычные имена, поскольку не указано, являются ли они всеобщими [универсальными] или частными, например: человек, камень. Такие имена называются неопределенными. Частные и неопределенные имена имеют неопределенное значение, ибо слушатель не знает, какую вещь имеет в виду говорящий. Вот почему частные и неопределенные имена считаются в предложении эквивалентными. Но слова: всякое, любое, некоторое и т. д., указывающие на всеобщее или частное значение других слов, являются не именами, а только частями имен. Выражения всякий человек и тот человек, о котором думает слушатель, означают одно и то же. Точно так же означают одно и то же выражения любой человек и человек, о котором думает говорящий. Отсюда вытекает, что употребление такого рода знаков служит не удовлетворению собственной потребности, т. е. приобретению знаний путем собственного размышления (ибо каждый может достаточно ясно определить свои мысли и без помощи таких знаков), а лишь общению с другими, помогая сообщать им и прояснять для них наши идеи. Эти знаки изобретены не для того, чтобы они помогали нам вспомнить что-нибудь, а для того, чтобы сделать возможной беседу с другими. 12. Имена подразделяются еще на однозначные и многозначные. Однозначными являются те имена, которые в одном и том же контексте всегда обозначают одну и ту же вещь; многозначными – те, которые обозначают то одно, то другое. Так, имя треугольник считается однозначным, ибо всегда употребляется в одном и том же смысле; имя же парабола – многозначным, так как оно обозначает то аллегорию или сравнение, то определенную геометрическую фигуру [76]. Каждая метафора умышленно многозначна. Однако это различие касается не имен, а тех, кто их применяет, так как одни люди правильным и точным образом пользуются именами для исследования истины; другие, напротив, меняют их смысл ради красоты слога или обмана. 13. В-пятых, некоторые из имен абсолютны, а другие – относительны. Относительными являются те имена, которые применяются при сопоставлении, как-то: отец, сын, причина, следствие, сходно, несходно, равно, неравно, господин, слуга и т. д.; абсолютными – те, которые не подразумевают никакого сопоставления. Однако то, что было отмечено нами выше, когда мы указывали, что всеобщность есть особенность слов и имен, а не вещей, относится также и ко всем другим различиям имен, ибо вещи не бывают ни однозначными, ни многозначными, ни абсолютными, ни относительными. Дальнейшим подразделением имен является разделение их на конкретные и абстрактные, но так как абстрактные имена возникли из суждения и им предшествует определенное утверждение, то о них придется говорить позже. 14. В-шестых, имена бывают простые и сложные. При этом, однако, важно подчеркнуть, что в отличие от грамматики, где каждое отдельное слово считается именем, в философии надо считать одним именем также и сочетание любого числа слов, если это сочетание обозначает одну вещь. В философском словоупотреблении выражение чувствующее живое тело является одним именем, обозначающим одну вещь, т. е. всякое живое существо, между тем как грамматики разлагают его на три имени. Точно так же и прибавление предлога не делает в философии в отличие от грамматики из простого имени сложное. Я называю простым такое имя, которое внутри каждого рода является наиболее общим и имеет наибольший объем, сложным же – такое имя, которое благодаря сочетанию с другим именем ограничено в своей всеобщности и тем самым указывает на наличие в уме говорящего нескольких представлений, в силу чего последний и прибавляет к первому имени второе. Например, рассмотренное нами в первой главе понятие человек содержит в себе в качестве первичного представления идею чего-то протяженного, обозначаемого именем тело. Тело является поэтому простым именем, употребляемым для обозначения этого первичного понятия, и только для него. Позже из восприятия движений этого тела возникает другое понятие, на основании которого оно называется одушевленным телом. Такое выражение, как, впрочем, и слово живое существо, эквивалентное выражению одушевленное тело, я называю сложным именем. Еще более сложным является выражение одушевленное разумное тело или эквивалентное ему слово человек. Таким образом, мы видим, что сочетанию представлений в уме соответствует сочетание имен. Ведь как идеи или образы следуют в уме друг за другом, так и различные имена последовательно прибавляются друг к другу, а их совокупность образует сложное имя. Однако мы должны остерегаться думать, будто существующие вне сознания тела образуются подобным же образом, а именно будто в природе существует тело или какая-либо иная мыслимая вещь, которая первоначально не обладает никакой величиной и только после прибавления величины обретает количество, а в зависимости от него -плотность или разреженность, и будто это тело получает затем форму посредством прибавления фигуры, а благодаря освещению становится светлым или приобретает известный цвет. Хотя имеются некоторые, философствующие подобным образом. 15. Логики сделали попытку распределить по определенным шкалам, или ступеням, имена всех вещей путем подчинения имен с меньшим объемом именам с большим объемом. Так, в классе тел они на первое и высшее место ставят просто тело, а под ним – имена с меньшим объемом, посредством которых первое имя становится более определенным и ограниченным, например: одушевленное, неодушевленное и т. д., пока наконец не доходят до индивидуумов. Точно так же в классе величин они ставят на первое и высшее место просто величину, а за ней – линию, поверхность, плотность – имена с меньшим объемом. Эти группировки и ряды имен они обычно называют категориями, или предикаментами. По таким рядам могут быть распределены не только положительные, но и отрицательные имена. Следующие схемы дают пример такой таблицы категорий.
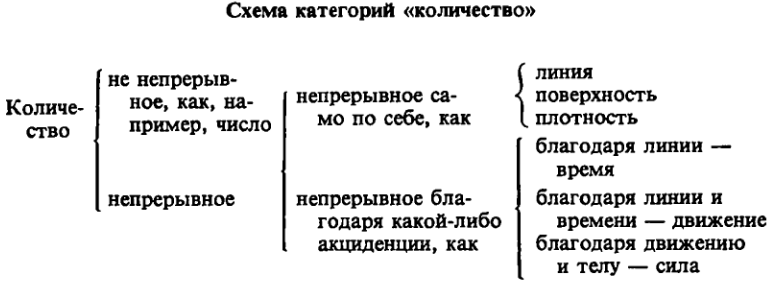
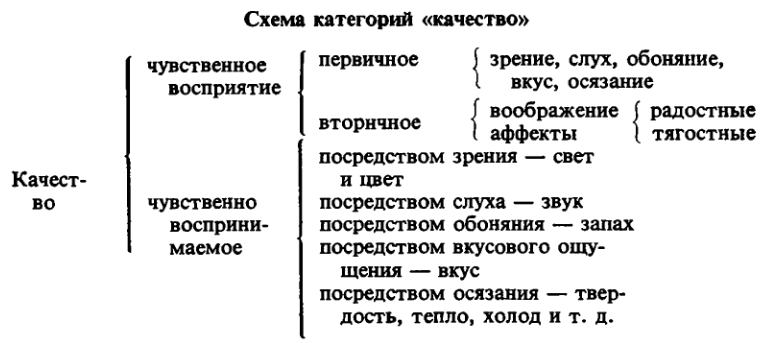
 К этому следует прибавить, что линия, поверхность и плотность (тело) могут быть количественно определены, так как равенство присуще их природе; но время может быть определено как большее, меньшее или равное только посредством линии и движения; скорость – посредством линии и времени; наконец, сила – посредством тела и скорости; иначе по отношению к ним вообще нельзя было бы применить категорию количества.
16. Относительно этих категорий следует прежде всего заметить, что разделение имен на взаимно исключающие, проведенное в первой схеме, может быть проведено и во всех других схемах. Подобно тому как тела делятся на одушевленные и неодушевленные, во второй схеме можно было бы разделить непрерывное количество на линию и не-линию, дальше не-линию – на поверхность и не-поверхность и т. д. В этом, однако, нет никакой нужды.
Во-вторых, следует заметить, что у положительных имен предшествующее (по порядку) всегда содержит в себе последующее, между тем как у отрицательных имен дело обстоит как раз наоборот. Так, слово живое существо является именем всякого человека и заключает поэтому в себе также и имя человек. He-человеком же, напротив, является всякая вещь, которая не есть живое существо. Таким образом, предшествующее (по таблице) имя неживое существо содержится в последующем имени не-человек.
В-третьих, нам следует остерегаться думать, будто посредством этих различений мы познаем и определяем не только имена, но и различия самих вещей. Эти различения, разумеется, не доказывают также (как отсюда нелепым образом заключали некоторые), что виды вещей не бесконечны.
В-четвертых, я бы не хотел, чтобы указанные схемы рассматривались как истинный и действительный порядок имен. Такой порядок могла бы дать только совершенная философия. И если, например, я отношу свет к категории качества, а кто-нибудь другой – к категории тела, то этим ни я, ни он не убедим друг друга, ибо правильность последнего определяют аргументы и логические рассуждения, а не классификации слов.
Наконец, я должен сознаться, что еще не видел сколько-нибудь заметной пользы от применения этих категорий в философии. Я думаю, что Аристотель был охвачен желанием, опираясь на свой авторитет, установить классификацию слов только потому, что не добрался до самих вещей. Я привел вышеуказанную классификацию имен только для того, чтобы выяснить сущность такого разделения. Истинной же она сможет считаться только тогда, когда будут приведены соответствующие доказательства.
К этому следует прибавить, что линия, поверхность и плотность (тело) могут быть количественно определены, так как равенство присуще их природе; но время может быть определено как большее, меньшее или равное только посредством линии и движения; скорость – посредством линии и времени; наконец, сила – посредством тела и скорости; иначе по отношению к ним вообще нельзя было бы применить категорию количества.
16. Относительно этих категорий следует прежде всего заметить, что разделение имен на взаимно исключающие, проведенное в первой схеме, может быть проведено и во всех других схемах. Подобно тому как тела делятся на одушевленные и неодушевленные, во второй схеме можно было бы разделить непрерывное количество на линию и не-линию, дальше не-линию – на поверхность и не-поверхность и т. д. В этом, однако, нет никакой нужды.
Во-вторых, следует заметить, что у положительных имен предшествующее (по порядку) всегда содержит в себе последующее, между тем как у отрицательных имен дело обстоит как раз наоборот. Так, слово живое существо является именем всякого человека и заключает поэтому в себе также и имя человек. He-человеком же, напротив, является всякая вещь, которая не есть живое существо. Таким образом, предшествующее (по таблице) имя неживое существо содержится в последующем имени не-человек.
В-третьих, нам следует остерегаться думать, будто посредством этих различений мы познаем и определяем не только имена, но и различия самих вещей. Эти различения, разумеется, не доказывают также (как отсюда нелепым образом заключали некоторые), что виды вещей не бесконечны.
В-четвертых, я бы не хотел, чтобы указанные схемы рассматривались как истинный и действительный порядок имен. Такой порядок могла бы дать только совершенная философия. И если, например, я отношу свет к категории качества, а кто-нибудь другой – к категории тела, то этим ни я, ни он не убедим друг друга, ибо правильность последнего определяют аргументы и логические рассуждения, а не классификации слов.
Наконец, я должен сознаться, что еще не видел сколько-нибудь заметной пользы от применения этих категорий в философии. Я думаю, что Аристотель был охвачен желанием, опираясь на свой авторитет, установить классификацию слов только потому, что не добрался до самих вещей. Я привел вышеуказанную классификацию имен только для того, чтобы выяснить сущность такого разделения. Истинной же она сможет считаться только тогда, когда будут приведены соответствующие доказательства.
ГЛАВА III О ПРЕДЛОЖЕНИИ
1. Различные виды речи. 2. Определение предложения. 3. Что такое субъект, предикат, связка; что такое имя абстрактное и конкретное. 4. Правильное и неправильное использование абстрактных имен. 5. Предложение всеобщее [универсальное] и частное. 6. Предложение утвердительное и отрицательное. 7. Предложение истинное и ложное. 8. Истина и ложь присущи речи, а не вещам. 9. Предложение первоначальное и непервоначальное. Определение [дефиниция], аксиома, постулат. 10. Предложение необходимо истинное и случайно истинное. 11. Предложение категорическое и гипотетическое. 12. Одно и то же предложение, выраженное различным образом. 13. Предложения, которые можно свести к одному и тому же категорическому утверждению, равнозначны. 14. Всеобщие [универсальные] предложения, обращенные посредством противоречащих имен, равнозначны. 15. Отрицательные предложения равнозначны независимо от того, стоит ли отрицание до или после связки. 16. Частные предложения, обращенные простым способом, равнозначны. 17. Что такое предложения подчиненные, противные, подпротивные и противоречащие. 18. Что такое следование. 19. Ложное не следует из истинного. 20. Каким образом одно предложение является причиной [основанием] другого. 1. Сочетания и соединения имен образуют различные виды речи. Некоторые из них служат только для выражения желаний и душевных движений. Сюда относятся прежде всего вопросы, которые обнаруживают желание узнать что-нибудь. Так, в вопросе: Кто добрый человек? -одно имя произносится говорящим, другое же последний желает и ожидает услышать от того, кого он спрашивает. Кроме того, сюда относятся просьбы, обозначающие желание обладать чем-нибудь, обещания, угрозы, желания, приказы, жалобы и иные выражения каких-либо переживаний. То, что говорится, может быть также абсурдным и ничего не значащим,- так бывает в том случае, когда какому-нибудь ряду слов не соответствует в уме (animum) ряд представлений. Это часто случается с людьми, которые, совершенно не понимая какого-нибудь сложного вопроса, но стараясь придать себе вид знатоков, произносят бессвязные слова. Ибо и соединение бессвязных слов является речью, хотя оно и не выполняет назначения речи (служить выражением мысли). Такие-то соединения слов у метафизиков встречаются ничуть не реже осмысленных. Философия знает только один вид речи, называемый иногда утверждением (dictum), а иногда – высказыванием (enuntiatum) и сообщением (pronuntiatum), большей же частью обозначаемый словом предложение (propositio). В нем нечто утверждается или отрицается, высказывается истина или ложь. 2. Предложение есть словесное выражение (oratio), состоящее из двух соединенных связкой имен, посредством которого говорящий хочет выразить, что он относит второе имя к той самой вещи, которая обозначается первым, или (что то же самое) что первое имя содержится во втором. Например, выражение человек есть живое существо, в котором два имени соединены связкой есть, образует предложение, ибо говорящий считает как слово человек, так и слово живое существо именами одной и той же вещи или полагает, что первое имя человек содержится в последующем имени живое существо. Первое имя обычно называется субъектом, предшествующим или объемлемым именем, последнее же имя -предикатом, последующим или объемлющим именем. Знаком связи служит у большинства народов или слово, как, например, есть в предложении человек есть живое существо, или падеж, или окончание слова, как, например, в предложении человек гуляет (равносильном предложению человек есть гуляющий), где окончание слова гуляет, применяемого вместо есть гуляющий, указывает, что оба имени понимаются как связанные друг с другом или как имена одной и той же вещи. Существуют, однако, или по крайней мере могут существовать народы, которые не имеют слова, соответствующего нашему есть, но тем не менее образуют предложения путем простой расстановки имен (говоря, следовательно, вместо человек есть живое существо только человек – живое существо), ибо порядок расстановки имен может достаточно ясно обозначить их связь. Годность же таких предложений для науки не уменьшается из-за отсутствия этого словечка. И из-за того, что у них нет слова есть, они не становятся менее способными к философии. 3. В каждом предложении, таким образом, следует обращать внимание на три вещи: оба имени, образующие субъект и предикат, и их соединение при помощи связки. Имена пробуждают в нас мысль об одной и той же вещи, связка напоминает нам, на каком основании эти имена даны вещи. Говоря, например, тело подвижно, мы не удовлетворяемся знанием того, что одна и та же вещь обозначается обоими именами, но исследуем дальше, что значит быть телом или быть подвижным, т. е. в чем состоит различие между вещами того или другого рода и почему одни вещи названы так, а другие – иначе. Поэтому тот, кто желает знать, что значит быть чем-нибудь, быть подвижным, быть горячим, ищет в вещах причину их наименования. Отсюда и проистекает упомянутое в предшествующей главе разделение имен на конкретные и абстрактные. Ибо конкретным является имя всякой вещи, которую мы предполагаем существующей. Такого рода вещь называется субъектом, подлежащим (по-латыни suppositum, subjectum, по-гречески ???????????). Таковы, например, имена: тело, подвижное, движимое, оформленное, то, что имеет локоть в вышину, теплое, холодное, подобное, равное, Аппий, Ленту л и т. п. Абстрактное же имя указывает причину какого-нибудь конкретного имени, содержащуюся в каком-нибудь субъекте. Это означают, например, выражения: быть телом, быть подвижным, быть движимым, оформленным, иметь величину, быть теплым, холодным, похожим, равным, быть Аппием или Лентулом и т. п. Имена, эквивалентные этим выражениям, называются абстрактными. Таковы, например, телесность, подвижность, движение, фигура, количество, теплота, холод, сходство, равенство и (как мы находим у Цицерона) аппийностъ и лентулъность. Сюда же относятся и неопределенные наклонения, ибо жить и двигаться значит то же самое, что жизнь и движение или быть живым и движимым. Однако абстрактные имена обозначают только причину (causa) конкретных имен, а не сами вещи. Например, если мы видим или представляем себе какую-нибудь вещь, доступную зрению, то эта вещь или ее представление являются нам не сосредоточенными в одной точке, а так, что их части удалены друг от друга и целое, таким образом, представляет собой нечто протяженное и наполняющее пространство. Если же мы представленную вещь желаем назвать телом, то причиной этого наименования является факт, что данная вещь протяженна, или ее протяженность, либо телесность. Подобно этому, когда видим, что какая-либо вещь появляется то тут, то там, мы называем это движением или перемещением, и причина такого наименования – нахождение вещи в движении, или ее движение. Причины имен те же, что и причины наших представлений, а именно некая сила, или действие, или свойство воспринимаемой вещи; их иногда называют модусами (modi) вещи, но чаще всего – ее акциденциями (accidentia). Я понимаю, однако, слово акциденция не в смысле чего-то противоположного тому, что необходимо. Я обозначаю этим словом нечто, не являющееся само по себе ни вещью, ни частью вещи и тем не менее столь постоянно сопутствующее вещи, что оно (если отвлечься от протяжения) может исчезнуть и погибнуть, но не может быть отделено от вещи. 4. Различие между конкретными и абстрактными именами заключается также и в том, что первые возникли до образования предложений (ибо только они могут образовать предложение), последние же появились позже (ибо они возможны только после образования предложений, из связки которых они возникают). В жизни и в особенности в философии абстрактные имена употребляются то и дело, но и злоупотребляют ими нередко. Они необходимы нам, ибо без них мы не можем точно определить свойства вещей. Ведь если бы при счете нам пришлось пользоваться конкретными именами, а следовательно, удваивать, например, теплое, или светящееся, или движимое, желая удвоить теплоту, свет или движение, то мы удваивали бы этим не свойства, а сами теплые, светящиеся или движимые тела, чего вовсе не желаем. Злоупотребление же этими именами заключается в следующем. Так как теплота и другие акциденции могут быть рассматриваемы сами по себе (т. е., как было сказано выше, их нарастание может быть количественно измерено без мысли об их носителях – телах, что составляет процесс, который называют абстракцией), то полагают, будто об акциденции можно говорить как о чем-то вообще, поддающемся отделению от тела. Отсюда вытекают грубые заблуждения некоторых метафизиков. Так как мышление можно рассматривать независимо от тела, то заключают, будто для мышления не необходимо тело [77], и так как можно рассматривать величины независимо от тела, то полагают, будто возможна величина без тела и тело без величины, мало того, будто тело получает свою величину путем присоединения таковой к нему. Из того же источника проистекают и такие бессмысленные понятия, как абстрактные субстанции, обособленные сущности и т. п. В такой же мере бессмысленны производные от латинского esse словообразования вроде эссенция, эссенциальность, энтитичность, энтитативность, равно как и такие слова, как реальность, квиддитативностъ и т. д. [78] Таких словообразований никогда не могло бы возникнуть у народов, которые не применяют в предложении слово есть, а связывают имена при помощи глагольных форм типа бежит, читает (или при помощи простой расстановки слов). Но так как эти народы умеют и мыслить, и считать, то очевидно, что философия не нуждается в таких словах, как эссенция или энтитичность, и тому подобных варварских терминах. 5. Различия предложений многообразны. В первую очередь они подразделяются на всеобщие [универсальные], частные, неопределенные и единичные; и это разделение обычно обозначают как разделение по количеству. Всеобщим является то предложение, субъект которого обладает признаком общего имени (например, всякий человек есть живое существо); частным – то, субъект которого обладает признаком частного имени (определенный человек учен); неопределенным – то, субъект которого – общее имя без особого знака (человек есть живое существо; человек учен). Единичным является предложение, субъект которого – единичное имя (Сократ – философ; этот человек черный). 6. ??-вторых, предложения подразделяются на утвердительные и отрицательные, и это называется разделением по качеству. Утвердительным является предложение, предикат которого выражен положительным именем (человек есть живое существо), отрицательным – предложение, предикат которого выражен именем отрицательным (человек не камень). 7. В-третьих, предложения подразделяются на истинные и ложные. Истинным является предложение, предикат которого содержит в себе субъект или является именем той же вещи, что и субъект. Например, предложение человек есть живое существо истинно, ибо того, кого называют человеком, всегда называют и живым существом. Точно так же и предложение некий человек болен истинно, ибо слово болен применимо к кому-то. Предложение, которое не истинно, т. е. предложение, предикат которого не содержит субъекта, называется ложным. Например: человек есть камень. Слова истинно, истина, истинное предложение означают одно и то же. Истина может быть лишь в том, что высказано, а не в самих вещах; и хотя иногда истинное противопоставляется кажущемуся, или вымыслу, но и это противопоставление относится к истине в предложении. Отражение человека в зеркале, или призрак, не принимают за самого человека, потому что предложение призрак есть человек не истинно; но нельзя и отрицать того, что призрак есть призрак. Поэтому истина – свойство не вещей, а суждений о них. Обычные же рассуждения метафизиков о том, что понятия сущее, единое и истинное идентичны, являются вздорным детским лепетом, ибо кто не знает, что такие выражения, как человек, один человек и истинный человек, означают одно и то же. 8. Отсюда ясно, что истину и ложь можно найти только у существ, обладающих способностью речи. Ведь хотя животные, не способные к речи, получают одно и то же впечатление при виде отражения человека в зеркале и при виде самого человека и при первом зрелище их охватит неосновательный страх, однако они не воспринимают это как истинное или ложное, а только как сходное, и в этом они не ошибаются. Подобно тому как все истинное познание людей обусловлено правильным пониманием словесных выражений, так и основание всех их заблуждений кроется в неправильном понимании последних. Как полноту мудрости, так и глупость можно найти только у человека. И то, что когда-то было сказано о законах Солона, применимо к человеческому языку вообще; язык, что паутина: слабые и тщеславные умы цепляются за слова и запутываются в них, а сильные легко сквозь них прорываются. Отсюда можно также заключить, что первые истины были произвольно созданы теми, кто впервые дал имена вещам, или теми, кто получил эти имена от других. Ибо, например, предложение человек есть живое существо истинно только потому, что людям когда-то пришло в голову дать оба этих имени одной и той же вещи. 9. В-четвертых, предложения подразделяются на первоначальные и непервоначальные. Первоначальными являются такие предложения, в которых предикат объясняет субъект через ряд имен. Таково, например, предложение человек есть тело одушевленное, одаренное разумом. То, что содержится в имени человек, получает более развернутое выражение при помощи имен: тело, одушевленное, одаренное разумом, а также их связи. Первоначальным такое предложение называется потому, что оно образует начало всякого рассуждения, ибо без понимания имени вещи, о которой идет речь, ничего не может быть доказано. Первоначальные предложения всегда представляют собой не что иное, как дефиниции, таким образом, определения или части определений, и только они являются основами (принципами) доказательства. Как истины, произвольно установленные говорящими и слушающими, они сами не нуждаются ни в каких доказательствах. К этим предложениям некоторые присоединили другие; обозначаемые ими как первоначальные и как принципы (основы), а именно аксиомы, или понятия, принятые повсюду (notiones communes) . Последние, однако, сколь бы очевидными и не нуждающимися в доказательстве они ни казались, не являются начальными принципами, ибо их можно доказать. Они тем менее могут считаться таковыми, что, желая навязать другим в качестве убедительных истин положения, которые им самим кажутся верными, люди под именем принципов возвещают множество неведомого, а подчас явно ложного. К принципам обычно относят и некоторые постулаты, например предложение между двумя точками может быть проведена только одна прямая линия и другие постулаты геометрии. Последние действительно представляют собой принципы, но это принципы не науки и доказательства, а искусства, т. е. построения. 10. В-пятых, предложения делятся на истины необходимые (т. е. необходимо истинные) и случайные, т. е. такие, которые не необходимы, хотя и истинны. Необходимой истиной являются предложения, в качестве субъекта которых нельзя представить или вообразить другой вещи, кроме той, именем которой является предикат данного предложения. Так, предложение человек есть живое существо необходимо, ибо везде, где мы имеем вещь, к которой применимо слово человек, к ней применимо и слово живое существо. Случайной истиной является предложение, которое может быть то истинным, то ложным. Предложение всякий ворон черен может, пожалуй, ныне считаться истинным, в другое время – ложным. В необходимом предложении предикат или эквивалентен субъекту (как, например, в предложении человек есть разумное живое существо), либо составляет часть эквивалента, как человек есть живое существо. В этом примере имя разумное живое существо, или человек, составлено из двух [членов] разумное и живое существо. В случайной же истине дело обстоит иначе, ибо если бы даже было истинным утверждение, что всякий человек лгун, то все же это предложение не могло бы называться необходимой истиной, так как слово лгун не является частью составного имени, эквивалентного имени человек. Предложение является здесь только случайной истиной, даже если бы оно фактически всегда было верно. Необходимыми истинами являются только такие предложения, которые содержат вечные истины. Здесь опять-таки обнаруживается, что истина не есть свойство вещей и что она присуща одному только языку, истины же вечны. Ибо не необходимо, чтобы вечно существовали люди или живые существа; но вечно истинным остается положение, что там, где существуют люди, они являются живыми существами. 11. В-шестых, предложения подразделяются на категорические и гипотетические. Категорическим является предложение, которое просто, или безусловно, что-либо высказывает. Например: всякий человек есть живое существо; ни один человек не есть дерево. Гипотетическим является предложение, высказывающее нечто условно. Например: если кто-либо – человек, то он также живое существо; если кто-либо – человек, то он не камень. И категорическое, и соответствующее ему гипотетическое предложения означают одно и то же, если утверждение заключает в себе необходимую истину; но дело обстоит не так, когда оно заключает в себе истину случайную. Если, например, истинно предложение всякий человек есть живое существо, то истинным является и предложение если кто-либо – человек, он должен быть и живым существом. Но если какое-нибудь предложение, содержащее случайное утверждение (например, всякий ворон черен), и истинно, то предложение если какое-нибудь существо есть ворон, то оно черно будет все же ложным. Гипотетическое предложение будет истинным только тогда, когда правильно соответствующее следствие. Так, предложение всякий человек есть живое существо являетсявполне истинным, ибо если верно утверждение нечто есть человек, то не может не быть верным утверждение, что то же нечто есть живое существо. И поэтому если гипотетическое предложение истинно, то и соответствующее ему категорическое утверждение не только истинно, но и необходимо. Я считаю, что следует подчеркнуть это, ибо тут мы имеем доказательство того, что философы могут делать более надежные умозаключения при помощи гипотетических предложений, чем при помощи предложений категорических. 12. Поскольку каждое предложение может быть выражено различно и на самом деле получает различное выражение и поскольку мы вынуждены выражаться так, как это делает большинство, то те, кто изучает философию, должны остерегаться, как бы их не ввело в заблуждение различие выражений их учителей (doctores). Поэтому, наталкиваясь на неясное предложение, они должны свести его к простейшей категорической форме, чтобы связка есть была совершенно самостоятельна и субъект ясно отличался бы от предиката, которые в свою очередь должны быть строго отделены от связки. Так, при сравнении предложений человек может не грешить и человек не может грешить разница их смысла ясно обнаружится, если сформулировать их следующим образом: человек есть могущий не грешить и человек есть не могущий грешить, где предикаты явно различны. Но это упрощение надо произвести молча, про себя, или в присутствии одного лишь учителя, ибо было бы глупо и смешно выражаться так в обществе. Если, следовательно, я хочу говорить о равнозначных предложениях, то должен прежде всего считать равнозначными все те предложения, которые могут быть сведены к одному и тому же простому категорическому утверждению. 13. Во-вторых, необходимые категорические предложения равнозначны гипотетическим. Например, категорическое предложение прямолинейный треугольник имеет три угла, равные двум прямым, равнозначно гипотетическому предложению если какая-нибудь фигура представляет собой прямоугольный треугольник, то его три угла должны быть равны двум прямым. 14. В-третьих, равнозначны друг другу два любых всеобщих (универсальных) предложения, соответствующие члены которых, т. е. субъекты и предикаты, исключают друг друга и расположены в обратном порядке. Например, в предложениях всякий человек есть живое существо и всякое не-живое существо есть не-человек имя живое существо содержит в себе имя человек. Но оба они являются положительными именами, и поэтому (согласно последнему пункту предыдущей главы) отрицательное или неживое существо содержит в себе отрицательное имя не-человек. Следовательно, предложение всякое неживое существо есть не-человек истинно. Точно так же равнозначны предложения ни один человек не есть дерево и ни одно дерево не есть человек, ибо если правда, что дерево не есть имя человека, то оба имени – человек и дерево – не означают одной и той же вещи. Поэтому является истинным утверждение, что ни одно дерево не есть человек. Точно так же предложение всякое неживое существо есть не-человек, оба члена которого отрицательны, равнозначно другому предложению – только живое существо есть человек. 15. В-четвертых, отрицательные предложения равнозначны друг другу независимо от того, поставлена ли отрицательная частица после связки, как это бывает у некоторых народов, или перед связкой, как это имеет место в латинском и в греческом языках, при том лишь условии, что члены предложения остаются теми же. Например, предложения человек не есть дерево и человек есть не-дерево означают одно и то же, хотя Аристотель это отрицает. Идентичны по смыслу также следующие предложения: всякий человек не есть дерево и ни один человек не есть дерево. Это настолько очевидно, что не нуждается ни в каком доказательстве. 16. Наконец, тождественный смысл имеют все частные предложения с обратной расстановкой членов. Таковы, например, предложения некий человек слеп и нечто слепое есть человек, ибо в них оба имени относятся к одному и тому же человеку и обозначают поэтому одну и ту же истину, в каком бы порядке они ни следовали друг за другом. 17. Среди предложений, имеющих одни и те же члены в одной и той же последовательности, но различающихся между собой по количеству или по качеству, одни называются подчиненными (subalternoe), другие – противными (contrarioe), третьи – под противными (subcontrarioe) и, наконец, четвертые – противоречащими (contradictorioe). Подчиненными называют общие и частные предложения одинакового качества, например: всякий человек есть живое существо, некоторый человек есть живое существо или ни один человек не умен, некий человек не умен. Если из двух таких предложений общее истинно, то истинно и частное. Противными являются общие предложения различного качества, например: всякий человек счастлив, ни один человек не счастлив. Если одно из этих предложений истинно, то другое должно быть ложным, но они могут также быть ложными оба, как в указанном примере. Подпротивными являются частные предложения противоположного качества, например: некий человек образован, некий человек необразован. Эти предложения не могут быть оба ложными, но оба могут быть истинными. Противоречащими являются предложения, отличные друг от друга как по количеству, так и по качеству, например: всякий человек есть живое существо, некий человек не есть живое существо. Эти предложения не могут быть одновременно и истинными, и ложными. 18. Говорят, что предложение следует из двух других предложений, и если последние истинны, то нельзя отрицать и истинность заключения. Предположим, например, что следующие два утверждения: всякий человек есть живое существо и всякое живое существо есть тело – истинны; отсюда следует, что тело – имя всякого живого существа, а живое существо – имя всякого, человека. Раз мы признали это за истину, то нельзя полагать, будто тело не является именем, применимым ко всякому человеку, т. е. будто предложение всякий человек есть тело ложно. Это предложение выводится из двух предыдущих или с необходимостью следует из них. 19. Из ложных предпосылок иногда может быть выведено правильное по существу предложение, но ложное предложение никогда не может быть выведено из правильных утверждений. Ибо при предположении правильности следующих предложений: всякий человек есть камень и всякий камень есть живое существо (оба – ложные предпосылки) – необходимо также признать, что живое существо есть имя, применимое ко всякому камню, а камень – к какому-либо человеку, и предложение всякий человек есть живое существо истинно, как это на самом деле и есть. Отсюда следует, что истинное утверждение иногда может быть выведено из ложных предпосылок, но из двух правильных предпосылок никогда не может быть выведено утверждение ложное. Ибо если можно выводить истинное из ложного при условии, что ложное принимают за истинное, то таким же путем может быть выведена истина из двух правильных предпосылок. 20. Поскольку, как мы видели, из истинных предложений всегда следует истинное предложение и понимание истинности двух предложений является причиной понимания истинности и того, что из них выводится, то обе посылки называются обычно причинами вывода, или заключения. Вот почему логики называют причины посылками заключения, против чего не приходится возражать, хотя это не совсем правильная формулировка, ибо если одна мысль (intellectio) и является причиной другой мысли, то одно предложение (oratio) не является причиной другого предложения. Ведь утверждать, что причиной свойств какой-либо вещи является сама вещь,- значит говорить нелепость. Представляя себе фигуру, например треугольник, мы знаем, что углы треугольника равны двум прямым, и можем отсюда заключить, что углы представляемой нами фигуры равны двум прямым. И вот на том же основании говорят: эта фигура и есть причина равенства углов. Но так как сама фигура не производит своих углов и не может быть поэтому производящей причиной, то ее называют причиной формальной, хотя в действительности она вообще не является причиной. Свойство какой-нибудь фигуры не возникает после появления этой фигуры, а существует одновременно с ней. Верно только то, что познание фигуры предшествует познанию ее свойств и одно познание в самом деле является причиной другого познания, а именно его производящей причиной. Вот что можно сказать о предложении, которое в ходе развития философии представляет собой первый шаг, как бы движение одной ноги. Переходя теперь к силлогизму, я прибавляю, как это требуется, движение второй ноги и завершаю первый шаг. Об этом пойдет речь в следующей главе.ГЛАВА IV О СИЛЛОГИЗМЕ
1. Определение силлогизма. 2. В силлогизме только три термина. 3. Больший, меньший и средний термины, а также большая и меньшая посылки. 4. Средний термин в обеих посылках каждого силлогизма должен относиться к одной и той же вещи. 5. Из двух частных предложений ничто не вытекает. 6. Силлогизм – это объединение двух предложений в одно суммарное. 7. Что такое фигура силлогизма. 8. Что соответствует силлогизму в уме. 9. Каким образом возникает первая непрямая фигура. 10. Каким образом возникает вторая непрямая фигура. 11. Каким образом возникает третья непрямая фигура. 12. Модусы любой фигуры многочисленны, но по большей части бесполезны для философии. 13. Гипотетический силлогизм равнозначен категорическому. 1. Рассуждение (oratio), состоящее из трех предложений, последнее из которых вытекает из двух остальных, называют силлогизмом. При этом третье предложение называется заключением, а первое и второе – посылками. Например, ряд предложений: всякий человек есть живое существо, всякое живое существо есть тело, следовательно, всякий человек есть тело – представляет собой силлогизм, ибо третье суждение вытекает из двух остальных; это значит, что если первое и второе предложения признаны правильными, то и последнее необходимо должно быть признано правильным. 2. Из двух предложений, не имеющих ни одного общего члена, нельзя вывести никакого заключения, и поэтому они не могут составить силлогизм. Ибо если и правильны обе посылки: человек есть живое существо, дерево есть растение, то из них ведь нельзя вывести заключение, что растение – имя человека или человек – имя растения. Следовательно, заключение человек есть растение не является необходимо истинным. В посылках силлогизма должны быть поэтому только три члена. Кроме того, заключение не может содержать в себе ни одного термина, не фигурировавшего уже в посылках. Предположим, что мы имеем две посылки: человек есть живое существо, живое существо есть тело, к терминам которых в заключении присоединяется другой термин, так что заключение гласит, например: человек есть двуногое существо. Хотя третье утверждение в данном случае само по себе совершенно правильно, все же из указанных посылок нельзя заключить, что слово двуногий применимо к человеку, и отсюда опять-таки следует, что в каждом силлогизме не может быть больше трех терминов. 3. Предикат заключения обычно называется большим, л субъект заключения – меньшим термином, третий же термин именуют средним. Так, в силлогизме человек есть живое существо, живое существо есть тело, следовательно, человек есть тело, тело – больший термин, человек -меньший, а живое существо – средний. Точно так же и посылка, в которой заключается больший термин, называется большей, а та, в которой содержится меньший термин,- меньшей. 4. Если средний термин в обеих посылках не относится к одной и той же вещи, то из них нельзя вывести никакого заключения и нельзя составить никакого силлогизма. Если, например, меньший термин – человек, средний – живое существо, а больший – лев и посылки гласят: человек есть живое существо, некоторое живое существо есть лев, то отсюда все же нельзя заключить, что всякий или некоторый человек – лев. Следовательно, предложение, имеющее субъектом средний термин, должно быть во всяком силлогизме общим или единичным, но не частным или неопределенным. Так, неправилен следующий силлогизм: всякий человек есть живое существо, некоторое живое существо есть четвероногое, следовательно, некоторый человек есть четвероногое, ибо в первой посылке средний термин живое существо обозначает особенность только человека, так как там имя живое существо отнесено только к человеку, во второй же посылке под этим именем можно понимать наряду с человеком и другие живые существа. Если бы вторая посылка была общей, как это имеет место, например, в умозаключении всякий человек есть живое существо, всякое живое существо есть тело, следовательно, всякий человек есть тело, то силлогизм был бы правилен, ибо тогда следовало бы умозаключить, что тело есть имя всякого живого существа, т. е. также и человека, из чего проистекало бы, что заключение всякий человек есть тело правильно. Точно так же возможен силлогизм (и вполне правильный, хотя и бесполезный для философии), в котором средний термин – единичное имя. Например: некий человек есть Сократ, Сократ – философ, следовательно, некий человек есть философ. Если мы признаем тут правильными посылки, то не сможем отвергнуть и заключения. 5. Поэтому из двух посылок, средний термин которых является частным, нельзя составить силлогизм, ибо независимо от того, будет ли средний термин субъектом или предикатом в обеих посылках или субъектом только в одной из них, а в другой – предикатом, он все же не необходимо будет обозначать одну и ту же вещь. Предположим, что мы имеем следующие посылки:Некий человек слеп Некий человек ученВ обеих посылках средний термин является субъектом Из этих посылок не следует, что слово слепой обозначает некоего ученого или слово ученый – некоего слепого, так как всякий видит, что слово ученый не содержит в себе слова слепой или наоборот, и, таким образом, не необходимо, чтобы оба слова были именами одного и того же человека. Точно так же нельзя выводить никакого заключения из следующих посылок:
Всякий человек есть живое существо Всякая лошадь есть живое существоЗдесь средний термин является предикатом Ведь термин живое существо в обеих посылках неопределенный (а поэтому эквивалентен здесь частному), и так как человек есть некоторое живое существо, а лошадь -другое живое существо, то слово человек не необходимо является именем лошади или слово лошадь – именем человека. Равным образом нельзя выводить никакого заключения из следующих посылок:
Всякий человек -живое существо Некое живое существо — четвероногоеВ одной посылке средний термин -субъект, а в другой – предикат. Заключение невозможно, так как имя живое существо здесь не определено, и под этим именем в одной посылке можно понимать человека, а в другой – не человека. 6. Из сказанного ясно, что силлогизм есть не что иное, как сложение двух предложений, связанных третьим общим термином, именуемым средним. И подобно тому как предложение есть сложение двух имен, силлогизм есть сложение трех имен. 7. Силлогизмы обычно различаются по фигурам, т. е. в зависимости от положения среднего термина. Каждая фигура содержит в себе различные модусы, соответствующие различию предложений по количеству и качеству. Первой фигурой является та, в которой термины следуют друг за другом в порядке, соответствующем объему их содержания. В этой фигуре, следовательно, на первом месте стоит меньший термин, за ним следует средний, а больший занимает последнее место. Если, например, меньшим термином является слово человек, средним – живое существо, а большим – тело, то силлогизм человек есть живое существо, живое существо есть тело, а следовательно, человек есть тело будет относиться к первой фигуре. В этом силлогизме меньшей посылкой является предложение человек есть живое существо, большей – предложение живое существо есть тело, а заключением – сумма обоих: человек есть тело. Такая фигура называется прямой (directa), так как термины следуют в ней в прямом порядке. В зависимости от количества и качества терминов различают четыре модуса этой прямой фигуры, первым из которых является тот, в котором все термины положительны, а меньший термин общий, например всякий человек есть живое существо, всякое живое существо есть тело, где оба предложения являются утвердительными и общими. Но если большая посылка является отрицательной, а меньшая – общей, то перед нами второй модус: всякий человек есть живое существо, всякое живое существо не есть дерево, где большая посылка, а также заключение являются общими и отрицательными. К этим двум модусам можно присоединить еще два, в которых меньшая посылка является частной. Бывает также, что как больший, так и средний термин отрицателен, и тогда получается другой модус этой фигуры, в котором все предложения становятся отрицательными, а силлогизм все же остается правильным. Например, если меньшим термином служит слово человек, средним – некамень, а большим – не-булыжник, то силлогизм – человек не есть камень; то, что не есть камень, не есть булыжник; следовательно, ни один человек не есть булыжник -правилен, хотя он состоит из трех отрицательных предложений. Но так как в философии, задача которой – установить общие законы свойств вещей, различие между отрицательными и утвердительными предложениями сводится к тому, что в первых о субъекте высказывается нечто отрицательное, а в последних – нечто положительное, то излишне принимать в соображение какой-либо другой модус прямой фигуры, кроме того, в котором все предложения являются общими и утвердительными. 8. Процессы, соответствующие прямому силлогизму, совершаются в уме (inanimo) следующим образом: прежде всего в нем возникает образ названной вещи с той акциденцией, или с тем свойством, в силу которого эта вещь обозначается в меньшей посылке именем субъекта; вслед за этим уму рисуется та же самая вещь с той акциденцией, или с тем свойством, в силу которого эта вещь в том же предложении получает имя предиката; в третий момент мышление возвращается к тому же предмету и замечает в нем ту акциденцию, в силу которой этот предмет заслуживает имя предиката большей посылки. Тут, однако, мы вспоминаем, что все это – акциденции одной и той же вещи, и таким образом заключаем, что эти три имени не более чем имена одной и той же вещи, т. е. что наше заключение правильно. Пусть мы образуем следующий силлогизм: человек есть живое существо, живое существо есть тело, следовательно, человек есть тело. При этом в нашем уме возникает сначала образ говорящего или беседующего человека, и мы вспоминаем, что такого рода существо называется человеком; затем нашему уму рисуется образ того же человека в движении, и мы вспоминаем, что такого рода существо называется живым существом; в третий момент образ этого человека является перед нами как наполняющий некое место или пространство, и одновременно мы вспоминаем, что такого рода существо называют телом; наконец, когда мы вспоминаем, что вещь, которая имеет протяжение, движется и говорит, одна и та же, мы приходим к заключению, что человек, живое существо, тело суть имена одной и той же вещи и, следовательно, предложение человек есть живое существо правильно. Отсюда вытекает, что живые существа, не обладающие способностью номинации, не могут образовывать в уме понятия или мысли, которые соответствовали бы силлогизму, состоящему из общих предложений, ибо, пользуясь таким силлогизмом, необходимо не только думать о вещи, но и соответственно припоминать те различные имена, которые по различным основаниям были применены к ней. 9. Остальные фигуры образуются посредством частичного или полного изменения или обращения первой, или прямой, фигуры. Это совершается путем обращения большей или меньшей посылки или их обеих в обратные суждения, равнозначные первоначальным предложениям. Отсюда получаются три другие фигуры, из которых две являются результатом частичной, а третья – результатом полной инверсии слов в прямой фигуре. Первая из этих трех фигур образуется путем перестановки слов в большей посылке. Если меньший, средний и больший термины расставлены в косвенном порядке, как это имеет место, например, в силлогизме человек есть живое существо, есть не камень, то мы имеем прямую фигуру. Частичное обращение этой фигуры происходит путем следующей перестановки слов в большей посылке: человек есть живое существо, камень есть не живое существо. Так образуется вторая фигура, или первая непрямая фигура, силлогизм, заключение которой гласит: человек есть не камень. Ибо поскольку, как мы показали в пункте 14 предшествующей главы, общие предложения, члены которых соответственно исключают друг друга и расположены в одном предложении в обратном порядке по отношению к другому предложению, равнозначны, то и оба названных силлогизма должны привести к одинаковым заключениям. Если мы прочтем большую посылку справа налево, как это делают, например, евреи: живое существо есть не камень, то у нас снова получится прямая фигура. Точно так же прямой силлогизм человек не есть дерево, не есть грушевое дерево становится непрямым путем обращения большей посылки (при помощи перемены знаков терминов и перестановки последних в обратном порядке), и в этом виде его посылки гласят: человек не есть дерево, груша есть дерево. Отсюда вытекает то же заключение: человек не есть грушевое дерево. Но чтобы превратить прямую фигуру в первую непрямую, больший термин прямой фигуры должен быть отрицательным. Ибо, хотя прямой силлогизм человек есть живое существо, следовательно, тело может быть обращен в непрямой посредством перестановки членов большей посылки, т. е, следующим образом:
Человек есть живое существо He-тело не есть живое существо Следовательно, всякий человек есть тело,перестановка оказывается настолько неясной, что такого рода силлогизм представляется совершенно бесполезным. Перестановка слов в большей посылке ясно показывает, что средний термин этой фигуры всегда должен быть предикатом обеих посылок. 10. Вторая непрямая фигура образуется посредством перестановки терминов меньшей посылки, в результате чего средний термин становится субъектом обеих посылок. Но такой силлогизм никогда не приводит к общему умозаключению и не имеет поэтому никакой философской ценности. Тем не менее я хочу привести пример такого силлогизма. Так, посылки прямого силлогизма
Всякий человек есть живое существо Всякое живое существо есть телопри перестановке членов малой посылки образуют силлогизм ·
Некоторое живое существо есть человек Всякое живое существо есть тело Следовательно, некоторый человек есть тело.Ведь посылка всякий человек есть живое существо не может быть обращена в посылку всякое живое существо есть человек, поэтому меньшая посылка при обращении этого силлогизма в его прямую форму будет гласить: некоторый человек есть живое существо, а следовательно, заключением окажется некоторый человек есть тело, так как меньший термин человек, являющийся субъектом заключения, есть частное имя. 11. Третья непрямая, или обратная, фигура получается путем перестановки членов в обеих посылках. Например, прямой силлогизм
Всякий человек есть живое существо Всякое живое существо есть не камень Следовательно, всякий человек не есть каменьпосле обращения гласит:
Всякий камень есть не живое существо Все, что не является живым существом, есть не человек Следовательно, всякий камень есть не человек.Мы имеем тут заключение, представляющее собой обращенное прямое заключение и равнозначное последнему. Таким образом, если в качестве принципа деления рассматривать место, занимаемое в силлогизме средним термином, то окажется, что существует лишь три фигуры силлогизма. В первой фигуре средний термин занимает среднее место, во второй – последнее, а в третьей – первое. Но, группируя фигуры просто по различному положению их членов, мы получим четыре фигуры, ибо первая фигура может тогда в свою очередь иметь две формы, т. е. прямую и обратную. Из этого следует, что спор логиков о четвертой фигуре представляет собой лишь спор о словах, ибо если рассматривать существо дела, то ясно, что порядок, в котором следуют друг за другом термины предложения (без отношения к количеству и качеству, которыми определяются модусы), определяет собой четыре типа силлогизмов, которые можно назвать фигурами или каким угодно другим именем. 12. Каждая из этих фигур распадается на многочисленные модусы, из которых путем изменения количества и качества посылок могут быть образованы самые разнообразные формы. Прямая фигура имеет шесть модусов, первая непрямая – четыре, вторая непрямая – четырнадцать, а третья – восемнадцать. Но, отвергнув как излишние все модусы первой фигуры, за исключением того, который состоит из общих предложений и в котором малая посылка утвердительна, я отверг тем самым и модусы других фигур, образующихся путем перестановки терминов в посылках прямой фигуры. 13. Если, как было указано раньше, среди необходимых предложений категорические и гипотетические суждения равнозначны, то точно так же ясно, что и категорические, и гипотетические силлогизмы равнозначны. Ибо категорический силлогизм вроде следующего:
Всякий человек есть живое существо Всякое живое существо есть тело Следовательно, всякий человек есть телоимеет ту же силу, что и гипотетический силлогизм
Если что-либо есть человек, то оно должно быть живым существом Если что-либо есть живое существо, оно должно быть телом Следовательно, если что-либо есть человек, оно должно быть телом.Равным образом и следующий категорический силлогизм непрямой фигуры:
Ни один камень не есть живое существо Всякий человек есть живое существо Следовательно, никакой человек не есть камень (или никакой камень не есть человек) -равнозначен следующему гипотетическому силлогизму:
Если что-либо есть человек, то это живое существо, Если что-либо есть камень, то это не есть живое существо, Следовательно, если что-либо есть камень, то это не человек (или если что-либо есть человек, то это не камень).Сказанное кажется мне достаточным для выяснения сущности силлогизма (ибо учение о модусах и фигурах с достаточной ясностью было изложено уже другими, писавшими об этом подробно и поучительно). Да и для того чтобы строить правильные умозаключения, нужны не столько правила, сколько практика. Ведь гораздо быстрее познают истинную логику те, кто посвящает свое время изучению математических доказательств, чем изучению установленных логиками правил силлогизирования. Они, подобно маленьким детям, учатся ходить не при помощи правил, а пытаясь все время ходить. Итак, о том, какими должны быть шаги философии, сказано достаточно. В ближайшей главе я буду говорить о видах и причинах тех ошибок и заблуждений, в которые легко впадают люди, делающие неосторожные умозаключения.
ГЛАВА V О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ, ЛОЖНЫХ УТВЕРЖДЕНИЯХ И СОФИЗМАХ
1. Чем отличаются заблуждения и ложные утверждения; как возникает заблуждение в связи с употреблением слов. 2. Семь случаев несоответствия имен, при которых предложение всегда ложно. 3. Пример первого. 4. Второго. 5. Третьего. 6. Четвертого. 7. Пятого. 8. Шестого. 9. Седьмого. 10. Ложное утверждение в предложениях обнаруживается при анализе терминов посредством их непрерывного определения вплоть до простых имен, или высших родов. 11. Погрешность в силлогизме, проистекающая из того, что термины заключают в себе связку. 12. Погрешность в силлогизме, проистекающая из многозначности. 13. Погрешности, содержащиеся в софистических умозаключениях, чаще относятся к содержанию, чем к форме. 1. Мы заблуждаемся не только при утверждении и отрицании (чего-либо), но и в процессе восприятия и безмолвного размышления. Мы заблуждаемся при утверждении и отрицании, когда даем какой-нибудь вещи имя, не соответствующее ей. Например, мы впадаем в заблуждение, если, увидев вначале отражение солнца в воде и вслед за этим наблюдая солнце непосредственно на небе, даем обоим объектам имя солнца и утверждаем, что якобы существуют два солнца. В таком заблуждении может находиться только человек, ибо другие живые существа не употребляют имен. Только такого рода заблуждение может быть названо ложным утверждением (falsilas), ибо оно возникает не в процессе чувственного восприятия и не из самой вещи, а из необдуманного высказывания. Ведь имена определяются не видами (species) вещей, а волей и соглашением людей. Поэтому-то и случается, что люди неправильно высказываются по вине собственной небрежности, отступая от твердо установленных имен вещей, между тем как они не были введены в заблуждение ни самими вещами, ни своими органами чувств. Ибо то обстоятельство, что вещь, которую они видят, называется солнцем, не обусловлено их восприятием,- это имя дано ими этой вещи произвольно и на основании соглашения. Мы заблуждаемся, когда при восприятии чувствами или в процессе размышления от воображения (imaginatio) одной вещи переходим к воображению другой или предполагаем, будто нечто существовало или будет существовать, между тем как на деле оно никогда не существовало и не будет существовать. Так бывает, например, если при виде отражения солнца в воде мы воображаем, будто видим там само солнце, или при виде мечей предполагаем, что в данном месте произошло или произойдет сражение, поскольку чаще всего так бывает; если мы из чьих-либо обещаний заключаем об определенном настроении обещающего; наконец, если мы что-либо принимаем за признак чего-либо другого в тех случаях, когда это совершенно не соответствует действительности. Такого рода заблуждения общи всем одаренным органами чувств существам, и тем не менее они коренятся не в наших органах чувств и не в вещах, воспринимаемых нами, а в нас самих, ибо мы ошибочно принимаем вещи, которые представляют собой только образы (simulacra), за нечто большее. Но ни вещи, ни представления вещей нельзя считать ошибочными, ибо и те и другие в действительности представляют собой то, чем они являются. Это и не знаки, которые предвещают что-либо, впоследствии остающееся неисполненным, ибо они вообще ничего не предвещают и лишь мы сами выводим предсказания из них. Тучи не предвещают дождя, мы только заключаем из них, что будет дождь. Поэтому, чтобы освободиться от таких заблуждений, которые заключаются в ложном толковании естественных примет, лучше всего, прежде чем пускаться в рассуждение о предполагаемых вещах, удостовериться в нашем собственном незнании, дабы затем исходить из правильного рассуждения. Ибо такого рода заблуждения проистекают от недостатка рассуждения, между тем как ошибки отрицания или утверждения (т. е. ложность предложений) представляют собой ошибки, обусловленные неправильным рассуждением. Так как эти последние несовместимы с философией, то я главным образом и буду говорить о них. 2. Ошибки в рассуждении, т. е. при построении силлогистического умозаключения, коренятся или в ложности посылок, или в неправильности заключения. В первом случае мы называем силлогизм ошибочным по содержанию, во втором случае – по форме. Я хочу сперва подвергнуть рассмотрению содержание силлогизмов, чтобы установить все виды ложных предложений, а после этого – их форму, чтобы выяснить, каким образом заключение может оказаться ложным, несмотря на правильность посылок. Так как, согласно пункту 7 главы III, правильно всякое предложение, в котором связываются два имени, соответствующие одной и той же вещи, а предложение, в котором связываются друг с другом имена различных вещей, всегда ложно, то ясно, что видов неправильных предложений существует столько, сколько различных форм соединения имен, не являющихся именами одной и той же вещи. Все имеющие наименование вещи могут быть разделены на четыре класса: тела, акциденции (свойства), образы воображения (phantasmata) и сами имена. Поэтому во всяком правильном предложении оба связанных друг с другом имени должны быть или именами тел, или именами акциденций, или именами образов воображения, или, наконец, именами самих имен. Имена, связанные друг с другом иначе, не имеют между собой никакой внутренней связи и образуют ложное суждение. Может также случиться, что имя какого-нибудь тела, какой-либо акциденции или какого-либо образа связывается с именем предложения. Следовательно, сочетание имен может в семи различных формах отступать от единственно правильной связи:1. Если имя тела связывает с именем акциденции 2. Если имя тела связывает с именем образа 3. Если имя тела связывает с именем имени 4. Если имя акциденции связывает с именем образа 5. Если имя акциденции связывает с именем имени 6. Если имя образа связывает с именем имени 7. Если имя тела, акциденции или образа связывает с именем речиПозже я приведу примеры всех этих случаев. 3. Ложные предложения первого вида получаются, когда абстрактные имена связывают с конкретными, как это имеет место в латинских и греческих фразах: esse estens (бытие есть нечто сущее), essentia estens (сущность есть нечто сущее), quidditas est ens (чтойность есть нечто сущее) – и многих других подобных этим, которые мы находим в Метафизике Аристотеля [79]. Именно таковы фразы: разум (intellectus) действует, разум разумеет, зрение видит, тело есть величина, тело есть количество, тело есть протяжение, человеческое бытие есть человек, белизна бела и т. д. Все это значит то же, что и бегун есть бег или прогулка гуляет. Таковы же и сочетания имен: сущность отделена, субстанция отвлечена – и подобные им или производные от них предложения (во множестве встречающиеся в обычной философии) [80]. Ибо так как ни один субъект какой-нибудь акциденции (т. е. ни одно тело) не есть акциденция, то и не следует давать ни одному телу имя какой-нибудь акциденции или акциденции – имя какого-нибудь тела. 4. Ложные предложения второго вида суть: привидение есть тело (или дух, т. е. тонкое тело); чувственно воспринимаемые образы носятся в воздухе [81], они движутся туда и сюда (действие, свойственное только телам); тень движется, т. е. тень есть тело; свет движется, т. е. есть тело; цвет -объект зрения, а звук – объект слуха; пространство и место протяженны – и бесчисленное множество им подобных предложений. Ибо поскольку духи, чувственно воспринимаемые образы, тень, свет, цвет, звук, пространство являются нам во сне так же, как и наяву, то они не могут быть предметами, существующими вне нас, и являются только призраками (phantasmata) воображения. Следовательно, сочетание их имен с именами тел не может дать истинных предложений. 5. Ложные предложения третьего вида суть: Genus est ens (Род есть нечто сущее), Universale est ens (Всеобщее понятие, или универсалия, есть нечто сущее), Ens de ente praedicatur (Сущее о сущем сказывается), ибо Genus, universale и praedicare суть имена имен, а не вещей. Ложным предложением является также число бесконечно, ибо никакое число не может быть бесконечным. Слово число только тогда называется именем бесконечного, когда в уме ему не соответствует никакое определенное число. 6. К четвертому виду ошибок относятся ложные предложения вроде следующих: величина и фигура предмета таковы, как их видит зритель; цвет, свет, звук находятся в предмете и т. п. Ибо один и тот же предмет кажется то большим, то меньшим, то четырехугольным, то круглым в зависимости от разницы в расстоянии и среде. Истинная же величина и фигура воспринимаемого предмета всегда одна и та же. Вот почему видимая нами величина и фигура не могут быть настоящей величиной и фигурой предмета, а только образом (призрак), и в указанных утверждениях связываются, таким образом, имена акциденций с именами образов-призраков. 7. Ошибки пятого вида совершают те, кто утверждает, что определение есть сущность вещей, а белизна или другая акциденция есть род, или всеобщее. В действительности определение есть не сущность вещей, а лишь предложение, выражающее то, что мы считаем сущностью вещей, точно так же, как не белизна сама по себе, а слово белизна является родом, или универсалией. 8. Ошибку шестого вида совершают те, кто говорят, что идея какого-нибудь тела является универсалией, будто в душе существует образ человека, представляющий не отдельного человека, а просто человека как такового, что невозможно, ибо всякое представление едино и имеет своим объектом только отдельную вещь. Поэтому те, кто принимает имя вещи за ее идею, ошибаются. 9. Ошибку седьмого вида совершают те, кто, устанавливая различие сущностей, говорят, что одни из вещей существуют сами по себе, другие же существуют лишь случайно. На основании того, что предложение Сократ есть человек необходимо, а предложение Сократ есть музыкант случайно, они утверждают, будто некоторые вещи необходимо должны существовать сами по себе, другие же существуют лишь случайно и акцидентально. Но так как слова: необходимо, случайно, сами по себе, акцидентально – являются именами не вещей, а предложений, то, говоря, что некоторая вещь существует сама по себе, мы связываем имя вещи с именем предложения. Точно так же ошибаются те, кто одну идею относит к разуму, а другую – к воображению, считая, будто при понимании предложения человек есть живое существо мы имеем одну идею или один почерпнутый из чувственного восприятия образ (imago) в памяти, а другую идею – в уме. Их ошибка основана на том предположении, будто одна идея соответствует имени, а другая – утверждению в целом. Это предположение, однако, неверно, ибо предложение в целом обозначает только порядок тех же самых вещей, которые мы рассматриваем в представлении (в данном случае в представлении человек). Предложение человек есть живое существо вызывает в нас поэтому только одно представление, хотя мы при этом сперва обращаем внимание на то, что делает человека человеком, и лишь после думаем о том, почему он называется живым существом. Ошибочность этих предложений во всех модусах должна быть установлена при помощи определения связанных в них имен. 10. Имея перед собой сочетание имен тел с именами тел, имен акциденций с именами акциденций, имен имен с именами имен и имен призраков с именами призраков, мы все же не можем сразу узнать, правильны ли такие утверждения, а должны сперва найти точные определения обоих имен этих утверждений, а затем определения имен, встречающихся в этих определениях, продолжая таким образом наш анализ до тех пор, пока не дойдем до самых простых имен, т. е. до наиболее всеобщих, или универсальных, имен соответствующего рода. Если, однако, и после этого нельзя установить, истинны или ложны наши утверждения, то мы должны определить это при помощи философского метода, т. е. путем систематических умозаключений, исходя из определений. Ибо всякое предложение, имеющее всеобщую значимость, либо является определением или частью определения, либо приобретает свою очевидность из определений. 11. Источник формальных ошибок в силлогизмах -или слияние связки с каким-нибудь из членов предложения, или двусмысленность какого-нибудь слова. В обоих случаях налицо оказываются четыре термина, что (как я уже показал) не должно иметь места в правильном силлогизме. Слияние связки с каким-нибудь термином можно немедленно обнаружить, если придать суждениям наиболее точную форму. Можно было бы, например, аргументировать следующим образом:
Рука касается пера Перо касается бумаги Следовательно, рука касается бумагиНеправильность этого силлогизма немедленно обнаруживается, если придать ему следующую форму:
Рука есть касающаяся пера Перо есть касающееся бумаги Следовательно, рука есть касающаяся бумагиТут ясно различаются четыре члена: рука, касающаяся пера, перо и касающееся бумаги. Однако опасность быть введенным в заблуждение посредством таких софизмов кажется мне не столь большой, чтобы стоило останавливаться на этом дольше. 12. Но хотя двусмысленные предложения и могут быть источником заблуждения, все же это не относится к тем из них, в которых двусмысленность очевидна. Точно так же невозможно заблуждение при использовании метафор, ибо последние означают перенесение имени одной вещи на другую. Однако некоторые двусмысленные слова (и даже такие, двусмысленность которых не очень глубоко скрыта) могут ввести в заблуждение. Так обстоит дело в следующем рассуждении. Предмет первой философии – обсуждение принципов; но самым первым является принцип, согласно которому одно и то же не может одновременно существовать и не существовать; поэтому первая философия должна установить, может ли одна и та же вещь одновременно существовать и не существовать. Обманчивость тут кроется в двусмысленности слова принцип. Ибо когда Аристотель в начале своей Метафизики говорит, что обсуждение принципов составляет предмет первой философии, то он под принципами понимает причины вещей и известные классы сущего, которые называет первичными. Называя же принципом первичное предложение, он под принципом понимает начало и причину познания, т. е. понимание смысла слов, так как при отсутствии такого понимания невозможно было бы никого ничему научить. 13. Ложные заключения софистов и скептиков, при помощи которых они в древние времена обычно делали смешными и оспаривали истины, были большей частью ошибочны не по форме, а по содержанию силлогизмов. И такими софизмами софисты чаще обманывали себя, чем других. Так, знаменитый довод Зенона против существования движения опирался на следующее утверждение: все, что может быть делимо на бесконечное множество частей, бесконечно [82]. Хотя сам Зенон, без сомнения, считал это утверждение правильным, однако оно является ложным. Ибо делить что-либо на бесконечное множество частей – значит лишь делить это на сколько угодно частей. Но как бы долго я ни делил линию на части, в результате не окажется необходимым утверждать, что она обладает бесконечным количеством частей, или является бесконечной. Ибо, сколько бы частей я ни образовал, число их всегда будет определенно. Однако поскольку тот, кто просто говорит части, не указывая, сколько их, не ограничивает их числа, а предоставляет слушателю определить это число, то обычно говорят, что линия делится до бесконечности, что, однако, верно только в вышеуказанном, а не в каком-либо другом смысле. И этого достаточно о силлогизме, который до известной степени является первым шагом к философии и о котором я сказал столько, сколько необходимо, чтобы понять, откуда всякая правильная аргументация получает свою силу. Было бы не более полезноостанавливаться на этом подробнее, чем (как я уже говорил) предписывать младенцу, как ему следует учиться ходить. Ибо искусству рассуждения (rationandi ars) лучше всего обучаются не при помощи правил, а на практике и путем чтения таких книг, в которых все заключения выводятся посредством строгой аргументации. Ныне же я перехожу к рассмотрению пути философии, т. е. метода философствования.
ГЛАВА VI О МЕТОДЕ
1. Определение метода и науки. 2. Нам лучше известно, что такое единичные вещи, чем то, что представляют собой универсалии; напротив, нам лучше известно, почему существуют универсалии, или каковы их причины, чем почему существуют единичные вещи. 3. Что хотят знать те, кто философствует. 4. Первая часть, в которой устанавливаются принципы, является чисто аналитической. 5. Наиболее общие причины всякого рода известны сами по себе. 6. Метод, с помощью которого от установления первых принципов переходят прямо к знанию. 7. Метод науки о государстве, как и метод естественных наук, ведет от чувственных данных к первым принципам и является аналитическим. Метод же, который, напротив, исходит из первых принципов, является синтетическим. 8. Метод, посредством которого выясняют, является ли данная вещь материей или акциденцией. 9. Метод исследования акциденции в том или ином предмете. 10. Метод исследования причины данного явления. 11. Слова служат метками при изобретении, а при доказательстве (демонстрации) становятся знаками. 12. Метод доказательства является синтетическим. 13. Только определения являются первыми всеобщими предложениями. 14. Природа и определение определения. 15. Свойства определения. 16. Природа доказательства. 17. Свойства доказательства и порядок того, что подлежит доказательству. 18. Недостатки доказательства. 19. Почему здесь нельзя обсуждать аналитических выводов геометров. 1. В целях познания метода нужно припомнить определение философии (гл. I, п. 2), сформулированное мной следующим образом: философия есть осуществляемое посредством правильного рассуждения познание явлений, или действий, исходя из знания их создания или какого-либо возможного возникновения, а также действительного или возможного способа их возникновения, исходя из знания их действий. Следовательно, метод при изучении философии есть кратчайший путь к тому, чтобы на основании знания причин прийти к познанию их действий (effectus) и на основании знания действий прийти к познанию их причин. Но мы только тогда поймем какое-нибудь действие, когда познаем, каковы его причины, каков субъект, в котором эти причины кроются, в каком субъекте они производят данное действие и каким образом они его производят. Это – наука о причинах, или, как ее называют также, наука о ??? ????? (почему). Всякое же иное познание, а именно познание того, что называют ??? ??? (что), имеет своим источником чувственное восприятие или воображение, т. е. воспоминание, оставшееся после такого восприятия. Первое начало всякого знания – образы восприятия и воображения, о существовании которых нам достаточно известно из самой природы (naturaliter). Однако, почему они существуют и откуда происходят, мы узнаем только посредством научного исследования, которое (как уже было указано раньше, гл. I, п. 2) состоит в сложении и разложении предмета на его основные элементы, или в анализе (resolutione). Поэтому всякий метод, посредством которого мы исследуем причины вещей, является или соединительным (композитивным), или разделительным (резолютивным), или частью соединительным, а частью разделительным. Обычно разделительный метод называется аналитическим, а соединительный – синтетическим. 2. Для каждого метода характерно умозаключение от известного к неизвестному – это явствует из приведенного выше определения философии. При познании посредством органов чувств вещь в целом оказывается знакома нам более, чем любая ее часть. Когда мы, например, видим человека, то понятие, или целостная идея, этого человека появляется у нас ранее и имеет большую яркость, чем отдельные идеи его определенной фигуры, его одушевленности и его разума. Это значит, что мы сперва видим всего человека и познаем, что он существует, прежде чем замечаем в нем другие особенности. Следовательно, при познании, имеющем своим предметом ??? ???, т. е. при познании того, что нечто существует, наше исследование исходит из целостности идеи. При познании же, имеющем своим предметом ??? ?????, или причины чего-либо, т. е. в науке, мы познаем причины частей раньше причин целого. Ибо причина целого складывается из причин частей, а отдельные части, из которых складывается составное целое, необходимо познаются раньше, чем это последнее. Под частями я понимаю тут не части самой вещи, а части ее природы. Так, под частями человека я понимаю не его голову, плечи, руки и т. д., а его очертание, рост, движение, чувственные восприятия, разум и т. п., т. е. все те акциденции, совокупность которых конституирует природу человека, но не отдельную человеческую личность. Таков также истинный смысл известного изречения, что одно более знакомо нам, а другое – природе. Ибо я не думаю, чтобы те, кто проводит это различие, придерживались мнения, будто нечто не известное никому из людей все же известно природе. Под наиболее знакомыми нам вещами мы должны понимать вещи, воспринимаемые нами посредством органов чувств; наиболее же известными природе являются такие предметы, которые познаются разумом. Только в этом смысле и следует понимать то, что целое, т. е. вещи, которые имеют менее общие имена (для краткости я их называю единичными), нам более знакомы, чем их части, а именно вещи, которые имеют более общие имена (я их называю поэтому универсалиями). Причины же частей более известны природе, чем причины целого, т. е. общие вещи ей более знакомы, чем единичные. 3. Люди, занимающиеся философией, или просто, т. е. без всякой определенной цели, ищут знания, стремясь добыть возможно больше истин и не имея намерения исследовать какой-либо определенный вопрос; или доискиваются причины какого-либо явления; или же добиваются решения какой-нибудь проблемы. Так, некоторые ищут ответа на вопрос о том, какова причина света, тепла, формы определенного явления и т. п.; или о том, какой вещи присуща определенная акциденция (свойство); или о том, какая из многих акциденций может больше всего способствовать появлению данного действия; или о том, какое сочетание особых причин необходимо, чтобы произвести определенное действие. Соответственно этому разнообразию подлежащих исследованию вещей приходится применять то аналитический, то синтетический метод, а то и оба этих метода. 4. Знание состоит в как можно более полном постижении причин всех вещей; причины же единичных вещей складываются из причин вещей общих, или простых. А поэтому те, кто просто ищет знания, не ставя перед собой определенных целей, по необходимости должны познать сначала причины общих свойств, которые присущи всем телам, т. е. всякой материи, и лишь затем причины вещей частных, т. е. тех свойств, или акциденций, которые отличают одну вещь от другой. И опять-таки, прежде чем познавать причины этих общих свойств, необходимо познать, чем являются сами эти общие свойства (универсалии). Поскольку общие свойства содержатся в природе единичных вещей, они должны быть познаны при помощи рассуждения, т. е. путем анализа. Возьмем любое понятие, или идею, отдельной вещи, скажем понятие, или идею, квадрата. Этот квадрат следует разложить на его составные элементы, представив его как плоскость, ограниченную определенным числом равных линий и прямыми углами. Посредством такого разложения мы получим в качестве общих свойств, или того, что присуще всякой материи, линию, плоскость (в которой содержится поверхность), ограничение, угол, прямоугольностъ, прямолинейность, равенство; и, если кто-то установит причины или способы возникновения этих свойств, он составит из всех них причину квадрата. Далее, рассматривая понятие золота, мы придем путем анализа к идеям плотного, видимого, тяжелого (т. е. стремящегося к центру Земли, или вниз) тела, равно как и ко многим другим идеям, которые являются более общими, чем понятие золота, и которые можно в свою очередь подвергнуть анализу, продолжая его до тех пор, пока дело не дойдет до наиболее общего (высших универсалий). И посредством такого постоянного анализа мы узнаем те свойства, познание причин которых – сначала каждой в отдельности, а затем в их взаимодействии – приводит нас к истинному знанию отдельных вещей. Отсюда мы заключаем, что метод исследования общих понятий вещей есть метод чисто аналитический. 5. Причины общих свойств (по крайней мере тех, для которых вообще существуют причины) сами по себе очевидны или (как обычно говорят) известны от природы, так что для их познания вообще нет нужды ни в каком методе. Их единственной и всеобщей причиной является движение. Ибо разнообразие всяких форм возникает из разнообразия движений, посредством которых они образуются, а причиной движения можно считать только движение. Да и разнообразие чувственно воспринимаемых вещей, например цветов, звуков, вкусовых ощущений и т. д., не имеет другой причины, кроме движения, происходящего частью в действующих на наши органы чувств предметах, частью в нас самих, воспринимается без научного исследования. Нельзя сказать, какого рода это движение, хотя и очевидно, это некое движение. И если многие не могут понять (пока это им не будет доказано), что причиной всяких изменений является движение, то это происходит не из-за неясности данного факта (ибо то, что ни одна вещь не выходит из состояния покоя и не меняет своего движения, нельзя понять, не прибегая к понятию движения), а или в силу того, что либо естественная способность понимания этих лиц затемнена учениями, которые ими усвоены по традиции, либо же в силу того, что они вообще не дают себе серьезного труда исследовать истину. 6. Таким образом, посредством познания общих свойств и их причин (которые являются первыми принципами по знания ??? ????? [почему] вещей) мы получаем прежде всего их определения (которые являются лишь объяснениями наших простейших понятий). Например, всякий, кто правильно понимает, что такое место, должен также знать следующее определение: место есть пространство, целиком заполненное или занятое каким-нибудь телом. А тот, кто понимает, что такое движение, не может не знать, что движение есть оставление одного места и достижение другого. Далее, мы получаем таким образом способы возникновения общих свойств, или их описания, например познаем, что линия возникает из движения точки, поверхность -из движения линии, одно движение – из другого и т. д. Остается только исследовать, какого рода движение вызывает определенные следствия, например, какое движение описывает прямую линию и какое – окружность, какое обусловливает отталкивание и какое – притяжение, в силу каких движений видимое или слышимое нами один раз воспринимается так, а другой раз – совсем иначе. Метод такого исследования основан на складывании. А именно сперва мы должны исследовать, что производит приведенное в движение тело, если рассматривать его только с точки зрения его движения; тогда окажется, что возникает линия, или длина. Дальше нам следует выяснить, что производит телесная линия при своем движении; и окажется, что она производит поверхность. Продолжая, мы придем к познанию действий движения как такового. После этого мы таким же образом должны рассмотреть, какие следствия получаются из сложения, умножения, вычитания и деления этих движений и какие фигуры и особенные свойства отсюда возникают. Такого рода исследования составляют ту часть философии, которую мы называем геометрией. Рассмотрев, что возникает из движения как такового, мы должны рассмотреть действие, которое движение какого-нибудь тела оказывает на другое тело. Так как движение может совершаться во всех отдельных частях какого-нибудь тела без того, чтобы тело в целом сдвинулось со своего места, то мы должны прежде всего исследовать, какое движение вызывает те или иные движения в целом. Иными словами, если какое-нибудь тело наталкивается на другое (находящееся в покое или движущееся), то необходимо исследовать, по какому направлению и с какой скоростью испытавшее толчок тело будет двигаться после столкновения, какое движение оно может вызвать в третьем теле и т. д. На таком рассмотрении основывается та часть философии, которая трактует о движении. В третью очередь мы переходим к исследованию последствий движения частей тел, которое обусловливает, например, то, что одни и те же вещи представляются чувствам не теми же самыми, а изменившимися. Следовательно, в этой части философии мы исследуем чувственно воспринимаемые качества, например свет, цвет, прозрачность, непрозрачность, звук, запах, вкус, теплоту, холод и т. п. Так как мы не можем познать причины этих качеств без познания причин самих ощущений, то третья часть философии будет посвящена исследованию причин зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Все же ранее упомянутые качества и изменения будут рассматриваться лишь на четвертом месте. Оба этих предмета исследования составляют ту часть философии, которая называется физикой. В этих четырех частях содержится все, что может быть строго доказано в философии природы. Ибо если должна быть указана причина каких-нибудь специфических явлений природы, например движений и сил, которыми обладают небесные тела, то соответствующая теория должна быть выведена из положений упомянутых наук; в противном случае она будет совершенно ненаучной и сведется к шатким предположениям. От физики необходимо перейти к философии морали, в которой рассматриваются душевные движения, как влечение, отвращение, любовь, благосклонность, надежда, страх, гнев, ревность, зависть и т. д., равно как и то, каковы их причины и к каким последствиям они приводят. Эти явления изучаются после физики, потому что их причины кроются в чувственном восприятии и воображении, а то и другое – предмет исследования физики. Необходимость указанного порядка исследования обусловливается тем, что физические явления могут быть поняты лишь после того, как изучены движения мельчайших частиц тела, а движение последних в свою очередь может быть понято только тогда, когда познана сущность того, что производится движением как таковым. И так как всякое чувственное проявление вещей характеризуется определенным качеством и величиной, а последние в свою очередь имеют своим основанием сочетание движений, то прежде всего должны быть исследованы пути движения как такового (что составляет предмет геометрии), затем пути видимых и сложных движений и, наконец, пути движений внутренних и невидимых (которые исследует физика). Вот почему бесполезно изучать философию природы, не начав с изучения геометрии, и те, кто пишет или спорит о философии природы без знания геометрии, только даром отнимают время у своих читателей или слушателей. 7. Философия государства связана с философией морали, но не настолько тесно, чтобы ее нельзя было отделить от последней. Ведь причины душевных движений мы познаем не только путем научных исследований, но также из собственного опыта, когда даем себе труд наблюдать наши чувства. И поэтому не только те, которые исходят из первых начал философии и, используя синтетический метод, достигают познания вожделений и волнения души, могут, следуя дальше тому же методу, дойти до понимания необходимости создавать государства и познать, что такое естественное право, каковы обязанности граждан, каковы права общества при всяких формах правления и все прочее, относящееся к философии государства. Ибо принципы политики коренятся в познании душевных движений, принципы же познания душевных движений – в познании чувственных восприятий и воображения. Люди, не изучавшие основ философии, а именно геометрии и физики, могут все же дойти до принципов философии государства, используя аналитический метод. Ибо, исходя из любого вопроса, например из вопроса о том, справедливо или несправедливо какое-нибудь определенное действие, и определив понятие неправильное действие как действие, противное закону, понятие закон как повеление того или тех, кто обладает властью и правом принуждать, а понятие власть как волю людей, установивших такую власть в интересах мира,- мы в конце концов придем к тому, что страсти и душевные движения людей должны быть удерживаемы в известных границах какой-нибудь властью, ибо иначе люди вечно пребывали бы в состоянии войны друг с другом. В этом всякий может убедиться, исходя из собственного опыта и исследуя свою душу. Из этого пункта, следовательно, можно посредством синтеза прийти к определению справедливости или несправедливости любого действия. Из сказанного ясно, что у тех, кто занимается научным исследованием в широком смысле этого слова, не ограничивая своей задачи разрешением какого-нибудь определенного вопроса, метод философствования отчасти аналитический, отчасти синтетический. Выведение принципов из чувственных восприятий осуществляется посредством аналитического метода, а все остальное – посредством метода синтетического. 8. Иногда в поисках причины определенного явления или следствия мы не знаем, представляет ли собой та вещь, причину которой мы ищем, материю, т. е. тело, или же какую-либо акциденцию [свойство] тела. Конечно, в геометрии, где вопрос идет о причинах величины, отношения или формы, мы определенно знаем, что эти вещи, а именно величина, отношение, формы суть акциденции. В физике же, где речь идет о причинах чувственно воспринимаемых образов, отличить – особенно при зрительных восприятиях -вещи, от которых исходят эти образы, от формы их отражения в органах чувств не столь легко, так что многие заблуждаются, принимая образы восприятия за сами вещи. Тот, кто видит солнце, имеет определенную идею чего-то блестящего и имеющего фут в диаметре; он называет этот образ солнцем, хотя знает, что солнце в действительности значительно больше. Подобным же образом какой-нибудь чувственный образ иногда представляется круглым издали и четырехугольным вблизи. Поэтому можно по праву сомневаться, относится ли этот чувственный образ к материи, а именно является ли он каким-нибудь телом, или же он лишь акциденция тела. Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы пользуемся следующим методом: сопоставляем с нашей идеей признаки материи и акциденций [свойств] тел, найденные нами раньше при помощи синтетического метода, и, если этой идее присущи признаки тела, или материи, решаем, что она является телом, а если не присущи – что она является акциденцией. Так, если твердо установлено, что материю нельзя ни производить, ни уничтожать, ни увеличивать, ни уменьшать, ни двигать с места по нашему желанию, между тем как идея по нашему произволу возникает, исчезает, увеличивается, уменьшается и движется, то мы можем быть уверенными, что перед нами не материя, а акциденция. Этот метод является синтетическим. 9. Если же, как это иногда случается, возникает сомнение относительно вещи, которой присуща познанная нами акциденция (как в предыдущем примере может возникнуть сомнение относительно того, как вещи присущ блеск и видимая величина солнца), то исследование ведется следующим образом. Сперва мы расчленяем весь предмет, разделяя его, например, на объект, среду и самого воспринимающего или на любые другие части, которые являются подходящими для подлежащего исследованию вопроса. Затем соответственно определению вещи мы подвергаем точному исследованию отдельные части. При этом должно быть отброшено все то, что не может быть акциденцией данной вещи. Например, если посредством строго логического рассуждения мы приходим к выводу, что солнце в действительности больше, чем оно кажется глазу, то, значит, эта видимая величина находится не в самом солнце. Если, далее, солнце находится в определенном направлении и на определенном расстоянии от нас, величина же и блеск появляются на разных расстояниях и в различных направлениях (как это бывает при отражении и преломлении лучей), то, значит, этот блеск и видимая величина не находятся в самом солнце. Следовательно, солнечное тело не есть та вещь, которой присущ данный блеск и данная величина. По тем же основаниям мы отказываемся признать носителем этих чувственных образов воздух или нечто другое, так что не остается ничего, кроме ощущающего субъекта. Этот метод является аналитическим, поскольку посредством его мы разлагаем на части вещь, которой должна принадлежать данная акциденция. Поскольку же признаки вещи и признаки акциденции сопоставляются с самой акциденцией, носителя которой мы ищем, то мы применяем синтетический метод. 10. Исследуя причину какого-нибудь действия, мы прежде всего должны иметь ясное понятие о том, что следует понимать под причиной. Причина же есть сумма, или агрегат, всех тех акциденций как действующего, так и подвергающегося действию объекта, сочетание которых производит указанное действие. При этом должно быть ясно, что раз все эти акциденции имеются в наличности, то и действие должно наступить, если же одной из них не хватает, то и действие не будет иметь места. Если это ясно, то остается исследовать каждую акциденцию, сопутствующую действию или предшествующую ему, с целью выяснить, относится ли она в какой-либо мере к действию. Для этого необходимо установить, имеется ли или не имеется налицо предполагаемое действие, когда не хватает одной из акциденций. Таким образом, мы отделяем все то, что является одним из необходимых условий возникновения действия, от того, что к этим условиям не принадлежит. После этого нам следует рассмотреть все акциденции в их совокупности и выяснить, возможно ли, чтобы при их одновременном существовании предполагаемое действие все же не наступило. Если окажется, что действие при этих условиях должно наступить, то агрегат этих акциденций будет единственной причиной; в противном случае он не будет ею, и нам следует тогда проследить другие акциденции и присоединить их к нашему комплексу. Например, желая найти причину света, мы прежде всего исследуем окружающий нас внешний мир и обнаруживаем, что появление света везде сопровождается существованием специфического предмета, служащего как бы источником, из которого свет исходит и без которого мы не можем его воспринять. Поэтому первым из необходимых условий возможности появления света является этот объект. Затем мы рассматриваем среду и обнаруживаем, что если она не обладает определенными качествами, например не является прозрачной, то дейстие не наступает, если даже объект остается тем же. Поэтому вторым необходимым условием возможности света является прозрачность среды. В-третьих, мы наблюдаем наше собственное тело и находим, что при заболевании глаз, мозга, нервов и сердца, т. е. если нам что-то мешает, если мы невнимательны или больны, свет исчезнет. Необходимо известное состояние органов, для того чтобы воспринять впечатления извне. С другой стороны, из всех присущих предмету акциденций только действие (т. е. какое-нибудь движение) безусловно необходимо, для того чтобы могло наступить данное следствие. Ибо, для того чтобы что-нибудь испускало свет, вовсе не требуется, чтобы оно обладало определенной формой, или имело определенную величину, или всей массой удалялось от занимаемого им места. Разве только кто-нибудь скажет, что причиной света солнца или чего-то еще является свечение. Но так как под свечением понимается не что иное, как причина света, то сказать так – то же самое, что сказать: причина света есть то, что в солнце производит свет. Следовательно, единственное действие, обусловливающее в предмете явление света, есть движение его частей. Отсюда легко понять, в каком отношении среда способствует возникновению следствия, а именно среда доводит это движение до глаза. Отсюда также ясно, какова при этом роль глаза и других органов: эти органы передают движение дальше и доводят его до последнего органа ощущений – сердца. Таким образом, причина света может быть понята как движение, продолжающееся от своего начала до начала органического движения. Свет есть не что иное, как изменение этого органического движения, обусловленное движением, идущим извне. Но все предыдущее должно служить только примером, ибо о самом свете и о том, как он производится, будет сказано подробнее в надлежащем месте. Во всяком случае ясно, что для исследования причин приходится пользоваться отчасти аналитическим, а отчасти синтетическим методом. Аналитическим методом мы пользуемся для установления отдельных предпосылок следствия, синтетическим же методом – для определения совокупного результата всего того, что производится каждой отдельно взятой предпосылкой. Все до сих пор сказанное относится к методу исследования. Остается еще сказать о методе обучения, т. е. о процессе доказательства и тех средствах, которые в нем применяются. 11. При применении метода исследования и изобретения (inventio) польза слов состоит в том, что они являются метками, при помощи которых мы можем возобновить в памяти найденный нами результат. Ибо если это не имеет места, то из нашей памяти улетучивается все то, что мы нашли с помощью исследования. Ввиду слабости нашей памяти нам невозможно также извлечь из принципов больше одного или двух силлогизмов. Если бы, предположим, кто-нибудь при рассмотрении какого-нибудь треугольника открыл, что сумма его углов равна двум прямым, а затем безмолвно обдумал сам этот факт, не применяя при этом ни мысленно, ни вслух никаких слов, то, рассматривая другой треугольник, непохожий на предыдущий, или тот же самый, но наблюдаемый в другом положении, такой человек не знал бы, обладает ли последний той же особенностью или нет. Он, таким образом, был бы вынужден, встречая новый треугольник (а их бесконечно много), каждый раз начинать исследование сначала. Этого не требуется, если пользоваться словами, ибо каждое универсальное слово служит для обозначения представлений о бесконечном множестве отдельных вещей. Таким образом, слова служат, как я уже говорил, метками для самого исследователя (а не знаками вещей для других), в силу чего отшельник, не имеющий учителей, может стать философом. Философом мог стать и Адам. Но учить, т. е. доказывать, можно лишь при условии наличия двух лиц и использования силлогистической речи. 12. Поскольку, однако, учить означает не что иное, как вести ум обучаемого по пути, пройденному самим обучающим в процессе исследования к познанию найденного им, то и метод доказательства не будет отличаться от метода исследования, за исключением того, что первая часть этого метода, а именно логическая операция, при помощи которой мы от чувственных восприятий вещей восходим к общим принципам, должна быть отброшена. Так как последние являются принципами, то их нельзя доказать, и так как они в силу их природы всем знакомы, как сказано в 5-м пункте, то они нуждаются, конечно, в объяснении, но не в доказательстве. Таким образом, в процессе доказательства мы применяем целиком синтетический метод, а именно исходим из первых, или наиболее общих, предложений, которые сами собой разумеются, а затем, последовательно образуя из суждений силлогизмы, продолжаем операции до тех пор, пока наконец обучающийся не убедится в истинности искомого заключения. 13. Указанные первые принципы представляют собой лишь определения. Эти определения бывают двоякого вида. Одни из них являются определениями имен, обозначающих вещи, причину которых мы можем понять; другие же – определениями имен, относящихся к вещам, причины которых не могут быть найдены нами. Именами первого рода обозначают тело, или материю, количество, или протяжение, движение само по себе – одним словом, то, что присуще всякой материи; именами второго рода – тело определенной природы, движение определенной природы и величины, определенную величину, определенную форму и все то, благодаря чему мы можем отличить одно тело от другого. Мы считаем определения имен первого рода удовлетворительными, если посредством как можно более краткого описания вещей, к которым относятся эти имена, возбуждаем в уме слушателя ясные и отчетливые идеи, или представления тех вещей, для которых они служат именами. Например, мы даем такое определение: движение есть непрерывное оставление одного места и достижение другого. Хотя в этом определении не указаны ни движущийся предмет, ни причина его движения, оно все же возбуждает в уме достаточно ясную идею движения. Определения же вещей, имеющих, как следует предполагать, причину, должны содержать имена, указывающие их причину или способ их возникновения. Так, определение круга должно гласить: круг есть фигура, получающаяся в результате вращения прямой линии вокруг одного из ее концов на плоскости. Никакое предложение, за исключением определений, не следует считать первоначальным или, если мы хотим рассуждать более строго, причислять к принципам. Ибо такие аксиомы, как евклидовские, все же могут быть доказаны и не являются принципами доказательства, хотя они в силу всеобщего соглашения приобрели авторитет принципов на том основании, что непосредственно не требуют обоснования. Точно так же и предложения, называемые постулатами, являются, правда, действительными принципами, однако принципами не доказательства, а конструкции, т. е. не знания, а умения; иначе говоря, это принципы не теорем, имеющих спекулятивный характер, а проблем, которые относятся к практике и находят свое решение в действии. Еще в меньшей мере можно причислить к принципам такие широко распространенные догматические утверждения, как природа боится пустоты, природа ничего не делает напрасно и т. п. [83], утверждения, которые, не обладая непосредственной очевидностью, не могут быть и доказаны, да, сверх того, чаще бывают ложны, чем истинны. Но вернемся к определениям. Утверждая, что все, имеющее причину и произведенное чем-либо, должно быть определено посредством соответствующей причины и способа возникновения, я исхожу из следующего основания: конечной целью всякого знания является познание причин и способа возникновения вещей. Если указание на причины и способ возникновения вещи не содержится в определении, то это указание не может иметь места и в заключении того силлогизма, который первым выводится из этих определений. И если мы их не находим в первом заключении, то мы их не найдем и ни в каком дальнейшем. А значит, так мы никогда не сможем прийти к истинному познанию, что не соответствует задаче и цели доказательства. 14. Определения, которые мы только что назвали принципами, или первыми предложениями [суждениями], являются высказываниями. И так как мы применяем их, с тем чтобы возбудить в уме обучающегося идею какой-нибудь вещи при обозначении этой вещи каким-нибудь именем, то определение может быть лишь не чем иным, как объяснением этого имени. Если же имя обозначает какое-нибудь сложное понятие, то определение сводится к разложению этого имени на его наиболее общие части. Например, если мы определяем человека такими словами: человек есть тело одушевленное, чувствующее, одаренное разумом, то имена: тело, одушевленное и т. д.- являются составными частями всего имени человек. Этим и объясняется то, что такие имена всегда состоят из рода и отличительного признака, так что все входящие в их состав имена, за исключением последнего, имеют родовое значение, а последнее содержит отличительный признак. Если же, однако, какое-нибудь имя является наиболее общим в своем роде, то его определение не может состоять из рода и видового отличия, а должно содержать такое описание, которое лучше всего выясняет значение этого имени. С другой стороны, может случиться, и часто случается, что соединение рода и видового отличия все же не образует определения. Например, выражение прямая линия содержит в себе название рода и видового отличия, но все же не является определением, если только мы не думаем, что определение прямой линии гласит: прямая линия есть прямая линия. Но если бы мы прибавили к приведенным словам какое-нибудь другое отличное от них имя, состоящее из одного слова и обозначающее то же самое, то они были бы определением этого имени. Из сказанного ясно, как следует определить само определение. Определение есть предложение [суждение], предикат которого расчленяет субъект, когда это возможно, и разъясняет его, когда это невозможно. 15. Определение обладает следующими свойствами: а) Оно устраняет двусмысленность и тем самым все это множество различений, которыми пользуются те, кто думает, что можно научиться философии в диспутах [84]. Ибо существо определения в ограничении, т. е. в детерминировании значения определяемого имени и отделении его от всех значений, кроме того, которое содержится в самом определении. Поэтому, сколько бы различений ни приводилось в отношении подлежащего определению имени, определение замещает их все. б) Оно дает общее понятие определяемой вещи, являясь общей картиной для ума, а не для глаза. Тот, кто рисует человека, создает его образ; подобно этому тот, кто определяет имя человек, вызывает в уме образ какого-нибудь человека. в) Незачем спорить о том, допустимы или недопустимы определения. Ибо если учитель хочет обучить своего ученика и последний, признавая наличие всех отдельных частей подлежащей объяснению вещи в том виде, как они расчленены в определении, все же не признает определения, то тут излишня всякая дискуссия, так как это равно нежеланию принять науку вообще. Если же ученик при этих условиях не понимает определения, то последнее неправильно, ибо сущность определения состоит в том, чтобы ясно представить идею данной вещи. Основные принципы или ясны сами собой, или же не являются принципами. г) В философии определения предшествуют определяемым именам. При обучении философии начинают именно с определений и весь дальнейший процесс приобретения знания сложных вещей осуществляется посредством синтеза, путем сложения понятий. Следовательно, определение есть выяснение значения сложного имени посредством разложения его на составные элементы и восхождения от них к целому. Мы должны предварительно понять определения, чтобы понять сложные имена; дело обстоит даже так, что если объяснены имена составных частей какого-то предложения, то нет необходимости в существовании сложного имени. Если, например, достаточно ясны имена: равносторонний, четырехугольный, прямоугольный, то геометрия может обойтись без имени квадрата. Имена, уже получившие определение, применяются в философии только ради краткости. д) Составные имена, получившие в одной части философии одно определение, могут получить в другой ее части другое определение. Так, в геометрии мы даем гиперболе и параболе другое определение, чем в риторике. Ведь все определения имеют смысл только для определенной отрасли знания и служат только ей. Если, следовательно, посредством определения в одной части философии вводится какое-нибудь имя, выражающее в подходящей форме и с величайшей экономией геометрические положения, то его можно с таким же правом использовать и в других частях философии. Ведь применение имени индивидуально и даже произвольно, хотя оно пользуется всеобщим признанием. е) Никакое определение имени не может состоять из одного слова. В самом деле, одно слово никогда не является достаточным средством для разложения (анализа) одного или нескольких имен. ж) Имя, которому дают определение, не должно повторяться в самом определении. Ибо то, чему должно быть дано определение, есть сложное целое; определение же есть разложение сложного на части, а целое не может быть частью самого себя. 16. Два любых определения, которые могут быть соединены в силлогизм, дают в результате заключение. Так как последнее выводится из первых принципов, т. е. из определений, то мы говорим, что оно доказано, а само выведение, или соединение, называется доказательством. Если подобным же образом составляется силлогизм из двух суждений, одно из которых является определением, а другое -доказанным заключением или ни одно из которых не является определением, но каждое предварительно доказано, то такой силлогизм также называется доказательством и т. д. Определение доказательства будет, следовательно, гласить: доказательство есть силлогизм или ряд силлогизмов, построенных на определениях имен и доведенных до последнего заключения. Отсюда видно, что всякое правильное рассуждение, которое исходит из истинных первых принципов, является научным и правильным доказательством. Что касается происхождения самого имени доказательство, то вышеуказанное рассуждение греки называли ?????????, что римляне перевели как demonstratio. Этим именем греки обозначали только такие формы умозаключения, когда при помощи линий и фигур создавалась возможность как бы воочию убедиться в истинности доказываемого, ибо, собственно говоря, только такая форма доказательства и может подразумеваться под словом ????????????, означающим наглядное показывание. Этот специфический смысл понятия доказательства у греков и римлян объясняется, очевидно, тем, что единственной достоверной наукой, которой они обладали, была геометрия (в ней одной могут иметь место такие фигуры), учения же их о других вещах были всего лишь смесью спорных утверждений и пустословия. Это было обусловлено только тем, что у них не имелось никаких истинных первых принципов, из которых они могли бы вывести логические заключения (а вовсе не тем, что без помощи фигур истина будто бы не может стать очевидной). Вот почему во всех отраслях науки определения должны стоять на первом месте, чтобы сделать возможным истинное доказательство [демонстрацию]. 17. Для методического доказательства характерны следующие особенности: а) весь ряд доводов должен быть правильным, т. е. строиться в соответствии с изложенными выше законами силлогизма; б) предпосылки всех силлогизмов должны быть доказаны и выведены из первых определений; в) по установлении определения обучающий должен следовать тому же методу, при помощи которого он сам нашел истину. Вначале надо доказать вещи, которые непосредственно следуют из самых общих определений (это образует часть философии, именуемую первой философией). Затем следует то, что можно доказать исходя из простого движения (на чем основана геометрия). За геометрией следует то, что можно объяснить исходя из видимых действий, например толчков и волочений. Затем следует движение невидимых частиц, или изменение, и учение о чувствах, воображении и страстях живых существ, преимущественно присущих человеку. В этой части философии содержится учение об основах гражданских обязанностей, или о государстве. Это учение занимает в системе последнее место. В том, что именно такой метод должен быть применен во всей философии, нас легко может убедить следующее соображение. То, что должно быть изложено в конце системы, как я уже говорил, может быть обосновано только тогда, когда предварительно ясно познано и обосновано то, что должно быть изложено вначале. В качестве примера, иллюстрирующего охарактеризованный выше метод, мы не можем указать ничего другого, кроме нашего рассуждения об основах философии, о которых мы будем говорить в ближайшей главе и во всей книге. 18. Помимо паралогизмов, ошибочность которых проистекает из ложности посылок или неправильности соединений и о которых была речь в предыдущей главе, существуют еще два паралогизма, встречающиеся исключительно при доказательствах. Одним из них является так называемое petitio principii [порочный круг в доказательстве], а вторым – causa falsu [допущение ложной причины]. Эти паралогизмы вводят в заблуждение не только неопытного ученика, но временами и учителя, и благодаря им кажется доказанным то, что в действительности вовсе не доказано. Мы имеем перед собой petitio principii в том случае, когда подлежащий обоснованию вывод в немного измененном виде кладется в качестве определения или принципа в основу доказательства. Ибо принимать за причину искомой вещи саму эту вещь или одно из ее действий – значит вращаться при доказательстве в заколдованном кругу. Например, если кто-нибудь, желая доказать, что Земля неподвижно покоится в центре универсума, приводит в качестве причины этой неподвижности действие тяжести и определяет тяжесть как свойство, в силу которого тяжелое тело стремится к центру универсума, то он напрасно трудится. Следует найти именно причину этого свойства Земли. Тот, кто принимает тяжесть за причину, считает вещь своей собственной причиной, или основанием. Пример ложной причины [основания] я нахожу в одной ученой статье. Надо доказать положение о движении Земли. Автор начинает свое доказательство с утверждения, что если Солнце и Земля не всегда сохраняют по отношению друг к другу одно и то же положение, то какое-либо из этих тел необходимо должно двигаться, и это совершенно верно. Далее он показывает, опять-таки правильно, что те пары, которые благодаря действию солнца подымаются с суши и с моря, вовлекаются в это движение. Отсюда, как с полным основанием заключает автор, возникают ветры. От действия этих ветров волнуется море, а в результате движения волн морское дно вращается, как будто его подстегивают. Признав это, заключает далее наш автор, мы должны с необходимостью признать, что Земля движется. Однако это паралогизм. Ибо если этот ветер был причиной того, что Земля двигалась с самого начала, и если движение Солнца или Земли было причиной этого ветра, то движение Солнца или Земли существовало до появления самого ветра. Но если Земля двигалась до появления ветра, то ветер не мог быть причиной вращения Земли; если же Земля была неподвижной, а Солнце двигалось, то ясно, что Земля могла и не двигаться, несмотря на наличие ветра, и ее движение поэтому не должно было бы иметь указанную причину. Между тем мы сплошь и рядом наталкиваемся на такого рода паралогизмы в сочинениях по физике, хотя неправильность этих умозаключений редко так бросается в глаза, как в приведенном примере. 19. Кое-кому может показаться, что в этом месте, где речь идет о методе, следовало бы также остановиться на том искусстве геометров, которое последние называют логистическим (logisticam). Искусство это состоит в том, что геометры делают допущение о правильности некой исследуемой вещи, а затем посредством рассуждения приходят или к чему-либо достоверному, из чего могут показать истинность гипотезы, или к невозможному, из чего могут понять, что их допущение было ошибочным. Но принципы этого искусства не могут быть развиты здесь. Причина того заключается в том, что этот метод может быть понят и правильно применен лишь теми, кто хорошо знаком с геометрией. Чем больше теорем геометры имеют ксвоим услугам, тем больше они могут пользоваться методом логистики, так что последняя в действительности ничем не отличается от геометрии. Метод этот складывается из трех частей. Первая часть состоит в нахождении равенства известного и неизвестного, что называется составлением уравнения. Уравнение может быть составлено только теми, кто в совершенстве усвоил сущность, особенности и перестановки пропорций, сложение, вычитание, умножение и деление линий и поверхностей и правила извлечения корней, что не относится к простейшей геометрии. Вторая часть состоит в том, чтобы на основе найденного уравнения определить, в какой мере это уравнение может или не может выявить истинность или ложность задачи. Эта операция требует еще большего знания. Третья часть состоит в том, чтобы по нахождении уравнения, годного для решения задачи, решать его так, чтобы выявилась ее истинность или ложность, что не может быть выполнено при решении трудных задач без знакомства с сущностью криволинейных фигур. Познание же сущности и свойств криволинейных фигур составляет, однако, предмет высшей геометрии. Кроме того, не существует никакого определенного метода для нахождения уравнений, и лучше всего справится с этой задачей тот, кто обладает для этого природными способностями.РАЗДЕЛ ВТОРОЙ ПЕРВАЯ ФИЛОСОФИЯ
ГЛАВА VII О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
1. Несуществующие вещи можно понять и исчислить при помощи их названий. 2. Что такое пространство. 3. Время. 4. Часть. 5. Разделение. 6. Единое. 7. Числа. 8. Складывание. 9. Целое. 10. Смежные и непрерывные пространства и время. 11. Начало, конец, путь, конечное, бесконечное. 12. Что такое потенциально бесконечное (potentia infinitum); никакое бесконечное не может быть ни целым, ни единым; нет ни многих бесконечных пространств, ни многих бесконечных времен. 13. Не существует некой минимальной величины, недоступной делению. 1. Изложение философии природы лучше всего начать (как уже было указано выше) с идеи небытия (privatio), т. е. с воображаемого уничтожения универсума. Предположив таким образом, что все вещи уничтожены, можно было бы спросить, что еще останется некоему человеку (который предполагается избежавшим светопреставления) в качестве предмета философских размышлений и чему он сможет дать какое-то имя, чтобы иметь возможность размышлять? И вот я утверждаю, что у этого человека останется идея мира и всех тел, которые он видел своими глазами или воспринимал другими органами чувств до светопреставления, т. е. у него останутся воспоминания и представления о величинах, движениях, звуках, цветах и соответственно этому воспоминания об их порядке и об их частях. Все эти вещи, конечно, представляют собой идеи и образы, существующие только в его воображении. Однако они будут казаться ему существующими вне его и как бы совершенно независимыми от его представлений. И этим-то вещам он станет давать имена, их-то он станет мысленно связывать друг с другом и отделять друг от друга. В самом деле, так как человек, оставшийся, согласно нашему предположению, после уничтожения всех вещей, продолжает мыслить, представлять и вспоминать, то объектом его мышления может быть лишь прошлое. Мало того, если хорошенько поразмыслить над тем, что мы делаем тогда, когда мыслим и умозаключаем, то кажется, что и при том положении, когда все вещи в мире существуют, мы мыслим и сравниваем только образы нашего воображения. Для вычисления величин и движений на небе и на земле мы не возносимся к небу, чтобы делить его и измерять происходящие там движения, а спокойно проделываем эту работу в нашем кабинете или во мраке ночи. Вещи могут двояким образом становиться предметом научного исследования. Они могут стать таковым или в качестве внутренних состояний (internae accidentia) нашего духа, как это бывает в том случае, когда речь идет об исследовании наших духовных способностей, или в качестве образов внешних вещей, образов, которые не существуют реально, а только кажутся существующими, т. е. имеющими бытие вне нас. И с этой стороны мы их впредь и будем рассматривать. 2. Если мы вспоминаем какую-нибудь вещь, существовавшую в мире до его предполагаемого уничтожения, или представляем ее себе в нашем воображении и при этом обращаем внимание (совершенно абстрагируясь от ее свойств) только на то, что она имеет бытие вне нашего сознания, то мы получаем то, что называют пространством. Это пространство является, конечно, лишь воображаемым, ибо оно всего-навсего продукт воображения, но именно его все называют пространством. Ибо никто не считает пространство чем-то фактически заполненным, но каждый считает его лишь чем-то, что может быть заполнено. Точно так же никто не думает, что тела в своем движении влекут за собой занимаемое ими пространство, ибо то же самое пространство заключает в себе то одно, то другое тело, а это было бы невозможно, если бы оно неизменно сопровождало содержащееся в нем тело. Это обстоятельство настолько очевидно, что, собственно говоря, не нуждается в объяснении. И все же я считаю такое объяснение необходимым, так как у некоторых философов мы встречаем ложные определения пространства, из которых выводятся ложные заключения о бесконечности мира. Так, пространство определяется как протяжение тела, а поскольку протяжение может непрерывно увеличиваться, то отсюда заключают, будто тела могут иметь бесконечное протяжение, из чего следует, что мир бесконечен. Другие выводят из того же самого определения заключение, будто и для самого Бога было бы невозможно сотворить больше одного мира [85]. Ибо если бы был сотворен другой мир, то, так как вне нашего мира нет ничего и, следовательно (согласно определению), нет также никакого пространства, новый мир пришлось бы поместить в ничто, но в ничто не может быть помещено ничто. Но почему это так, не говорят. Верно как раз обратное. В заполненное пространство ничего больше нельзя помещать. Пустое же пространство более пригодно для того, чтобы принять новые тела, чем заполненное. После этого отступления, поводом к которому послужили упомянутые философы [86] и их последователи, я возвращаюсь к своей теме и даю следующее определение пространства: пространство есть воображаемый образ (phantasma) существующей вне нас вещи, поскольку она просто существует, т. е. поскольку мы не имеем в виду никакой другой акциденции, кроме бытия вещи, вне представляющего сознания. 3. Подобно тому как тело оставляет в нашем уме образ своей величины, движущееся тело оставляет в сознании образ своего движения, т. е. идею тела, непрерывно меняющего свое место. Эта идея, или этот образ, есть то, что я называю временем, причем я и в данном случае не отступаю ни от обычных воззрений, ни от Определения, данного Аристотелем. Все люди признают, что год есть время, и все же они не думают, что год означает акциденцию, состояние или модус какого-нибудь тела. Вот почему необходимо также признать, что время существует не в самих вещах, а только в мышлении, осуществляемом нашим разумом. Говоря, например, о временах наших предков, мы не думаем, что после их смерти эти времена могут существовать где-то, кроме памяти тех, кто вспоминает об этих предках. Те, кто говорят, что дни, годы и месяцы суть движения Солнца и Луны, утверждают (так как прошлое движение означает то же, что исчезнувшее, а будущее – то же, что еще не существующее), хотя бы они сами того и не желали, то же, что и я, именно что никакого времени вообще не существует, не существовало и не будет существовать. Только о том, о чем можно сказать: это было или это будет, можно было когда-то или можно будет когда-нибудь сказать: это есть. Что же иное поэтому могут представлять собой дни, месяцы и годы, если не имена представлений, которые образуются исключительно в нашем сознании. Время есть, следовательно, образ, но образ движения. Ведь, желая познать промежутки протекающего времени, мы прибегаем к помощи какого-нибудь движения. Так, мы пользуемся солнцем, каким-нибудь механизмом, песочными часами или же чертим линию, вдоль которой (как мы себе представляем) что-либо движется. Иначе мы просто не способны воспринимать время. Однако предложение время есть образ движения не достаточно для определения, так как мы обозначаем словом время также понятия раньше и позже, или последовательность в движении какого-нибудь тела, поскольку это тело сейчас находится здесь, а потом там. Исчерпывающее определение времени должно поэтому гласить: время есть образ движения, поскольку мы представляем в движении то, что совершается раньше и позже, или последовательность. Это определение совпадает с определением Аристотеля, согласно которому время есть число движения соответственно тому, что совершается раньше и позже [87]. Ибо этот счет есть акт духа (animi), и поэтому, говоря время есть число движения соответственно тому, что совершается раньше или позже, или время есть образ считаемого движения, мы говорим одно и то же. Другое же определение, а именно время есть мера движения, является, напротив, не столь точным, ибо мы измеряем время движением, а не движение временем. 4. Пространство называется частью другого пространства, а время – частью другого времени, если последнее содержит в себе первые и, сверх того, еще и другие. Отсюда следует, что в строгом смысле слова частью может быть названо только то, что сравнимо с чем-то другим, в котором оно само содержится. 5. Следовательно, образовывать части, а также разграничивать или делить пространство или время означает не что иное, как в пределах одного и того же рассматривать нечто, а затем другое и т. д. Поэтому, когда мы делим на части пространство или время, число понятий, которые образуются в нашей голове, на одно больше, чем число частей, которые мы образуем. Ибо понятие, из которого мы исходим, есть понятие того предмета, который подлежит делению. Только после этого мы доходим до понятия части этого предмета, а затем – до понятия следующей части и т. д. до тех пор, пока продолжаем деление. Следует, однако, заметить, что под делением мы здесь понимаем не отделение или отрыв одной части пространства от другой или одного промежутка времени от другого времени, а только мысленное изолирование. Может ли кто-нибудь думать, будто одну половину земного шара можно действительно отделить от другой и один час – от следующего? Деление, о котором здесь идет речь, не является делом рук, а только актом сознания (mentis). 6. Когда пространство или время рассматривают по отношению к другим пространствам или временам, то его мыслят единым, т. е. за одним из них, но это делается только для того, чтобы одно пространство могло быть прибавлено к другому или отнято от него. То же верно и относительно времени. Иначе было бы достаточно говорить о пространстве и времени как таковых. Если бы мы не могли себе представить, что кроме данного пространства и времени существуют другие пространства и времена, то было бы излишне говорить об одном пространстве или времени. Обычное определение – единица есть то, что неделимо,- ведет, очевидно, к нелепым выводам, ибо исходя из него можно было бы заключить, будто то, что делимо, представляет собой множество, т. е. будто все делимое есть уже деленное. Но это явный абсурд. 7. Число есть 1 плюс 1, 1 и 1 плюс 1 и т. д. А именно 1 плюс 1 дают число 2, 1 и 1 плюс 1 – число 3, и так же образуются все другие числа. Сказанное означает то же, что и слова: число состоит из единиц. 8. Складывать пространства из пространств или время из времен – значит рассматривать их сначала последовательно, друг за другом, а затем все вместе – как единство и подобно тому, как кто-нибудь сначала перечисляет в отдельности голову, ноги, руки и тело, а затем обозначает совокупность всех этих органов словом человек. Таким образом, то, что представляет собой совокупность различных единиц, входящих в состав какого-нибудь единства, называется целым; когда же эти единицы по разложении целого предстают в их изолированности друг от друга, то их налипают частями целого. Поэтому целое и совокупность всех его частей идентичны. Если при делении, как я уже заметил, не необходимо, чтобы части были отделены друг от друга, то ясно также, что и при сложении для образования целого вовсе не нужно соединять части так, чтобы они касались друг друга, нужно лишь, чтобы они суммировались в уме. Поэтому-то все люди, рассматриваемые в совокупности, образуют в целом человеческий род, как бы они ни были отделены друг от друга в пространстве и времени; и двенадцать часов, хотя бы это были часы различных дней, могут быть суммированы как двенадцать. 9. На основании этого для нас должно быть ясно, что целым может по праву называться только то, что постигнуто нами как состоящее из частей и поддающееся разделению на части. Поэтому, отрицая, что нечто делимо и имеет части, мы отрицаем тем самым, что это – целое. Например, утверждая, что душа не может иметь частей, мы утверждаем тем самым, что ни одна душа не является целым. Очевидно также, что ничто не имеет частей до того, как его подвергнут делению, а подвергшись делению, имеет лишь столько частей, сколько раз повторялась операция деления. Подобным же образом часть части есть и часть целого. Ведь часть числа 4, например 2, есть также часть 8. Ибо 4 состоит из 2 и 2, а 8 – из 2, 2 и 4; следовательно, число 2, составляющее часть части числа 8, а именно часть числа 4, является также частью всего данного числа. 10. Два пространства, между которыми нет никакого другого пространства, называются смежными.A B CДва промежутка времени, между которыми нет никакого другого промежутка, называются непосредственно следующими друг за другом; таковы, например, АВ и ВС. Непрерывными называются как два отрезка пространства, так и два промежутка времени, имеющие какую-нибудь общую часть, как АС и BD, у которых ВС является общей частью.
А В С DРазличные отрезки пространства и промежутки времени непрерывны, когда какие-нибудь две соседние части их непрерывны. 11. Ту часть, которая находится между двумя другими частями, называют средней, ту же, которая не находится между ними,- крайней. Та из крайних частей, с которой начинается счет, называется началом; та же, которая приходится по счету последней,- концом. Все средние части, взятые вместе, образуют путь. Крайние части и границы (termini) означают одно и то же. Отсюда следует, что начало и конец зависят от того направления, в котором мы ведем счет, и ограничить пространство или время значит то же, что представить себе начало и конец. Отсюда следует, далее, что всякое единство ограничено или не ограничено в зависимости от того, представляем ли мы его себе ограниченным или неограниченным. Границы числа суть единицы. Та единица, с которой мы начинаем счет, есть начало; та же, на которой мы его прекращаем, есть конец. Число называют бесконечным, когда не сказано, каково оно. Ибо когда мы говорим о числах: 2, 3, 1000 и т. д., то они всегда ограничены. Когда сказано только: число бесконечно, то это следует понимать так, что мы хотим сказать тем самым только следующее: указанное число есть неопределенное имя. 12. Пространство или время называются потенциально определенными, т. е. конечными, если может быть установлено число ограниченных пространств или промежутков времени, например шагов, часов, больше которых не может быть никакое число, выраженное в тех же единицах измерения и заключающееся в этом пространстве или в этом времени. Пространство и время называются потенциально бесконечными, если число шагов или часов, которое может быть указано для них, больше любого предполагаемого числа. Необходимо, однако, заметить, что хотя в тех пространствах и в том времени, которые мы называем бесконечными, можно насчитать больше шагов или часов, чем содержится единиц в каком угодно числе, однако указанное для этого пространства или времени число все же будет ограниченным, ибо всякое число ограничено. Поэтому неправильно делать такого рода заключение относительно конечности мира; если мир бесконечен, в нем можно представить некую часть, находящуюся на расстоянии бесконечного числа шагов от нас; такой части, однако, не существует; следовательно, мир не бесконечен. Тут сделано неправильное умозаключение из большей посылки. Всякое рассматриваемое нами в бесконечном пространстве место будет находиться от нас на конечном расстоянии, ибо тем самым, что мы рассматриваем его, мы полагаем в нем конец того пространства, началом которого являемся сами, а отделяя мыслящее что-либо с двух концов от бесконечного, мы замыкаем, т. е. делаем его конечным. О пространстве и времени, не имеющих границ, нельзя сказать, что они представляют собой целое, или единство. Они не представляют собой целого, так как не могут быть составлены из частей. Как бы велико ни было число частей, но если каждая из них в отдельности конечна, то и совокупность их образует конечное целое. Они не являются также единствами, ибо единством мы называем что-нибудь по отношению к чему-нибудь другому. Но нельзя представить себе два бесконечных пространства или два бесконечных времени. Наконец, если мы спрашиваем, конечен или бесконечен мир, то слово мир теряет всякий смысл, ибо все, что мы себе представляем, ограничено, хотя бы при этом счет шел до неподвижных звезд, до девятой, десятой или даже тысячной сферы. Смысл этого вопроса может заключаться лишь в том, действительно ли Бог присоединил к телу такое огромное тело, сколь огромное пространство мы способны прибавить к пространству. 13. Если обычно говорят, что пространство и время делимы до бесконечности, то это не следует понимать так, будто имеется в виду действительно вечное или бесконечное деление. Смысл этого утверждения можно лучше всего объяснить следующим образом: все части, на которые разделено что-либо, в свою очередь могут быть разделены; или не существует предела делимости; или, как это формулирует большинство геометров, ни одно количество не бывает настолько малым, чтобы не могло существовать меньшего. Это легко доказать следующим образом: любое пространство или время, которое, как предполагают, является наименьшим из всех способных к делению пространств или времен, делится на две равные части – А и В. И вот я утверждаю, что каждая из этих частей, например А, в свою очередь обладает делимостью. В самом деле, предположим, что часть А граничит с одной стороны с частью В, а с другой – с пространством, равным В. Все это пространство, которое больше данного, будет также обладать делимостью. Если же мы его разделим на две равные части, то и А, лежащее посредине, также разделится на две равные части. Следовательно, А обладает делимостью.
ГЛАВА VIII О ТЕЛЕ И АКЦИДЕНЦИИ [СВОЙСТВЕ]
1. Определение тела. 2. Определение акциденции. 3. Как понимать то утверждение, что акциденция находится в своем субъекте. 4. Что такое величина. 5. Что такое место и недвижимость места. 6. Что такое заполненное и пустое. 7. Что означают там, тут, где-то. 8. Не может быть ни многих тел в одном месте, ни одного тела во многих местах. 9. Что такое смежное и непрерывное. 10. Определение движения; движение можно понять только во времени. 11. Что означают утверждения: что-нибудь пребывает в покое, что-нибудь находилось в движении и будет находиться в нем. В каждом движении с необходимостью мыслится как прошлое, так и будущее. 12. Что такое точка, линия, плоскость и плотность тела (solidum). 13. Что является равным, большим и меньшим в телах и величинах. 14. Одно и то же тело всегда имеет одинаковую величину. 15. Что такое скорость. 16. Что является равным чему-либо, большим и меньшим чего-либо во времени. 17. Что является равным чему-либо, большим и меньшим чего-либо по скорости. 18. Что является равным чему-либо, большим и меньшим чего-либо в отношении движения. 19. То, что покоится, покоится всегда, если что-либо не приводит его в движение извне. 20. Возникают и гибнут акциденции, а не тело. 21. Акциденция [свойство] неотделима от тела, которому она принадлежит. 22. Она не может находиться в движении. 23. Что такое сущность, форма и материя. 24. Что такое первая материя. 25. Целое больше своей части, доказательство этого. 1. Мы знаем теперь, что представляет собой воображаемое пространство, в котором, по нашему допущению, нет ничего вне нас, так как все вещи, которые запечатлели некогда благодаря своему существованию свои образы в нашем уме, исчезли. Допустим теперь, что одна из этих вещей снова появилась или вновь была создана. Эта созданная или вновь появившаяся вещь будет в таком случае не только занимать определенную часть указанного пространства, совпадать с этой частью, или простираться вместе с ней, но и окажется по необходимости совершенно независимой от нашего представления. Это и будет то, что в силу протяжения обычно называют телом, а в силу независимости от нашего мышления – существующим само по себе (subsistens per se); так как это нечто находится вне нас, то его обозначают также как внешне сущее (existens); наконец, его называют также субъектом (subjectum, suppositum), ибо оно так помещено в воображаемом пространстве и подчинено последнему, что может быть постигнуто не чувствами, а только разумом. Поэтому определение тела гласит: телом является все то, что не зависит от нашего мышления и совпадает с какой-нибудь частью пространства, т. е. имеет с ней равную протяженность. 2. Что же, однако, представляет собой акциденция, или свойство, легче показать на примерах, чем объяснить при помощи определения. Представим себе поэтому, что некое тело занимает какое-нибудь пространство, или имеет с ним равную протяженность. Эта протяженность не есть, однако, само протяженное тело. Представим себе таким же образом, далее, что это тело изменит свое место. Эта перемена места опять-таки не будет самим движущимся телом. Если же мы представим себе, что предположенное нами тело сохраняет свое место, то и его покой не будет им самим. Что же, следовательно, представляет собой все это? Это акциденции. Вопрос, однако, гласит: что такое акциденция? Этот вопрос касается того, что нам уже знакомо, но мы не исследуем здесь того, что должно выяснить. Всякий всегда в одном и том же смысле понимает такие предложения, как-то: нечто имеет протяжение, нечто движется или нечто не движется. Тем не менее множество людей хочет, чтобы акциденция была признана чем-то, а именно частью естественных вещей, между тем как в действительности она не является их частью. Лучший (насколько это возможно) ответ на это – то определение акциденции, согласно которому она является способом, посредством которого мы представляем себе тело. Иными словами: акциденция есть определенная способность тела, благодаря которой оно вызывает в нас представление о себе. Хотя это определение и не дает ответа на поставленный нами вопрос, оно отвечает на другие вопросы, которые, собственно, следовало бы поставить. Таков вопрос: отчего одна часть тела видна здесь, а другая – там? Правильный ответ гласит: это происходит вследствие протяженности тела. Таков также вопрос: отчего тело в последовательные моменты можно видеть то там, то здесь? Ответ гласит: вследствие движения. Таков, наконец, вопрос: отчего тело в известный промежуток времени занимает одно и то же пространство? Ответ гласит: оттого, что оно не находится в движении. Если речь идет о конкретном имени, о названии какого-нибудь предмета, то на вопрос: что это? – надо ответить определением, указанием, ибо вопрос идет только о значении этого слова. Если же вопрос относится к какому-нибудь абстрактному имени, то спрашивают, собственно, о причине того, почему нечто является таким или иным. Если, например, спрашивают: что твердо?, то на это отвечают: твердым называется то, части чего не поддаются давлению. Если же вопрос гласит: что такое твердость?, то надо указать причину того, почему часть не поддается давлению, поскольку целое не поддается ему. Мы, следовательно, определяем акциденцию, или свойство, как способ нашего восприятия тела. 3. Если утверждают, что акциденция находится в каком-нибудь теле, то это не следует понимать так, будто она содержится в теле так, как, например, красный цвет в крови, а кровь – в замаранном кровью платье, т. е. как часть в целом, ибо в этом случае и акциденция была бы телом. Вышеуказанное утверждение надо понимать в том смысле, в каком говорят, что величина, покой или движение находятся в том, что велико, находятся в покое или движении (а всякий знает, как это следует понимать). Только в таком смысле всякая акциденция находится в своем субъекте. Это было высказано и Аристотелем, только в негативной форме [88], а именно в виде утверждения, что акциденция находится в своем субъекте не как его часть, а так, что она может исчезнуть, а субъект сохранит свое существование. Это утверждение в общем верно, хотя существуют известные акциденции, которые не могут исчезнуть без того, чтобы не исчез и субъект, ибо без протяжения или какой-либо формы нельзя себе представить никакого тела. Акциденции же, которые не являются общими для всех тел, а принадлежат лишь отдельным телам, как-то: покой, движение, цвет, твердость и т. п., беспрестанно исчезают и замещаются другими акциденциями без того, чтобы тело погибало в силу этого. Кое-кому, однако, может показаться, что не все акциденции находятся в своих телах в том смысле, как мы это понимаем в отношении протяжения, движения, покоя или формы. Некоторые утверждают, будто, например, цвет, теплота, запах, добродетель, порок и т. п. находятся в своих телах иначе, чем вышеперечисленные акциденции, и будто они присущи своим телам. Я бы хотел, чтобы те, кто так думает, не выносили пока окончательного суждения по этому вопросу и подождали, пока не будет установлено посредством научного исследования, не являются ли и эти акциденции известными движениями, будь то движения в сознании воспринимающего или движения самих чувственно воспринимаемых тел. Исследование этого составляет значительную часть естественной философии. 4. Протяжение тела есть то же самое, что его величина, или то, что некоторые называют реальным пространством. Величина, однако, в отличие от воображаемого пространства не зависит от нашего сознания, ибо воображаемое пространство есть результат известного действия на наше сознание, причиной которого является реальная величина. Воображаемое пространство есть акциденция сознания, величина же – акциденция тела, существующего вне сознания. 5. Пространство (под которым я всегда подразумеваю воображаемое пространство), совпадающее с величиной тела, называют местом тела; тело же называют помещенным (locutum). Однако место и величина какого-нибудь помещенного тела отличаются друг от друга, во-первых, тем, что одно и то же тело, сохраняя всегда одну и ту же величину, независимо от того, находится ли оно в покое или в движении, не сохраняет одного и того же места, если оно движется. Второе отличие заключается в том, что место каждого тела определенной величины и формы представляет собой продукт воображения, величина же каждого тела есть присущая ему акциденция, ибо тело может в разное время занимать разные места, но всегда сохраняет одну и ту же величину. Третье отличие состоит в том, что место существует только в сознании, величина же – только вне сознания. Наконец, место есть воображаемое, величина же – действительное протяжение, и тело, занимающее какое-нибудь место, есть не протяжение, а нечто протяженное. Сверх того, место само по себе неподвижно; если что-нибудь движется, то оно меняет свое место, если бы место двигалось, то оно перемещалось бы с одного места на другое, из чего по необходимости следовало бы, что место опять-таки должно занимать место, а последнее в свою очередь иметь место и т. д. до бесконечности, что весьма смехотворно. Но если те, кто относит место к реальному пространству, признают его неподвижность, то они, сами того не желая, тоже приходят ко взгляду на место как на призрак. В самом деле, всякий, кто утверждает, будто место неподвижно, потому что имеется в виду пространство вообще, не должен забывать, что, за исключением имени, нет ничего всеобщего и универсального, а следовательно, и это пространство вообще есть лишь находящийся в нашем сознании образ какого-нибудь тела определенной величины и формы, т. е. память. Наконец, разве те, кто считает, что реальное пространство есть лишь продукт нашего мышления, подобно тому как мы считаем поверхность непрерывно текущей воды неподвижным местом потока, не утверждают тем самым – только неясно и в сбивчивых словах,- что место есть призрак. Кроме того, по своей природе место определяется не поверхностью движущегося тела, а заполнением пространства. Ибо протяжение тела совпадает с протяжением всего занимаемого им места, а протяжение каждой части тела – с протяжением соответствующей части места. Но так как размещенное тело твердо, то немыслимо, чтобы оно занимало только поверхность. Кроме того, как может какое-нибудь тело двигаться как целое без того, чтобы одновременно не двигались его отдельные части? Или как могут двигаться его внутренние части, не оставляя своего места? Но внутренняя часть какого-нибудь тела не может оставить поверхности граничащей с ней внешней части. Отсюда следует, что если местом является поверхность движущегося тела, то части движущегося тела, т. е. движущиеся тела, остаются неподвижными. 6. Пространство (или место), занятое каким-нибудь телом, называется заполненным; пространство же, не содержащее никакого тела,- пустым. 7. Тут, там, в деревне, в городе и тому подобные имена, отвечающие на вопрос: где?, не являются именами самого места и не воскрешают также сами по себе в памяти то место, о котором спрашивают, ибо здесь и там только тогда обозначают что-нибудь, если одновременно пальцем или как-нибудь иначе более точно указывается место. Но если взор ищущего направляется на искомую вещь, следуя движению пальца или какому-нибудь знаку, то место не определяется отвечающим, а отыскивается тем, кто ищет. Из указаний при помощи одних слов, которые даются, например, в тех случаях, когда говорят в деревне или в городе, одни являются более, а другие менее широкими. Таковы указания: в деревне, в городе, в окрестностях какого-нибудь города, в доме, в комнате, в кровати. Ибо эти имена все ближе подводят ищущего к самому месту, но все же не определяют последнего, а лишь замыкают его в более узкие пределы, указывая, что место, занимаемое вещью, заключается как часть в целом внутри известного, очерченного этими словами пространства. Все имена, служащие для ответа на вопрос: где?, являются видами родового понятия где-то. Отсюда ясно, что все, существующее где-то, находится в строгом смысле слова в определенном месте. Это место есть часть более обширного пространства, обозначаемого такими словами, как в деревне, в городе и т. д. 8. Тело, его величина и занимаемое им место делятся одним и тем же актом ума. Ибо делить протяженное тело, его протяжение или представление о его протяжении, т. е. занимаемое им место,- значит делить все эти три вида одновременно, так как они совершенно совпадают друг с другом. А это может совершиться только в уме, т. е. посредством деления пространства. Отсюда ясно, во-первых, что два тела не могут быть одновременно в одном и том же месте и, во-вторых, что одно тело не может быть одновременно в двух местах. Два тела не могут находиться в одном и том же месте, ибо, деля пополам тело, занимающее все данное пространство, мы делим пополам и это пространство и таким образом получаем два места. Одно тело не может также находиться в двух местах, ибо, деля пополам пространство, занимаемое телом, т. е. его место, мы делим пополам и само тело, так как место и содержащееся в нем тело, как уже было замечено, делятся одним и тем же актом; таким образом, в результате мы получаем два тела. 9. Два тела называются смежными и непрерывными в том же смысле, как и два пространства, а именно они смежны в том случае, когда между ними нет никакого пространства. Под пространством мы здесь, как и прежде, понимаем идею, или образ, тела. Поэтому, если между двумя телами не находится никакого другого тела и, следовательно, никакой величины, или, как говорят, никакого реального пространства, но если, однако, между ними может находиться тело, т. е. между ними можно себе представить пространство, способное вместить тело, то эти тела не смежны друг с другом. Это так легко понять, что приходится только удивляться тому, что некоторые достаточно тонкие философы могут думать об этом иначе. Однако тот, кто завлечен хитросплетениями метафизики, отдает себя во власть блуждающих огоньков, которые совлекают его с правильного пути. Ибо может ли кто-нибудь, кто находится в здравом уме, серьезно думать, что два тела должны необходимо соприкасаться, если между ними нет никакого другого тела? Или что не может существовать пустого пространства, так как пустое пространство есть ничто, или, как его называют, поп ens? Это такое же ребячество, как если бы кто-нибудь взялся доказать, что слово поститься не имеет никакого реального смысла, ибо поститься значит то же, что ничего не есть, но ничто нельзя съесть. Непрерывно связанными являются два тела, если они имеют какую-нибудь общую часть. Что касается большего числа тел, то они непрерывно связаны между собой, если каждые два наиболее близких друг от друга тела также непрерывно связаны. Это совершенно совпадает с приведенным выше определением непрерывных пространств. 10. Движение есть непрерывная перемена мест, т. е. оставление одного места и достижение другого; то место, которое оставляется, называется обычно Terminus a quo, то же, которое достигается,- Terminus adquem. Я называю этот процесс непрерывным, ибо ни одно тело, как бы мало оно ни было, не может сразу целиком удалиться со своего прежнего места так, чтобы ни одна часть его не находилась в части пространства, общей обоим местам – покинутому и достигнутому. Если, например, какое-нибудь тело находится в месте ABCD, то оно не может достигнуть BDEF, не будучи предварительно в GHIK, одна часть которого, именно GHBD, является общей частью обоих мест – ABCD и GHIK, а другая часть, именно BDIK, обща обоим местам – GHIK и BDEF.
Нельзя себе представить, будто что-либо движется вне времени, ибо время есть, согласно определению, образ (phantasma), т. е. понятие, движения. Представлять себе, будто что-нибудь движется вне времени, значило бы поэтому представлять себе движение без понятия движения, что невозможно.
11. Покоящимся называется то, что в течение известного промежутка времени остается в одном и том же месте; движущимся же или двигавшимся – то, что раньше находилось в ином месте, чем теперь, независимо от того, пребывает ли оно в данный момент в состоянии покоя или в состоянии движения. Из этого определения следует, во-первых, что все тела, которые в настоящее время находятся в процессе движения, двигались и до этого. Ведь пока они находятся в том же самом месте, что и ранее, они пребывают в состоянии покоя, т. е. не движутся, согласно определению покоя; если же они находятся в другом месте, то они двигались ранее, согласно определению движения. Из этого же определения следует, во-вторых, что тела, которые движутся, будут двигаться и дальше, ибо то, что движется, оставляет место, в котором оно находится, и достигает другого места, а следовательно, движется дальше. Из того же определения следует, в-третьих, что тела, которые движутся, не остаются ни на один момент в одном и том же месте. Ибо то, что находится в течение известного времени в одном и том же месте, находится, согласно определению покоя, в состоянии покоя.
Существует известное ложное заключение (софизм) относительно движения, вытекающее, по-видимому, из незнания этих положений. Говорят так: если какое-нибудь тело движется, то оно движется или там, где находится, или там, где не находится; но и то и другое неверно; следовательно, тело вообще не движется. Однако большая посылка здесь неверна. Ибо то, что движется, не движется ни там, где оно находится, ни там, где оно не находится, а движется с того места, где оно находится, к тому месту, где оно не находится. Нельзя отрицать, что всякое движущееся тело движется где-нибудь, т. е. в пределах известного пространства. Местом же такого тела является не все пространство, а часть его, как уже сказано выше в седьмом пункте.
Из доказанного нами положения, согласно которому все, что движется, не только двигалось, но и будет двигаться, следует, что движение нельзя представить себе, не представляя прошлого и будущего.
12. Хотя не существует тела, которое не обладало бы какой-нибудь величиной, все же при движении тела можно абстрагироваться от его величины и обращать внимание лишь на пройденный им путь. Этот путь называется линией, или простым измерением, пространство, пройденное телом, именуется длиной, а само тело – точкой, и эти названия применяются в том же смысле, в каком землю обычно называют точкой, а путь, пройденный ею в течение года,- эклиптической линией. Но если длина тела предполагается данной и тело движется так, что его отдельные части описывают отдельные линии, то путь каждой отдельной части этого тела называется шириной, а пространство, заполняемое телом,- поверхностью, имеющей два измерения – ширину и длину, причем каждое из этих измерений целиком присуще каждой части другого.
Если мы, далее, рассмотрим тело как нечто состоящее из плоскостей и представим его себе движущимся так, что его различные части описывают различные линии, то путь каждой отдельной части этого тела будет называться толщиной, или глубиной, а пространство, заполняемое этим телом,- плотным. Это пространство имеет три измерения, из которых любые два присущи любой части третьего.
Но если тело плотно, то невозможно, чтобы все его отдельные части описывали отдельные линии. Ибо, как бы оно ни двигалось, путь, описываемый его задней частью, совпадет с путем, описываемым передней частью, и результатом всего движения будет та же непроницаемость, которая получилась бы в результате движения одной передней поверхности тела. Вот почему в теле, поскольку оно является телом, не может быть других измерений, кроме трех вышеназванных. Тем не менее скорость, представляющая собой, как мы покажем после, движение, рассматриваемое по отношению к длине, может составить величину движения, имеющую четыре измерения, если эта величина будет соотнесена со всеми частями плотного тела, подобно тому как и совокупная ценность отдельных крупиц золота составляет его цену.
13. Тела, как говорят, равны, если они могут уместиться в одном и том же месте. Какое-нибудь тело, однако, может заполнить то же пространство, которое занимает и другое тело, даже и не будучи одинаковой формы с последним, если только путем сгибания и перестановки его частей оно может принять ту же форму.
Тело больше другого тела, если часть его равна всему этому другому телу. Тело меньше другого тела, если все оно равно части этого другого тела. Подобным же образом считается, что величина равна другой величине либо больше или меньше ее только тогда, когда тела, представляемые этими величинами, больше, меньше или равны.
14. Одно и то же тело всегда имеет одну и ту же величину. Так как тело, его величина и занимаемое им место по необходимости должны мыслиться совпадающими, то, если мы предположим, что тело находится в покое, т. е. остается в течение известного промежутка времени в одном и том же месте, а величина его делается то больше, то меньше, в то время как место остается тем же самым, нам придется допустить, будто место тела совпадает то с большей, то с меньшей величиной, т. е. будто одно и то же место бывает больше и меньше, чем оно есть, а это невозможно. Столь очевидное положение не требовало бы доказательств, если бы некоторые ученые, пытаясь объяснить сущность пористости и плотности, не предполагали, будто тело может существовать независимо от его величины и быть то больше, то меньше [89].
15. Движение называется скоростью, поскольку благодаря ему известная длина может быть пройдена в известный промежуток времени. Ибо, хотя слово скорый очень часто употребляют при сравнении чего-либо с более медленным или менее скорым, как и великий – при сравнении с меньшим, все же слово скорость может применяться в абсолютном смысле к движению, рассматриваемому по отношению к пройденному пространству, подобно тому как философы понимают величину в абсолютном смысле как протяжение.
16. Различные движения происходят в одинаковые промежутки времени, если каждое из этих движений начинается и прекращается одновременно с каким-нибудь другим, или прекратилось бы одновременно с ним, если бы началось одновременно. Так как время является образом движения, то оно измеряется только посредством какого-нибудь наличного движения, например на часах – посредством движения солнца или часовой стрелки. Если какие-нибудь другие движения начинаются одновременно с этим движением и прекращаются одновременно с ним, то считается, что они обладают одинаковой продолжительностью. Однако легко понять, что значит двигаться более продолжительное время, или дольше, и более короткое время, или менее долго. А именно более продолжительно то движение, которое начинается одновременно с другим движением, а кончается позже его или кончается одновременно с другим движением, а начинается раньше его.
17. Считается, что одинаковой скоростью обладают те движения, при которых тела в равные промежутки времени проходят равные расстояния. Одна скорость больше другой, если, обладая ею, движущееся тело проходит большее расстояние в течение равного времени или равное расстояние в течение более короткого времени. Скорость, при которой движущееся тело в равные промежутки времени проходит равные расстояния, называется равномерной (uniformis). Неравномерные движения называются равномерно ускоренными или равномерно замедленными, если в равные промежутки времени их скорость увеличивается или уменьшается на одинаковую величину.
18. Величина какого-либо движения зависит, однако, не только от пройденного в известный промежуток времени расстояния, т. е. от одной скорости, но и от скорости всех частей движущегося тела, ибо если какое-нибудь тело движется, то движется и каждая из его частей. Если мы предположим, что тело имеет две одинаковые по величине части, то скорости этих частей будут равны скорости целого. Но движение целого состоит из этих двух движений, каждое из которых имеет скорость, равную скорости движения целого. Вот почему одно дело – два движения, имеющие одинаковую величину, другое дело – два движения, имеющие одинаковую скорость. Это становится наглядным, например, в том случае, когда повозку везет пара лошадей, причем движение обеих имеет ту же скорость, что идвижение каждой из них в отдельности, но, с другой стороны, движение обеих больше движения каждой из них в отдельности, а именно вдвое больше. Поэтому мы говорим: движения равновелики, когда скорость одного из них, вычисленная для всех частей движущегося тела, равна скорости другого, также вычисленной для всех частей движущегося тела. Одно движение больше другого, если его скорость, вычисленная указанным образом, больше вычисленной так же скорости другого движения. Одно меньше другого, если его скорость меньше. Вычисленная таким способом величина движения есть то, что мы обычно называем силой.
19. Тело, находящееся в состоянии покоя, будет пребывать в нем до тех пор, пока какое-нибудь другое движущееся тело, стремясь занять место первого, не выведет его из этого состояния. Предположим, например, что в пустом пространстве имеется какое-нибудь ограниченное тело, находящееся в покое, и что это тело вдруг начинает двигаться. Мы знаем, что в этом случае тело будет двигаться в определенном направлении. Так как, однако, все, что было в теле, предрасполагает его к покою, то причина этого движения должна находиться где-то вне самого тела. Если бы тело двигалось в каком-либо другом направлении, то и причину этого пришлось бы искать вне его. Но при предположении, что вне тела не существует ничего, было бы столько же оснований для того, чтобы тело двигалось в одном направлении, сколько и для того, чтобы оно двигалось в любом другом. Следовательно, тело должно было бы двигаться одновременно по всем направлениям, что невозможно. Подобным же образом если тело находится в движении, то оно будет двигаться до тех пор, пока какое-нибудь другое находящееся вне его тело не приведет его в состояние покоя. Ибо если мы допустим, что вне движущегося тела ничего не будет, то не будет никакого основания для того, чтобы тело пришло в состояние покоя именно теперь, а не в другое время. Поэтому его движение должно будет прекращаться в каждое мгновение, что немыслимо.
20. Слова о том, что какое-нибудь живое существо, дерево или другое тело возникает или погибает, не следует понимать так, будто тело возникает из чего-то, что не есть тело, а не-тело – из тела. Эти слова означают лишь, что из живого существа возникает неживое, из дерева – не-дерево и т. д., т. е. что те акциденции, в силу которых мы называем одну вещь живым существом, другую – деревом, а третью – как-нибудь иначе, возникают и исчезают, и поэтому вещам не могут быть даны теперь те же имена, что и раньше. Но величина, в силу которой мы называем что-либо телом, не может быть создана и не может исчезнуть. Ибо если мы и можем вообразить, будто какая-либо точка разбухает до размеров огромной массы, а последняя в свою очередь стягивается до размеров точки, т. е. будто из ничего возникает нечто, а из нечто – ничто, то мы все же не в состоянии понять, как это может происходить в действительности. Вот почему философы, которым не подобает сходить с пути, диктуемого естественным разумом, предполагают, что тело не может быть произведено, не может исчезнуть и только выступает перед нами в различных видах, в той или иной форме и соответственно этому именуется так или иначе, в силу чего то, что теперь называют человеком, впоследствии назовут не-человеком. Однако то, что носит сейчас название тела, никогда не может называться не-телом. Но очевидно, что, кроме величины, или протяжения, все другие акциденции могут быть произведены и могут исчезнуть. Если что-либо белое делается черным, то белизна в нем исчезнет, а чернота, не имевшаяся в нем раньше, возникает. Тела и их акциденции, как они предстают перед нами различным образом, отличаются друг от друга в том отношении, что первые суть вещи, но не возникают, вторые же возникают, но не являются вещами.
21. Если вещь в силу изменения акциденций выступает то в одном виде, то в другом, не следует все же думать, будто акциденция переходит от одного субъекта к другому (акциденции ведь, как было указано выше, не находятся в своих субъектах как часть в целом, объемлемое в объемлющем или отец семейства в своем доме); дело обстоит так, что одна акциденция возникает, а другая исчезает. Если, например, движущаяся рука двигает перо, то движение руки не переходит в перо; иначе последнее продолжало бы писать и тогда, когда рука пишущего уже остановилась. Дело обстоит скорее так, что в самом пере возникает новое и самостоятельное движение.
22. Вот почему нельзя также сказать, что акциденция движется. Это было бы так же бессмысленно, как если бы кто-нибудь сказал: тело удаляет свою форму вместо форма есть акциденция, лишенная тела.
23. Акциденцию, из-за которой мы даем телу определенное имя, т. е. акциденцию, дающую имя своему субъекту, называют обычно сущностью (essentia). Так, сущность человека называют разумностью, сущностью какого-нибудь белого предмета – белизну, сущностью тела – протяжение. Та же сущность, поскольку она появилась, называется формой. В свою очередь тело по отношению к любой акциденции называется субъектом, а по отношению к форме – материей.
При возникновении или уничтожении любой акциденции говорят, что ее субъект изменяется; возникновение же или уничтожение лишь формы дает право говорить о возникновении или уничтожении субъекта. Однако при всяком возникновении и при всяком изменении имя материи остается всегда. Стол, сделанный из дерева, есть не только нечто деревянное, но и дерево, а статуя из бронзы – не только нечто бронзовое, но и бронза в противоположность мнению Аристотеля, который в своей Метафизике полагает, будто то, что сделано, должно называться не ???????, а ????????, а сделанное из дерева следует называть не ?????, а ???????, ?. е. не дерево, а деревянное.
24. Общая всем вещам материя, которую философы, следуя Аристотелю, обычно называли первой материей, не есть тело, отличное от всех других тел, но не есть и одно из этих тел. Что же это такое? Лишь имя, имеющее, однако, полезное употребление, а именно обозначающее представление тела независимо от любой его формы и любых акциденций, за исключением величины, т. е. протяжения и способности принимать формы и акциденции. И лишь постольку, поскольку мы можем употреблять выражение тело вообще, мы имеем и право применять выражение первая материя. Если мы задали себе вопрос: что первичное – вода или лед, не зная, что из них – материя обоих, то нам пришлось бы предположить третью материю, отличную от них. Точно так же тот, кто захотел бы найти материю всех вещей, должен был бы предположить особую вещь, не являющуюся, однако, материей существующих вещей. Первая материя поэтому не является самостоятельной вещью. Вот почему ей и не приписывают никакой формы и никакой акциденции, за исключением количества, между тем как все самостоятельные вещи имеют свои формы и определенные акциденции. Первая материя есть, таким образом, тело вообще, т. е. тело, рассматриваемое универсально, под которым мы подразумеваем не тело, лишенное всякой формы и всяких акциденций, а тело, каким оно представляется нам, когда и поскольку мы абстрагируемся от его формы и акциденций, за исключением количества.
25. Из сказанного могут быть выведены аксиомы, принимаемые Евклидом в начале первой книги его Элементов, трактующей о равенстве и неравенстве величин. Из этих аксиом я докажу здесь только одно положение: целое больше части. Я сделаю это для того, чтобы читатель знал, что эти аксиомы не являются недоказуемыми и, следовательно, не являются первыми принципами доказательств, равно как и для того, чтобы он поэтому остерегался допускать в качестве принципов что-либо не обладающее по крайней мере такой же ясностью, какая присуща вышеуказанным положениям. Из двух величин, как мы определили, больше та, часть которой равняется всей другой. Предположим теперь, что какое-нибудь целое есть А, а часть его – В. Так как целое В равно самому себе и это же самое В есть часть А, то часть А будет равняться целому В. Поэтому, согласно определению, А больше В, что и требовалось доказать.
Если, например, какое-нибудь тело находится в месте ABCD, то оно не может достигнуть BDEF, не будучи предварительно в GHIK, одна часть которого, именно GHBD, является общей частью обоих мест – ABCD и GHIK, а другая часть, именно BDIK, обща обоим местам – GHIK и BDEF.
Нельзя себе представить, будто что-либо движется вне времени, ибо время есть, согласно определению, образ (phantasma), т. е. понятие, движения. Представлять себе, будто что-нибудь движется вне времени, значило бы поэтому представлять себе движение без понятия движения, что невозможно.
11. Покоящимся называется то, что в течение известного промежутка времени остается в одном и том же месте; движущимся же или двигавшимся – то, что раньше находилось в ином месте, чем теперь, независимо от того, пребывает ли оно в данный момент в состоянии покоя или в состоянии движения. Из этого определения следует, во-первых, что все тела, которые в настоящее время находятся в процессе движения, двигались и до этого. Ведь пока они находятся в том же самом месте, что и ранее, они пребывают в состоянии покоя, т. е. не движутся, согласно определению покоя; если же они находятся в другом месте, то они двигались ранее, согласно определению движения. Из этого же определения следует, во-вторых, что тела, которые движутся, будут двигаться и дальше, ибо то, что движется, оставляет место, в котором оно находится, и достигает другого места, а следовательно, движется дальше. Из того же определения следует, в-третьих, что тела, которые движутся, не остаются ни на один момент в одном и том же месте. Ибо то, что находится в течение известного времени в одном и том же месте, находится, согласно определению покоя, в состоянии покоя.
Существует известное ложное заключение (софизм) относительно движения, вытекающее, по-видимому, из незнания этих положений. Говорят так: если какое-нибудь тело движется, то оно движется или там, где находится, или там, где не находится; но и то и другое неверно; следовательно, тело вообще не движется. Однако большая посылка здесь неверна. Ибо то, что движется, не движется ни там, где оно находится, ни там, где оно не находится, а движется с того места, где оно находится, к тому месту, где оно не находится. Нельзя отрицать, что всякое движущееся тело движется где-нибудь, т. е. в пределах известного пространства. Местом же такого тела является не все пространство, а часть его, как уже сказано выше в седьмом пункте.
Из доказанного нами положения, согласно которому все, что движется, не только двигалось, но и будет двигаться, следует, что движение нельзя представить себе, не представляя прошлого и будущего.
12. Хотя не существует тела, которое не обладало бы какой-нибудь величиной, все же при движении тела можно абстрагироваться от его величины и обращать внимание лишь на пройденный им путь. Этот путь называется линией, или простым измерением, пространство, пройденное телом, именуется длиной, а само тело – точкой, и эти названия применяются в том же смысле, в каком землю обычно называют точкой, а путь, пройденный ею в течение года,- эклиптической линией. Но если длина тела предполагается данной и тело движется так, что его отдельные части описывают отдельные линии, то путь каждой отдельной части этого тела называется шириной, а пространство, заполняемое телом,- поверхностью, имеющей два измерения – ширину и длину, причем каждое из этих измерений целиком присуще каждой части другого.
Если мы, далее, рассмотрим тело как нечто состоящее из плоскостей и представим его себе движущимся так, что его различные части описывают различные линии, то путь каждой отдельной части этого тела будет называться толщиной, или глубиной, а пространство, заполняемое этим телом,- плотным. Это пространство имеет три измерения, из которых любые два присущи любой части третьего.
Но если тело плотно, то невозможно, чтобы все его отдельные части описывали отдельные линии. Ибо, как бы оно ни двигалось, путь, описываемый его задней частью, совпадет с путем, описываемым передней частью, и результатом всего движения будет та же непроницаемость, которая получилась бы в результате движения одной передней поверхности тела. Вот почему в теле, поскольку оно является телом, не может быть других измерений, кроме трех вышеназванных. Тем не менее скорость, представляющая собой, как мы покажем после, движение, рассматриваемое по отношению к длине, может составить величину движения, имеющую четыре измерения, если эта величина будет соотнесена со всеми частями плотного тела, подобно тому как и совокупная ценность отдельных крупиц золота составляет его цену.
13. Тела, как говорят, равны, если они могут уместиться в одном и том же месте. Какое-нибудь тело, однако, может заполнить то же пространство, которое занимает и другое тело, даже и не будучи одинаковой формы с последним, если только путем сгибания и перестановки его частей оно может принять ту же форму.
Тело больше другого тела, если часть его равна всему этому другому телу. Тело меньше другого тела, если все оно равно части этого другого тела. Подобным же образом считается, что величина равна другой величине либо больше или меньше ее только тогда, когда тела, представляемые этими величинами, больше, меньше или равны.
14. Одно и то же тело всегда имеет одну и ту же величину. Так как тело, его величина и занимаемое им место по необходимости должны мыслиться совпадающими, то, если мы предположим, что тело находится в покое, т. е. остается в течение известного промежутка времени в одном и том же месте, а величина его делается то больше, то меньше, в то время как место остается тем же самым, нам придется допустить, будто место тела совпадает то с большей, то с меньшей величиной, т. е. будто одно и то же место бывает больше и меньше, чем оно есть, а это невозможно. Столь очевидное положение не требовало бы доказательств, если бы некоторые ученые, пытаясь объяснить сущность пористости и плотности, не предполагали, будто тело может существовать независимо от его величины и быть то больше, то меньше [89].
15. Движение называется скоростью, поскольку благодаря ему известная длина может быть пройдена в известный промежуток времени. Ибо, хотя слово скорый очень часто употребляют при сравнении чего-либо с более медленным или менее скорым, как и великий – при сравнении с меньшим, все же слово скорость может применяться в абсолютном смысле к движению, рассматриваемому по отношению к пройденному пространству, подобно тому как философы понимают величину в абсолютном смысле как протяжение.
16. Различные движения происходят в одинаковые промежутки времени, если каждое из этих движений начинается и прекращается одновременно с каким-нибудь другим, или прекратилось бы одновременно с ним, если бы началось одновременно. Так как время является образом движения, то оно измеряется только посредством какого-нибудь наличного движения, например на часах – посредством движения солнца или часовой стрелки. Если какие-нибудь другие движения начинаются одновременно с этим движением и прекращаются одновременно с ним, то считается, что они обладают одинаковой продолжительностью. Однако легко понять, что значит двигаться более продолжительное время, или дольше, и более короткое время, или менее долго. А именно более продолжительно то движение, которое начинается одновременно с другим движением, а кончается позже его или кончается одновременно с другим движением, а начинается раньше его.
17. Считается, что одинаковой скоростью обладают те движения, при которых тела в равные промежутки времени проходят равные расстояния. Одна скорость больше другой, если, обладая ею, движущееся тело проходит большее расстояние в течение равного времени или равное расстояние в течение более короткого времени. Скорость, при которой движущееся тело в равные промежутки времени проходит равные расстояния, называется равномерной (uniformis). Неравномерные движения называются равномерно ускоренными или равномерно замедленными, если в равные промежутки времени их скорость увеличивается или уменьшается на одинаковую величину.
18. Величина какого-либо движения зависит, однако, не только от пройденного в известный промежуток времени расстояния, т. е. от одной скорости, но и от скорости всех частей движущегося тела, ибо если какое-нибудь тело движется, то движется и каждая из его частей. Если мы предположим, что тело имеет две одинаковые по величине части, то скорости этих частей будут равны скорости целого. Но движение целого состоит из этих двух движений, каждое из которых имеет скорость, равную скорости движения целого. Вот почему одно дело – два движения, имеющие одинаковую величину, другое дело – два движения, имеющие одинаковую скорость. Это становится наглядным, например, в том случае, когда повозку везет пара лошадей, причем движение обеих имеет ту же скорость, что идвижение каждой из них в отдельности, но, с другой стороны, движение обеих больше движения каждой из них в отдельности, а именно вдвое больше. Поэтому мы говорим: движения равновелики, когда скорость одного из них, вычисленная для всех частей движущегося тела, равна скорости другого, также вычисленной для всех частей движущегося тела. Одно движение больше другого, если его скорость, вычисленная указанным образом, больше вычисленной так же скорости другого движения. Одно меньше другого, если его скорость меньше. Вычисленная таким способом величина движения есть то, что мы обычно называем силой.
19. Тело, находящееся в состоянии покоя, будет пребывать в нем до тех пор, пока какое-нибудь другое движущееся тело, стремясь занять место первого, не выведет его из этого состояния. Предположим, например, что в пустом пространстве имеется какое-нибудь ограниченное тело, находящееся в покое, и что это тело вдруг начинает двигаться. Мы знаем, что в этом случае тело будет двигаться в определенном направлении. Так как, однако, все, что было в теле, предрасполагает его к покою, то причина этого движения должна находиться где-то вне самого тела. Если бы тело двигалось в каком-либо другом направлении, то и причину этого пришлось бы искать вне его. Но при предположении, что вне тела не существует ничего, было бы столько же оснований для того, чтобы тело двигалось в одном направлении, сколько и для того, чтобы оно двигалось в любом другом. Следовательно, тело должно было бы двигаться одновременно по всем направлениям, что невозможно. Подобным же образом если тело находится в движении, то оно будет двигаться до тех пор, пока какое-нибудь другое находящееся вне его тело не приведет его в состояние покоя. Ибо если мы допустим, что вне движущегося тела ничего не будет, то не будет никакого основания для того, чтобы тело пришло в состояние покоя именно теперь, а не в другое время. Поэтому его движение должно будет прекращаться в каждое мгновение, что немыслимо.
20. Слова о том, что какое-нибудь живое существо, дерево или другое тело возникает или погибает, не следует понимать так, будто тело возникает из чего-то, что не есть тело, а не-тело – из тела. Эти слова означают лишь, что из живого существа возникает неживое, из дерева – не-дерево и т. д., т. е. что те акциденции, в силу которых мы называем одну вещь живым существом, другую – деревом, а третью – как-нибудь иначе, возникают и исчезают, и поэтому вещам не могут быть даны теперь те же имена, что и раньше. Но величина, в силу которой мы называем что-либо телом, не может быть создана и не может исчезнуть. Ибо если мы и можем вообразить, будто какая-либо точка разбухает до размеров огромной массы, а последняя в свою очередь стягивается до размеров точки, т. е. будто из ничего возникает нечто, а из нечто – ничто, то мы все же не в состоянии понять, как это может происходить в действительности. Вот почему философы, которым не подобает сходить с пути, диктуемого естественным разумом, предполагают, что тело не может быть произведено, не может исчезнуть и только выступает перед нами в различных видах, в той или иной форме и соответственно этому именуется так или иначе, в силу чего то, что теперь называют человеком, впоследствии назовут не-человеком. Однако то, что носит сейчас название тела, никогда не может называться не-телом. Но очевидно, что, кроме величины, или протяжения, все другие акциденции могут быть произведены и могут исчезнуть. Если что-либо белое делается черным, то белизна в нем исчезнет, а чернота, не имевшаяся в нем раньше, возникает. Тела и их акциденции, как они предстают перед нами различным образом, отличаются друг от друга в том отношении, что первые суть вещи, но не возникают, вторые же возникают, но не являются вещами.
21. Если вещь в силу изменения акциденций выступает то в одном виде, то в другом, не следует все же думать, будто акциденция переходит от одного субъекта к другому (акциденции ведь, как было указано выше, не находятся в своих субъектах как часть в целом, объемлемое в объемлющем или отец семейства в своем доме); дело обстоит так, что одна акциденция возникает, а другая исчезает. Если, например, движущаяся рука двигает перо, то движение руки не переходит в перо; иначе последнее продолжало бы писать и тогда, когда рука пишущего уже остановилась. Дело обстоит скорее так, что в самом пере возникает новое и самостоятельное движение.
22. Вот почему нельзя также сказать, что акциденция движется. Это было бы так же бессмысленно, как если бы кто-нибудь сказал: тело удаляет свою форму вместо форма есть акциденция, лишенная тела.
23. Акциденцию, из-за которой мы даем телу определенное имя, т. е. акциденцию, дающую имя своему субъекту, называют обычно сущностью (essentia). Так, сущность человека называют разумностью, сущностью какого-нибудь белого предмета – белизну, сущностью тела – протяжение. Та же сущность, поскольку она появилась, называется формой. В свою очередь тело по отношению к любой акциденции называется субъектом, а по отношению к форме – материей.
При возникновении или уничтожении любой акциденции говорят, что ее субъект изменяется; возникновение же или уничтожение лишь формы дает право говорить о возникновении или уничтожении субъекта. Однако при всяком возникновении и при всяком изменении имя материи остается всегда. Стол, сделанный из дерева, есть не только нечто деревянное, но и дерево, а статуя из бронзы – не только нечто бронзовое, но и бронза в противоположность мнению Аристотеля, который в своей Метафизике полагает, будто то, что сделано, должно называться не ???????, а ????????, а сделанное из дерева следует называть не ?????, а ???????, ?. е. не дерево, а деревянное.
24. Общая всем вещам материя, которую философы, следуя Аристотелю, обычно называли первой материей, не есть тело, отличное от всех других тел, но не есть и одно из этих тел. Что же это такое? Лишь имя, имеющее, однако, полезное употребление, а именно обозначающее представление тела независимо от любой его формы и любых акциденций, за исключением величины, т. е. протяжения и способности принимать формы и акциденции. И лишь постольку, поскольку мы можем употреблять выражение тело вообще, мы имеем и право применять выражение первая материя. Если мы задали себе вопрос: что первичное – вода или лед, не зная, что из них – материя обоих, то нам пришлось бы предположить третью материю, отличную от них. Точно так же тот, кто захотел бы найти материю всех вещей, должен был бы предположить особую вещь, не являющуюся, однако, материей существующих вещей. Первая материя поэтому не является самостоятельной вещью. Вот почему ей и не приписывают никакой формы и никакой акциденции, за исключением количества, между тем как все самостоятельные вещи имеют свои формы и определенные акциденции. Первая материя есть, таким образом, тело вообще, т. е. тело, рассматриваемое универсально, под которым мы подразумеваем не тело, лишенное всякой формы и всяких акциденций, а тело, каким оно представляется нам, когда и поскольку мы абстрагируемся от его формы и акциденций, за исключением количества.
25. Из сказанного могут быть выведены аксиомы, принимаемые Евклидом в начале первой книги его Элементов, трактующей о равенстве и неравенстве величин. Из этих аксиом я докажу здесь только одно положение: целое больше части. Я сделаю это для того, чтобы читатель знал, что эти аксиомы не являются недоказуемыми и, следовательно, не являются первыми принципами доказательств, равно как и для того, чтобы он поэтому остерегался допускать в качестве принципов что-либо не обладающее по крайней мере такой же ясностью, какая присуща вышеуказанным положениям. Из двух величин, как мы определили, больше та, часть которой равняется всей другой. Предположим теперь, что какое-нибудь целое есть А, а часть его – В. Так как целое В равно самому себе и это же самое В есть часть А, то часть А будет равняться целому В. Поэтому, согласно определению, А больше В, что и требовалось доказать.
ГЛАВА IX О ПРИЧИНЕ И ДЕЙСТВИИ
1. Что значит действовать и испытывать действие. 2. Непосредственное и опосредствованное действия и претерпевание. 3. Что такое просто причина и причина, необходимая в качестве предпосылки. 4. Что такое причина действующая и причина материальная. 5. Полная причина всегда достаточна, для того чтобы произвести действие. Результат появляется в тот самый момент, в который причина становится полной, и каждый результат имеет необходимую причину. 6. Возникновение результата непрерывно. Что означает принцип причинного действия. 7. Причина движения какого-либо тела может заключаться только в соприкасающемся с ним и движущемся теле. 8. Действующие и подвергающиеся воздействию в различные моменты, но одинаково расположенные в пространстве тела производят сходные действия. 9. Всякое изменение является движением. 10. Что такое случайное ( сontingentia). 1. Говорят, что тело производит действие, т. е. причиняет что-то другому телу, если оно вызывает или уничтожает в последнем какую-нибудь акциденцию. О теле же, в котором вызывается или уничтожается какая-нибудь акциденция, говорят, что оно претерпевает нечто. Когда какое-нибудь тело, толкая вперед другое тело, вызывает в нем движение, то первое называется действующим (agens), а второе – подвергающимся воздействию телом (patiens). Так, огонь, согревающий руку, есть действующее тело, а рука, которая согревается,- тело, подвергающееся воздействию. Акциденция же, возникающая в последнем, называется результатом (effectus). Если действующее тело и тело, подвергающееся воздействию, соприкасаются, то действие и претерпевание (passio) называются непосредственными; в противном случае их называют опосредствованными. Если же тело находится между действующим телом и телом, подвергающимся воздействию, то оно одновременно и активно, и пассивно, а именно оно активно в отношении тела, которое следует за ним и на которое оно оказывает действие, но оно пассивно в отношении тела, которое ему предшествует и воздействию которого оно подвергается. Если несколько тел следуют одно за другим так, что каждые два соседних тела граничат друг с другом, то все тела, лежащие между первым и последним, и активны, и пассивны; само же первое тело только действует, а последнее только подвергается воздействию. Действующее тело вызывает в теле, подвергающемся воздействию, известный результат соответственно одной или многим акциденциям, присущим обоим телам, т. е. действие производится не потому, что действующее тело есть тело, а потому, что оно есть тело определенного рода и имеет определенное движение, иначе все действующие тела вызывали бы во всех телах, подвергающихся воздействию, одинаковые результаты, ибо все они в равной мере тела. В силу этого огонь греет не потому, что он тело, а потому, что он теплое тело, и одно тело приводит в движение другое не потому, что оно есть тело, а потому, что оно стремится занять место другого тела. Поэтому причина всех действий коренится в определенных акциденциях действующих и подвергающихся воздействию тел: если все эти акциденции имеются в наличии, то результат имеет место, если же не хватает одной из них, то результат не имеет места. Акциденция как действующего, так и подвергающегося воздействию тела, при отсутствии которой действие не может состояться, называется causa sine qua поп, т. е. причиной, необходимой в качестве предпосылки, или причиной, необходимой для того, чтобы действие могло наступить. Просто причиной или полной причиной называется сумма всех акциденций обоих тел – действующего и подвергающегося воздействию, наличие которых делает немыслимым отсутствие результата, отсутствие же одной из которых делает немыслимым его наступление. 4. Сумма необходимых для произведения действий акциденций одного или нескольких действующих тел называется, если действие уже наступило, действующей причиной (causa efficiens). Сумма же акциденций тела, подвергающегося воздействию, обычно называется, если только действие состоялось, материальной причиной. Я говорю: если только действие состоялось, ибо там, где нет никакого результата, нет и никакой причины, потому что ни что нельзя назвать причиной там, где нет ничего, что можно было бы назвать результатом. Действующая и материальная причины являются частичными причинами, т. е. составляют части той причины, которую мы только что назвали полной (integran). Отсюда следует, что ожидаемый нами результат не может наступить, если в теле, подвергающемся воздействию, не хватает чего-либо, хотя бы в действующем теле и имелись все необходимые акциденции или наоборот. 5. Полная причина всегда достаточна, для того чтобы произвести соответствующее следствие (effectum), поскольку это следствие вообще возможно. Ибо каково бы ни было следствие, но раз оно состоялось, то очевидно, что вызвавшая его причина была достаточна. Если же следствие не состоялось, хотя оно и было возможно, то ясно, что в действующем или в подвергающемся воздействию теле не хватало чего-то такого, без чего следствие не могло состояться, т. е. недоставало какой-нибудь акциденции, которая была необходима для возникновения [данного] результата; значит, причина не была полной вопреки тому, что предполагалось. Отсюда следует также, что, как только оказывается налицо полная причина, должно состояться и следствие. Если же оно не наступает, то не хватает еще чего-то необходимого для его возникновения. Следовательно, не было полной причины, как это предполагалось. Далее, если мы условимся, что под необходимой причиной следует понимать такую причину, наличие которой делает безусловно необходимым наступление действия, то отсюда будет следовать, что всякое когда-либо состоявшееся действие происходит от необходимой причины. Ибо любое состоявшееся действие имело, поскольку оно состоялось, полную причину, иными словами, все то, чем это действие с необходимостью вызывается, а это и есть необходимая причина. Таким же образом можно показать, что все действия, которые наступят в будущем, будут иметь необходимую причину, и, таким образом, все, что было или будет, имело свою необходимость в предшествовавших им вещах. 6. Но из того обстоятельства, что с появлением полной причины немедленно должно наступить и действие, с очевидностью следует, что причинение и произведение действий (результатов) образуют определенный непрерывный процесс, так что в соответствии с непрерывным изменением одного или нескольких действующих тел под влиянием других тел тела, подвергающиеся их воздействию, также непрерывно изменяются. Если, например, огонь, непрерывно увеличиваясь, становится все горячее, то одновременно все больше увеличивается и его действие, а именно теплота ближайшего к нему и следующего за ближайшим тела. Это обстоятельство, кстати, является важным аргументом в пользу того, что всякое изменение есть только движение. Данное положение будет вскоре доказано нами в ходе нашего изложения. Здесь же в этой прогрессии причинного ряда, т. е. в ходе воздействия и претерпевания, для нас важно только то, что при всяком мысленном разложении действия на составные моменты начальный член ряда может представляться нам только как воздействие, т. е. как причина. Ибо если бы мы и этот первый член мыслили как действие или страдание, то нам пришлось бы представить себе существующим до него нечто другое в виде воздействия, или причины. Но это невозможно, ибо до начала нет ничего. Подобным же образом мы можем мыслить последний член только как результат, ибо причиной этот последний член мог бы быть назван только по отношению к чему-либо, что следует за ним, но за последним членом ничего не следует. Вот почему во всяком действии начало и причина отождествляются. Каждое же из отдельных промежуточных звеньев ряда является и действием и претерпеванием, причиной и результатом в зависимости от того, мыслим ли мы его по отношению к предыдущему или последующему члену. 7. Причина движения какого-либо тела может заключаться только в непосредственно соприкасающемся с ним и движущемся теле. Предположим, например, что налицо имеются два любых не соприкасающихся между собой тела, пространство между которыми пусто или если и занято, то занято находящимся в покое телом; предположим дальше, что одно из указанных тел находится в покое,- и вот я утверждаю, что это тело всегда останется в покое. Ибо если это тело движется, то причина его движения заключается, согласно пункту 19 главы VIII, в каком-либо внешнем теле. Если же между данным телом и телом, находящимся вне его, есть пустое пространство, то, каково бы ни было положение обоих тел, тело, пребывающее в покое, будет, очевидно, пребывать в покое до тех пор, пока не получит толчка от другого тела. Так как, однако, согласно определению, причина есть сумма всех акциденций, которые представляются необходимыми для того, чтобы действие наступило, то акциденции, находящиеся во внешних телах или в самом теле, подвергающемся воздействию, не являются причиной будущего движения. Так как можно представить, что тело, которое уже находится в покое, будет и впредь находиться в покое, даже если бы оно соприкасалось с другим телом, если только последнее не движется, то отсюда следует, что причина движения не может заключаться в соприкасающемся, но находящемся в покое теле. Тело становится причиной движения лишь тогда, когда оно движется и ударяется о другое тело. Точно таким же образом можно доказать, что все движущееся всегда будет двигаться в том же направлении и с той же скоростью, если только не встретит препятствий к этому из-за толчка, полученного от другого движущегося тела. Далее отсюда следует, что как находящиеся в покое, так и движущиеся каким-нибудь образом тела не могут ни производить, ни уничтожать, ни уменьшать движения в другом теле, поскольку между ними находится пустое пространство. Кем-то была высказана мысль, что находящиеся в покое вещи оказывают движущимся вещам большее противодействие, чем это делают два тела, движущиеся навстречу друг другу, потому что противоположностью движения является не движение, а покой. Недоразумение здесь обусловливается тем обстоятельством, что имена покой и движение логически исключают друг друга, между тем как в действительности движению оказывает противодействие не покой, а встречное движение. 8. Если какое-нибудь тело оказывает воздействие на другое, а через некоторый промежуток времени снова воздействует на него; при этом тело, действующее как целостность (и все его части) или в покое, или (если движется) движется так же, как и прежде,- и как целостность, и как совокупность движущихся частей. И пускай то, что сказано о действующем теле, относится также к телу, подвергающемуся действию, ибо между ними нет никакой разницы, кроме разницы во времени, что означает, что одно Действие происходит раньше, а другое – позже. Отсюда очевидно, что оба действия равны и сходны и разнятся между собой лишь в отношении времени. Так как следствия обусловливаются своими причинами, то и их различия определяются различиями этих причин. 9. Раз это установлено, то отсюда с необходимостью следует, что всякое изменение, происходящее в каком-нибудь теле, есть не что иное, как движение его частей. В самом деле, во-первых, мы говорим об изменении только тогда, когда что-либо воспринимается нашими чувствами иначе, чем раньше; во-вторых, оба указанных восприятия являются действиями, производимыми вещами в воспринимающем. Если эти восприятия различны, то на основании сказанного в предыдущем пункте приходится предполагать следующее: или находившаяся раньше в покое часть действующего тела стала теперь двигаться, и тогда изменение состоит в этом движении; или же какая-нибудь часть движется сейчас иначе, чем раньше, и тогда изменение сводится к новому движению; или же эта часть раньше двигалась, а теперь находится в покое, и поскольку такой переход, как показано выше, может явиться только результатом противодействующего движения, то и в этом случае изменение сводится к движению; или, наконец, нечто из этого имеет место в теле, подвергающемся воздействию, или в его частях. В любом случае изменения сводятся к движениям частей либо воздействующего тела, либо тела, подвергающегося воздействию, либо обоих тел. Таким образом, изменение есть движение (а именно движение частей действующего или подвергающегося воздействию тела), что и требовалось доказать. Отсюда проистекает еще и тот вывод, что покой не может быть причиной чего бы то ни было и не может оказывать никакого воздействия на что-либо, так что он не может быть причиной ни движения, ни какого-либо изменения. 10. Акциденции называются случайными только по отношению к акциденциям, которые им предшествуют, или являются более ранними по времени, если первые не зависят от последних как от их причин. Я называю их случайными по отношению к таким акциденциям, которые их не произвели, ибо и эти акциденции имеют причины, под влиянием которых они возникают с равной необходимостью. Если бы они не происходили неизбежно, они не имели бы своих причин, но этого нельзя даже мысленно представить об уже возникших вещах.ГЛАВА X О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
1. Возможность и причина – одно и то же. 2. В тот момент, когда возможность становится полной, наступает ее превращение в действительность [актуализация]. 3. Активная и пассивная возможность суть только части полной возможности. 4. Когда говорят, что возможно превращение возможности в действительность [актуализация]. 5. Необходимое и случайное превращение возможности в действительность. 6. Активная возможность состоит в движении. 7. Что такое причина формальная и конечная [целевая]. 1. Причине и действию соответствуют возможность (potentia) и действительность (actus). Это в сущности тождественные понятия, и их обозначают различными именами лишь в различной связи. В самом деле, когда в каком-нибудь действующем теле имеются все акциденции, наличие которых необходимо и достаточно для того, чтобы при столкновении с другим телом оно вызвало в последнем известные действия, то мы говорим, что в нем заложена возможность, или потенция, того действия, которое станет действительностью, как только действующее тело будет приведено в соприкосновение с телом, воспринимающим действие. Но как было показано в предыдущей главе, те же акциденции образуют действующую причину; следовательно, те же самые акциденции, которые образуют действующую причину, образуют также потенцию в действующем теле. Возможность, или потенция, и действующая причина по существу означают одно и то же, лишь рассматриваемое в различной связи, а именно о причине говорят, имея в виду действие, которое уже наступило; о возможности же – имея в виду действие, которое еще должно наступить. Причина относится к прошедшему, возможность – к будущему. Возможность действующего тела называется также активной потенцией. Если в теле, подвергающемся воздействию, имеются все акциденции, необходимые для того, чтобы в нем могло быть вызвано действие каким-нибудь действующим телом, то мы говорим, что в нем заложена возможность, или потенция, того действия, которое станет действительностью, если это тело придет в столкновение с некоторым действующим телом. Но эти акциденции, согласно определению, данному в предыдущей главе, образуют материальную причину. Следовательно, «возможность, или потенция, в теле, подвергающемся воздействию, обычно именуемая также пассивной потенцией, и материальная причина суть одно и то же. Таким образом, слово причина подразумевает прошлое, а слово потенция – будущее. Поэтому возможность действующего и подвергающегося воздействию тел в их совокупности, которую можно было бы назвать целостной, или полной, потенцией, есть то же самое, что целостная причина, ибо и то и другое есть сумма всех акциденций, наличность которых необходима в обоих телах для того, чтобы действие наступило. Акциденцию, которая производится чем-либо, называют, имея в виду ее отношение к причине, результатом, а имея в виду отношение к потенции – действительностью, или актом. 2. Подобно тому как в тот самый момент, когда причина становится целостной, наступает и действие, в тот самый момент, когда потенция становится целостной, наступает актуализация. И подобно тому как не может возникнуть действие, если оно не вызвано достаточной и необходимой причиной, не может возникнуть действительность, если она не имеет источником необходимую потенцию, т. е. потенцию, которой действительность не могла не быть порождена. 3. Подобно тому, как действующая и материальная причины, согласно нашему разъяснению, являются только частями целостной причины и, только будучи связаны между собой, производят какое-нибудь действие, активная и пассивная возможности являются лишь частями целостной и полной возможности, и лишь их соединение порождает актуализацию. Поэтому возможности, как это указано в первом пункте, всегда только условны: действующее тело обладает потенцией, поскольку оно сталкивается с телом, подвергающимся действию; в таком же условном смысле обладает потенцией и последнее. Само же по себе ни то, ни другое тело не обладает потенцией, поэтому акциденции, находящиеся в них, не могут в собственном смысле слова называться потенциями и никакое действие не может наступить благодаря потенции лишь действующего тела или лишь тела, подвергающегося воздействию. 4. Никакая актуализация невозможна, если нет налицо целостной возможности; так как в целостной потенции соединяется все то, что необходимо для наступления действия, или акта, то при отсутствии ее всегда будет недоставать чего-то, без чего актуализация не может наступить. Действие, таким образом, не наступает, оно невозможно. Всякое же действие, которое не невозможно, возможно; поэтому всякое возможное событие рано или поздно наступит. Ибо если мы предположим, что оно никогда не наступит, то это будет означать, что никогда не могут соединиться все те условия, наличие которых необходимо для того, чтобы событие могло наступить, т. е. событие невозможно, согласно данному нами определению. Но это противоречит предположению. 5. Необходимым мы называем такое действие, наступлению которого невозможно помешать; поэтому всякое событие, которое вообще наступает, наступает в силу необходимости, ибо невозможно, чтобы оно не наступило. Ведь всякое возможное событие, как только что было доказано, должно когда-нибудь наступить. Предложение: все, что будет, то будет, так же необходимо, как утверждение человек есть человек. Но тут перед нами встает вопрос: можно ли считать необходимым также и то будущее, которое обычно называют случайным? Я отвечаю: все, что происходит, не исключая и случайного, происходит по необходимым причинам, как это доказано в предыдущей главе. Случайным что-либо называется только по отношению к событиям, от которых оно не зависит. Дождь, который завтра пойдет, необходим, т. е. обусловлен необходимыми причинами; но мы рассматриваем его как нечто случайное и называем его так, ибо еще не знаем его причин, которые уже существуют. Вообще случайным называется то, необходимую причину чего мы не можем усмотреть. Так же мы обычно говорим и о прошлом, а именно, не зная, произошло или нет что-либо, мы говорим, что это, может статься, и не произошло. Все утверждения относительно будущих событий (например, завтра будет дождь или завтра взойдет солнце) с необходимостью истинны или ложны; но, не зная еще, истинны они или ложны, мы называем эти события случайными. Их истинность, однако, зависит не от нашего знания, а от того, имеются ли налицо соответствующие причины. Есть люди, которые, признавая, что такому предложению, как завтра будет дождь или завтра не будет дождя, в Целом присуща логическая необходимость, тем не менее отрицают, что его отдельным частям (завтра будет дождь или завтра не будет дождя) присуща истинность, поскольку, согласно их утверждению, ни одно из этих предложений не является определенно истинным. Что означает, однако, это «определенно истинное», если не истинно познанное, т. е. то, что является очевидной истиной. Поэтому их утверждение имеет лишь следующий смысл: мы еще не знаем, истинно ли утверждение или нет. Однако они выражаются весьма темно и формулировкой, при помощи которой пытаются скрыть свое незнание, одновременно затемняют очевидность истины. В пункте 9 предыдущей главы мы показали, что действующая причина всякого движения и изменения есть движение одного или нескольких действующих тел, в 5-м пункте же I главы было доказано, что потенция активного тела – то же самое, что действующая причина. Отсюда следует, что всякая активная потенция есть также движение. Возможность, или потенция, не есть отличная от всякой действительности акциденция. Сама она есть действительность, а именно движение, которое только потому называется потенцией, что посредством его должна быть произведена потом другая действительность. Если, например, из трех тел первое толкает вперед второе, а второе – третье, то движение второго тела является его актом, или действительностью, по отношению к движению первого тела, так как последнее – причина движения второго тела; по отношению же к движению третьего тела движение второго тела является его активной потенцией. Кроме действующей и материальной причины метафизики признают еще две причины, а именно сущность вещи (которую некоторые называют формальной причиной) и цель, или конечную причину. На деле же обе они являются действующими причинами, ибо непонятно даже, какой смысл можно вложить в утверждение сущность вещи является ее причиной. Положение одаренность разумом есть причина человека означает то же, что и положение существование в качестве человека есть причина человека, а это не очень вразумительно. Однако познание сущности какой-нибудь вещи является причиной познания той же вещи. Если я знаю, что что-нибудь одарено разумом, то я в силу этого знаю также, что это человек. Однако в данном случае речь идет о действующей причине. О целевой причине речь может идти только тогда, когда имеют в виду те вещи, которые обладают чувствами и волей. Как мы покажем позже, конечная причина есть не что иное, как действующая причина.ГЛАВА XI О ТОЖДЕСТВЕ И РАЗЛИЧИИ
1. Что значит: одна вещь отличается от другой. 2. Что значит отличие по числу, величине, виду и роду. 3. Что такое отношение (relatio), пропорция (ratio), соотношение (relata). 4. Что такое пропорциональность. 5. В чем заключается отношение величин. 6. Соотношение есть не новая акциденция, но сравнение некоторых из тех свойств, которые присущи вещам независимо от их соотношения. Подобным же образом причиной отношения являются причины акциденций, имеющиеся в обоих членах отношения. 7. О принципе индивидуации. До сих пор речь шла о теле самом по себе, об акциденциях, общих всем телам, таких, как величина, движение, покой, действие, претерпевание, потенция, о том, что возможно, и т. д. Теперь следовало бы перейти к тем акциденциям, посредством которых одно тело отличается от другого. Но прежде всего следует объяснить, что значит различаться и не различаться, что такое тождество и различие, ибо тела обладают кроме всего прочего тем общим свойством, что они различаются между собой и что их можно отличить друг от друга. Мы говорим, что два тела различны, когда об одном из них можно высказать нечто, чего нельзя одновременно сказать о другом. Прежде всего очевидно, что два тела не суть одно и то же тело, ибо так как их два, то они находятся в одно и то же время в двух местах, между тем как одна и та же вещь находится в одно и то же время в одном и том же месте. Все тела во всяком случае различны по числу, а именно как одно и другое. То же самое и различны по числу суть взаимно исключающие друг друга имена. Тела различаются по величине, если одно из них больше, чем другое, например одно имеет локоть в длину, а другое – два локтя, одно весит два фунта, а другое – три. Такого рода различиям противополагается равенство тел. Те тела, которые различаются не только по величине, называются несходными. С другой стороны, те тела, которые различаются только по величине, называются обычно сходными. Несходство может быть видовым и родовым. Видовым является, например, различие между черным и белым – свойствами, воспринимаемыми одним и тем же органом чувств; родовым – различие между белым и теплым – свойствами, воспринимаемыми разными органами чувств. 3. Сходство или несходство, равенство или неравенство тел именуют отношениями; поэтому сами тела называются находящимися в отношении друг с другом, или во взаимоотношениях (relata или correlate). Аристотель же называет их ???????. Первое из тел обычно обозначают как предыдущий член (antecedent), второе – как последующий член (consequent). Отношение предыдущего члена к последующему по признаку величины (равны ли они, или один из членов больше или меньше другого) называется пропорцией, или пропорциональностью. Пропорция (ratio – отношение) есть не что иное, как равенство или неравенство величины предыдущего члена и величины последующего члена. Например, пропорциональное отношение 3 к 2 означает не более чем то, что 3 на единицу больше 2, а пропорциональное отношение 2 к 5 – не более чем то, что 2 на три единицы меньше 5. В отношениях неравных величин отношение меньшей величины к большей называется недостатком, а большей к меньшей – излишком. Кроме того, и разности нескольких неравных величин могут быть равны или неравны между собой. Поэтому кроме пропорций величин существуют также и пропорции пропорций. Именно таков случай, когда две неравные величины находятся в определенном отношении к двум другим, также неравным величинам. Мы можем, например, сравнивать неравенство 2 и 3 с неравенством 4 и 5. В таком соотношении всегда необходимы четыре величины, за исключением того случая, когда при наличии трех величин среднюю величину считают за две, так что в результате получаются те же четыре члена. Если отношение первого члена ко второму равно отношению третьего члена к четвертому, то эти четыре члена называются пропорциональными; в противном случае их именуют непропорциональными. Пропорциональное отношение двух величин не сводится лишь к их простой разнице, т.е. к той части большей из них, на которую она больше другой, или к остатку от большей величины по вычитании из нее меньшей, но охватывает и отношение этой разницы к одному из обоих членов. Так, пропорция 2 и 5 не есть просто число 3, на которое 5 больше, чем 2. Это число следует еще сравнить с числом 5 или с числом 2. Хотя между 2 и 5 та же разница, что между 9 и 12, а именно 3; неравенство в этих двух случаях все же неодинаково, и пропорционально отношение 2 к 5 не то же самое, что отношение 9 к 12. Отношение не суть особые акциденции, отличные от других акциденций сравниваемых вещей. Они скорее охватывают часть этих акциденций, а именно те, которые положены в основу сравнения. Так, сходство белой вещи с другой белой вещью или ее несходство с вещью черной то же, что и ее белый цвет. Равенство или неравенство не особая акциденция, существующая наряду с акциденцией величины, а именно величина. Различны только имена. То, что именуется белым или большим при отсутствии сопоставления с чем-либо другим, мы называем сходным или несходным, равным или неравным при сопоставлении. Отсюда следует, что причины акциденций, присущих сравниваемым телам, одновременно являются причинами их несходства или сходства, равенства или неравенства. Тот, кто производит два неравных тела, производит тем самым и их неравенство. Тот, кто устанавливает правила и поступает в соответствии с ними, составляет причину их соответствия или несоответствия друг другу. Это все, что мы считаем нужным сказать о сравнении одного тела с другим. 7. Вещь, однако, может быть сравниваема с самой собой, но в разное время. Здесь между философами возник великий спор о принципе индивидуации (principiuin individutionis), а именно спор о том, в каком смысле тело остается тем же самым, а в каком становится не тем, чем оно было раньше? Например, является ли еще старик тем же самым человеком, что и юноша, остается ли государство одним и тем же в течение столетий? Некоторые сводят индивидуацию к единству материи, другие – к единству формы. Существует также мнение, что она является суммой всех акциденций, их единством. В пользу мнения о материи как основе индивидуации говорит то обстоятельство, что кусок воска – имеет ли он форму шара или форму куба – остается тем же воском, поскольку в нем сохраняется та же материя. В пользу аналогичного мнения о форме говорит то, что человек с детства до старости остается численно одним и тем же, хотя его материя меняется. Если его идентичность не может быть приписана материи, то, по-видимому, не остается ничего другого, как приписать ее форме. В пользу же мнения о сумме акциденций нельзя привести ни одного аргумента. Но так как при появлении новой акциденции вещам обычно дается новое имя, то тот, кто видит основание идентичности в сумме акциденции, полагает, что в этом случае и сама вещь является другой. Согласно первому воззрению, человек, совершающий преступление, не тот, кого подвергают наказанию, так как человеческое тело непрерывно изменяется. Точно так и государство, изменившее в течение столетий свои законы, не остается больше тем же – вывод, который между тем опрокинул бы все понятия о праве. Исходя из второй точки зрения два одновременно существующих тела при известных обстоятельствах пришлось бы считать одним и тем же. Можно привести пример со знаменитым кораблем Тезея, о котором уже так много спорили афинские софисты. Если бы в этом корабле все старые доски были постепенно заменены новыми, то корабль остался бы в количественном отношении тем же самым; но если бы кто-нибудь сохранил вынутые старые доски и, соединив их наконец в прежнем порядке, построил из них корабль, то и этот корабль, несомненно, был бы в количественном отношении тем же самым, что и первоначальный. Мы имели бы в таком случае два количественно идентичных корабля, что совершенно абсурдно. Согласно же третьему воззрению, однако, ничто не остается тем же самым: человек, который только что сидел, а теперь стоит, не есть уже тот самый человек; точно так же и вода, находящаяся в сосуде, стала бы чем-то другим, если бы ее вылили. Принцип индивидуации поэтому не зиждется ни на одной материи, ни на одной форме. Когда встает вопрос об идентичности какого-нибудь предмета, то следует иметь в виду данное ему имя. Одно дело спрашивать, остается ли Сократ тем же человеком, другое – остается ли он тем же телом, ибо одним и тем же телом старик и ребенок уже в силу разницы в величине быть не могут, ибо одно и то же тело всегда обладает одной и той же величиной, и тем не менее Сократ остается тем же человеком. Если мы, давая какой-нибудь вещи имя, долженствующее обозначать ее идентичность, сообразуемся только с ее материей, то вещь будет той же самой, пока материя будет оставаться той же самой. Вода в океане и в туче остается той же водой, как и всякое тело остается телом, будь оно в компактном или сыпучем, обледенелом или жидком состоянии. Если же мы даем вещи имя, исходя из ее формы, представляющей собой принцип движения, то вещь сохраняет свою индивидуальность до тех пор, пока сохраняется этот принцип. Человек остается тем же самым, поскольку все его поступки и мысли проистекают из того жизненного принципа, который заложен в нем со дня рождения. Мы говорим также об одной и той же реке, если только она проистекает из одного и того же источника, хотя бы вода в ней и менялась или хотя бы из этого источника истекало нечто совсем иное, чем вода. Точно так же и государство независимо от того, меняются или нет живущие в нем люди, остается тем же самым государством, если только его акты неизменно исходят из одного и того же строя вещей. Если мы, наконец, даем какой-нибудь вещи имя, сообразуясь с какой-нибудь акциденцией, то идентичность вещи зависит от материи. Ибо если мы уменьшаем или увеличиваем материю, то старые акциденции исчезают и возникают новые, не являющиеся количественно теми же самыми. Корабль, под именем которого мы подразумеваем сформированную определенным образом материю, остается тем же, пока остается той же его материя. Если ни одна часть последней не остается той же, что и раньше, то корабль становится количественно совершенно другим. Если некоторые части корабля остаются, а другие заменяются новыми, то корабль – частью тот же, а частью – другой.ГЛАВА XII О КОЛИЧЕСТВЕ
1. Определение количества. 2. Обозначение количества. 3. Какими способами обозначают линию, плоскость и объем. 4. Как обозначают время. 5. Как обозначают число. 6. Как обозначают скорость. 7. Как обозначают вес. 8. Как обозначают отношение величин. 9. Как обозначают меру отношений отрезков времени и скоростей. 1. О сущности размерности (dimensio) и ее разнообразных видах было сказано выше в главе VIII. Согласно сказанному там, существуют три вида размерности: линия (или длина), плоскость и плотность. Каждый из этих видов в отдельности, если он определен, т. е. если ясно намечены его границы, называется обычно количеством. Под количеством мы понимаем все то, что является ответом на вопрос сколько? На вопрос, как долог путь, не отвечают неопределенно – длина; на вопрос, как велика пашня,- площадь; наконец, на вопрос, как велика масса,- плотное. На эти вопросы отвечают или вполне определенно – путь Длиной 100 000 шагов, пашня в 100 югеров, масса объемом 100 кубических футов, или по крайней мере так, что величина соответствующей вещи может быть представлена в известных границах. Следовательно, количество нельзя определить иначе как известным размером, или размером, границы которого известны по их месту либо благодаря сравнению. Количество определяют двояким образом. Во-первых, посредством чувств, если нам демонстрируется какой-нибудь чувственный объект, например линия, плоскость или толщина фута или локтя, запечатленные в какой-нибудь материи. Такого рода определение называется непосредственным созерцанием, а познаваемое таким образом количество – наглядно представленным. Во-вторых, количество определяется при помощи памяти путем сравнения с наглядно данным количеством. Руководствуясь первым способом определения количества, на вопрос: как велика какая-нибудь вещь? – мы отвечаем: она так велика, как ты это видишь глазами. Руководствуясь вторым способом, на этот вопрос можно ответить только при помощи сравнения с наглядно данной мерой. На вопрос: как велика длина пути? – ответ или гласит: столько-то тысяч шагов,- если мы при этом сравниваем путь с шагом или с какой-нибудь другой чувственной мерой, или указывает, что соответствующее количество относится к какой-нибудь данной мере так, как диагональ квадрата к егостороне, и т. д. Важно, однако, чтобы наглядная мера оставалась постоянной, будучи либо материальной, либо доступной чувственной оценке, ибо иначе невозможно было бы сравнивать что-нибудь с этой мерой. Но так как именно сравнение какой-нибудь величины с другой, согласно выводам предыдущей главы, мы называем отношением, то очевидно, что установленное посредством второго способа количество есть не что иное, как отношение между не данным наглядно протяжением и наглядно данной мерой, т. е. равенство или неравенство указанного протяжения с указанной наглядно данной мерой. Линию, плоскость и объем обозначают, во-первых, посредством движения в соответствии с тем, как мы описали возникновение этих геометрических элементов в главе VIII; однако это следует делать так, чтобы сохранились следы этого движения. Они должны быть или нанесены на какую-нибудь материю таким образом, как, например, наносят линию на бумагу, или же врезаны в какую-нибудь материю с большей прочностью. Эти элементы могут, во-вторых, быть обозначены путем прибавления: так, линия может быть прибавлена к линии, плоскость – к плоскости, объем – к объему. Это значит, что линию описывают посредством точек, плоскость – посредством линий, объем – посредством плоскостей. При этом, однако, под точками здесь следует понимать очень короткие линии, а под плоскостями – лишь очень тонкие тела. В-третьих, линии и плоскости можно получить с помощью разрезов, линии – разрезая наглядно представленные плоскости, плоскости – разрезая наглядно представленные тела. Время обозначают не в виде одной лишь простой линии: для его обозначения требуется еще нечто равно мерно движущееся по этой фактической или по предполагаемой линии. Ибо время есть образ движения, поскольку мы представляем себе в последнем раньше и позже, или последовательность. Поэтому для обозначения времени недостаточно лишь описать линию: мы должны одновременно мыслить предмет, движущийся по этой линии, и притом движущийся равномерно, так, чтобы мы в зависимости от потребности могли делить и соединять время. Если философы в ходе своих доказательств чертят линию и утверждают, что эта линия должна означать время, то это равнозначно утверждению: понятие равномерного движения по этой линии должно означать время. Так, окружности циферблатов, хотя они и представляют собой линии, недостаточны для определения времени: для этого требуется еще движение чего-нибудь, например тени или стрелки. Числа обозначают или при помощи точек, или при помощи названия чисел (один, два, три и т. д.). Точки, однако, не должны при этом соприкасаться, и поэтому их следует отделить друг от друга знаками. Они должны быть расставлены таким образом, чтобы их можно было отличить друг от друга. Этим и объясняется то обстоятельство, что число называется прерывным количеством (quantitas discreta), между тем как всякое количество, которое характеризуется движением, именуется непрерывным. При обозначении чисел посредством названий или цифр необходимо закрепить их в памяти в твердом порядке как ряд: один, два, три и т. д. Простое повторение единицы с прибавлением еще одной единицы скоро привело бы нас к тому, что мы не знали бы, какое число перед нами. Мы не пошли бы дальше трех, причем и число три представлялось бы нам не как число, а как фигура. Для обозначения скорости (которая, согласно определению, есть движение, совершаемое движущимся телом в определенном пространстве за определенный промежуток времени) требуется обозначить три вещи: время, пространство, пройденное движущимся телом, скорость, которую мы хотим обозначить, а также само движущееся в этом пространстве тело. Нужно провести две линии. Одна линия служит для того, чтобы обозначить время, поскольку мы представляем себе, что вдоль нее совершается равномерное движение, необходимое для определения времени; другая линия изображает скорость. Если, например, нам нужно сделать наглядной скорость движущегося тела А, то мы проводим две линии (АВ и CD)А______В С______Dи помещаем в точку С какое-либо тело. Скорость движения тела А будет определяться тогда тем, что оно проходит расстояние АВ в тот же промежуток времени, в который тело С пройдет расстояние CD в равномерном движении. Вес мы обозначаем с помощью любого тяжелого тела, состоящего из любой материи, лишь бы это тело всегда имело эту или иную тяжесть. Об отношениях величин получают представление одновременно с самими этими величинами. Отношение неравенства мы обозначаем тогда, когда нам даны неравномерные величины, отношение равенства – когда нам даны величины равные. Так как отношение неравных величин, согласно определению, данному в пункте 5 главы XI, состоит в отношении их разницы к одной из этих величин и так как, далее, вместе с обозначением неравных величин дается и их разница, то отсюда следует, что обозначение величин, находящихся в пропорциональном отношении, одновременно наглядно представляет нам и само это отношение. Подобным же образом и отношение разных величин (состоящее в том, что между величинами нет никакой разницы) дается одновременно с обозначением этих величин. Если, например, даны равные линии АВ и CD,
А_____В С_____D E__G__Fто существующее между ними отношение равенства непосредственно доступно созерцанию. Если же линии EF и EG неравны, то этим дано как отношение EF к EG, так и отношение EG к EF, так как разница обеих изображенных линиями величин выражена линией GF. Отношение неравных величин есть количество, так как оно выражается разницей GF, которая есть количество. Отношение же равенства не есть количество, так как между величинами нет разницы, а из равенств одно не может быть больше другого (что бывает при неравенствах). 9. Отношение двух промежутков времени или скоростей двух равномерных движений обозначают двумя линиями, вдоль которых, как мы себе представляем, равномерно движутся два тела. В зависимости от того, принимаем ли мы обе эти линии за изображения величин, времен или скоростей, они будут представлять или отношение друг к другу, или отношение времен, или отношение скоростей. Так, пусть линии А и В
____A____ ____B____прежде всего наглядно представляют отношение друг к другу. Если же затем мы представим себе, что вдоль этих линий равномерно с равной скоростью движутся тела, и если связанные с движением этих тел промежутки времени будут относиться друг к другу как большие, меньшие или равные в соответствии с пройденным в это большее, меньшее или равное время путем, то линии А и В будут представлять равенство или неравенство, т. е. отношение этих промежутков времени. Если, наконец, мы предположим, что линии А и В пройдены в один и тот же промежуток времени, то они будут представлять равенство или неравенство, т. е. отношение, скоростей, ибо скорости бывают большими, меньшими или равными в зависимости от того, проходят ли движущиеся тела в одинаковое время большие, меньшие или равные отрезки пространства.
ГЛАВА XIII ОБ АНАЛОГИЯХ, ИЛИ О ТОЖДЕСТВЕ ОТНОШЕНИИ
1, 2, 3, 4. Сущность и определение арифметических и геометрических отношений. 5. Определение и некоторые свойства равных арифметических отношений. 6, 7. Определение и преобразование равных геометрических отношений. 8, 9. Определение и преобразование неравных отношений. 10, 11, 12. Сравнение аналогичных количеств в отношении их величин. 13, 14, 15. Соединение отношений 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Определение и свойства непрерывных отношений. 26, 27, 28, 29. Сравнение арифметических и геометрических отношений.ГЛАВА XIV О ПРЯМЫХ И КРИВЫХ ЛИНИЯХ. УГОЛ И ФИГУРА
1. Определение и свойства прямой линии. [...] Кратчайшая линия между двумя данными точками есть та, конечные точки которой не могут быть удалены друг от друга без того, чтобы она не претерпела количественных изменений, т. е. чтобы не изменилось отношение этой линии к другой линии [...] Кривой называется такая линия, конечные пункты которой могут быть еще больше удалены друг от друга, прямой – такая, чьи конечные пункты не могут быть больше удалены друг от друга [...] III. Между двумя данными точками может быть проведена только одна прямая линия, ибо между ними может быть только одно кратчайшее расстояние, или одна наименьшая длина. Чтобы доказать это, предположим обратное, т. е. что между двумя данными точками могут быть две прямые линии. В таком случае они или совпадают и, следовательно, обе представляют собой только одну прямую линию, или не совпадают, и тогда, если мы посредством растягивания наложим одну из них на другую, конечные пункты одной линии окажутся более удаленными друг от друга, чем конечные пункты другой. Первая линия поэтому с самого начала была кривой [...] 2. Определение и свойства плоскости. [...] Плоскость описывается прямой линией, которая движется так, что все ее точки описывают прямые линии... Различные виды кривых. Определение и свойства круговых линий. Свойства прямых линий на плоскости. Определение пересекающихся линий. Определение и виды углов. [...] Если две линии или несколько плоскостей соприкасаются в одной-единственной точке, а везде вне этой точки расходятся, то величина этого расхождения есть угол [...] В концентрических кругах дуги равных углов относятся, как окружности кругов. Чем измеряется угол? [...] Угол измеряется дугой, величина которой определяется ее отношением ко всей окружности круга [...] Различие простых углов. О прямых, соединяющих центр круга с касательной. Общее определение параллельных линий; свойства параллельных прямых. [...] Две любые линии, прямые или ломаные, равно как и две плоскости, параллельны, если две равные прямые линии, пересекая их где бы то ни было, всегда образуют равные углы [...] Окружности двух кругов относятся друг к другу, как их диаметры. Прямые линии, проведенные параллельно к основанию треугольника, относятся друг к другу, как отрезки сторон треугольника. 15. От какого излома прямой линии возникает окружность круга? Угол, образуемый двумя касательными к одной кривой, как и простой угол, имеет величину, но его величина – другого рода. К нему ничего не может быть прибавлено, и от него ничего не может быть отнято. Отклонение двух плоскостей есть простой угол. Что такое телесный угол (solidus)? Что такое асимптоты? Чем определяется положение? Что значит подобное положение; что такое фигура и что такое подобные фигуры?РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ О ЗАКОНАХ ДВИЖЕНИЯ И ВЕЛИЧИН
ГЛАВА XV О ПРИРОДЕ И РАЗЛИЧНОМ ПОНИМАНИИ ДВИЖЕНИЯ И СТРЕМЛЕНИЯ (ИМПУЛЬСА – CONATUS)
Повторение некоторых принципов развитого раньше учения о движении. Дальнейшие принципы. [...] Стремление, или импульс (conatus), есть движение через такой отрезок пространства и в течение такого промежутка времени, которые так малы, что не могут быть даны, или обозначены числами, следовательно, движение через точку. Для разъяснения этого определения нужно напомнить, что под точкой не следует понимать нечто не имеющее величины, или неделимое. Ничего подобного вообще не существует в природе. Точка означает здесь нечто, величина или части чего не принимаются во внимание при доказательстве, т. е. точка принимается не за неделимое, а за неразделенное. Точно так же и под мгновением следует понимать не нечто неделимое, а неразделенный элемент времени [...] Подобно тому как мы сравниваем точку с точкой, мы можем сравнивать и импульс с импульсом и находить, что один из них больше или меньше другого [...] Под стремительностью (impetus) я понимаю скорость движущегося тела, но рассматриваемую в любом промежутке времени, в течение которого происходит движение. В этом смысле стремительность есть не что иное, как величина и скорость самого импульса [...] Сопротивлением называется тот импульс, который при столкновении двух движущихся тел частично или целиком противоположен импульсу другого тела [...] Из двух движущихся тел одно оказывает давление на другое тело, если первое силой своего импульса заставляет сдвинуться со своего места другое тело или его часть [...] Сила есть стремительность, или скорость, движения, умноженная на саму себя или на величину движущегося тела, благодаря чему это последнее более или менее сильно воздействует на тело, которое оказывает ему сопротивление [...] 3. Некоторые тезисы о природе движения. [...] Движущаяся точка, как бы мала ни была стремительность ее движения, приводит в движение точку, находящуюся в покое, при столкновении с последней [...] Если движущаяся точка ударяется о точку находящегося в покое тела, то последнее, как бы оно ни было твердо и как бы мала ни была стремительность движущейся точки, силой удара будет немного сдвинуто со своего места [...] Покой не производит абсолютно никакого действия, одно только движение заставляет двигаться покоящиеся тела и приводит в состояние покоя тела движущиеся [...] Тело, движущееся под воздействием другого тела, не теряет своего движения после прекращения движения последнего [...] Дальнейшие мысли о движении. Направление, которое приобретает первый импульс движущихся тел. Если движение возникает из столкновения двух движущихся тел, то импульс в случае прекращения движения одного из этих тел приобретает то же направление, что и путь другого. Каждый импульс распространяется до бесконечности. [...] Ибо он есть движение. Если движение (а следовательно, и первый импульс) происходит в пустом пространстве, то оно будет продолжаться впоследствии с той же скоростью, так как пустое пространство не может оказывать никакого сопротивления. Поэтому импульс в этом случае всегда будет распространяться в одном и том же направлении и с одной и той же скоростью. Если же пространство не пусто, то, так как импульс есть движение, всякая вещь, препятствующая импульсу, будет сдвинута со своего места, и так будет происходить до бесконечности. Поэтому и в заполненном пространстве распространение импульса продолжается до бесконечности, причем он переходит с одной части этого пространства на другую [...] Сверх того, импульс переносится на какое угодно далекое расстояние мгновенно. При этом совершенно неважно то что по мере его распространения он все более и более слабеет, так что в конце концов не может больше быть предметом чувственного восприятия. Движением он все же остается, хотя бы и движением, незаметным для глаза. Но мы здесь рассматриваем вещи не такими, какими они представляются нам на основании наших чувственных восприятий и опыта, а такими, какими представляет их наш разум [...] 8. Чем больше скорость (при равной величине) какого-нибудь движущегося тела, тем большее действие последнее оказывает на другое тело, с которым оно сталкивается в своем движении.ГЛАВА XVI О РАВНОМЕРНОМ И УСКОРЕННОМ ДВИЖЕНИИ; О ДВИЖЕНИИ, ВОЗНИКАЮЩЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
1. Скорость всякого тела, в какой бы момент времени мы ее ни рассматривали, равна величине импульса, помноженной на время. 2-5. Пути любых движений относятся друг к другу, как произведения импульсов этих движений и времени, 6. Отношение путей, пройденных двумя равномерно движущимися телами, складывается из прямого отношения затраченных этими телами на движение промежутков времени и их импульсов. 7. Отношение промежутков времени, затраченных на движение двумя равномерно движущимися телами, складывается из отношений их взаимно сопоставленных путей и импульсов; подобным же образом и. отношение их импульсов складывается из отношений их взаимно сопоставленных путей и затраченных ими на движение промежутков времени. 8- Если тело приводится в движение двумя движениями,, направления которых образуют угол, то направление движения этого тела будет представлять собой прямую линию, образующую диагональ параллелограмма, составленного из обоих вышеуказанных движений. 9-IS, Какой путь описывает тело, приведенное в движение двумя движениями, из которых одно равномерно, а другое ускоренно, если отношение путей, описываемых последними, к промежуткам времени, в течение которых они совершаются, может быть выражено в числах.ГЛАВА XVII О НЕСОВЕРШЕННЫХ ФИГУРАХ
1. Определение несовершенной фигуры. [...]Я называю несовершенными такие фигуры, которые мы можем представить себе как результат равномерного движения непрерывно уменьшающегося количества [...] Такой несовершенной фигурой является, в частности, плоскость, ограниченная двумя прямыми линиями и одной кривой, например параболой [...] Я называю фигуру совершенной по сравнению с какой-либо несовершенной фигурой, если она произведена в то же время, что и последняя, и тем же движением количества, сохраняющего все время одну и ту же величину. Дополнение несовершенной фигуры делает ее совершенной [...] Отношение несовершенной фигуры к ее дополнению. Отношение несовершенных фигур к параллелограммам, в которые они вписаны. Описание и построение, этих же фигур. Проведение касательных к ним. Отношение несовершенных фигур в прямолинейному треугольнику, имеющему ту же высоту и, то же основание. Таблица несовершенных объемных фигур, вписанных в цилиндр. В каком отношении находятся эти фигуры к конусу, имеющему ту же величину и основание, что и они. Способ вписать плоскую несовершенную фигуру в параллелограмм так, чтобы отношение -этой фигуры к треугольнику, имеющему ту же высоту и основание, было равно отношению другой удвоенной плоской или объемной несовершенной фигуры к данной несовершенной фигуре, взятой вместе с той совершенной фигурой, в которую она вписана. 10. Перенос известных свойств несовершенных фигур, вписанных в параллелограмм, на отношения пространств, пройденных движущимися с различной степенью скорости телами. 11. О несовершенных фигурах, вписанных в круг. 12. Подтверждение положений, содержащихся в пункте 2, на основании принципов первой философии. [...] При этом имеется в виду положение, что равенство или неравенство действий, т. е. отношение между ними, обусловливается и определяется равенством и неравенством их причин [...] О равенстве между поверхностью части шара и кругом. Как путем вписания несовершенных фигур в параллелограмм может быть найдено любое число равных пропорций между двумя данными линиями.ГЛАВА XVIII О РАВЕНСТВЕ ПРЯМЫХ И ПАРАБОЛИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
1. Как найти прямую линию, равную кривой полупараболы. 2. Как найти прямую линию, равную кривой первого полупараболастра. 3. Общий метод нахождения прямых, равных прочим кривым типа параболы.ГЛАВА XIX О РАВЕНСТВЕ УГЛОВ ПАДЕНИЯ И УГЛОВ ОТРАЖЕНИЯ
1. Если две параллельные прямые линии падают на другую прямую, то их отраженные линии также параллельны. 2. Если две прямые, исходящие из одной точки, падают на другую прямую, то продолжения соответствующих отраженных линий образуют угол, равный углу, образуемому линиями впадения. 3. Если две прямые параллельные линии падают на окружность круга, то их отраженные линии внутри круга образуют угол, равный удвоенному углу, образуемому линиями, соединяющими центр круга с точками впадения. 4. Если две линии, исходящие из точки, лежащей вне круга, падают на эту окружность и их отраженные линии внутри круга пересекаются, то последние образуют угол, равный сумме удвоенного угла, образуемого двумя линиями, соединяющими центр круга с точками впадения, и угла, образуемого самими линиями впадения. 5. Если две прямые, исходящие из одной точки, падают на вогнутую сторону какого-нибудь круга и угол, образуемый ими, меньше удвоенного центрального угла, то их линии отражения в случае их пересечения внутри круга образуют угол, который вместе с углом, образуемым линиями впадения, равен удвоенному центральному углу. 6. Если две неравные хорды пересекаются в какой-нибудь точке, а центр круга не лежит между ними, то, где бы ни пересекались их линии отражения, через точку пересечения обеих хорд нельзя провести никакой другой прямой, линия отражения которой проходила бы через точку пересечения обеих указанных линий отражения. 7. Если хорды равны, то вышеуказанное положение не имеет силы. 8. Как через данные точки на периферии круга провести две прямые так, чтобы их линии отражения образовали данный угол. 9. Если прямая проходит через круг и пересекает его радиус таким образом, что часть ее, находящаяся между радиусом и окружностью круга, равна части радиуса, находящейся между центром и точкой пересечения, то линия отражения данной линии параллельна радиусу. 10. Если из какой-нибудь точки внутри круга проведены две прямые к его окружности и их линии отражения пересекаются внутри его, то последние образуют угол, равный трети угла, образуемого линиями впадения.ГЛАВА XX ОБ ИЗМЕРЕНИИ ОКРУЖНОСТИ И ДЕЛЕНИИ ДУГИ И УГЛОВ
ГЛАВА XXI О КРУГОВОМ ДВИЖЕНИИ
1. При простом движении любая проведенная через движущееся тело линия остается параллельной линиям, соответствующим ее прежним положениям. 2. Если центр вращающегося круга пребывает в покое и если в этом кругу находится эпицикл, вращающийся в противоположном направлении так, что он в равные промежутки времени описывает равные углы, то всякая проведенная через этот эпицикл прямая будет двигаться параллельно самой себе в прежнем положении. 3. Свойства простого движения. 4. Если жидкость приводится в простое круговое движение, то все ее точки описывают окружности в промежутки времени, пропорциональные их расстояниям от центра движения. 5. Простое движение рассеивает разнородное и соединяет однородное. [...] Такое движение обычно называется ферментацией [...] 6. Если круг, описываемый телом, находящимся в состоянии простого кругового движения, соизмерим с другим кругом, описываемым точкой, вовлеченной в это движение, то по истечении некоторого промежутка времени все точки обоих кругов снова примут прежнее положение. 7. Если шар находится в состоянии простого движения, то последнее рассеивает разнородные тела тем сильнее, чем более удалены эти части шара от его полюсов. 8. Если простое круговое движение жидкого тела задерживается нежидким телом, то первое растекается по поверхности последнего. 9. Круговое движение вокруг неподвижного центра отбрасывает вещи, свободно лежащие на поверхности движущегося тела, по касательной. 10. Вещи, находящиеся в состоянии простого кругового движения, в свою очередь порождают простое круговое движение. 11. Если движущаяся таким образом вещь, с одной стороны, плотна, а с другой – текуча, то ее движение будет не вполне кругообразным.ГЛАВА XXII О ДРУГИХ РАЗЛИЧИЯХ ДВИЖЕНИЙ
1. Чем отличается стремление, или импульс, от усилия (wixus) ? Импульс мы определили (гл. XV, п. 2) как движение через расстояние, рассматриваемое нами не как расстояние, а как точка. Импульс остается одинаковым независимо от того, встречает или не встречает он противодействие. Но если два тела с противоположно направленными стремлениями, или импульсами, давят друг на друга, то импульс одного из них есть то, что мы называем давлением, и есть импульс, которому противостоит другой, противоположный импульс, т. е. сопротивление. 2. Два вида среды, в которой движутся тела. Тела и среды, части которых так сцеплены между собой, что ни одна из них не поддается воздействию движущегося тела без того, чтобы этому воздействию не поддавалось целое, мы называем плотными. Если же части легко поддаются воздействию, между тем как целое остается неподвижным, то мы называем их текучими или мягкими. Слова текучий, мягкий, плотный мы употребляем только соотносительно: они обозначают не различные виды, а различные степени качества. 3. Что называется передачей движения от одного тела к другому? [...] Итак, когда какое-то тело приводит в движение другое, противоположно направленное, а это движение таким же образом действует на третье и т. д., мы называем это действие распространением (передачей) движения. 4. Каким движением обладают тела, давящие друг на друга? Если два текучих тела, находящихся в свободном пространстве, давят друг на друга, то их части двигаются или стремятся к движению в сторону, т. е. в этом направлении [...] Это действие необходимо наступает не только в жидкостях, но также и в густых и плотных телах, хотя оно не всегда доступно чувственному восприятию [...] Давящие друг на друга жидкие тела взаимопроникают. Если тело давит на другое тело, не проникая в него, то направление давления перпендикулярно к поверхности подвергающегося давлению тела. Если твердое тело давит на другое тело и проникает в него, то это происходит в перпендикулярном направлении только в том случае, если оно действует на тело в перпендикулярном направлении. Иногда тело движется в направлении, противоположном направлению движения тела, которое его толкает. [...] Мы наблюдаем это при движении кораблей. 9. В заполненном пространстве движение передается на любое расстояние. О расширении и сжатии. Расширение и сжатие предполагают изменение положения мельчайших частиц. Всякая тяга есть толчок. 13.Вещи, которые после сгибания или давления возвращаются в нормальное состояние, обнаруживают тем самым движение своих внутренних частей. 14.Если тело, влекущее за собой другое тело, вдруг задерживается вдвоем движении, то другое тело продолжает двигаться дальше. 15, 16. Действие, оказываемое толчком, не может быть сравниваемо с действием, оказываемым давлением. 17, 18. Движение не может начаться во внутренних частях тела. Действие и противодействие имеют противоположные направления. Что такое привычка (habitus)? Привычка есть возникновение движения или, вернее, легкое передвижение движущегося тела по определенно намеченному пути [...]ГЛАВА XXIII О ЦЕНТРЕ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ, КОТОРЫЕ ДАВЯТ КНИЗУ ПО ПРЯМЫМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ
1. Определения и гипотезы. [...] Весы представляют собой прямую линию, средняя точка которой неподвижна, между тем как все остальные точки ее свободны [...] Равновесие наступает тогда, когда стремление, или импульс, тела, давящего на одно коромысло весов, нейтрализует импульс тела, давящего на другое коромысло, так что весы остаются неподвижными [...] Вес есть сумма всех параллельно стремящихся вниз импульсов тела, давящего на коромысло весов [...] Момент есть сила, которой обладает взвешиваемое тело и при помощи которой оно приводит в движение коромысло весов на основе определенного положения [...] Плоскость равновесия есть плоскость, посредством которой взвешиваемое тело делится таким образом, что на обеих сторонах остаются равные моменты [...] Диаметр равновесия есть общая линия двух плоскостей равновесия [...] Центр равновесия есть общая точка двух диаметров равновесия. Три плоскости равновесия не бывают параллельны. Центр тяжести содержится в каждой плоскости равновесия. Моменты одинаково тяжелых тел относятся друг к другу, как их расстояния от центра весов. 5, 6. Отношение моментов неодинаково тяжелых тел складывается из отношения их расстояний от центра весов и отношения их веса. 7. Если вес двух тел и их расстояние от центра весов находятся в обратном отношении, то эти тела уравновешивают друг друга, и наоборот. 8. Если части тяжелого тела повсеместно оказывают равномерное давление на коромысло весов, то отношение моментов всех отрезков, считая от центра весов, равно отношению частей треугольника, разрезанного линиями, проведенными от его вершины параллельно его основанию. Диаметр равновесия несовершенных фигур, высота и основание которых соизмеримы, делит ее ось так, что часть, прилегающая к вершине, относится ко всей остальной части, как совершенная фигура – к несовершенной. Диаметр равновесия дополнения половины любой названной несовершенной фигуры делит линию, проведенную через вершину параллельно основанию, так, что часть, прилегающая к вершине, относится к другой части, как вся фигура – к указанному дополнению. 11,12,13.Как отыскать центр равновесия половины несовершенных фигур, указанных в пункте 3 главы XVII. 14. Центр тяжести сектора плотного тела лежит на его оси, разделенной так, что часть, прилегающая к вершине, относится ко всей оси (за вычетом половины оси той части сектора, основание которой совпадает с основанием конуса), как три к четырем.ГЛАВА XXIV О ПРЕЛОМЛЕНИИ (РЕФРАКЦИИ) И ОТРАЖЕНИИ
1. Определения. Рефракция есть преломление, или превращение в ломаную линию, вследствие наличия двух сред различной природы той прямой, по которой движется тело или по которой оно двигалось бы в одной и той же среде [...] Более разреженной мы называем такую среду, в которой движение или возникновение его встречает меньшее сопротивление; более плотной – такую среду, в которой сопротивление сильнее [...] 2. Движение, перпендикулярное к плоскости преломления, не испытывает рефракции. 3.Тело, переходящее из более разреженной в более плотную среду, отклоняется так, что угол преломления больше угла падения. 4..Отклонение стремления, или импульса, таково, что отношение синуса угла преломления и синуса угла падения обратно пропорционально отношению плотности сред. 5. Синусы двух углов преломления относятся к синусам соответствующих углов падения, как синусы этих углов падения друг к другу. Если две линии падения образуют в средах различной плотности равные углы падения, то синус этих углов падения равен среднему пропорциональному между синусами углов преломления. Если угол падения равен половине прямого угла, а линия падения проходит в более плотной среде и если отношение плотности обеих сред равно отношению диагонали квадрата к его стороне, а разделительная поверхность плоска, то линия преломления будет лежать в разделитель ной плоскости. Если тело движется по прямой линии по направлению к другому телу, не проникая в него, то первое отражается в последнем так, что угол отражения равен углу падения. То же самое имеет место, когда движение возникает на линии падения.РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ФИЗИКА, ИЛИ О ЯВЛЕНИЯХ ПРИРОДЫ
ГЛАВА XXV ОБ ОЩУЩЕНИИ И ЖИВОТНОМ ДВИЖЕНИИ
1. Связь между тем, что уже сказано, и. тем, что еще должно быть сказано. 2. Исследование природы чувствующего и определение ощущения. 3. Субъект и объект ощущения. 4. Органы чувств. 5. Не все тела обладают способностью ощущения, 6. В одно мгновение возникает только один образ (phantasma). 7. Воображение является остатком прошлого ощущения (т. е. памятью); то же можно сказать и о сне. 8. Какова последовательность образов. 9. Как возникает сон. 10. Виды ощущений, органы чувств, образы, свойственные каждому из этих органов в отдельности и общие им. 11. Что такое величина образов и как они определяются. 12. Что такое удовольствие, страдание, влечение и отвращение. 13. Что такое размышление (deliberatio) и воля. 1. Философия, как мы определили ее в главе I, есть достигаемое путем правильного рассуждения познание действий, или явлений, из познанных нами причин или познание возможных причин из известных нам действий, или явлений. В силу этого существуют два метода философского познания: первый метод предполагает восхождение от причин к возможным действиям, второй, наоборот,- восхождение от явлений ?????????, или действий, к возможным причинам. В первом случае мы при помощи основных определений мысли создаем основы принципа рассуждения, а именно дефиниции, согласующиеся с названиями вещей. Эта часть философии изложена мной в предыдущих главах. В этих главах я, если не ошибаюсь, не утверждал ничего, что не вытекало бы из определений (за исключением, конечно, самих определений). Всякий, кто разделяет мнение насчет употребления слов (а только для таких людей я и писал), не будет сомневаться в строгости моих доказательств. Я перехожу теперь к изложению второй части, т. е. от явлений, или действий природы, познаваемых нашими чувствами, перехожу к некоему способу познания того, каким образом они если и не были, то хотя бы могли быть произведены. Следовательно, принципы, от которых зависят выводы нижеследующего рассуждения, не созданы нами подобно общим дефинициям. Мы предполагаем, что они вложены в сами вещи творцом природы. Мы извлекаем из них только частные, а не общие суждения; из них нельзя вывести теорем; не исключая использования общих положений, изложенных в предыдущих главах, они указывают, однако, возможность какого-то порождения. Так как принципы того знания, изложению которого посвящена эта часть, коренятся в явлениях природы и это знание завершается познанием естественных причин, то я озаглавил эту часть Физика, или О явлениях природы. Феноменом же, или явлением, называется то, что видимо, или то, что являет нам природа. Из всех знакомых нам феноменов, или явлений, наиболее удивителен сам факт существования явлений, сам факт этого то cpai veaftai, т. е. то обстоятельство, что из тел, существующих в природе, некоторые обладают отображениями почти всех вещей, другие же не обладают никакими. Если мы познаем принципы вещей только благодаря явлениям, то в конце концов основой познания этих принципов является чувственное восприятие, или ощущение, и из последнего мы черпаем всякое знание. Но и исследование причин ощущения не может иметь в качестве отправного пункта никакое другое явление, кроме самого чувственного ощущения. Однако нас, пожалуй, спросят: при помощи какого чувства мы воспринимаем само ощущение? На это я отвечу: при помощи того же чувственного ощущения, а именно воспоминания, которое в течение известного времени сохраняется у нас о воспринятых вещах даже тогда, когда эти вещи уже исчезли. Ибо ощущать, что мы ощущали, есть не что иное, как вспоминать. Прежде всего необходимо исследовать причины ощущений, т. е. тех идей, или образов, которые беспрестанно возникают в нас, когда мы ощущаем; необходимо также исследовать и сам процесс их возникновения. Для этого важно прежде всего убедиться в том, что наши образы не остаются всегда одними и теми же, что новые образы возникают, а старые исчезают, поскольку мы направляем наши органы чувств то на тот, то на другой предмет. Ощущения, таким образом, возникают и исчезают. Отсюда следует, что образы появляются в результате изменений ощущающего тела. 2. Как показано в пункте 8 главы IX, всякое изменение есть движение, или стремление (импульс – conatus), которое также представляет собой движение внутренних частей движимого тела. Ибо пока даже мельчайшие частицы какого-либо тела сохраняют по отношению друг к другу одно и то же положение, не может быть речи о каком-либо изменении в нем; при этих условиях речь могла бы идти только о движении всего тела. Но пока частицы тела находятся в состоянии покоя, тело не только кажется, но и является тем же, каким оно было раньше. Чувственное восприятие, или ощущение, таким образом, может быть лишь движением внутренних частей ощущающего тела. Эти движения происходят в органах чувств, посредством которых мы воспринимаем вещи. Ибо части тела, которыми (осуществляется ощущение, обычно называются органами чувств. Субъектом ощущения является, таким образом, тот, кто обладает образами. Природа чувственного восприятия, или ощущения, в какой-то мере выяснена нами: это внутреннее движение, происходящее в ощущающем теле. Сверх того, выше (гл. VIII, п. 7) было доказано, что движение может быть вызвано только смежным движущимся телом. Отсюда следует, что непосредственная причина ощущения состоит в соприкосновении и давлении, испытываемом первым органом чувств. Если давление испытывает внешняя часть органа, то действие такого давления сказывается, прежде всего, в том, что эта внешняя часть в свою очередь давит на ближайшую часть того же органа; подобным же образом давление, или движение, передается через все части органа до наиболее глубоко лежащих внутренних частей. С другой стороны, первоисточником давления, испытываемого внешней частью органа, является давление какого-нибудь более отдаленного тела и так далее, пока не доходим до первого источника образов, возникающих в наших органах чувств. Каков бы он ни был, его обычно называют объектом ощущений. Итак, ощущение есть некое внутреннее движение в том, кто ощущает, вызванное движением внутренних частей объекта и переданное через всю промежуточную СР6ДУ до наиболее глубоко лежащих внутренних частей органа. Этими словами мы приблизительно определили сущность ощущения. Наконец, мы показали (гл. XV, п. 2), что всякое сопротивление есть импульс, имеющий направление, противоположное направлению импульса движущегося тела, т. е. что всякое сопротивление есть противодействие. Так как во всем органе в силу его собственного естественного движения возникает сопротивление, или противодействие, движению, идущему от объекта к внутренним частям этого органа, то он обладает импульсом, противоположным импульсу объекта. Если направляющийся внутрь импульс образует заключительное звено процесса ощущения, то из противодействия ему, имеющему некоторую предрасположенность, возникает образ. Так как это противодействие направлено наружу, то образ (????????) представляется чем-то лежащим вне органа. Полное определение ощущения, вытекающее из объяснения его причин и процесса его возникновения, гласит: ощущение есть образ, обусловленный противодействием и направленным вовне импульсом, которые возникают в органе чувств под влиянием импульса, исходящего от объекта и направленного внутрь, при условии известной продолжительности такого импульса. Субъектом ощущения является сам ощущающий, следовательно, живое существо; и правильнее утверждать, что видит живое существо, чем что видит глаз. Объект есть то, что воспринимается посредством ощущения. Поэтому мы выражаемся более точно, когда говорим, что видим солнце, чем тогда, когда говорим, что видим свет. Ибо свет и цвет, теплота и звук и другие качества, которые мы обычно называем чувственно воспринимаемыми, суть не объекты, а только впечатления, или образы, ощущающих существ. Образ (phantasma) же есть акт ощущения и отличается от ощущения не более, чем становление – от результата становления. В мгновенных процессах, однако, это различие исчезает, а впечатление возникает мгновенно. Ибо во всяком движении, которое передается непрерывно, первая приведенная в движение частица приводит в движение вторую, вторая – третью и т. д. по порядку до самой последней частицы, расположенной на сколь угодно большом расстоянии. В тот самый момент, когда первая частица занимает место второй, отодвинув ее далее, предпоследняя частица занимает место отодвинутой ею последней, благодаря чему в то же мгновение в силу обратного давления, если оно достаточно сильно, возникает впечатление и одновременно с последним – соответствующее ему ощущение. Органы чувств, свойственные ощущающим субъектам, суть такие части их тела, повреждение которых делает невозможным возникновение впечатлений, или образов, даже тогда, когда другие части остаются неповрежденными. Мы находим их у большинства живых существ. К ним относятся те животные духи и те оболочки, которые имеют начало в нежной мозговой оболочке (meninx tener) и окутывают мозг вместе со всеми нервами; к ним относятся также сам мозг и те артерии, которые в нем находятся и движением которых приводится в движение источник процесса восприятия – сердце. Где бы движение, исходящее из какого-либо объекта, ни затронуло тело ощущающего субъекта, оно каким-нибудь нервом передается мозгу. Если нерв, передающий движение, поврежден или лишен возможности функционировать, так что движение не может передаваться дальше, то не возникает никакого ощущения. Точно так же восприятие предмета не имеет места, если вследствие изъяна в каком-нибудь из посредствующих органов затормозилось движение, происходящее между мозгом и сердцем. Хотя, как уже было сказано, всякое ощущение возникает в силу противодействия, отсюда все же не следует, будто все то, что оказывает противодействие, должно ощущать. Я знаю, что были философы и весьма образованные, которые полагали, что все тела одарены способностью ощущать [90]. И я не вижу, как можно было бы это опровергнуть, если бы сущность ощущения заключалась в одном противодействии. Но если бы даже противодействие неодушевленных тел и порождало в последних какой-то образ, то он исчезал бы немедленно после удаления объекта. Ибо раз эти неодушевленные тела не обладают, подобно живым существам, органами, годными для сохранения сообщенного им движения (и по удалении предмета), то они будут ощущать только таким образом, что у них никогда не сохранится воспоминания об испытанном ощущении. Но такого рода ощущение не имеет решительно ничего общего с тем ощущением, о котором я сейчас говорю. Ибо под ощущением мы обычно понимаем суждение о предметах на основании представления о них, т. е. суждение, основанное на сравнении и различении образов. Но это возможно лишь при условии того, что указанное движение некоторое время сохраняется в органе, в котором возникает образ (phantasma), благодаря чему последний может быть вызван снова. Ощущение, о котором здесь идет речь и которое мы понимаем в том смысле, в каком это имя обычно употребляют, необходимо связано со своего рода памятью, дающей нам возможность сравнивать предыдущее с последующим и отличать одно от другого. Поэтому ощущение всегда предполагает известное разнообразие образов, при наличии которого можно отличить одно от другого. Если мы возьмем в качестве примера человека, который не обладает никакими органами чувств, за исключением здоровых глаз (и у которого все остальные части органа зрения в здоровом состоянии), и предположим, что такой человек всегда воспринимает только глазами одну и ту же вещь одного и того же цвета и одной и той же формы, так что явление никогда не видоизменяется, то, что бы ни сказали другие, я буду утверждать, что этот человек видит не в большей мере, чем я посредством моих органов осязания ощущаю кости моей руки, хотя последние всегда окружены со всех сторон необычайно чувствительной кожей. Я бы мог, пожалуй, сказать, что этот человек поражен и иногда с удивлением смотрит на указанную вещь, но я бы не стал утверждать, что он ее видит. Ибо неизменно ощущать одно и то же означает в сущности не ощущать ничего. 6. Однако сущность ощущения не позволяет одновременно воспринимать несколько вещей. В самом деле, поскольку сущность ощущения состоит в движении, то органы чувств, подвергаясь воздействию одного предмета, не могут быть приведены в движение другим предметом так, чтобы оба движения вызвали в органах два ясных впечатления (образа). Таким образом, при совместном воздействии двухпредметов на наши органы чувств в нас возникнут не два впечатления, соответствующие этим двум предметам, а одно смешанное впечатление, созданное их взаимодействием. В главе VII было, кроме того, показано, что делению и счету тел соответствует деление и счет мест и наоборот. Точно так же обстоит дело с делением и счетом времени и движения: количества промежутков времени и отрезков движения при счете соответствуют друг другу. И если какой-нибудь видимый предмет представляется разноцветным, то все же это один и тот же предмет, а не различные предметы. К сказанному следует прибавить, что органы, общие всем чувствам, а именно органы, части которых простираются от нервных корешков до сердца, менее способны к восприятию нового впечатления (какого бы то ни было предмета и посредством какого бы то ни было чувства) в случае сильного возбуждения, вызванного в них каким-нибудь объектом, так как уже существующее в них движение препятствует восприятию нового движения. Вот чем объясняется то обстоятельство, что человек, внимание которого совершенно поглощено каким-нибудь предметом, не способен воспринимать другие предметы, также находящиеся перед его глазами. Ибо когда человек поглощен каким-либо предметом, его душевные силы всецело заняты, т. е. его органы чувств находятся под влиянием происходящего в них сильного движения и, пока продолжается их возбуждение, остаются невосприимчивыми к другим раздражениям. Так, Теренций [91] в одном месте говорит: «Populus studio stupidus in funambulo animum occuparat» [«Народ, поглощенный страстью, затаив дыхание, смотрит на канатного плясуна»]. А что такое оглушенность (Stupor), если не ??????????, т. е. неспособность ощущать другие вещи. Следовательно, в один и тот же момент может быть воспринят только один-единственный предмет. Так что при чтении мы не видим всех букв одновременно, а воспринимаем их последовательно, друг за другом, хотя перед нашими глазами вся страница. Окидывая одним взглядом всю страницу, мы ничего не читаем, хотя все буквы четко написаны. Все это показывает, что ощущением следует называть не всякий импульс органов чувств, направленный наружу, а только тот, который в данный момент сильнее других и преобладает над ними. Такой импульс оттесняет другие впечатления, подобно тому как свет солнца затемняет в силу своей яркости остальные звезды, хотя и не лишает их света. 7. Движение органа, благодаря которому возникает впечатление (образ), называется обычно ощущением (sensio) лишь в том случае, если предмет находится тут же. Если же предмета больше нет в наличии, а образ от него остается, то он называется фантазией или воображением (по-латыни imaginatio). Так как, однако, не все явления фантазии являются образами, то слово imaginatio не совсем совпадает с тем, что обыкновенно понимают под фантазией. Тем не менее его вполне можно употреблять для обозначения того, что греки обозначили словом ????????. Следовательно, воображение в действительности является не чем иным, как ощущением, ослабленным благодаря Удалению предмета. Где, однако, причина этого ослабления? Слабеет ли движение в силу удаления предмета? Если бы это было так, то образы воображения были бы всегда и по необходимости менее отчетливыми, чем образы, порождаемые ощущением. Но это неверно. Ибо сновидения, эти воображения спящих людей, не менее отчетливы, чем образы, созданные самим актом восприятия. Причина указанного явления кроется скорее в следующем: у бодрствующих людей образы прежде воспринятых вещей бледнее, чем образы вещей наличных, в силу того что возбуждение, вызываемое в органах чувств наличными предметами в то же самое время, когда возникают образы воображения, не допускает преобладания последних. Во сне же, когда закрыт доступ всякому идущему извне движению, никакое обусловленное внешними воздействиями возбуждение не препятствует внутреннему движению. Если это так, то следует, далее, вскрыть причины того, почему во сне внешним предметам закрыт доступ к внутренним органам. Я предполагаю, что при продолжительном воздействии объектов, за которыми необходимо следует противодействие органа и преимущественно животных духов (spirituum), орган устает, т. е. его части не могут больше без боли испытывать возбуждение, вызываемое в них животными духами. Но, теряя энергию и слабея, нервы сокращаются и сосредоточиваются около того пункта, из которого они выходят, где бы этот пункт ни находился – в полости мозга или в полости сердца, что по необходимости прерывает процесс передачи внешних воздействий посредством нервов. Ибо влияние этих воздействий на того, кто их воспринимает, в условиях, когда последний все более и более удаляется от них, может становиться все меньше. Наконец, когда нервы совсем ослабевают, передача этих воздействий вообще прекращается. Следовательно, прекращается и противодействие им, т. е. ощущение. Последнее возникает вновь только тогда, когда после отдыха орган восстанавливается и в него вливаются новые жизненные силы. Так, по-видимому, происходит всегда, за исключением тех случаев, когда к обычным причинам присоединяется какая-нибудь другая, необычная причина, например внутренний жар вследствие усталости или болезни, необычайно возбуждающий животные духи и другие части какого-либо органа. Но то обстоятельство, что в этом разнообразии образов фантазии есть связь и что за одними и теми же представлениями следуют то сходные, то совершенно не сходные с ними представления, имеет свою причину и не является случайностью, как, может быть, полагают многие. В движении всякого сплошного тела одна часть следует за другой в силу сцепления. Если мы последовательно направляем наши глаза и другие органы чувств на различные предметы, то при сохранении движения, произведенного каждым из этих предметов, у нас вновь и вновь возникают образы фантазии, характер которых обусловливается движением, получающим преобладание в соответствующий момент, и эти образы чередуются в нашем воображении в том же порядке, в каком они раньше чередовались в чувственном восприятии. Если с течением времени в процессе восприятия у нас возникает множество образов, то в конце концов почти любая мысль может быть вызвана другой, так что нам представляется совершенно случайным то, какие мысли следуют друг за другом. У бодрствующих людей эта последовательность бывает, однако, менее неопределенной, чем у людей спящих. Ведь мысль о вожделенной цели, или ее образ, вызывает у нас все те образы, которые служат средствами для достижения данной цели, причем они возникают в обратном порядке – от последнего к первому и снова от начала к концу. Но это предполагает влечение и оценку средств, ведущих к цели, чему нас учит опыт. Опыт есть запас образов, накопленный путем восприятия многих вещей. Ибо ??????????? и помнить означают не одно и то же лишь в том отношении, что воспоминание предполагает в качестве своего предмета прошедшее, ??????????? же нет. В воспоминании образы выступают как бы изношенными под влиянием времени, в фантазии же – так, как они есть, причем это различие относится не к самим вещам, а к способам их представления в голове представляющего субъекта. Воспоминание похоже на созерцание отдаленных предметов. Подобно тому как при таком созерцании в силу большой отдаленности в пространстве мы не видим мелких частей тел, в воспоминании в силу отдаленности во времени исчезают многие свойства, пространственные и временные определения вещей, воспринятых когда-то органами чувств. Беспрестанное формирование образов в чувственных восприятиях и в мыслях воображения есть то, что обычно понимают под ходом рассуждения (animi discursus), которое свойственно как людям, так и животным. Тот, кто мыслит, сравнивает проносящиеся в его голове образы, т. е. воспринимает сходство и несходство между ними. Умение быстро схватывать сходство между разнородными вещами, или вещами, которые далеки друг от друга, есть признак быстрой фантазии; умение же отыскивать различия между сходными вещами есть преимущество способности суждения. Восприятие различий не есть какое-то особенное ощущение, отличное от чувственного ощущения, или восприятия в собственном смысле слова. Это – воспоминание различий, всплывающее тогда, когда отдельные образы сохраняются в течение некоторого времени. Различие между светлым и теплым есть не что иное, как одновременное воспоминание о двух объектах – светящем и греющем. 9.Образы, возникающие у спящих, суть сновидения. Опыт показывает нам, что последние характеризуются следующими пятью особенностями. Во-первых, они в большинстве случаев беспорядочны и бессвязны. Во-вторых, не бывает сновидений, которые не представляли бы собой соединения образов, воспринятых некогда органами чувств. В-третьих, сновидения иногда овладевают усталыми людьми в силу постепенного замедления и изменения течения их представлений или в силу одолевающей их сонливости, иногда же, однако, они появляются во время глубокого сна. В-четвертых, сновидения более ярки, чем образы бодрствующих людей, если оставить в стороне образы, возникающие в акте восприятия, с которыми сновидения могут сравниться по яркости. В-пятых, во сне ни место, ни вид вещей не возбуждают нашего удивления. Из сказанного нетрудно понять, каковы могут быть причины этих явлений. Так как, во-первых, всякий порядок и всякая связь обусловливаются беспрестанным сообразованием с какой-либо целью, т. е. планомерным обдумыванием, то во сне, когда мы не ставим перед собой никаких задач, последовательность образов не будет определяться никакой целью, и они будут чередоваться в нашем воображении как попало – примерно так, как представляются предметы нашим глазам тогда, когда мы безразлично смотрим на них и видим их не потому, что желаем их видеть, а лишь потому, что глаза у нас открыты. В этом случае все представляется нам лишенным всякого порядка. Вторая особенность сновидений обусловлена тем, что при исчезновении ощущения мы делаемся невосприимчивыми ко всякому новому движению, исходящему от объектов, в силу чего в нашем сознании не могут возникнуть никакие новые образы, если только не называть новым то, что представляет собой сочетание старых образов, как это имеет место в представлении химеры, золотой горы и т. д. В-третьих, сон иногда представляет собой как бы продолжение восприятия и возникает из распавшихся образов (например, у больных), и это, очевидно, имеет свое основание в том, что в подобных случаях ощущение в некоторых органах продолжает существовать, а в других прекращается. Весьма трудно объяснить тот факт, что определенные образы вообще могут возникать, когда все внешние органы скованы сном. Однако вышеизложенные соображения содержат объяснение и этого факта. Ибо если что-нибудь производит возбуждение в нежной мозговой оболочке, то оно пробуждает тем самым некоторые из образов, движение которых еще остается в мозгу. И если какое-нибудь внутреннее движение сердца достигает мозговой оболочки, то движение, преобладающее в мозгу, производит образ. Такими движениями сердца являются влечение и отвращение, о которых нам сейчас придется говорить. Но точно так же, как влечение и отвращение могут быть порождены соответствующими образами воображения, образы воображения могут быть произведены влечением и отвращением. Например, от гнева и ссоры в сердце возникает жар, и, наоборот, от жара, чем бы он ни был вызван, в сердце вспыхивает гнев, и во сне возникает образ врага. И подобно тому как любовь и красота производят теплоту в известных органах, теплота, каковы бы ни были причины ее возникновения, часто пробуждает в тех же органах вожделение и вызывает образ неотразимой красоты. Подобным же образом ощущение холода возбуждает в спящих страх и вызывает у них образы привидений, ужасов и опасностей; наоборот, страх у бодрствующих людей порождает ощущение холода. Так сильно связаны друг с другом движения сердца и мозга. Четвертая особенность сновидений, а именно что вещи, которые мы как будто видим и чувствуем во сне, представляются нам так же отчетливо, как и при действительном восприятии, обусловлена двумя причинами. Во-первых, поскольку во сне мы не получаем никаких чувственных восприятий внешних вещей, то внутреннее движение, которое вызывает образ, преобладает, поскольку оно существует. Во-вторых, стертые временем части образа замещаются другими, вымышленными частями. В сновидениях нас не поражает, наконец, ни странный характер места, ни странный характер появления незнакомых вещей, ибо изумление предполагает, что вещи представляются нам новыми и необычными, предпосылкой чего в свою очередь является воспоминание и сравнение с прежними ощущениями. Во сне же все представляется непосредственно существующим. Здесь следует заметить, что сны известного рода, особенно такие, которые видят люди, находящиеся в полудремотном состоянии, а также люди, незнакомые с сущностью снов и к тому же суеверные, не считались раньше, да и теперь не считаются снами. Некоторые принимают явления и голоса, которые они, как им представляется, видят и слышат во сне, не за образы воображения, а за предметы, существующие независимо от них. Ибо воображению некоторых не только спящих, но и бодрствующих людей, в особенности таких, которые виновны в каком-либо преступлении, страх, отчасти поддерживаемый рассказами о подобных явлениях, рисует ночью в святых местах страшные видения, которые они принимают за реальные вещи и называют духами, или бестелесными субстанциями. У большинства живых существ насчитывается пять чувств, различающихся как по соответствующим органам, так и по характеру воспринимаемых посредством этих органов впечатлений, а именно: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Органы чувств являются отчасти специфическими, а отчасти общими. Орган зрения состоит из живых и неживых частей. Неживыми частями являются три рода влаги: во-первых, водянистая влага, которая вместе с прилегающей к ней увеальной плевой (membrana-uvea), снабженной посредине отверстием (называемым зрачком), ограничена с одной стороны выпуклой внешней поверхностью глаза, а с другой – ресничными отростками и сумкой хрусталика; во-вторых, хрусталик, который, свешиваясь между ресничными отростками, представляет собой более плотную массу и ограничен со всех сторон собственной прозрачной оболочкой; и, в-третьих, стекловидное тело, наполняющее остальную полость глаза и представляющее собой массу более плотную, чем водянистая влага, но более тонкую, чем хрусталик. Живой частью органа зрения является прежде всего сосудистая оболочка, часть нежной мозговой оболочки (menix). От нее следует отличать ту часть menix, которая покрыта плевой, идущей из сердцевины оптического нерва, и называется сетчатой оболочкой. Эта сосудистая оболочка, будучи частью menix tenera, доходит до начала спинного мозга, находящегося внутри черепа, где сходятся корешки всех нервов. Здесь нервы черпают все те животные духи, которыми они обладают, ибо трудно себе представить, чтобы они могли черпать их из какого-нибудь другого места. Так как ощущение есть не что иное, как переданное до последних частей органа действие объектов, а животные духи (spiritus animales) – не что иное, как очищенные в сердце и распространенные при помощи артерий жизненные духи (spiritus vitales), то отсюда следует, что процесс возбуждения распространяется от сердца до корешков нервов, находящихся в голове, при помощи каких-либо артерий, таких, как plexus retiformis или другие артерии, углубляющиеся в вещество мозга. Указанные артерии представляют собой дополнение, или другую половину, всего зрительного органа. Эта часть его есть орган, общий всем чувствам, между тем как первая его часть, простирающаяся от глаза до корешков нервов, специфична для чувства зрения. Орган слуха есть барабанная перепонка и относящийся к ней нерв. Другая часть его, простирающаяся до сердца, является общей ему и остальным органам. Специфические органы обоняния и вкуса представляют собой нервные оболочки в нёбе и на языке, что касается вкуса, в ноздрях, что касается обоняния; та их часть, которая простирается от корешков нервов, является общей им и остальным органам. Органами осязания, наконец, являются нервы и кожицы, разветвленные по всему телу и имеющие начало в корешках. Другая их часть, будучи общей им и остальным чувствам, заключается, по-видимому, не в нервах, а в артериях. Впечатление, свойственное чувству зрения, есть свет. Под светом понимают также и цвет, который есть не что иное, как смешанный свет. Образ от светящегося тела есть свет, а от тела цветного – цвет. Но объектом зрения, собственно говоря, является не свет и не цвет, но светящееся, освещенное или цветное тело. Ибо свет и цвет, как субъективные впечатления ощущающего, не могут быть акциденциями предмета. Последнее явствует уже из того обстоятельства, что мы часто представляем видимые вещи в таких местах, где они, согласно нашим достоверным сведениям, не находятся, и что эти вещи в разных местах могут казаться обладающими разными цветами и даже одновременно находящимися в нескольких местах. Движение, покой, величина и форма общи чувству зрения и чувству осязания. Но ни свет, ни цвет не могут существовать без формы. Целое же явление, т. е. форму вместе со светом или цветом, греки обычно называли ????? или ?????? и ????, а римляне – species и imago (эти слова означают то же, что и слова aspectus – внешний вид). Впечатление, возникшее в органе слуха, есть звук, в органе обоняния – запах, в органе вкуса – вкус. Посредством осязания мы получаем ощущения твердости, мягкости, теплоты и холода, влажности, маслянистости и многого другого, что легче различить чувством, чем определить словами. Гладкость, шероховатость, разреженность, плотность относятся к форме и общи поэтому как осязанию, так и зрению. Объектами слуха, обоняния, вкуса, осязания точно так же являются не звук, запах, вкус, твердость и т. д., а тела, от которых исходит звук, запах, вкус, твердость и т. д. О причинах и способе возникновения соответствующих ощущений мы будем говорить дальше. Все эти образы суть действия, произведенные в ощущающем субъекте предметами, действующими на его органы. Но те же самые предметы производят и другие действия на эти органы. Это сказывается в известных движениях, возникающих в органах чувств и именуемых животными движениями (motus animales). Так как в каждом ощущении, обусловленном существующими вне нас вещами, действие и противодействие взаимно связаны, т. е. два импульса противостоят друг другу, то очевидно, что движение, одновременно произведенное двумя телами, будет распространяться по всем направлениям, однако преимущественно по направлению к границе обоих тел. Всякий раз, когда это имеет место во внутреннем органе, возникает импульс, стремящийся наружу. Этот импульс распространяется по телесному углу, и он (а с ним и соответствующая идея) тем больше, чем сильнее впечатление (impressio). 11. Отсюда ясна физическая причина, во-первых, того факта, что вещи, которые мы видим под большим углом, при прочих равных условиях кажутся нам большими; во-вторых, того, что в ясную, безлунную холодную ночь мы видим больше неподвижных звезд, чем в другое время. Ибо благодаря прозрачности воздуха действие звезд не встречает тогда никаких препятствий, а свет их не затмевается луной, которая отсутствует. Холод, делающий воздух более ясным, поддерживает или усиливает действие звезд на глаза, так что невидимые в иное время звезды становятся заметными. Этих общих замечаний об ощущении, возникающем в силу противодействия внутреннего органа, пока достаточно. О месте же образа, обманах чувств и других вещах, которые узнают благодаря ощущению, нам придется рассказать там, где мы будем подробно говорить о человеке, ибо это по большей части связано со структурой человеческого глаза. 12. Существует, однако, другого рода ощущение, о котором здесь кое-что нужно теперь сказать, а именно ощущение удовольствия и страдания. Оно возникает не из противодействия сердца, направленного наружу, а из движения, направляющегося от самой внешней части органа к сердцу. Так как источник жизни находится в сердце, то всякое движение в ощущающем органе, доведенное до сердца, должно в каком-либо отношении изменять и отклонять жизненные движения, ускоряя или замедляя последние, поддерживая их или противодействуя им. Если эти движения встречают поддержку в новом движении, то возникает удовольствие; если же они встречают противодействие с его стороны, то возникают боль, страдание, огорчение. И как образы, в силу того что связанные с ними импульсы направлены наружу, кажутся существующими вне ощущающего субъекта, так удовольствие и страдание, в силу того что связанные с ними импульсы направлены внутрь, кажутся чем-то внутренним и существующим там, где находится первая причина этих ощущений. Так, боль, которую нам причиняет рана, кажется нам находящейся в самой ране. Жизненное движение есть беспрестанное круговое движение крови по венам и артериям, как это неопровержимо доказано первым наблюдателем этого факта моим земляком Гарвеем [92]. Будучи задержано каким-нибудь другим движением, вызванным действием чувственных вещей, оно может быть восстановлено посредством сгибания или растягивания частей тела, т. е. посредством процесса, с помощью которого жизненные духи вгоняются то в те, то в другие нервы, пока не будет устранено все, что вызывает страдание. Если же жизненное движение, напротив, встречает поддержку в каком-нибудь процессе восприятия, то тем самым создается предрасположение к такому распределению животных духов, при котором движение с помощью нервов по возможности сохраняется и усиливается. Так возникает первый импульс животного движения. Мы находим этот импульс уже у зародыша, который, стремясь избежать неприятного и ища приятного, во чреве матери уже двигает свои члены произвольно. Это стремление, поскольку оно направлено на то, что уже испытано как приятное, называется влечением; поскольку же оно клонится к тому, чтобы избежать неприятного,- отвращением, или желанием уклониться (fuga). В раннем возрасте как влечение, так и отвращение направлены на очень немногие вещи, ибо тогда люди лишены опыта и воспоминания. Поэтому маленькие дети еще не обладают большим разнообразием животных движений, которые мы замечаем у взрослых. Без опыта мы не можем знать, какие вещи нам доставят удовольствие, а какие – страдание. На основании внешнего вида вещей можно лишь делать предположения. Поэтому дети наобум хватаются за вещи или отворачиваются от них, совершенно не зная, полезны ли они им или вредны. Лишь постепенно они узнают, чего следует желать, а чего – избегать, и обучаются управлять своими нервами и органами, для того чтобы достигнуть одного и избежать другого. Влечение и отвращение – первые импульсы животного движения. Благодаря им нервы получают импульс, и жизненные духи соответственно оттягиваются назад (а именно к пункту, лежащему поблизости от начала нервов). Результатом этого является напряжение и расслабление мускулов, за которыми следует сокращение и растяжение членов. В этом заключается животное движение. 13. Влечение и отвращение могут быть, однако, рассмотрены и с другой точки зрения. К одной и той же вещи можно испытывать то влечение, то отвращение в зависимости от того, считают ли ее полезной или вредной. Если в одном и том же субъекте происходит таким образом чередование влечения и отвращения, то возникает ряд представлений, которые мы называем размышлением (deliberatio). Последние остаются таковыми, пока существует возможность достигнуть то, что нравится, и избежать то, что не нравится. В том случае, когда такое размышление не имеет места, говорят просто о влечении и отвращении. Но если действию предшествует размышление, то последнее из сменяющих друг друга побуждений называется желанием, или волей (volitio), в том случае, когда этим побуждением является влечение, и нежеланием, когда этим побуждением является отвращение. Воля и влечение означают одно и то же и различаются только в нашем понимании в зависимости от того, учитываем ли мы предшествовавшее размышление или нет. То, что происходит в душе человека, желающего чего-нибудь, ничем не отличается от того, что происходит в душе других животных существ, когда они после предварительного размышления к чему-то стремятся. Да и свобода желать или не желать в человеке не больше, чем во всех других животных. Там, где возникает влечение, для него существует достаточная причина; поэтому влечение, как это было доказано (гл. IX, п. 5), не может не последовать, т. е. следует по необходимости. Следовательно, свободой, которая была бы свободой от необходимости, не обладает ни воля человека, ни воля животных. Если же мы под свободой понимаем не способность хотеть (volendi), а способность исполнять (faciendi) то, чего хочешь, то такой свободой, поскольку она вообще возможна, несомненно, одинаковым образом обладают как человек, так и животное. Если влечение и отвращение быстро следуют друг за другом, то возникающий ряд меняющихся побуждений называется то по имени одного, то по имени другого из этих ощущений. Это именно то колеблющееся размышление, которое, поскольку в нем содержится влечение, называют надеждой, а поскольку в нем содержится отвращение,- опасением. При отсутствии надежды можно говорить не об опасении, а только о ненависти, а при отсутствии опасения – не о надежде, а только о желании. Одним словом, все так называемые страсти состоят из влечения (appetitus) и отвращения (fuga), за исключением чистого наслаждения и чистого страдания, которые являются только результатом познания добра и зла. Гнев, например, есть отвращение к угрожающему нам злу, связанное с желанием преодолеть это зло силой. Но так как существует бесчисленное множество страстей и душевных движений и многие из них знакомы только человеку, то мы подробнее расскажем о_них во второй части нашей системы – в трактате О человеке. Что касается тех предметов (если есть таковые), которые не вызывают в нас никакого душевного движения, то мы ими, как говорится, пренебрегаем. Вот все, что я хотел сказать об ощущении в целом. В ближайшей главе я буду говорить о чувственно воспринимаемых предметах.ГЛАВА XXVI ОБ УНИВЕРСУМЕ И ЗВЕЗДАХ
1. Величина и продолжительность универсума непознаваемы. Рассмотрев чувственное познание, или ощущение, мы переходим к рассмотрению тел, являющихся действующими причинами ощущения, т. е. его объектами. Любая вещь есть или часть универсума, или агрегат его частей. Среди тел, т. е. объектов, которые могут быть предметами чувственного познания, наибольшим является сам мир, который мы можем воспринимать, рассматривая его со всех сторон с той его точки, которую называют Землей. Относительно этого агрегата, состоящего из многих частей, можно задать очень немного вопросов, разрешить же нельзя ни одного. Можно спрашивать, как велик весь мир, как долго он существует, из сколь многих вещей он состоит; больше же ни о чем спрашивать нельзя. Ибо место и время, т. е. величина и продолжительность существования, являются, как это показано в главе VII, образами тела, рассматриваемого вообще, т. е. неопределенно; все же другие образы суть образы тел, или предметов, различающихся между собой. Так, цвет есть образ цветных тел, звук – образ тел слышимых и т. д. К величине мира относится вопрос о том, является ли он конечным или бесконечным, заполненным или незаполненным. К продолжительности существования мира относится вопрос о том, имеет ли он начало или существует вечно. Применительно к понятию количества можно задать вопрос: существует ли только один мир или их много? Правда, о числе миров не может быть никакого спора, если мир бесконечен. Подобным же образом если мир имел начало, то спрашивается, какова была причина этого начала и из какой материи он возник? Относительно же этой причины и материи опять возникают новые вопросы, например: откуда они взялись и т. д., пока мы не доходим до одной или многих вечных причин. И тот, кто утверждает, что общепринятая философия охватывает эти проблемы, обязан был бы дать ответ на указанные вопросы, если можно было бы знать все, о чем можно спросить [93]. Но познание бесконечного недоступно исследователю, ибо его возможности ограниченны (конечны). Всему тому, что известно нам, людям, мы научились благодаря имеющимся у нас образам. Но у нас нет ни образа бесконечной величины, ни образа бесконечного времени, ибо ни человек, ни любое иное существо, которое само не является бесконечным, не может обладать каким-либо понятием о том, что бесконечно. И если кто-нибудь, отправляясь от какого-нибудь действия, восходил посредством самого правильного рассуждения к его непосредственной причине, а затем к причине более отдаленной и т. д., то ведь он не смог бы продолжать такое восхождение до бесконечности, но рано или поздно устал бы и остановился, не зная притом, сможет ли он продвинуться дальше или лет. И не было бы нелепым предположить, что мир либо конечен, либо бесконечен, ибо все наблюдаемые нами ныне вещи мы могли бы наблюдать независимо от того, конечным или бесконечным создал мир его творец (opifex). Кроме того, хотя из той истины, что ни одна вещь не может двигать сама себя, делают достаточно правильный вывод о существовании некоего вечного двигателя, отсюда еще не следует то, что выводят некоторые, а именно что этим двигателем было нечто вечно неподвижное; напротив, отсюда следует, что таким двигателем было нечто находящееся в вечном движении. Ибо если истинно то, что ни одна вещь не движет сама себя, то так же истинно и то, что вещь, которая сама не находится в движении, не может двигать что-либо. Следовательно, вопросы, касающиеся величины мира и его возникновения, должны решать не философы, а люди, которые в соответствии с законом играют ведущую роль в служении Богу. Ибо, когда Всемогущий и Наивысший Бог сопровождал свой народ в Иудею, он отдал священникам первые плоды, которые были предназначены ему самому. Подобным же образом когда Бог предоставил созданный им мир людям в качестве предмета их споров, то он хотел ведь, чтобы о природе того, что бесконечно и вечно и что ведомо только ему одному, выносили суждение лишь те, кому он отдал управление религиозными делами и даровал первые плоды мудрости. Я не могу одобрить тех, кто публично провозглашает, будто посредством собственного ума, опирающегося на природу, им удалось доказать, что существует какое-то начало мира. Таких людей заслуженно презирают люди неискушенные, не понимая того, что они говорят, а люди ученые – понимая это. Ибо кто же будет хвалить людей, приводящих подобные доводы? По их словам, если мир существовал вечно, то бесконечное число дней или любых других промежутков времени предшествовало дню рождения Авраама; но рождение Авраама предшествовало рождению Исаака; следовательно, одна бесконечность больше другой или одна вечность больше другой, что, конечно, нелепо. Это доказательство подобно рассуждению того, кто из существования бесконечного числа четных чисел сделал бы вывод, будто четных чисел столько же, сколько чисел вообще, т. е. будто их столько же, сколько четных и нечетных чисел, вместе взятых. Но разве те, кто таким образом отрицает вечность мира, не отрицают также и вечности его творца (conditor)? Эти люди, пытаясь избежать одной нелепости, приходят к другой, будучи вынуждены обозначать вечность наименованием nunc stans [теперь существующее] и – что еще более нелепо – называть бесконечное число чисел единством. Ибо почему же вечность следует скорее обозначать наименованием nunc stans, чем tune stans [тогда существующее] ? Ведь в таком случае либо существует много вечностей, либо слова nunc и tune означают то же самое. С людьми, которые приводят подобные доводы, с этими ctAAoY^cboffoi [иноязычниками], мы не можем вступать ни в какие диспуты. Ибо люди, рассуждающие столь нелепо, являются не простаками, а геометрами, которым совершенно непростительно это незнание, ибо они хотят выступать в качестве судей по отношению к доказательствам, проводимым другими людьми, судей, правда, неумелых, но суровых. Причина этого заключается в том, что они запутались в словах бесконечность (infinitus) и вечность (aeternus), которым соответствует в уме не идея какой-либо вещи, а только идея отсутствия какого-либо понятия; поэтому они вынуждены говорить нечто нелепое либо – что еще более тягостно – молчать. Ибо геометрия содержит в себе нечто такое, знание чего подобно вину, которое, будучи молодым, играет, а когда перебродит, становится менее сладким, но набирает силу. По этой-то причине геометры, пока они приобретают знания, считают себя в состоянии доказать любую истину, а когда укрепляются в своих познаниях, перестают так думать. Поэтому я сознательно обхожу вопросы о бесконечности и вечности, довольствуясь тем учением о величине и возникновении мира, которое дает Священное писание и подкрепляет слава чудес, а также обычай предков и надлежащее уважение к законам. Перехожу теперь к другим проблемам, обсуждение которых не вводит в грех. 2. В универсуме не существует пустого пространства. [...] Простой, но, как я полагаю, неопровержимый опыт служит достаточным доводом против предположения о существовании пустого пространства [...] Из наполненного водой сосуда с небольшими отверстиями на дне вода не вытекает, если в нем нет другого отверстия для притока воздуха [...] И это доказывает, что все пространство заполнено, ибо в противном случае естественное, направленное вниз движение воды, представляющей собой тяжелое тело, не могло бы встретить задержки [...] Доказательства Лукреция в пользу существования пустого пространства неубедительны [94]. Неубедительны также и другие доказательства в пользу существования пустого пространства. Шесть основных гипотез для объяснения явлений природы. [...] Во-первых, я полагаю, что безмерное пространство, которое мы называем универсумом, является соединением всех тел – твердых и видимых, как Земля и звезды, невидимых, как небольшие атомы, рассеянные в пространстве между Землей и звездами, и, наконец, совершенно жидкого эфира, заполняющего всю остальную часть пространства, не оставляя тем самым места для пустоты [...] Во-вторых, я вместе с Коперником полагаю, что наиболее крупные мировые тела, обладающие твердостью и прочностью, расположены в таком порядке, что Солнце занимает первое место, Меркурий – второе, Венера – третье, Земля вместе с движущейся вокруг нее Луной -четвертое, Марс – пятое, Юпитер со своими спутниками – шестое, а Сатурн – седьмое. За ними следуют неподвижные звезды, находящиеся на различном расстоянии от Солнца. В-третьих, я думаю, что не только Солнцу, но также Земле и остальным планетам всегда было и ныне продолжает быть присуще простое круговое движение, всегда в них существовавшее. В-четвертых, я считаю, что к воздуху примешаны некоторые другие, нетекучие тела, наделенные столь ничтожной величиной, что они не могут быть восприняты. И эти тела обладают специфическим простым движением и различной степенью твердости и плотности. В-пятых, я полагаю вместе с Кеплером, что расстояние от Солнца до Земли относится к расстоянию от Луны до Земли так, как это последнее – к радиусу Земли. Наконец, я полагаю, что величина окружностей и промежутки времени, в течение которых их описывают движущиеся вдоль них тела, таковы, как мы себе их представляем для лучшего объяснения соответствующих явлений. 6. Возможные причины ежегодного и ежедневного движения, видимого положения и попятного перемещения планет. 7. Почему правдоподобно предположение о простом круговом движении. Причина эксцентричности годового движения Земли. Почему Луна всегда обращает к Земле одну и ту же сторону? Причина приливов и отливов. Причина предцессии равноденствий.ГЛАВА XXVII О СВЕТЕ, ТЕПЛОТЕ И ЦВЕТАХ
О неизмеримо большой величине некоторых тел и о невыразимо малой величине других. Причина солнечного света. [...] Так как благодаря вращению солнечного шара окружающий его эфир отбрасывается в различных направлениях, то возникает волна движения, которая наконец докатывается до глаза и производит на последний давление [...] 3. Каким образом греет свет. [...] Когда наше тело становится горячим, мы находим, что наши животные духи, наша кровь и все, что в нас есть жидкого, рвутся изнутри наружу и наша кожа вздувает-ся [...] В результате описанного в пункте 5 главы XXI движения, которое вызывается вращением Солнца, внутренние частицы нашего тела выталкиваются наружу [...] 4. Происхождение солнечного огня. [...] Теплота производится простым движением, поскольку последнее вызывает всестороннее передвижение частиц. Свет производится тем же простым движением, поскольку оно вызывает прямолинейно развивающийся процесс передачи движения. Если частицы тела передвигаются так, что тело одновременно светит и греет, то мы говорим о возникновении огня. Огонь не есть, таким образом, материя, отличная от горючего или светящегося материала так, как дерево отлично от железа; он – материя, но не сама по себе и не всегда, а когда она одновременно светит и греет [...] 5. Возникновение огня от толчка. [...] При столкновении двух булыжников из них стремительно выталкиваются и начинают кружиться некоторые частицы. Это движение действует на глаз точно так же, как вызываемый солнцем свет. Поэтому в таких случаях происходит испускание световых лучей. Если эти частицы падают на рыхлый и рассеянный материал (например, трут), то они совершенно рассеивают его частицы [...] Причины свечения светляков, гнилого дерева и болонского камня. Причины свечения взболтанной морской воды. Причины пламени, искры и плавления. Причины самовоспламенения мокрого сена и причина молнии. Причина действия пороха; что следует приписать в этом действии влиянию угля, серы и селитры. Возникновение теплоты вследствие трения. Различие между первичным, вторичным и т. д. светом. [...] Первичным является свет, который пребывает в первичном светящемся теле, например в Солнце. Вторичным называется свет, который пребывает в непрозрачных телах, освещаемых Солнцем, например в Луне и т. д. [...] 13. Причины цветов – красного, желтого, синего, фиолетового, которые мы видим, когда смотрим сквозь призму. [...] Цвет есть свет, но нарушенный, произведенный натолкнувшимся на помеху движением [...] 14. Почему Луна и Солнце кажутся на горизонте более красными и большими, чем высоко в небе. 15. Причина белого цвета. [...] Белый цвет есть свет, нарушенный вследствие множества отраженных световых лучей, действующих на глаз в пределах тесного пространства [...] 16. Причина черноты.ГЛАВА XXVIII О ХОЛОДЕ, ВЕТРЕ, ТВЕРДОСТИ, ЛЬДЕ, ЭЛАСТИЧНОСТИ, ПРОЗРАЧНОСТИ, МОЛНИИ, ГРОМЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ РЕК
1. Почему дыхание, исходящее из одного и того же рта, иногда бывает теплым, а иногда холодным. [...] Когда движение окружающего эфира гонит наружу животные духи и жидкие составные части нашего тела, мы ощущаем теплоту. Холод же мы ощущаем, когда эти животные духи и жидкости стремятся внутрь. [...] Истекающее наружу дыхание имеет два движения: прямое движение всего потока дыхания, которое гонит внутрь передние частицы руки, которую мы держим перед ртом, и простое движение мелких частиц того же дыхания, вызывающее, согласно пункту 3 главы XXVII, теплоту. В зависимости от того, какое из этих движений доминирует, возникает ощущение холода или теплоты [...] Ветер и его непостоянство. Почему вблизи экватора дует постоянный, хотя и не сильный, ветер с востока на запад. Действие воздуха, заключенного между облаками. Мягкое тело может стать твердым только благодаря движению. Причина холода вблизи полюсов. [...] Движение Солнца расширяет воздух около тропиков [...] Возникающее таким путем растяжение воздуха гонит находящиеся впереди частицы воздуха с возрастающей силой к полюсам [...] Поэтому холод в этих местах сильнее [...] Причина замерзания. Почему при дождливой погоде холода мягче, чем при погоде ясной. Почему вода не замерзает в глубоких колодцах. Почему лед не так тяжел, как вода, и почему вино замерзает не так легко, как вода. Другая причина затвердевания, а именно более тесный контакт атомов. Как ломаются твердые вещи. Третья причина затвердевания, а именно появление жидких частиц. Четвертая причина затвердевания, а именно движение атомов в тесном пространстве. Причина твердости – тепло; как мягкие вещи становятся твердыми. Причина эластичности. 13. Прозрачные и непрозрачные тела. 14. Причина грома и молнии. 15. Почему поднявшиеся вверх снеговые облака могут снова опуститься. 16. Каким образом может произойти лунное затмение и тогда, когда Луна не противостоит Солнцу. Почему нам могут одновременно показаться несколько солнц. Об источниках рек.ГЛАВА XXIX О ЗВУКЕ, ЗАПАХЕ, ВКУСЕ И ОСЯЗАНИИ
1. Определение звука. Чем отличаются друг от друга отдельные звуки. [...] Подобно зрению, ощущение звука порождается движением среды, но это – движение иного рода. Причиной зрения является давление, т. е. стремление, или импульс, при котором движение частиц среды остается незаметным [...] Движение же среды, производящее звук, есть толчок [...] Причина силы и слабости тонов. Различие между высокими и низкими тонами. Разница между чистыми и глухими тонами. Чем вызывается звук при возникновении молнии и выстреле. Почему флейты, когда в них дуют, дают чистые звуки. Отражение звука. 8. Объяснение равномерности и продолжительности звука. 9. Влияние ветра на звук. 10. Не один воздух, но и любые твердые тела являются проводниками звука. 11. Причины высоты и глубины тонов, объяснение созвучности. [...] Созвучность двух тонов состоит в том, что барабанная перепонка одновременно и через равные промежутки времени получает толчки от обоих звучащих тел, точно так же как две струны производят наилучшую гармонию, когда их колебания совершаются одновременно [...] Явления обоняния. Первый орган обоняния и возникновение обоняния. [...] Органом обоняния является верхняя внутренняя кожица боковых хрящей носа, а именно та ее часть, которая находится под проходом, соединяющим нос и нёбо [...] [...] Причиной обоняния следует считать простое движение частиц пахучих тел, совершаемое без того, чтобы какие-нибудь частицы отделялись от этих тел. Влияние теплоты и ветра на запахи. Почему тела, содержащие мало воздуха, слабо пахнут. 16. Почему тела пахнут сильнее, когда они раздроблены. 17. Об органе вкуса и о том, почему некоторые вкусовые ощущения вызывают тошноту. [...] Вкусовое ощущение вызывает у нас лишь то, что непосредственно соприкасается или с нашим языком, или с нашим нёбом, или с обоими этими органами; поэтомуорганом вкуса служат верхняя кожица языка и нёба и содержащиеся в ней нервы [...] Желудок, язык, нёбо и нос связаны друг с другом непрерывной внутренней оболочкой, которая выходит из meninx dura. Вот почему вкусовые ощущения действуют также на желудок [...] 18. Об органе осязания и о том, как мы познаем то, что обще чувству осязания и другим чувствам. [...] Орган осязания составляют все те же кожицы, которые исходят из meninx tenera и разветвлены по всему телу, так что ни одна их часть не может испытывать давления без того, чтобы одновременно этого давления не испытывала и сама meninx tenera. To, что давит, мы ощущаем как нечто твердое или мягкое, т. е. как более или менее твердое. Ощущение шероховатости есть не что иное, как бесчисленные ощущения твердого, следующие друг за другом через короткие промежутки пространства и времени. Шероховатое и гладкое мы, подобно величине и форме, воспринимаем не одним лишь чувством осязания: для этого нам требуется также деятельность памяти. Хотя осязание и возможно в какой-нибудь одной точке, шероховатость и мягкость, подобно величине и форме, мы можем познать, только касаясь разных точек, т. е. мы ощущаем эти качества лишь в движении точки, т. е. во времени. Ощущение же времени немыслимо без деятельности памяти.ГЛАВА XXX О ТЯЖЕСТИ
1. Плотное тело содержит в себе не больше материи, чем тонкое, если первое не занимает большего пространства, чем последнее. Падение тяжелых тел происходит не в результате какого-либо их влечения, а под воздействием некой силы Земли. Разница в весе вытекает из различия тех устремлений (impetuum), с которыми падают на землю элементы тяжелых тел. Причина падения тяжелых тел. [...] Таким образом, возможной причиной того, что тяжелые тела падают на экваторе, является некое движение Земли. Доказательство здесь будет таким же, если примем, что камень находится на какой-либо плоскости, параллельной экватору. Воздух, исходящий от Земли, который мог бы изменить ее движение, невозможно мыслить, кроме того, мы выше представили движение как простое круговое, благодаря которому движется также центр Земли. Ибо движение тела около собственного центра не заключает в себе никакого иного двигательного импульса в направлении какого-либо места, которое находилось бы вне его. В каком отношении происходит ускорение падения тяжелых тел. Почему ныряющие не чувствуют тяжести воды. Вес плавающего тела равен весу вытесненной воды. Если тело легче воды, то независимо от своего объема оно будет плавать в любом количестве воды, как бы мало последнее ни было. Как вода может быть вытолкнута из котла воздухом. Почему наполненный воздухом пузырь тяжелее пустого. Причина выбрасывания тяжелых тел духовым ружьем. Почему вода поднимается в термометре. Причины направленных вверх движений, которые совершают живые существа. 14. В природе существуют тела, которые тяжелее воздуха, но которые мы не в состоянии отличить от воздуха посредством наших органов чувств. 15. Причина магнетической силы.ЗАКЛЮЧЕНИЕ [95]
Вот все, что можно было сказать о природе тела вообще, и на этом заканчивается первая книга моих Основ философии. В первой, второй и третьей частях этой книги, где речь идет о принципах рационального познания, зиждущихся исключительно на правильном употреблении созданных нами слов, все теоремы, если я не ошибаюсь, строго доказаны. Четвертая же часть, напротив, основана на гипотезах, и, только доказав истинность последних, можно было бы доказать, что те особые причины, которые я изложил, являются истинными причинами тех вещей, от действий которых я заключал к этим причинам. Но, не принимая ни одной гипотезы, которая не была бы одновременно и возможной, и легкодоступной пониманию, а также делая правильные умозаключения из предпосылок, я все же с достаточной убедительностью доказал, что предполагаемые мной причины могут быть истинными. И только до этого пункта может дойти физическое исследование. Если кто-либо в состоянии объяснить эти же явления или еще больший круг явлений иначе, исходя из других гипотез, то такой человек при условии, что выдвигаемые им гипотезы мыслимы, заслуживает еще большего одобрения и еще большей благодарности, чем те, на которые я претендую. Но когда нам говорят о самодвижении или самозарождении, о видах, силах, субстанциональных формах, бестелесных субстанциях, инстинкте, действии двух противоположных качеств (антипериотасис), антипатии, симпатии, скрытых качествах, то все это пустые схоластические формулы, не имеющие никакой научной ценности. Перехожу теперь к явлениям человеческого тела, где докажем причины оптических явлений, а также явлений умственных, чувственных и человеческих нравов, если Бог несколько продлит нашу жизнь.ЧАСТЬ ВТОРАЯ О ЧЕЛОВЕКЕ
Достойнейшему мужу Вильяму, графу Девонширскому [96], моему высокочтимому господину! Закончив этот раздел О человеке, я выполнил наконец свое обещание. Теперь Вы имеете основные положения всех разделов моей философии. Получилось так, что в данный раздел вошли две части, совсем не похожие друг на друга. Ибо одна из них очень трудна, а другая очень легка; одна опирается на дедуктивные выводы, а другая -на опыт; одну смогут понять лишь немногие, а другую – все. Следовательно, между этими частями как бы простирается бездна. Но этого нельзя было избежать, ибо таково было требование метода, которому я следовал во всем моем труде. Человек ведь является не только физическим телом; он представляет собой также часть государства, иными словами, часть политического тела. И по этой причине его следует рассматривать равным образом как человека и как гражданина. А это означает, что мне нужно было соединить основные принципы естественных наук и физики с принципами политики, следовательно, вещи наиболее трудные с вещами самыми легкими. Первая часть моего труда уже давно была готова к печати. Вы спросите, почему пришлось так долго дожидаться издания этого труда, если остальные части его были так легки? Что я делал все это время? Отвечаю: [я сражался с дикими зверями]. Ведь и у меня есть свои Деметрии и Александры, [трудам] которых, содержащим ложные мнения обо мне, я хотел нечто противопоставить [97]. И поскольку я по необходимости вынужден был отвечать на выкрики и оскорбления этих людей, возник длительный спор, который чересчур задержал издание. Я решил, что если доведу до конца эти Основы, то отложу в сторону перо. Но сегодня, видя, каковы нравы людей, считающих себя представителями науки, я отбросил эту надежду и оставил перо в своей руке, ибо мне наверняка придется обороняться. При жертвоприношениях мухи всегда появляются не вовремя. И я поступлю так, как император Домициан [98]: проколю мух пером. Я буду поступать так до тех пор, пока Вы не прикажете мне лучшего. Вашего превосходительства покорный слуга Томас Гоббс. 24 июня 1568ГЛАВА I О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА. О ЖИЗНИ И СМЕРТИ
1. О происхождении человеческого рода. 2. О питании. 3. О смерти. 4. О рождении; сведения немногочисленные и самые общие. 1. О происхождении человеческого рода, по свидетельству Диодора Сицилийского [99], среди древнейших философов были наиболее распространены два мнения. Одни объявляли мир вечным и утверждали поэтому, что и человеческий род существует вечно. Другие же считали, что мир возник в определенный момент. По мнению этих последних, небо и земля, элементы которых были перемешаны между собой, имели вначале одинаковый вид. Позже произошло отделение элементов друг от друга, и наш видимый мир и воздух получили таким образом постоянное движение. Благодаря этому движению некоторые элементы поднялись вверх и образовали звезды и Солнце. Вовлеченные в движение мироздания и воздуха, они стали двигаться вместе с последними по кругу. Другие же элементы опустились вниз и образовали тонкую и грязную массу, постоянно движущуюся вокруг своей оси. Составные части этой массы отделились друг от друга, и из влажных частей возникло море, а из более твердых – земля. Последняя вначале представляла собой довольно мягкую массу, которая затем отвердела под влиянием лучей солнца. Благодаря этой мягкости земли в болотистых местностях на участках, которые сильнее других подвергались действию солнца, образовались там и сям выступы, своего рода пузыри, обтянутые кожицей, которые затем под воздействием солнечных лучей лопнули. Из этих-то пузырьков, по мнению указанных философов, появились все живые существа, в том числе и люди. Эти представления несколько напоминают сведения, содержащиеся в первой главе Книги Бытия, но не совпадают с ними. Ибо хотя Книга Бытия и говорит о том, что элементы отделились друг от друга, причем те из них, которые были однородными, распределились по разным местам, но она приписывает это действию Духа Божьего, реявшего над безмерными и еще не разделенными глубинами. И земля произвела все роды живых существ, но не собственными силами, а силой Слова Божьего. Это не относится к человеку, который был создан позже всех других живых существ по образу и подобию Бога. Тем не менее мне кажется, что сторонники указанного воззрения постигли столько, сколько они могли постигнуть без божественного откровения, ибо возникновение мироздания и его расчленение никому, кроме творца, неизвестны. Поэтому-то мы и верим, что сотворение мира произошло так, как об этом рассказывает Моисей в святом законе. 2. Питание человека, поскольку последний ежедневно принимает пищу, в общем доступно чувственному восприятию. Посредством определенного движения, а именно проглатывания, пища поступает в желудок. Желудок же при помощи характерного для него движения бросает эту пищу из стороны в сторону, так что она перемешивается и смягчается, а затем проталкивает ее в кишечник. Кишечник окончательно размягчает пищу и проталкивает ее дальше; при этом он при помощи перистальтического движения загоняет в лимфатические сосуды наиболее тонкую составную часть этой пищи, а именно питательный сок. Из лимфатических сосудов питательный сок попадает в воротную, а затем в полую вену. Последняя ведет его к сердцу, где он смешивается с кровью и переходит в артерии. Главные артерии ведут годную для питания часть этого сока к мозгу. Подвергшись фильтрованию, сок разносится отсюда посредством нервов и, расщепляясь на бесчисленные тонкие волокна, превращается в мышцы. Кровь же, которая при помощи аорты и ее разветвлений проникает в мускулы, окрашивает эти мышцы в красный цвет. Кроме того, то же движение артерий, при помощи которого кровь поступает к мускулам, гонит ее, когда мускулы в достаточной мере пропитываются ею, в капилляры. Чтобы под влиянием своей тяжести кровь не направлялась вниз, ее поддерживают клапаны, которые заставляют ее двигаться к полой вене, откуда она направляется обратно к сердцу; затем, вобрав в себя новый сок, кровь циркулирует по артериям к мускулам. Все эти факты, за исключением того, что было сказано об образовании мышц при помощи нервов (этот предмет нуждается еще в дальнейшем исследовании), установлены экспериментальным путем. Пока указанным образом совершается кровообращение, человек живет. Но кровь циркулирует до тех пор, пока сердце продолжает сжиматься и растягиваться. Что же является причиной движения сердца? Получает ли сердце свое движение от движения крови или кровь – свое движение от движения сердца? Сердце ребенка, находящегося во чреве матери, как известно, обретает движение от движения крови матери, и вообще своей жизнью ребенок обязан жизни матери, с которой он связан. Ясно также, что, как только ребенок оставляет чрево матери и вдыхает в себя воздух, он уже не может жить без воздуха. Следовательно, жизнь, т. е. движение сердца, зависит от воздуха, а, значит, воздух или нечто такое, что мы вдыхаем вместе с воздухом, является причиной движения сердца. Что бы ни представляло собой то, что находится в воздухе и приводит в движение сердце, оно во всяком случае должно прежде всего привести в движение кровь. Ибо вдыхаемый нами воздух проникает через дыхательное горло в легкие, и, для того чтобы достигнуть сердца, ему следует предварительно проникнуть в arteria venosa, откуда он и поступает к сердцу, следуя движению крови. Таким образом, то, что содержится в воздухе и сообщает движение крови, есть причина диастолы сердца. Вслед за тем сердце вытесняет кровь и гонит ее по артериям, это его движение называется систолой. Чтобы познать то, что представляет собой некое начало в крови, которое своим движением может заставить двигаться по жилам кровь, мы должны подумать над тем, можно ли одинаковым образом жить во всякой воздушной среде. Как известно, дело обстоит не так. Если бы воздух являлся чистым эфиром, то он был бы везде однороден. В этом случае можно было бы одинаковым образом жить во всякой воздушной среде, или, вернее, тогда жизнь была бы вообще невозможна, ибо чистый воздух не в состоянии сообщить крови такое движение, в результате которого могли бы возникнуть явления систолы и диастолы. Кроме того, посредством опытов доказано, что человек может в течение шести часов оставаться на морском дне, если он берет с собой пузырь, наполненный воздухом, и вдыхает этот воздух умеренными дозами. Это было бы невозможно, если бы вдыхаемый воздух был совершенно чист. Ибо воздух, уже использованный в процессе вдыхания и выдыхания, совершенно бесполезен для жизни, какова бы ни была степень его охлаждения. В воздухе, следовательно, содержатся какие-то бесконечно малые и потому невидимые частицы, которые обусловливают движение крови в жилах, а вследствие этого и движение сердца. Подобно тому, как морская вода содержит соль, так и воздух содержит в себе какой-то соответствующий соли элемент, например какую-то разновидность селитры, которая при вдыхании проникает в кровь, приводит последнюю в движение и брожение, расширяет вены и сердце и с помощью систолы распределяется через артерии по всему человеческому телу. Движение, которым должны обладать указанные частицы, не может быть иным, чем то, которое мы (в главе XXI первой части О теле) назвали простым движением и признали причиной всякого брожения. И это никому не должно казаться странным, ибо мы видим, что движение крови и сердца прекращается, т. е. что следствием вдыхания нездорового воздуха, ставшего таковым из-за содержащихся в нем известных частиц, вредных для жизни, часто являются болезни и смерть и что, с другой стороны, благодаря другим частицам здоровье и жизнь сохраняются. Ибо, подобно тому как эпидемические болезни возникают не из-за чистого воздуха и эфира, а из-за частиц, движущихся в воздухе и обладающих вредным для жизни движением, жизнь и необходимое движение крови сохраняются благодаря другим частицам воздуха, обладающим благоприятными нашей природе свойствами. Помимо действующей извне силы существуют разнообразные иные причины смерти, т. е. прекращения движения крови. Такой причиной прежде всего является закупорка сосудов, в которых циркулирует кровь. Может случиться так, что вследствие затвердевания мускулов возникает преграда движению крови. Затвердевание мускулов наступает тогда, когда в самих мускулах затвердевает какая-нибудь липкая и слизистая жидкость. Благодаря этому затрудняется не только прохождение артериальной крови через капиллярные артерии, но и проникновение этой крови в капиллярные вены. Вследствие этого наступает лихорадочное состояние и, если деятельность сердца не усиливается, смерть. Кроме того, вытеснение крови из артерии по направлению к мускулам, производимое сердцем, затрудняется и в том случае, когда к крови, текущей в жилах, примешана какая-нибудь гнойная материя. И в этом случае следствием бывает лихорадочное состояние и при ослабленной деятельности сердца смерть, а при более сильной его деятельности – нарывы (ибо гнойная материя вытесняется через мускулы). Такого рода материя появляется в результате повреждения вен. Причиной такого повреждения могут быть те частицы, которые при вдыхании всасываются внутрь и, проникнув в кровь, разъедают сосуды или заставляют кровь свертываться, как это бывает при чумных заболеваниях. Другой причиной этого могут быть также частицы, проглатываемые вместе с пищей и питьем. Такие частицы, проникая вместе с соком в вены, повреждают их. Еще одной причиной этого может быть укус змеи или бешеной собаки. Если такого рода укус приводит к повреждению вены или если яд каким-нибудь иным путем проникает в кровь, то в венах, где собирается испорченная кровь, образуется язва. Одним словом, изъязвление сосудов может начаться везде, где есть открытый доступ к внутренней части вен. Так, сифилитический яд попадает в мочеиспускательный канал, а оттуда через почки, почечные вены и полую вену вместе с кровью доходит до сердца, откуда через артерии распространяется по всему телу. Точно так же задержка материи, проходящей через нервы, имеет своим следствием болезнь и смерть. Существует много других причин, которые вызывают болезнь человека и ведут к его смерти. Действие всех их сказывается в том, что они либо приостанавливают обращение крови, либо задерживают это обращение, либо исчерпывают запас крови, либо каким-нибудь иным образом препятствуют ее движению. Подробный разбор этих случаев является задачей медиков. 4. Возникновение человека приблизительно сходно с возникновением растений. Материей растений является сама земля. Последняя пробуждается под действием лучей солнца, а затем благодаря самостоятельному движению семени формируется в соответствующий вид растения. Соответственно этому и при возникновении человека материей зародыша является кровь матери, которая приводится в движение оплодотворяющим соком обоих родителей и из которой формируется человеческое тело. Ибо благодаря движению при акте совокупления возникает брожение, а затем и расширение сосудов. Оплодотворяющая жидкость прорывается внутрь и проникает в матку, где она посредством своего специфического движения формирует из постепенно скопляющейся крови человеческое тело. Я мог бы еще подробнее остановиться на этих явлениях, однако моей задачей является исследование не столько способностей тела, сколько способностей души. Поэтому я перехожу теперь к чувственным восприятиям и ограничиваюсь по отношению к рассмотренным вопросам вышеприведенными краткими указаниями, предоставляя возможность более подробного рассмотрения их другим. Если эти исследователи, внимательно рассмотрев органы размножения и питания, не убедятся в том, что эти органы созданы и приспособлены к своим функциям неким умом, то воистину придется отказать в уме им самим.ГЛАВА II О ЛИНИИ ЗРЕНИЯ И ВОСПРИЯТИИ ДВИЖЕНИИ
1. Введение. 2. Что такое линия зрения и что с ней связано у каждого глаза. 3. Зрение неотчетливое вследствие малых размеров предмета. 4. Зрение неотчетливое вследствие дефекта глаза. 5. Почему видимые нами вещи кажутся большими, чем они есть в действительности. 6. Почему в процессе зрения нам кажется движущимся то, что в действительности неподвижно; это происходит вследствие движения того, кто смотрит. 7. Каким образом в процессе зрения возникает иллюзия движения вещей, находящихся в покое; это происходит вследствие движения частей мозга, оптического нерва и сетчатки. 1. Наше видение отчетливо и остро в том случае, когда свет или цвет, достигающие глаза, имеют определенную форму, во всех точках соответствующую отдельным частям того предмета, от которого этот свет или цвет исходит. Свет или цвет, имеющий такую форму, называется изображением (imago). Всякое живое существо от природы с первого взгляда принимает это изображение за видимый предмет как таковой или по крайней мере за тело, отображающее предмет и верно отражающее расположение его частей. Точно так же и люди (за исключением немногих, исправляющих при помощи рассудка суждения чувств) полагают, что это изображение является самим предметом, и не могут без надлежащей умственной подготовки представить себе, что солнце и звезды в действительности больше и дальше от нас, чем это кажется. Но почему предмет кажется то больше, то меньше, то ближе, то дальше, предстает то в такой, то в иной форме – этому, насколько я знаю, до сих пор никем не было дано научного объяснения, хотя многие и пытались объяснить это. И тут нет ничего удивительного, ибо никому еще не приходило в голову, что свет и цвет суть не акциденции объектов, а лишь явления нашего воображения. Так как об истинном месте изображения до сих пор еще ничего не установлено с той точностью, какой требует естественнонаучное исследование, то попытаемся выяснить, нельзя ли точно определить причины всех этих явлений на основании вышеизложенного. 2. Всякая видимая точка, которая появляется перед нами, находится на прямой, определяемой, с одной стороны, центром сетчатки, а с другой – точкой падения светового луча на заднюю поверхность этой сетчатки. Такая прямая называется линией зрения и, будучи перпендикулярной к поверхности глаза, образует оптическую ось. Доказательство этого основано на положениях, изложенных в учении О теле (гл. XXIV, п. 2; гл. XXII, п. 6) [...] Отсюда ясно, что все световые лучи пересекаются в центре сетчатки. Это обстоятельство объясняет два известных явления, или опыта, которые легко может произвести каждый человек. Если, рассматривая какой-либо объект обоими глазами, мы смещаем оптическую ось одного глаза, между тем как положение оси второго глаза остается нормальным, то предмет представляется нам удвоенным и находящимся в двух местах. Если мы пристально рассматриваем какой-нибудь предмет обоими глазами, то всякий другой видимый предмет, лежащий ближе или дальше рассматриваемого, представляется нам удвоенным [...] Вышеуказанное обстоятельство объясняет и следующий факт. Если мы пристально рассматриваем какой-нибудь небольшой предмет, то все предметы, находящиеся по соседству с ним, представляются нам неясно, так как исходящие из них лучи не падают на оптическую ось, вследствие чего эти предметы двоятся в глазах. Из всего этого следует, что ни один предмет нельзя отчетливо видеть посредством неподвижного глаза. Ибо если глаз неподвижен, то неподвижной остается и оптическая ось, на ней же только и возможно отчетливое видение, которое именно в силу этого является лишь видением одной точки [...] 3. Так как зрачок не может суживаться сверх определенной меры, то очень маленькие предметы, равно как и предметы очень большие, если они далеко отстоят от глаза, всегда бывают видимы неясно [...] Отсюда следует, что мельчайшие частицы предметов нельзя различить даже весьма совершенным глазом и даже в том случае, если последний снабжен стеклами, ибо предметы всегда могут быть разложены на более мелкие частицы, между тем как сила стекол не может быть увеличиваема безгранично. 4. [...] Так как отчетливое видение вне оптической оси невозможно, то для точного восприятия движения какого-нибудь предмета необходимо движение самого глаза, а если движущийся предмет близок или его движение совершается быстро, необходимо даже движение всей головы. Если же наблюдаемые нами движущиеся предметы находятся на очень большом расстоянии от глаза, то и тогда, когда они движутся быстро, для отчетливого восприятия их движения достаточно легкого движения глаза [...] Кроме того, следует принять во внимание, что (как показано в главе XXV книги О теле) ощущение есть движение и, как бы непродолжительно это движение ни было, оно не может исчезнуть мгновенно; следовательно, и возникающий из ощущения образ не может мгновенно исчезнуть; он сохраняет в течение некоторого промежутка времени свою первоначальную отчетливость, как бы мал ни был соответствующий промежуток. Из сказанного ясно, почему небольшие, быстро движущиеся предметы должны казаться нам более протяженными, чем они суть в действительности [...] Мы воспринимаем движение лишь постольку, поскольку двигаем глаз, т. е. перемещаем оптическую ось [...] Вот почему мы не можем воспринимать движение Солнца, Луны и неподвижных звезд, несмотря на необычайную быстроту такого движения; ведь при значительной удаленности этих тел от нас незаметного движения глазной оси достаточно, чтобы последняя могла следовать за их движением [...] Точно так же движение предмета не может быть воспринято, если глаз и предмет движутся одинаковым образом [...] Если наблюдаемый кем-либо предмет находится в покое, между тем как наблюдающий его глаз движется (как это бывает в том случае, когда кто-либо плывет по морю вдоль берега), то вопрос о том, кто же действительно находится в движении – наблюдатель или предмет, может быть решен не на основании непосредственных данных зрения, а лишь на основании соображений ума [...] Вот почему не восприятие, а разум решает вопрос о том, находятся ли Земля или звезды в годичном и суточном движении [...] [...] Далее, если движение предмета складывается из частичных движений, из которых одно или многие общи глазу и предмету, то взор воспринимает только движения, не являющиеся общими [...] Так, если на корабле плывут двое людей, то один из них видит, как другой движется по кораблю, но не видит движения, которое придает ему корабль. Ибо этим людям не надо изменять положение глаза, чтобы проследить движение, возникающее вследствие общего движения корабля.ГЛАВА III О КАЖУЩЕМСЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА, ИЛИ, КАК ГОВОРЯТ МНОГИЕ, О МЕСТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ВИДЕНИИ, Т. Е. В СЛУЧАЕ КОГДА НЕТ НИКАКОГО ОТРАЖЕНИЯ И ПРЕЛОМЛЕНИЯ
1. Какие обстоятельства определяют место изображения; знания места, в котором находится предмет, имеющий форму прямой линии, достаточно для познания места как такового. 2. Прямая линия может быть столь малой, а предмет может испускать лучи под столь незначительным углом, что не возникает никакого чувственного восприятия. 3. Кажущееся место предмета при непосредственном видении всегда ближе к глазу, чем место действительное. 4. Если кажущаяся величина предмета дана на одном расстоянии, то его кажущееся место дано на любом другом расстоянии. 5. Если предмет рассматривают двумя глаза ми, то он кажется большим, чем тогда, когда на него смотрят одним глазом; что отсюда следует. 6. Чем слабее действует на глаз предмет, тем менее ясно он виден; что отсюда следует. 7. Почему луна кажется днем бледнее и меньше, чем ночью. 8. Почему все неподвижные звезды, несмотря на то что они почти бесчисленны, меньше освещают землю, чем луна.ГЛАВА IV ОБ ОТОБРАЖЕНИИ ПРЕДМЕТА В ПЕРСПЕКТИВЕ
1. В чем сущность перспективного изображения. 2. Перспективное изображение бесконечного прямоугольника есть треугольник. 3. Бесконечный прямоугольник изображается в перспективе в виде треугольника не для того, чтобы уподобить предмет рисунку, но для того, чтобы отобразить то, что треугольник подобен кажущемуся обра-3У бесконечного треугольника. 4. Каким образом трапеция оказывается образом конечного прямоугольника. 5. Четыре треугольника, полученные в результате деления прямоугольника по диагоналям, легче закрепляют в памяти изображение одновременно четырех прямоугольников, чем один треугольник – изображение одного прямоугольника. 6. Предметы, находящиеся ближе к глазу, нарисованы яснее, чем предметы более отдаленные, пропорционально основанию треугольника, являющегося их отображением, изображение становится более четким. 7. Изображение делается более выразительным благодаря пририсованным в той же пропорции теням, животным и т. п. 8. Почему перспективное изображение, рассматриваемое через какое-нибудь маленькое отверстие, представляет вещь более совершенным образом. 9. Круг, изображенный в перспективе, представляется эллипсом при рассмотрении его с любых точек зрения, кроме одной. 10. Парабола, вершина которой отстоит от глаза дальше, чем ее основание, кажется гиперболой. 11. Если парабола имеет положение, прямо противоположное вышеуказанному, то она кажется эллипсом. Рассматривая перспективное изображение так, как это бывает, когда наше зрение предоставляет нам неверные данные, мы видим предмет нарисованным иначе, чем он есть в действительности, и тем не менее представляем себе истинное положение вещей. Что такое указатель перспективы. 12. Обращенной является та перспектива, которую обозначают на плоскости, лежащей далее [предмета], линии зрения, проходящие через различные пункты предмета.ГЛАВА V О КАЖУЩЕМСЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ПРИ ОТРАЖЕНИИ ЕГО В ПЛОСКИХ И СФЕРИЧЕСКИ ВЫПУКЛЫХ ЗЕРКАЛАХ
1. О кажущемся местонахождении предмета, или месте образа, возникшего в результате отражения предмета в плоских непрозрачных зеркалах. 2. О том, что в плоских прозрачных зеркалах возникает много образов одного и того же предмета. 3. Пять определений. 4. Глазная точка, т. е. точка, в которой исчезает угол зрения, разделяющийся в сферических зеркалах на две части лучом, перпендикулярным глазу. 5. Каким образом можно определить кажущееся местонахождение предмета, отраженного в сферически выпуклом зеркале.ГЛАВА VI О КАЖУЩЕМСЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ПРИ ОТРАЖЕНИИ ЕГО В СФЕРИЧЕСКИ ВЫПУКЛОМ ЗЕРКАЛЕ
1, 2. Местонахождение изображения тогда, когда предмет не находится между глазом и зеркалом. 3, 4, 5, 6, 7. Местонахождение изображения тогда, когда предмет находится между глазом и зеркалом. 8. При каком угодно положении предмета его изображение не может так удалиться от зеркала, чтобы достигнуть центра глазного яблока. 9. Точка предмета, находящаяся в центре зеркала, представляется нам именно в этом центре, если наш глаз находится по ее сторону этого центра. 10. Условия, при которых предметы представляются нам с наибольшей неясностью.ГЛАВА VII О КАЖУЩЕМСЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА, ВОСПРИНИМАЕМОГО ПРИ ПРОСТОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ
1. Общее правило, касающееся обозначения отражения предмета, воспринимаемого при простом преломлении. 2, 3,4,5,6.Некоторые применения этого правила. 7,8.Почему звезды кажутся нам большими тогда, когда они находятся на горизонте, чем тогда, когда они в наивысшем положении. 9. Почему при ясном небе в холодную ночь мы видим больше неподвижных звезд, чем в теплую.ГЛАВА VIII О ВИДЕНИИ ПРИ ДВОЙНОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ, ИЛИ О ПРОСТЫХ И СФЕРИЧЕСКИ ВЫПУКЛЫХ И ВОГНУТЫХ ЛИНЗАХ
1. Линзы были незнакомы древним. 2. Выпуклые линзы. 3.Вогнутые линзы. 4. Почему выпуклые линзы полезны старикам. 5. Польза вогнутых линз для близоруких. 6. Положение, в котором представляется нам предмет, видимый нами через выпуклую линзу. 7. Перевернутое изображение предмета, видимого через вогнутую линзу. 8. Положение, в котором представляется нам предмет, видимый нами через вогнутую линзу. 9. Положение, в котором представляется нам предмет, видимый нами через гиперболические линзы.ГЛАВА IX О ДВОЙНЫХ ЛИНЗАХ, ИЛИ О ТЕЛЕСКОПЕ И МИКРОСКОПЕ
1, 2, 3. Условия отчетливого видения через несколько линз. 4, 5, 6, 7, 8. Теория телескопа. 9. Теория микроскопа. 10. Телескоп и микроскоп, состоящие из двух выпуклых стекол, различаются между собой не по способу их изготовления, а по их различному применению.ГЛАВА X О РЕЧИ И НАУКАХ
1. Определение речи; речь, свойственная человеку. 2. Возникновение речи. 3. Удобства и неудобства, проистекающие из речи. 4. Наука и доказательство основываются на познании причин. 5. Теоретические утверждения (theoremata) доказуемы только тогда, когда они касаются вещей, причины которых в нашей власти; в остальных случаях доказуемо только то, что возможно. 1. Речь (serma), или способность говорить (oratio), есть сочетание слов, установленных волей людей, для того чтобы обозначить ряд представлений о предметах, о которых мы думаем. Следовательно, речь относится к ходу мыслей точно так же, как слово к идее или понятию (conseptum). Речь, по-видимому, является специфической особенностью человека. Ибо если некоторые животные привыкают понимать, исходя из слов, наши желания и приказания, то они при этом все же не постигают специфических значений этих слов (они ведь не знают, для обозначения какого предмета предназначены человеческие слова), и последние являются для них лишь сигналами (signa). Знаки же, которые два животных одного и того же вида подают друг другу посредством голоса, не являются речью, потому что звуки, при помощи которых эти животные выражают надежду, страх, радость и т. д., не установлены ими произвольно – указанные чувства насильственно вызывают такие звуки в силу необходимости, обусловленной природой данных животных. Так, среди животных, если только они обладают хотя бы незначительной способностью видоизменять звучание своего голоса, случается, что они при помощи разных звуков предупреждают других в минуту опасности о необходимости бегства, созывают к еде, поощряют к пению, завлекают к любовным утехам. И все же эти звуки не являются речью, так как они установлены не преднамеренно, а с естественной необходимостью возникают под влиянием страха, радости, влечений каждого отдельного животного. Что такие звуки не являются речью, видно из того, что животные, принадлежащие к одному и тому же виду, во всех частях света производят одни и те же звуки; люди же, напротив, создали разные языки (voces). В силу этого животные лишены также разумения (intellectus), ибо разумение есть некое воображение, основывающееся на установленном значении слов. 2. Как я только что сказал, название (vocabula) возникло благодаря человеческому установлению. Меня спросят пожалуй, установления каких людей были столь ценными, что могли оказать такое огромное благодеяние человеческому роду, каким является для нас речь. Предположение, будто когда-то люди собрались на совещание, имевшее целью установить, что должны означать слова (verba) и сочетания слов, было бы невероятным. Напротив, вероятно, что с самого начала существовали некоторые немногочисленные имена (nomina), а именно обозначения наиболее знакомых предметов. Первый человек по своему усмотрению дал имена лишь некоторым животным, приведенным к нему Богом; затем этот человек наделил именами еще некоторые предметы, которые ему чаще всего встречались эти обозначения дети унаследовали от своих родителей и в свою очередь передали их по наследству своим детям, которые опять-таки изобрели новые имена. Но во второй главе Книги Бытия рассказывается, что еще до того, как Адам дал имена тем или другим вещам, Бог запретил ему вкушать плоды древа познания добра и зла. Спрашивается, как же мог Адам понять это запрещение Бога, раз он до этого еще не знал, что означает вкушать, плод, познание и, наконец, добро и зло? Адам, следовательно, должен был постигнуть смысл этого запрета Бога не на основании значений слов, а каким-нибудь сверхъестественным путем, что ясно вытекает из вопроса, заданного ему вслед за этим Богом: кто сказал ему, что он наг? Точно так же не понятно, как мог Адам понять змия, говорящего о смерти: ведь Адам, будучи первым смертным, не мог иметь о нем никакого представления. Эти события, таким образом, нельзя понять как нечто естественное, и, следовательно, естественное начало речи могло быть лишь результатом произвола людей. Это становится еще более ясным ввиду смешения языков (lingual) при вавилонском столпотворении. Ибо к тому времени возникли различные языки, которые отдельными людьми были переданы другим народам. Когда же говорят, что отдельные вещи получили имена в соответствии с их природой, то это детское мнение. Ибо как же в таком случае объяснить тот факт, что языки различны, хотя природа вещей повсюду одна и та же? И какое сходство имеет, скажем, слово vox, т. е. звук, с животным, т. е. телом? 3. Польза речи сводится к следующему. Прежде всего человек может при помощи имен числительных считать; считать же значит не только складывать единицы, но и определять посредством измерения величину отдельных предметов. Так, измеряют всякого рода протяжение тел, будь то длина, или длина и ширина, или длина, ширина и толщина. Эти величины складывают, вычитают, умножают, делят и сравнивают друг с другом. Предметом счета могут быть время, движение, вес и интенсивность качеств. Отсюда для человеческого рода возникают огромные удобства, которых лишены другие живые существа. Ибо всякому известно, какую огромную помощь оказывают людям эти способности при измерении тел, исчислении времени, вычислении движений звезд, описании земли, мореплавании, возведении построек, создании машин и в других случаях. Все это зиждется на способности считать, способность же считать зиждется на речи. Речь, во-вторых, дает возможность одному человеку обучать другого, т. е. сообщить ему то, что он знает, а также увещевать другого или советоваться с ним. Таким образом, благо, большое само по себе, становится еще большим благодаря тому, что оно может быть передано другому. Третье и величайшее благодеяние, которым мы обязаны речи, заключается в том, что мы можем приказывать и получать приказания, ибо без этой способности была бы немыслима никакая общественная организация среди людей, не существовало бы никакого мира и, следовательно, никакой дисциплины, а царила бы одна дикость. Без языка люди жили бы одиноко, каждый из них замыкался бы в себе и не общался с другими. Некоторое подобие государственного устройства мы находим, правда, и у различных видов животных, но оно в очень слабой степени служит благу этих животных, и мы можем здесь не останавливаться на нем. Эти формы государственной организации мы встречаем, кроме того, у существ, лишенных оружия и потребностей. К таким существам, однако, не относится человек. Ибо если верно то, что мечи и копья, т. е. оружие людей, превосходят рога, зубы и жала, т. е. оружие животных, не менее верно и то, что человек, способный предвидеть ожидающий его в будущем голод, является более хищным и жестоким зверем, чем волки, медведи и змеи, которые становятся хищными лишь в моменты голода и жестокими тогда, когда их раздражают. Отсюда легко понять, сколь многим мы обязаны речи, благодаря которой мы живем – или по крайней мере можем жить, если хотим,- в тесном общении с другими людьми, мирно, беззаботно, счастливо и привольно. Но речь имеет и свои отрицательные стороны. Если среди всех животных существ только человек способен благодаря общему значению слов придумать себе общие правила и сообразовать с ними весь строй своей жизни, то и он лишь способен следовать в своих действиях ложным правилам и внушать их другим, с тем чтобы последние также следовали им. Благодаря этому заблуждения распространяются среди людей шире и более опасны у них, чем у животных. Человек, если ему угодно (а ему угодно каждый раз, когда кажется, что это будет способствовать его цели), может также преднамеренно проповедовать ложные идеи, т. е. лгать, и тем самым подрывать сами предпосылки человеческого общения и мирного сосуществования людей. В обществах животных такие явления не могут иметь места, так как животные оценивают нечто как благо или зло на основании собственного ощущения, а не на основании чужих жалоб, причины которых они не способны понимать, не видя их. Привычка слушать других приводит, далее, к тому, что словам философов и схоластов иногда слепо верят, если даже они лишены всякого смысла, что чаще всего бывает в том случае, когда слова эти придуманы докторами, для того чтобы скрыть свое собственное невежество и создать видимость, будто ими сказано нечто значительное, между тем как на самом деле ими ничего не сказано. Наконец, способность речи вызывает у человека соблазн высказываться и в том случае, когда он вообще ничего не Думает, а так как человек считает истинным то, что говорит, то он обманывает самого себя. У животного же не может быть самообмана. Таким образом, благодаря речи человек становится не лучше, а лишь сильнее. 4. Под наукой (scientia) мы понимаем истины, содержащиеся в теоретических утверждениях, т. е. во всеобщих положениях и выводах из них. Когда речь идет лишь о достоверности фактов, то мы говорим не о науке, а о знании (cognitio). Наука начинается лишь с того знания, благодаря которому мы постигаем истину, содержащуюся в каком-нибудь утверждении; она есть познание какого-нибудь предмета на основании его причины, или познание его возникновения посредством правильной дедукции. Знание есть также правильное понимание возможной истинности какого-нибудь положения; такое понимание мы получаем путем правильного умозаключения из установленных опытом следствий. Оба указанных вида дедукции мы называем обычно доказательствами. Однако первый вид дедукции считают более ценным, чем второй, и для этого есть вполне достойное основание. Ибо для нас ведь более ценно знать, как мы можем использовать имеющиеся в наличии причины, чем делать заключения о прошлых причинах, которых мы не можем вернуть. Демонстративное познание a priori для нас возможно поэтому лишь относительно тех вещей, возникновение которых зависит от воли самого человека. 5. В этом смысле строго доказательной является большая часть положений о величине; наука о них называется геометрией. Так как причина тех свойств, которыми обладают отдельные фигуры, заключается в линиях, которые мы сами проводим, и так как начертание фигур зависит от нашей воли, то для познания любого свойства фигуры требуется лишь, чтобы мы сделали все выводы .из той конструкции, которую сами построили при начертании фигуры. То, что геометрия считается демонстративной и действительно является строго доказательной наукой, обусловливается тем обстоятельством, что мы сами рисуем фигуры. Предметы же и явления созданы по воле Бога, и, сверх того, большая часть их, например эфир, недоступна нашим взорам. Поэтому мы и не можем выводить их свойства из причин, которых не видим. Однако, исходя из видимых нами свойств, мы можем посредством умозаключений познать, что могли существовать те или иные причины этих свойств. Мы называем этот вид доказательства доказательством a posteriori, a науку, применяющую этот метод,- физикой. Поскольку, однако, при познании явлений природы, имеющих своей основой движение, нельзя делать заключений от последующего к предыдущему без знания тех следствий, к которым ведет определенная форма движения, и нельзя делать заключений относительно следствий движения без знания количества, т. е. без геометрии, то и физик необходимым образом вынужден пользоваться кое-где в своей науке методом доказательства a priori. Вот почему физика – я имею в виду настоящую физику, построенную на математике обычно причисляется к прикладным математическим наукам. Ибо математическими обычно называют те науки, которым мыобучаемся не путем опыта и эксперимента, а при помощи учителей и на основании правил. Чистой математикой мы называем ту науку, которая исследует количества in abstractu и потому не нуждается в познании предметов. Чистой математикой являются, таким образом, геометрия и арифметика. К смешанной же или прикладной математике относятся те науки, которые в своих доказательствах должны принимать во внимание и то и другое свойство предметов. К ним принадлежат астрономия, музыка, физика и ее отдельные отрасли, многообразие которых соответствует многообразию видов и частей космоса. Кроме того, метод доказательства a priori можно применить в политике и в этике, т. е. в науках о справедливости (justum, aequum) и несправедливости (injustum, iniquum), ибо мы сами создаем принципы, служащие нам масштабом для познания сущности того и другого, или, иначе говоря, причины справедливости, т. е. законы и соглашения. В самом деле, ведь до появления прочных соглашений и законов люди, подобно животным, не знали ни справедливости, ни несправедливости и не имели понятия ни о добре, ни о зле.ГЛАВА XI О ВЛЕЧЕНИИ И ОТВРАЩЕНИИ, О ПРИЯТНОМ И НЕПРИЯТНОМ И ИХ ПРИЧИНАХ
1. Что такое влечение и отвращение и каковы их причины. 2. Они не зависят от нашей воли. 3. Влечение возникает в процессе опыта. 4. Различные имена блага: прекрасное, приятное, полезное. 5. Имена добра и зла до сих пор различны. 6. Величайшее благо – самосохранение; величайшее природное зло – разложение (corruptio). 7. Богатство. 8. Мудрость. 9. Искусства. 10. Гуманитарные знания (Шегае). 11. Деятельность (negotia). 12. Какие вещи приятны. 13. Какие вещи прекрасны. 14. Сравнение благ. 15. Высшее благо. 1 Влечение (appetitus) и отвращение (fuga) отличаются от удовольствия (voluptus) и неудовольствия (molestia) так, как стремление к чему-нибудь от достижения того же, т. е. как будущее от настоящего. Ибо и влечение есть удовольствие, и отвращение – неудовольствие, но эти удовольствие или неудовольствие обусловлены чем-то приятным или неприятным, которые еще не даны, а лишь предвидятся или ожидаются. Однако, хотя эти удовольствие и неудовольствие и не называются чувственными восприятиями, или ощущениями (sensiones), они отличаются от последних лишь постольку, поскольку ощущение внешнего объекта возникает вследствие реакции, или сопротивления, ощущающего органа и, следовательно, заключается в движении органа, направленном наружу; удовольствие же состоит в страсти (in passione), обусловленной действием предмета, и является движением, направленным внутрь. 2 Следовательно, причиной как ощущения, так и влечения и отвращения, удовольствия и неудовольствия являются сами предметы, действующие на органы чувств. Отсюда следует, что когда мы к чему-либо стремимся или чего-либо избегаем, то причина этого не есть наше влечение или отвращение. Мы стремимся к чему-либо не потому, что желаем этого; само желание есть уже стремление. Таким образом, мы избегаем чего-либо не потому, что питаем к этому отвращение. Влечение и отвращение вызывают у нас сами вещи, составляющие предмет нашего влечения или отвращения. Свойства самих вещей необходимым образом предопределяют удовольствие и неудовольствие, которые они в нас впоследствии вызывают. Разве мы испытываем голод или стремимся к обладанию какими-либо необходимыми для жизни вещами потому, что имеем соответствующее желание? Разве голод, жажда и чувственные влечения – желания, зависящие от нашей воли? Как будет действовать тот, кто испытывает влечение, зависит, пожалуй, от него, но само влечение не есть нечто свободно избираемое им. Это настолько ясно всякому из собственного опыта, что приходится удивляться, как может существовать столь много людей, которые этого не понимают. Если мы говорим, что кто-либо обладает свободой совершать или не совершать какие-либо действия, то это всегда следует понимать в том смысле, что здесь подразумевается предпосылка если он этого хочет. Бессмысленно было бы, однако, утверждать, будто кто-либо обладает свободой делать что-либо независимо от того, хочет он этого или нет. Обдумывая, следует ли осуществлять какое-нибудь намерение, мы говорим, что мы размышляем, и это означает, Что мы отказываемся от свободы делать то или иное. В процессе этого размышления мы склоняемся в пользу то одного, то другого из возможных решений в зависимости от тех выгод или невыгод, которые связаны с каждым из них. Наконец, когда положение таково, что требуется решение, последний импульс к совершению или несовершению предполагаемого действия непосредственно обусловливает действие или отказ от него, и это называется волей в собственном смысле этого слова. 3. В силу естественного порядка чувственное восприятие, или ощущение (sensio), предшествует влечению (appetitus). Ибо лишь посредством опыта, т. е. лишь посредством чувственного восприятия, мы можем узнать, приятно или неприятно видимое нами. Вот почему мы обычно говорим, что незнакомое нас не привлекает. Однако может существовать желание изучить нечто незнакомое. Этим и объясняется тот факт, что малые дети имеют немного желаний, дети постарше – больше, ибо они уже стремятся испытать и незнакомое, а в зрелом возрасте люди (особенно ученые) стремятся познать бесчисленное количество вещей, порой даже ненужных. И то, что они раз испытали как приятное, становится потом под влиянием воспоминания предметом их влечения. Бывает даже, что некая вещь, которая при первом знакомстве с ней произвела на нас неприятное впечатление – потому ли, что она попадалась редко, или потому, что была новой,- перестает производить такое впечатление, по мере того как мы свыкаемся с ней, а позже становится даже приятной: столь велика может быть роль привычки в изменении природы отдельных людей. 4. Все вещи, являющиеся предметом влечения, обозначаются нами ввиду этого обстоятельства общим именем добро, или благо; все же вещи, которых мы избегаем, обозначаются как зло. Таким образом, Аристотель вполне верно определил благо как то, чего все желают[100]. Но так как Для различных людей предметами влечения и отвращения являются различные вещи, то должно существовать много вещей, которые для одних – благо, а для других – зло; так, для наших врагов зло то, что для нас благо. Добро и зло, следовательно, относительны; они зависят от того, что имеет по отношению к данной вещи влечение или безотносительно к кому-либо, ибо оно всегда есть благо для каких-нибудь людей или для какого-нибудь человека. Благом было вначале все что создал Бог. Почему? Потому что все сотворенное им нравилось ему самому. Говорят также, что Бог добр ко всем тем, кто взывает к нему, но не к тем, кто хулит его. Следовательно, о добре, или благе, говорят применительно к лицу, месту и времени. Этому человеку здесь в данный момент что-то нравится, а тому человеку там в другое время эта же вещь не нравится; подобным же образом здесь играют роль и другие обстоятельства. Ибо природа добра и зла зависит от совокупности условий, имеющихся в данный момент (????????). 5. Точно так же различным образом видоизменяются и имена добра и зла. Ибо та самая вещь, которую называют благой, поскольку она является предметом наших желаний, будучи достигнута, становится приятной. И та самая вещь, которая является благой, будучи предметом наших желаний, получает имя прекрасной, становясь предметом нашего созерцания. Прекрасное есть совокупность тех свойств какого-нибудь предмета, которые дают нам основание ожидать от него блага. Мы предполагаем, что вещи, обнаруживающие сходство с теми вещами, которые нам понравились, также понравятся нам. Прекрасное есть признак будущего блага. Если прекрасное наблюдается в действиях, то мы называем его честностью; если же прекрасное заключается во внешнем виде, то мы называем его формой, и эта форма нравится нам в силу одного воображения еще до достижения того блага, предвестником которого она является. Подобным же образом мы говорим об одном и том же как о злом, или безобразном. Кроме того, мы называем вещь благой, поскольку она есть предмет нашего стремления, приятной, поскольку она желанна ради нее самой, и полезной, поскольку она желанна для чего-то другого. Ибо добро, которого мы желаем ради него самого, мы не используем, так как использование (usus) является признаком средства, или орудия. Наслаждение (druitio) же есть как бы конечная цель вещи, к которой мы стремимся. Кроме того, мы различаем истинное и кажущееся добро и зло. Это не значит, будто нечто кажущееся благом в действительности само по себе и вне отношения к тем вещам, которые от него зависят, не есть благо. Вводя это различение, мы лишь хотим сказать, что порой многие вещи, часть которых является благом, а часть – злом, так тесно связаны между собой, что их нельзя отделить друг от друга. Следовательно, хотя каждая отдельная вещь сама по себе есть только благо или только зло, все же их совокупность есть отчасти благо, а отчасти зло. И если большая часть этой совокупности является благом, то мы называем благом всю ее и стремимся к ее достижению. Если же большая часть этой совокупности представляет собой зло, то вся она отвергается, по крайней мере если это доказано. В результате неопытные люди, которые не способны представить себе отдельные последствия вещей, конечно, слепо принимают все, что на первый взгляд представляется благом, не замечая связанного с этим зла, чтобы потом горько поплатиться за свою неопытность. Только в этом и состоит различение, проводимое нами между истинным и мнимым благом. 6. Первым из всех благ является самосохранение. Ибо природа устроила так, что все хотят себе добра. Но чтобы каждый мог достигнуть его, необходимо желать жизни и здоровья, а также гарантии сохранения обоих этих благ и в будущем, поскольку его можно обеспечить. С другой стороны, в ряду всех зол первое место занимает смерть, особенно смерть мучительная. Еще худшим злом, однако, являются страдания, причиняемые жизнью; последние могут стать особенно сильными, так что, если им не предвидится близкого конца, смерть может показаться благом в сравнении с ними. Могущество, если оно значительно, есть благо, ибо это средство обеспечения безопасной жизни, а на безопасности покоится наш душевный мир. Если могущество незначительно, то оно бесполезно: ведь когда другие обладают таким могуществом, как и мы, то оно теряет свое значение. Наличие друзей есть благо, так как оно полезно, ибо и наличие друзей способствует кроме всего прочего обеспечению безопасности жизни. Наличие же врагов есть зло, ибо оно связано с опасностями и лишает нас защиты. 7. Богатство полезно, если оно велико (по мнению Лукулла, богат тот, у кого достаточно средств, чтобы содержать собственное войско). Ибо такое богатство доставляет нам почти все средства для обеспечения безопасности нашей жизни. Впрочем, для такой цели достаточно и умеренного богатства, ибо благодаря ему мы приобретаем друзей. Наличие же друзей служит обеспечению безопасной жизни. Однако тот, кто не дает своему богатству указанного употребления, вызывает в других лишь ненависть и зависть. Постольку, следовательно, богатство является кажущимся благом. Если богатство не унаследовано, а приобретено собственными усилиями, оно есть благо. Это богатство приятно и является для каждого доказательством собственного благоразумия. Нищета, или бедность, в условиях которой человек не имеет даже самого необходимого, есть зло, ибо не иметь необходимого – зло. Бедность без нужды в необходимом есть благо, ибо она оберегает человека от ненависти, клеветы и преследования. 8. Мудрость есть нечто полезное, ибо и она способствует некоторому обеспечению безопасной жизни. Но мудрость и сама по себе достойна быть целью влечения, т. е. и сама по себе есть нечто приятное. Она есть также нечто прекрасное, ибо ее трудно приобрести. Невежество есть зло, ибо оно не приносит нам никакой защиты и даже мешает предвидеть надвигающееся на нас несчастье. Страсть к богатству сильнее, чем страсть к мудрости. Обычно к последней стремятся лишь ради достижения первого. Когда же люди обладают богатством, они хотят казаться и мудрыми. Ибо в противоположность тому, что утверждали стоики, не мудрый богат, а, наоборот, тот, кто богат, должен слыть мудрым. Мудрость приносит большую славу, чем богатство. Ибо богатство рассматривается обычно как признак мудрости. Нужда есть меньший позор, чем глупость, ибо первая есть результат неблагоприятной судьбы, вторая же – природный недостаток. Однако глупость легче переносить, чем нужду, ибо глупца никогда не беспокоит его собственная глупость. 9. Науки, как искусства, суть благо, ибо они доставляют удовольствия. Человеку по природе свойственно интересоваться всем новым, т. е. жаждать познания причин всех вещей. Этим и объясняется то, что наука является как бы пищей духа и имеет для духа то же значение, что предметы питания для тела; явления природы для жаждущего знания духа – то же, что пища для голодного. Разница заключается, однако, в том, что тело может насытиться пищей, между тем как дух никогда не может удовлетвориться знанием. Умение и искусство полезны для всякого, поскольку с их помощью можно воздействовать на материальный мир. Они приносят величайшую пользу и обществу, так как им человечество обязано почти всем, что помогает ему и служит украшению его жизни. Не следует, однако, упускать из виду, что не все утверждающие, будто они овладели наукой, действительно добились этого; ведь тот, кто надеется познать причины вещей, слепо доверяясь книгам, повторяя чужие мнения и не делая ни одного самостоятельного открытия, не приносит никакой пользы. Ибо повторение сказанного отнюдь не представляет собой блага, а, напротив, часто является злом, так как, укрепляя заблуждения предшественников, оно тем самым преграждает путь истине. 10. Гуманитарные знания (literae), и особенно в области языков и истории, также являются благом, ибо они радуют дух. Они также полезны, особенно история: ведь последняя дает нам тот опыт, на который опирается наше знание причин. Как естественная история она представляет собой основу физики, как гражданская история – основу науки о государстве и морали, причем это не зависит от ее истинности или ложности, если только она не является невозможной. Ибо в науках мы ищем причин не столько того, что было, сколько того, что могло бы быть. Полезно также знание языков, на которых говорят соседние народы, так как оно облегчает общение с ними и торговлю. Точно так же полезно знание латинского и греческого зыков как языков науки, и именно ради этой последней. 11. Деятельность – благо, ибо это движение жизни. Если человеку абсолютно нечего делать, то и прогулка для него служит занятием. Куда мне идти, что мне делать? – спрашивают несчастные, которые не знают, за что взяться. Безделье мучит человека. Природа не любит ни пустого пространства, ни незаполненного времени. 12. Продвижение вперед – нечто приятное, так как это приближение к цели, т. е. к чему-то более приятному. Вид чужого несчастья – нечто приятное; при этом нам нравится не то, что налицо несчастье, а то, что это чужое не счастье. Вот почему люди сбегаются, чтобы увидеть смерть и опасное положение других. Точно так же вид чужого счастья неприятен, однако это происходит не потому, что налицо счастье, а потому, что это чужое счастье. Подражание (imitatio) – нечто приятное, ибо оно оживляет прошлое. Воспоминание же о прошлом приятно: о счастливом прошлом – потому, что оно было счастливо, о тяжелом прошлом – потому, что оно миновало. Следовательно, музыка, поэзия и живопись являются приятными искусствами. Все новое приятно, ибо люди ищут его как пищу для духа. Иметь хорошее мнение о своем умении – по праву или без него – есть нечто приятное. Ибо если это мнение справедливо, то оно означает: ты имеешь опору в самом себе. Если это мнение несправедливо, то оно все же приятно, ибо если что-нибудь нравится, будучи действительным фактом, то оно нравится и тогда, когда является лишь предметом воображения. Поэтому победа приятна, ибо она создает у человека хорошее мнение о себе. Приятны также игры и состязания всякого рода, ибо тот, кто состязается, вдохновляется мыслью о победе. Но больше всего нравятся состязания умов, так как каждый считает, что его ум является для него наилучшим средством защиты. Вот почему так неприятно потерпеть поражение в борьбе умов. Снискать похвалу приятно, ибо это создает у нас хорошее мнение о самих себе. 13. Прекрасно то, что содержит в себе указание на нечто благое. Вот почему прекрасно всякое проявление необычайной силы. Прекрасно также выполнение благого и трудного дела, ибо это признаки необычайной мощи. Совершенная форма прекрасна, ибо она дает нам право ожидать также замечательных действий. Красивой является и форма, напоминающая форму вещи, которую мы познали как лучшую в своем роде. Быть хвалимым, любимым и уважаемым прекрасно, ибо это свидетельство способности и силы. Занимать общественную должность прекрасно, ибо это публичное признание наших деловых способностей. Новые изобретения в искусствах и ремеслах прекрасны, если они полезны, ибо тогда они свидетельствуют о необыкновенных способностях. Пустяки же, напротив, тем менее прекрасны, чем большего труда они стоили. Они, правда, являются признаком способностей, но способностей бесполезных; кроме того, они есть признак духа, неспособного предпринять что-либо великое. Быть обученным каким-нибудь искусствам другими людьми, т. е. быть ученым, конечно, полезно, но отнюдь не прекрасно, так как в этом нет ничего необыкновенного. В конце концов очень мало таких людей, которых нельзя было бы чему-нибудь научить. Предпринять что-нибудь рискованное в минуту опасности, когда этого требуют обстоятельства,- значит совершить нечто прекрасное, ибо это нечто необыкновенное. Если же обстоятельства не требуют предпринимать что-либо подобное, то это глупость, т. е. нечто безобразное. Выдающиеся личности, всегда действующие в согласии со своими духовными склонностями и призванием, прекрасны, ибо такой образ действия – признак свободного духа. Выдающиеся же личности, действующие вопреки своим духовным наклонностям и призванию, безобразны, ибо такой образ действия обнаруживает рабски-трусливое умонастроение людей, вынужденных что-то скрывать. Но никто не скрывает того, что прекрасно. Порицать то, что правильно,- признак невежества и нечто постыдное, ибо знание есть сила (scire est posse). Поносить же то, что справедливо, еще более постыдно – это признак необразованности. Ошибаться не постыдно, ибо это свойственно всем людям. Ученому человеку (doctor!), однако, не подобает ошибаться слишком часто, так как это противоречит его профессии. Вера в себя прекрасна, ибо это признак человека, сознающего свои способности. Бахвальство постыдно, так как оно свойственно людям, не встречающим одобрения со стороны других людей. Презрение к не слишком большому богатству прекрасно, ибо это признак человека, не нуждающегося в малом. Любовь к деньгам постыдна, ибо она характеризует человека, готового за соответствующую мзду идти на что угодно. Кроме того, такая любовь к деньгам даже у богатых людей – признак нужды. Простить человека, умоляющего о прощении, прекрасно, ибо это признак веры в себя. Оказывать благодеяние своим противникам, чтобы умилостивить их, постыдно, так как это выкуп за себя и покупка мира, а следовательно, признак нужды. Ибо люди обычно покупают лишь то, в чем они нуждаются. 14. Если мы сравним различные виды добра и зла, то при прочих равных условиях нам придется признать большим добром или злом то, которое имеет более продолжительное существование, подобно тому как целое больше своих частей. На том же основании из нескольких благ или зол большим будет то, которое при прочих равных условиях окажется интенсивнее других. При прочих равных условиях благо, которое является таковым для большего числа людей, приходится признать большим, чем благо, которое является таковым для меньшего числа людей, ибо более общее и более частное различаются между собой как большее и меньшее. Снова завладеть однажды потерянным благом лучше, чем никогда не утрачивать его. Ибо мы лучше ценим его благодаря воспоминанию о том времени, когда были лишены его. Поэтому лучше выздороветь, чем не быть больным. 15. О наслаждениях, которыми можно насытиться (каковы, например, телесные наслаждения), я не буду говорить, так как в них удовольствие нейтрализуется пресыщением и так как они всем знакомы, а некоторые из них нечисты. Высшего блага, именуемого блаженством, или конечной цели, в этой жизни достигнуть нельзя. Ибо, предположив, что конечная цель достигнута, мы предполагаем состояние, при котором нечего больше желать и не к чему стремиться. Отсюда следует, что с этого момента для человека не существует большего блага; более того, с этого момента человек уже больше не имеет никаких чувств. Ибо всякое ощущение связано с каким-нибудь влечением или отвращением и не испытывать никаких ощущений – значит не жить. Величайшим же благом является беспрепятственное движение вперед ко все более отдаленным целям. Само наслаждение предметом влечения есть влечение, а именно движение наслаждающегося духа сквозь части вещи, которой он наслаждается. Ибо жизнь – это постоянное движение, которое становится круговым, если не может двигаться вперед по прямому пути.ГЛАВА XII ОБ АФФЕКТАХ, ИЛИ ВОЛНЕНИЯХ ДУШИ
1. Что такое волнение души. 2. Радость и ненависть. 3. Надежда и страх. 4. Гнев. 5. Страх перед незримым. 6. Гордость и стыд. 7. Смех и плач. 8. Любовь к внешним вещам. 9. Самооценка. 10. Милосердие. 11. Соперничество и зависть. 12. Удивление. 1. Аффекты, или волнения (perturbationes) души, суть виды влечения или отвращения, различающиеся в зависимости от различия предметов нашего влечения или отвращения и обстоятельств. Аффекты называются волнениями потому, что в большинстве случаев они делают невозможным правильное размышление и вместо познанного блага борются за кажущееся и сиюминутное благо, которое при зрелом и всестороннем обдумывании обычно оказывается злом. Ведь связь духа с телом обусловливает то, что влечение стремится к непосредственному действию, разум же диктует осторожность и осмотрительность. Для достижения истинного благополучия нам необходима прозорливая осторожность, а последняя – дело разума. Влечение же устремляется ко всякому попадающемуся ему благу, не принимая во внимание тех скверных последствий, которые с ним необходимым образом связаны. Оно, следовательно, затрудняет и парализует деятельность разума; поэтому его вполне основательно называют волнением. Аффекты коренятся в различных движениях крови и животных духов[101], причем последние то различным образом растекаются, то текут обратно к своему источнику. Причинами этих движений являются образы блага и зла, вызываемые в нашей душе вещами. Представление о наличном благе, значение которого не уменьшает какое-либо зло, могущее последовать за ним, следовательно, наслаждение чем-то благим самим по себе есть аффект, называемый нами радостью (gaudium). Представление об угнетающем нас зле без представления о компенсирующем его благе составляет аффект, называемый нами ненавистью (odium), и всякое зло, которое нас угнетает, называется ненавистным. Зло, которого мы не можем ни преодолеть, ни избежать, мы ненавидим. Но если к представлению о наличном зле присоединяется представление о таком обороте дела, при котором мы от этого зла в конце концов избавляемся, то возникает аффект, который мы называем надеждой. Наоборот, мы говорим о страхе, если, обладая каким-нибудь благом, представляем себе, что можем его каким-нибудь образом потерять, или думаем о том, что это благо влечет за собой какое-нибудь зло. Ясно, что надежда и страх так быстро следуют друг за другом, что смена одного из этих аффектов другим может произойти в течение кратчайшего промежутка времени. Надежду и страх называют волнениями в собственном смысле слова тогда, когда они вместе заполняют кратчайший промежуток времени; их называют просто надеждой или просто страхом лишь в зависимости от преобладающего аффекта. Если при наличии или при появлении какого-нибудь зла внезапно появляется надежда, что это зло может быть преодолено посредством борьбы, или сопротивления, то возникает страсть, которую мы называем гневом. Чаще его эта страсть возникает при обнаружении того, что кто-то относится к нам с пренебрежением. Человек, охваченный гневом, стремится, насколько это – действительно или как он надеется – в его силах, сделать так, чтобы не казалось, будто он выставлен на посмешище другим и заслуживает этого. Такой человек постарается поэтому причинить своему обидчику столько зла, сколько ему кажется достаточным для того, чтобы тот раскаялся в своем несправедливом поведении. Однако гнев не всегда связан с предположением о чьем-либо пренебрежительном отношении. Ибо если кто-либо стремится к какой-нибудь поставленной им перед собой цели, то все вещи, мешающие его продвижению к этой цели, вызывают напряжение его сил и возбуждают страстный гнев, направленный на их устранение. И этот гнев возникает также в том случае, когда речь идет о вещах неодушевленных, неспособных относиться к кому-либо пренебрежительно, как только возникает надежда, что эти препятствия могут быть устранены. Родственным гневу является аффект, который греки называют p,4vig, т. е. страсть к мщению, беспрестанное и продолжительное желание причинить кому-нибудь зло для того, чтобы наказать его за какую-нибудь предполагаемую несправедливость, а также устрашить других и удержать их от совершения подобной несправедливости. Таков был гнев Ахиллеса против греков, вызванный несправедливостью, причиненной ему Агамемноном. Этот род гнева, однако, отличается от того, который был описан выше, тем, что он не возникает и не проходит внезапно подобно последнему, а продолжается столько, сколько, по мнению гневающегося, требуется для того, чтобы тот, против кого обращен его гнев, изменил свое намерение в желательном ему направлении. Поэтому смерть того, кто совершил несправедливость, не удовлетворяет чувства мести обиженного, ибо мертвый не может ни в чем раскаяться. Предметом гнева является, следовательно, неприятное, но поскольку оно может быть преодолено силой. Если ты станешь оскорблять кого-нибудь, будучи невооруженным, ты вызовешь его гнев; если же ты будешь оскорблять его, будучи вооруженным, ты его заставишь дрожать. Гнев усиливается благодаря надежде и умеряется под воздействием боязни. Если представления о надвигающемся зле гонят животные духи к нервам и побуждают нас к борьбе, то представления о еще большем зле гонят их обратно к сердцу, следствием чего бывает самозащита или бегство. Предметом надежды является то, что представляется нам благом, предметом боязни – соответствующее зло. Откуда должно прийти к нам ожидаемое благо, мы никогда точно не знаем. Ибо если бы мы знали это, то наше дело было бы обеспечено и наше ожидание называлось бы не надеждой, а радостью. Для надежды достаточно малейшего повода. Предметом надежды может быть даже нечто недоступное представлению, если только это можно выразить посредством речи. Точно так же предметом страха может быть все что угодно, даже нечто недоступное представлению, если только его вообще считают чем-то страшным или если мы видим, что многие в страхе бегут от него. Ибо мы пускаемся иногда в бегство, не зная даже, что нас побуждает к этому, как бывает при так называемой панике. Тот, кто первым пустился бежать, рассуждаем мы, вероятно, увидел какую-нибудь опасность, которая и побудила его к бегству. Вот почему такого рода аффекты нуждаются в руководстве разума. Ибо разум измеряет и сравнивает наши силы и силу предметов и в соответствии с этим определяет степень основательности нашей надежды или нашего страха, предохраняя нас, таким образом, от возможности обмануться в наших надеждах или от того, чтобы мы без всякого основания, из одного страха, отказались от благ, которыми обладаем. Если надежда так часто оказывается обманчивой, а страх – предательским, то причина этого кроется в одной лишь нашей неопытности. 5. Все люди убеждены в том, что существует некое незримое существо или многие незримые существа, от которого или от которых в зависимости от того, настроены ли они милостиво или враждебно, можно ожидать всяких благ или опасаться всяких несчастий. Ибо люди, сила которых столь незначительна, заметив такие колоссальные творения, как небо, земля, видимый мир, столь тонко задуманные движения и животное разумение (intellectum animalem), а также чудесное искусство в устройстве (ingeniosissimam fabricam) их органов, не могли не почувствовать пренебрежение к своему собственному уму (ingenium), который не в состоянии даже подражать всему этому. Равным образом они не могли не удивляться не постижимому источнику всех этих величественных творении и не ожидать от него всяких благ, когда он благожелателен, и всяких зол, когда он на них разгневан. Собственно говоря, именно этот аффект называется естественным благочестием (pictas naturalis) и является первой основой всех религий. 6. Если из беседы с другими людьми мы, к нашей радости, узнаем, что нас ценят, то иногда наши животные духи подымаются вверх, и возникает гордое чувство приподнятости. Основанием этого чувства является то обстоятельство, что у людей, чувствующих, что их слова и дела встречают одобрение, духи подымаются от сердца к лицу, как бы свидетельствуя о том, что человеку известно высокое мнение относительно его. Этому ощущению противоположно ощущение стыда. Последнее обусловливается тем, что когда мы замечаем нечто недостойное или подозреваем, что оно случилось, то подымающиеся духи приходят в беспорядок и гонят кровь в мускулы лица, что мы обозначаем глаголом краснеть. Стыд есть, следовательно, неудовольствие, возникающее у людей, любящих похвалы, тогда, когда их уличают в том, что они делают или говорят нечто такое, что не подобает ни делать, ни говорить. Краска в лице есть, следовательно, признак человека, желающего быть достойным как в своих делах, так и в своих разговорах; поэтому способность краснеть похвальна у юношей, но не у людей зрелого возраста. Ибо от людей зрелого возраста мы требуем не только стремления к достойному, но и знания его. 7. Кроме того, при внезапной радости по поводу какого-нибудь собственного достойного или чужого недостойного слова, дела или мысли животные духи часто устремляются вверх, благодаря чему возникает смех. Тот, кто полагает, что он сделал или сказал нечто выдающееся, склонен к смеху. Точно так же человеку трудно удержаться от смеха, когда сравнение его слов или поступков с неподобающим словом или поступком другого ярче оттеняет для него его собственное превосходство. В общем смех представляет собой внезапное чувство собственного превосходства, вытекающего из недостойного поступка других. Внезапность является при этом безусловно необходимым условием. Вот почему нельзя дважды смеяться по поводу одной и той же шутки. Недостатки друзей или родственников не вызывают смеха, так как эти недостатки не считаются чужими. Для возникновения смеха требуются поэтому три предпосылки: недостойное деяние, то, что оно совершено другим, и его внезапность. Плач появляется тогда, когда человек вдруг чувствует, что у него внезапно отнята какая-нибудь сильная надежда. Животные духи, расширившиеся благодаря надежде, будучи затем внезапно обмануты, сжимаются, задевают слезные железы и гонят жидкость в глаза, так что они переполняются. Чаще и больше всего плачут люди, которые меньше всего надеются на самих себя, а больше всего на друзей, например женщины и дети. Больше всего смеются люди, у которых чувство собственного достоинства основывается не столько на сознании собственных заслуг, сколько на восприятии чужих ошибок. Иногда плачут друзья, когда они мирятся после ссоры. Дело в том, что примирение означает внезапный отказ от мысли о мести. Они плачут поэтому, как мальчики, которым не удалось отомстить своим обидчикам. 8. Любовь, если она очевидна, охватывает столько разных чувств, сколько существует предметов любви; таковы, например, любовь к деньгам, любовь к власти, любовь к знанию и т. д. Любовь к деньгам, превышая определенную меру, становится алчностью, любовь к власти, будучи чрезмерной, называется честолюбием. Обе эти страсти туманят и парализуют ум. Любовь же, которую один человек питает к другому, может иметь двоякий смысл. В обоих смыслах она есть желание добра. Но одно дело, когда любовь означает желание добра себе, и другое – когда она означает желание добра другим. Так, любовь к соседу – нечто другое, чем любовь к соседке. Испытывая любовь к соседу, мы желаем добра ему; испытывая любовь к соседке, мы ищем добра для самих себя. Точно так же приходится считать страстью и любовь к славе, или известности, если она становится слишком сильной. Правильная же мера как любви к славе, так и стремления к другим вещам определяется их полезностью, т. е. тем, насколько они улучшают нашу жизнь. Ведь хотя мысль о славе после смерти нам, пожалуй, приятна, да и другим, может быть, полезна, однако мы ошибаемся, рассматривая будущее, которое не сможем ни ощутить, ни оценить как настоящее. С таким же основанием мы могли бы печалиться по поводу того, что не пользовались славой до нашего рождения. 9. Чрезмерно высокая самооценка является помехой разуму, поэтому является волнением духа, когда возникает некая надменность души из-за устремления вверх животных духов. Противоположность этому составляет чрезмерная неуверенность в себе, или духовная подавленность. Первое чувство побуждает любить многочисленное общество, последнее – одиночество. Правильная же самооценка является не душевным волнением, или нарушением Деятельности духа, а должным состоянием ума. Тот, кто правильно оценивает себя, выносит оценку на основании совершенных им раньше дел и обладает поэтому смелостью, необходимой, чтобы снова совершать то, что было совершено им раньше. Тот же, кто переоценивает себя, или воображает себя таким, каким он на деле не является, или верит льстецам, в момент опасности теряет мужество. 10. Страдание, испытываемое из-за чужого несчастья, мы обозначим словами милосердие или сострадание. Иначе говоря, мы называем состраданием представление о том, что чужое несчастье может постигнуть и нас. Вот почему наиболее сильное сострадание к несчастным чувствует тот, кто сам испытывал подобные несчастья, и, наоборот, менее всего чувствует сострадание тот, кто ничего подобного не испытывал. Ибо люди менее боятся тех несчастий, которых они не испытывали. Точно так же мы менее всего чувствуем сострадание к тем, кто наказан за совершенное им преступление, либо потому, что ненавидим злодеяние, либо потому, что уверены в том, что сами не дойдем до того, чтобы совершить подобное преступление. Поэтому если почти никто не чувствует сострадания к тем, кто осужден на страшные вечные муки в преисподней, то причина этого кроется или в нашей уверенности, что с нами ничего подобного случиться не может, или в том, что мы не в состоянии ясно и отчетливо представить себе такие муки, или в том, что люди, которые нам сообщают о таких муках, доказывают своим поведением, что они сами всерьез не верят тому, в чем стараются уверить нас. Страдание, испытываемое из-за успехов другого и связанное со стремлением достичь первенства, есть чувство соперничества. Стремление же, связанное с желанием лишить преуспевающего его преимуществ, есть зависть. Удивление есть чувство радости по поводу чего-то нового, ибо человеку от природы свойственно любить новое. Новым мы называем то, что происходит редко; к редкому же относится и то, что является великим среди вещей какого-нибудь класса. Чувство это составляет особенность человека, ибо если и другие существа, встречаясь с чем-нибудь новым и необычным, испытывают удивление, то их удивление продолжается лишь до тех пор, пока они не решат, вредно ли для них самих это новое явление или нет. Люди же спрашивают, откуда происходит то новое, что они видят, и какое употребление из него можно сделать. Вот почему они радуются всему новому, дающему им повод познавать причины и следствия. Отсюда следует, что если кто-либо более других склонен к изумлению, то он обладает или меньшими знаниями, или же более проницательным умом, чем другие. В самом деле, если для такого человека нечто более ново, чем для других, то это признак того, что он знает меньше их; если же он высказывает больше изумления по поводу того, что является одинаково новым как для него, так и для других, то это свидетельствует о более проницательном уме. Если бы мы вздумали каждому оттенку чувства давать особое название, то число чувств было бы бесконечно. Но так как каждый из таких оттенков родствен какому-нибудь из описанных нами чувств, то мы и удовольствуемся ими.ГЛАВА XIII О СПОСОБНОСТЯХ И НРАВАХ
1. Определение способности, или склонности. 2. Различие способностей, вытекающее из различия телесных темпераментов. 3. Из привычки. 4. Из опыта. 5. Из благ, даруемых судьбой. 6. Из мнения, которое каждый имеет о себе. 7. Из авторитета. 8. Добродетели по-разному понимаются различными людьми. 9. Мерило нравов – закон. Способности, т. е. склонности (ingenia, propensiones) людей к определенным вещам, обусловливаются шестью факторами, а именно темпераментом, жизненным опытом, привычкой, благами, даруемыми судьбой, мнением, которое каждый имеет о себе, и чужим авторитетом. С изменением этих факторов изменяются и склонности. Способность зависит от темперамента. Люди, обладающие пламенным темпераментом, отличаются наибольшей смелостью при прочих равных условиях; люди же, обладающие холодным темпераментом, более робки. В зависимости от степени подвижности животных духов, т. е. от быстроты воображения, способности различаются в двояком отношении. Прежде всего по интенсивности: так, одни обладают живым умом, другие более медлительным. Во-вторых, по объему: так, мысли тех, кто обладает живым умом, либо охватывают далекие области, либо касаются определенной группы вопросов. Поэтому у одних хвалят фантазию, у других – рассудок (judicium). Преобладание ума (ingenium) делает человека особенно способным разрешать споры или склонным к занятию всякого рода философией, т. е. к рассуждению; склонность же к фантазии благоприятствует поэтическому творчеству и изобретательности: и то и другое относится к искусству красноречия. Рассудок тонко различает сходные предметы, фантазия же приятным образом смешивает предметы различные. Рассудок часто встречается у стариков, фантазия больше свойственна людям молодым. Однако и рассудок и фантазия часто встречаются у тех и других. Превышая известную меру, фантазия становится глупостью, как это бывает у людей, которые не могут довести до конца начатой речи, постоянно уклоняясь посторонними мыслями от своей темы. Чрезмерная же бедность фантазии приводит к другого рода глупости, а именно к тупоумию. Распространенное мнение, будто интересы стариков преимущественно направлены на богатство, неверно. Ибо если многие старики имеют обыкновение копить богатства, которыми они не могут наслаждаться, то их побуждает к этому вовсе не старческий склад ума, а всегда присущее стремление к богатству. Скорее всего это стремление было у них сильным уже раньше. И эта склонность имеет свои корни совсем не в ожидаемом использовании самого богатства, а в повышенной самооценке, обусловленной сознанием, что это богатство приобретено собственными силами и благодаря собственным дарованиям. Во всем этом нет ничего удивительного. Ибо и те, кто посвящает себя науке, обыкновенно умножают свою ученость по мере того, как они становятся старше, так как в своей учености, как в зеркале, эти люди видят силу своего ума. Одним словом, все имеют обыкновение работать на том поприще, которое они сами себе избрали как наиболее для них приятное до самой глубокой старости, поскольку только они в силах это сделать. И именно в старости люди особенно охотно работают на однажды избранном ими поприще не потому, что они старше, а потому, что они во многом преуспели в этой области. Такие люди подобны движущимся телам, которые движутся тем более быстро, чем более продолжительное время находятся в движении. 3. На склонности [характер] влияет также привычка. Всякое явление, которое вначале – пока оно ново – не нравится человеку, по мере своего повторения подчиняет себе его природу и приводит его к тому, что он сперва начинает терпеть, а затем и любить такое явление. Это преимущественно сказывается при наших попытках овладеть своим телом, но это заметно и в деятельности нашего духа. Так, нелегко отвыкнуть от употребления вина тому, кто привык к нему с молодости. Так, тот, кто с детства проникся какими-нибудь представлениями, сохраняет их в старости, особенно если он вне сферы своих имущественных вопросов не очень беспокоится об истинном и ложном Вот почему у всех народов всякий придерживается той оелигии и того учения, которые он усвоил с самого раннего детства столь крепко, что ненавидит и презирает всех инакомыслящих. Это лучше всего показывают нам сочинения теологов, полные самой грубой брани, хотя последняя менее всего подобает теологам. Люди такого духовного склада не склонны к миру и спокойной общественной жизни. Еще одним следствием привычки является то, что люди, часто и подолгу подвергавшиеся опасности, перестают быть боязливыми, точно так же, как люди, которые в течение долгого времени были окружены почетом, менее спесивы, ибо постепенно перестали любоваться собой. На склонности [характер] влияют также внешние вещи. Проистекающий отсюда опыт приводит к тому, что люди становятся осторожными. И наоборот, люди, обладающие небольшим опытом, в большинстве случаев не осторожны. Ибо человеческий ум, размышляя, идет от известного к неизвестному; он не может предвидеть отдаленных последствий различных вещей, если не обладает знанием, основанным на чувственном восприятии, т. е. знанием многочисленных причинных зависимостей. Отсюда положительное влияние на человеческий характер неблагоприятных обстоятельств: слишком смелого человека исправляют многочисленные неудачи; честолюбивого – повторные поражения; заносчивого – частый и хладнокровный отпор. Мальчиков, наконец, розга помогает приучить ко всему, чего желают родители и воспитатели. Склонности [характер] изменяются также в известных границах под влиянием благ, даруемых судьбой (фортуной), т.е. богатства, знатного происхождения, власти. Богатство и власть делают нрав более высокомерным, ибо тот, кто обладает большей властью, требует, чтобы ему было и больше позволено. Такого рода люди более склонны быть несправедливымик другим и менее способны относиться как к равным к менее влиятельным людям. Принадлежность к старому дворянству делает человека приветливым, так эти люди, достаточно уверенные в том, что никто не откажет им в должном уважении, могут без всякой опасности щедро и приветливо оказывать уважение всякому. Новое же дворянство настроено скорее недоверчиво и, не зная еще определенно, на какого рода почести они могут претендовать, они часто слишком грубы по отношению к нижестоящим и слишком почтительны по отношению к равным. 6. Мнение, которое каждый имеет о себе, влияет на склонности [характер] человека. Поэтому люди, считающие себя мудрыми, не будучи таковыми, не склонны исправлять собственные недостатки, ибо они уверены, что ни в каком отношении не нуждаются в исправлении. Напротив, такие люди склонны исправлять, порицать или осмеивать действия других, считая неправильным все, что противоречит их представлениям. Они считают плохим политический строй государства, которым управляют не так, как им было бы желательно, и поэтому более других склонны к переворотам. Таковы же и те, кто воображают себя учеными; они хотят прослыть и мудрецами, ибо одна ученость никого не удовлетворяет. Этим и объясняется то, что педагоги столь часто прибегают к менторскому тону и столь терпимы в своем обращении с людьми. Видя себя призванными формировать характер детей, они лишь весьма неохотно воздерживаются от критических суждений о характере отцов и, наконец, всех окружающих. Подобным же образом люди, проповедующие в обществе мораль, т. е. прежде всего ученые церковники, претендуют на то, чтобы им было предоставлено руководство монархами и высшими князьями церкви, хотя они и сами не знают, кто поручил им выполнение столь великого дела. Ибо эти люди хотели бы внушить нам, что такая задача непосредственно доверена Богом именно им, а не монархам и мужам, призванным заботиться о счастье народа, а это мнение в высшей степени опасно для государства. Подобным же образом те, кому государство поручило истолковывать законы, едва ли способны не считать себя мудрее других именно в силу этого великого доверия к ним со стороны сограждан. Облеченный такими полномочиями, человек не довольствуется одними судебными функциями, т. е. истолкованием законов, выражающих волю граждан, а часто стремится к тому, чтобы оказать влияние на законодательство и побудить правительство к установлению определенного порядка в государстве. И это в большинстве случаев приводит к возникновению гражданских войн. Ибо если правительство обвиняют в несправедливости люди, которые считаются лучшими знатоками права, то против него, т. е. против самого государства, подымается с оружием в руках невежественная толпа, предводительствуемая людьми, которым нововведения и гражданская война либо желательны по причине их честолюбия, либо полезны по причине расстроенности их состояния. 7. На склонности [характер] влияют также авторитеты. Авторитетами я называю тех людей, чьими предписаниями и чьим примером какой-либо человек решает руководствоваться из уважения к их мудрости. Хорошие авторитеты оказывают благотворное влияние на формирование характера юношей, плохие же авторитеты влияют на формирование этого характера вредным образом. Авторитетами являются учителя, родители или другие люди, прославившиеся своей мудростью. Ибо все уважают прославившихся людей и считают их достойными подражания. Отсюда, во-первых, следует, что родители, учителя и воспитатели в целях образования юношей обязаны не только преподавать последним истинные и добрые учения, но и, кроме того, вести себя в их присутствии добродетельно и быть справедливыми. Ведь юношеский характер легче склоняется к плохому под влиянием примера, чем к доброму под влиянием наставлений. Во-вторых, отсюда следует, что книги, которые нам следует читать, должны содержать здравые, чистые и полезные идеи. Книги, написанные римскими гражданами в эпоху распада республики или в эпоху, непосредственно следующую за падением последней, а также греками в период расцвета Афинского государства, полны мыслей и примеров, враждебно настраивающих народ против монархов, ибо в них прославляются такие преступления, совершенные безнравственными людьми, как цареубийство, а самих монархов изображают как тиранов. И в наше время чтение книг и слушание на родных проповедников, желающих создать государство в государстве, церковное королевство в светском, по большей части лишь способствуют извращению здравого ума народа. В результате образуются люди, подобные не Кассию и Бруту, а Равальяку и Клеману, которые думали, что служат Богу, в то время как, убивая своих королей, они служили честолюбию других людей [102]. 8. Если благодаря привычке какие-либо склонности укореняются так прочно, что могут легко проявляться, не встречая противодействия со стороны разума, то мы называем совокупность их нравами. Если нравы хороши, их называют добродетелями, если же они плохи,- пороками. Но так как не для всех хорошо и плохо одно и то же, то одни и те же нравы некоторыми одобряются, а другими порицаются, т. е. некоторыми расцениваются как хорошие, другими же – как плохие, одни называют их добродетелями, другие – пороками. Вот почему, подобно тому, как мы говорим: «Сколько голов, столько умов», можно сказать: «Сколько людей, столько различных правил относительно добродетели и порока». Это, однако, относится лишь к людям как таковым, а не к гражданам. Ибо человек вне государства не обязан следовать чуждому предписанию, в государстве же обязанности человека определяются соглашениями. Отсюда следует, что наука о морали человека как такового, взятого вне государственной организации, не может быть построена, ибо здесь нет определенной меры, с помощью которой мы могли бы определить и оценить добродетель и порок. Но все науки начинаются с определения понятий, в противном случае они не заслуживают названия наук, а являются пустыми разговорами. 9. Только в государстве существует общая мера для добродетелей и пороков. И такой мерой могут поэтому служить лишь законы каждого государства. Ведь когда государственный строй установлен, то даже естественные законы становятся частью законов государственных. И эта мера существует во всех государствах, несмотря на то что в каждом из них есть бесчисленное множество законов, равно как и на то, что эти государства имели некогда иные законы. Ибо, каковы бы ни были эти законы, подчинение им всегда и везде считалось добродетелью граждан, а нарушение их – пороком. Даже если известные действия, считающиеся в одном государстве справедливыми, в другом считаются несправедливыми, то справедливость как таковая, т. е. подчинение законам, везде одна и та же и таковой останется. А нравственная добродетель, рассматриваемая с точки зрения государственных законов, различных в разных странах, есть справедливость; рассматриваемая же с точки зрения естественных законов – только милость (charitas). К этим двум добродетелям сводится всякая добродетель. Что же касается трех других добродетелей, называемых главными наряду со справедливостью, а именно мужества, благоразумия и умеренности, то это добродетели не граждан как таковых, а граждан как людей, ибо они полезны не столько государству, сколько тем отдельным людям, которые ими обладают. Государство, правда, может быть сохранено лишь благодаря мужеству, благоразумию и умеренности добрых граждан, но оно может и погибнуть из-за мужества, благоразумия и умеренности врагов. Мужество и благоразумие вообще больше способности духа, чем преимущества нрава, умеренность же не столько нравственная добродетель, сколько отсутствие порока, порожденного алчными страстями. Такого рода порок приносит меньше вреда государству, чем отдельному человеку. Подобно тому как существует личное благо всякого отдельного гражданина, существует всеобщее благо государства. Нельзя требовать, чтобы мужество и благоразумие отдельного человека, если они полезны только ему одному, рассматривались как добродетель государством или какими-нибудь людьми, которым они не приносят никакой пользы. Резюмируя все изложенное нами учение о нравах и о способностях, или склонностях, следует сказать, что хорошими являются такие склонности, которые способствуют совместной жизни людей в условиях государственной организации. Добрыми нравами, т. е. моральными добродетелями, являются такие нравы, благодаря которым однажды возникшая государственная организация лучше всего может сохраниться. Но все добродетели заключаются в справедливости и милости. Это значит, что склонности, противоречащие этим добродетелям, безнравственны и все пороки заключаются в несправедливости и бесчувственности к чужим страданиям, т.е. в отсутствии милости.ГЛАВА XIV О РЕЛИГИИ
1. Определение религии. 2. Что значит любить и бояться Бога. 3. Что такое вера. 4. Вера зависит от законов. 5. Справедливость запечатлена в сердцах Богом. 6. Бог может отпускать грехи, не совершая несправедливости и не прибегая ни к какой каре. 7. Справедливые дела кого бы то ни было не являются грехами. 8. Определение культа и его подразделение. 9. Что такое публичный культ. 10. Составные элементы культа: молитва, воздаяния, благодарности, публичные посты, дары. 11. Различные суеверные культы. 12. Какова цель культа для смертных существ, беспокоящихся о будущем. 13. Каковы факторы, определяющие изменения религий. 1. Религия есть внешний культ, посредством которого люди выражают свое искреннее почитание Бога. Искренне считает Бога тот, кто не только верит в его существование, но и считает его всемогущим и всеведущим творцом и правителем всего сущего, а сверх того, распределяющим счастье и несчастье по своему усмотрению. Религия как таковая, т. е. естественная религия, распадается, таким образом, на две части, одну из которых составляет вера, т. е. убеждение в том, что Бог существует и правит всем, вторую же – культ. Первая часть, а именно вера в Бога, называется обычно благочестием по отношению к Богу. Люди, обладающие этой верой, по необходимости будут стараться во всем повиноваться Богу, воздавая Ему хвалу в счастье, молясь Ему в несчастье; это – дела благочестия в собственном смысле; в них заключается любовь и страх, повелевающие нам любить Бога и бояться Его. Однако человек должен любить Бога не так, как человек любит человека. Ибо под любовью человека к человеку мы всегда понимаем стремление к обладанию или доброжелательность; но ни одно из этих чувств нельзя, не изменяя здравому смыслу, подразумевать под любовью к Богу. Любить Бога – значит радостно исполнять Его заветы. Чтить Бога – значит остерегаться греха, подобно тому как мы привыкли бояться законов. Вера же, за исключением веры в то, что Бог все сотворил и всем управляет, в то, что выходит за пределы природных возможностей человеческого понимания, зиждется на авторитете тех, кто сообщает нам это. Верить же последним у нас есть основания лишь тогда, когда мы предварительно убедились в том, что они сами получили свое знание сверхъестественным образом. Относительно вещей сверхъестественных мы не верим никому, кроме того, о ком нам известно, что он сам совершил нечто сверхъестественное. Пусть кто-нибудь в подкрепление своего умения станет ссылаться на чудеса; но если он сам не совершил таковых, кто ему поверит? Если бы мы должны были верить всякому, не требуя от него подтверждения истинности его учения посредством чуда, то почему при наличии противоречивых учений мы должны были бы верить одному больше, чем другому? Следовательно, самая важная часть нашей религии и наиболее угодная Богу вера не должна зависеть от отдельных людей, если они не совершают чудес. Если религия, за исключением естественного благочестия, не зависит от отдельных людей, то она должна – ибо чудес уже давно не бывает – зависеть от законов государства. Поэтому религия не философия, а закон в каждом государстве; следует не спорить о ней, а исполнять ее веление. Нет никакого сомнения в том, что надо благоговейно думать о Боге, любить, страшиться и почитать его. Это то, что общо всем религиям у всех народов. Спорно лишь то, о чем люди думают по-разному, вера же в Бога всех их объединяет. Споры же о вещах, которые не могут быть предметом знания, расшатывают нашу веру в Бога. Ибо по достижении знания исчезает вера, подобно тому как осуществление надежды уничтожает саму надежду. И вот апостол учит нас, что, когда наступит Царство Божие, из трех добродетелей: веры, надежды, любви – вера и надежда перестанут существовать и останется лишь любовь. Следовательно, вопросы о существе Бога, творца природы, есть проявление любознательности и не могут быть причислены к делам благочестия. Тот, кто спорит о Боге, стремится не столько к распространению веры в Бога – в которого и без того все веруют,- сколько к упрочению собственного авторитета. 5. Так как любить Бога означает то же, что следовать его заветам, а бояться Бога – то же, что бояться нарушить какой-нибудь из его заветов, то возникает следующий вопрос: откуда мы знаем, что повелел Бог? На этот вопрос можно ответить так: одарив человека разумом, Бог тем самым возвестил нам свой высший завет, запечатленный им во всех сердцах, а именно: никто не должен делать другому того, что он считал бы несправедливым, если бы другой сделал это по отношению к нему. В этом завете содержится основа всякой справедливости и всякого гражданского повиновения. Кто из тех, кому народ доверил в государстве высшую законодательную и исполнительную власть, не счел бы несправедливыми действия того из подданных, который оказывал бы неуважение установленным им законам, не признавал его власти или ставил ее под сомнение? Следовательно, если, будучи королем, ты счел бы это несправедливым, разве в лице закона ты не имеешь самое надежное правило для твоих поступков? Но и божественный закон предписывает нам подчиняться высшим властям, т. е. законам, установленным высшими правителями. 6. Однако люди ежедневно нарушают заветы Бога и совершают грехи. Как согласовать с божественной справедливостью, возразят нам, то обстоятельство, что Бог не карает грешников? Но разве человека, который никогда не мстит за учиненную ему несправедливость и прощает своего обидчика, не требуя ни какого-либо наказания, ни даже раскаяния, мы будем считать несправедливым, а не святым? Следовательно, если мы не думаем утверждать, будто сострадание менее присуще Богу, чем людям, нечего удивляться тому, что Бог прощает грешников, по крайней мере кающихся, не требуя никакого искупления ни от них самих, ни от других. Если Бог некогда требовал жертв от народа во искупление грехов последнего, эти жертвы предназначались не для наказания; они должны были служить знаками того, что грешники снова обратились к Богу и вернулись на путь послушания. Точно так же и смерть нашего Спасителя была не наказанием грешников, а жертвой во искупление грехов. И если говорят, что Он взял наши грехи на Себя, то Его смерть все-таки так же не была наказанием, как и приносившиеся некогда жертвы, которые ведь вовсе не означали, что на жертвенных животных наложены наказания за грехи, совершенные иудеями, а имели смысл даров, приносимых благодарными людьми. Бог ежегодно требовал от израильтян двух козлов; одного из них, предназначавшегося в жертву, убивали, а другого, отягченного грехами народа, прогоняли в пустыню, с тем чтобы Он как бы уносил с собой грехи народа. Таков же смысл и жертвы Христа, распятого на кресте. Будучи отягчен нашими грехами, Он воскрес, а если бы Он не воскрес, то, как говорит апостол, наши грехи остались бы. Так как благочестие заключается в вере, справедливости и любви, а справедливость и любовь суть нравственные добродетели, то я не могу согласиться с теми, кто обозначает их как блистательные грехи. Если бы они были грехами, то мы должны были бы тем менее доверять человеку, чем благочестивее последний? Как менее справедливому. Что может не нравиться Богу в тех, кто следует принципам справедливости? Очевидно, лишь лицемерие тех, кто не имеет веры, а значит, и наиболее существенного элемента благочестия. Ибо пусть многие дела этих людей и справедливы, сами они не являются справедливыми, если дела справедливости и милосердия совершались ими для того, чтобы добиться славы или власти, либо для того, чтобы не подвергнуться наказанию. Поэтому говорят, что Богу были неугодны жертвоприношения Его народа, но они предписывались самим Богом и не могли быть грехом. Но подобно тому, как Бог питает отвращение к справедливым делам, совершенным без веры, он питает отвращение к жертвоприношениям и всяким воздаваемым Ему почестям, если такого рода культ не связан ни со справедливостью, ни с любовью. Чтить (colere) что-либо, собственно, значит, выполняя обязанности и всецело отдаваясь работе, стараться сделать свое дело так, чтобы в результате получилось благо для нас. Так, мы заботливо обрабатываем почву, с тем чтобы она приносила нам более богатые плоды; мы оказываем почести влиятельным людям, с тем чтобы добиться при их помощи влияния или получить от них защиту; точно так же мы чтим Бога, дабы он был милостив к нам. Чтить Бога – значит, следовательно, совершать дела, знаменующие благочестие по отношению к нему. Такие дела приятны Богу, и только посредством их мы можем добиться Его милостивого расположения к нам. Но эти дела в большинстве случаев того же рода, что и те, которыми мы свидетельствуем свое уважение людям; только для Бога мы выбираем наилучшее. Других способов естественного выражения нашего благочестия не существует. Формы религиозного культа могут быть частными и общественными. Частными являются те из них, которые совершаются отдельными людьми по их усмотрению; общественными – те, которые совершаются по предписанию государства. Частные формы в свою очередь могут совершаться или одним лицом, и притом тайно, или многими лицами сообща. В первом случае формы культа являются выражением искреннего благочестия; ибо к чему может служить лицемерие тому, кого не видит никто, кроме того единственного, кто видит всякое лицемерие насквозь? Общие же формы культа могут быть результатом лицемерия или честолюбия. Культ, осуществляющийся тайно, лишен всяких обрядов. Обрядами я называю те знаки благочестия, которые не вытекают из его природы. Если мы во время молитвы падаем ниц или преклоняем колени перед Богом в знак смирения и покорности, то это внушено самой природой всем тем, в кого она вложила веру в Бога. В частном богослужении, в котором участвуют многие лица, могут, кроме того, иметь место обряды, ибо участники богослужения могут сообща вынести постановление о наиболее подходящих формах их совместного культа, при этом, само собой разумеется, эти постановления не должны противоречить государственным законам. Однако легко может случиться так, что человек окажется вынужденным лицемерить даже тогда, когда он этого не хочет. Так, когда много людей собираются вместе, они, как это свойственно всякому сборищу (multitude), требуют, чтобы по отношению к ним каждый проявлял почтительность и чтобы никто не обращался к ним и не выступал перед ними с глупой, необдуманной, мужицкой, неясной, непонятной и некрасивой, по их мнению, речью, а чтобы каждый, кто выступает перед ними, наоборот, держался с особым достоинством, так, как никто никогда не держится у себя дома. Вот почему тот, кто обращается с речью ко многим людям или в их присутствии, когда все остальные молчат, вынужден напускать на себя более важный и благочестивый вид, чем во всех других случаях. Этот вид есть актерская поза, в которой неповинно, однако, лицо, прибегающее к ней; ведь этого требует сборище, которое значительно сильнее отдельного лица. 9. Публичный культ не может совершаться без обрядов, ибо его в знак уважения к Богу совершают по приказу государства все граждане, и притом в определенных местах и в определенное время. Право решать, что подобает, приятно или чего нет в служении Богу, принадлежит при общественном богослужении лишь государству. Обряды, собственно, являются знаками благочестивых действий и обусловлены не только самой природой этих Действий, как это бывает, когда культ продиктован разумом), но и произвольными велениями государства. Вот пешему мы находим в религиозном культе одного народа много такого, чего нет в религиозном культе другого народа, так что иногда формы религиозного культа одного народа, высмеиваются другими народами. Непосредственно установленного Богом культа никогда не существовало, за исключением культа евреев, у которых сам Бог был монархом. Что касается других народов, то у некоторых из них обряды были разумнее, чем у прочих, но требованием разума у всех них было выполнение обрядов, предписанных государственными законами. 10. Составные элементы культа частью разумны, частью суеверны, частью фантастичны. Разумны прежде всего молитвы. Посредством их мы обнаруживаем свою веру в то, что всякое благо придет от Бога и лишь от него одного это благо можно ожидать. Разумны также выражения благодарности, ибо посредством их мы обнаруживаем нашу веру в то, что все блага были дарованы нам Богом и его благодатью. Иногда говорят, что благочестивые люди своими молитвами изменяют волю Бога или даже одерживают над ней верх. Но это отнюдь не значит, будто они когда-либо вынуждают Бога изменять его суждения, или его вечные решения; это следует понимать так, что Бог — устроитель всех вещей – хотел лишь, чтобы его дары людям то предшествовали их молитвам, то следовали за ними. Вот почему как молитвы, так и выражения благодарности были не без основания охарактеризованы одним именем – молебен (supplicationes). Разумны также публичные посты и другие действия, посредством которых мы выражаем скорбь о совершенных нами грехах. Как знаки раскаяния, т. е. стыда, испытываемого нами по поводу наших грехов, эти действия свидетельствуют о том, что, сознавая свои прежние ошибки, мы меньше доверяем своим силам и намерены в будущем остерегаться того, чтобы снова впасть в грех. Смирение и печаль мы обычно выражаем, одеваясь в рубище, посыпая голову пеплом и падая ниц; это совершается нами не потому, что без таких внешних знаков наш стыд и наше смирение не были бы искренни, а потому, что сама природа внушает нам истину, согласно которой, хотя Бог и видит то, что совершается в наших сердцах, мы все же должны облекать наше поклонение ему в те же формы, в какие облекаем его, поклоняясь людям, которые лишь на основании таких знаков могут судить о нашем искреннем раскаянии. Тот, у кого явилась уверенность в прощении его грехов, черпает в этом сознании новые силы и не томится более печалью (если только стыд не является такой же печалью). Ибо тот, кто продолжает сетовать, тем самым доказывает, что он по-прежнему чувствует себя повергнутым в горестное состояние и боится, что грехи, от которых он не может отказаться, приведут его к гибели. Точно так же горестно плачет в открытом море купец, видя, что или он, или его товар обречен на гибель. Вот почему при богослужении естественны и приличны серьезность и скорбь о грехах, но последняя должна быть скорбью не протестующего, а стыдящегося и смирившегося душой человека. К публичному богослужению относятся, естественно, и дары, т. е. пожертвования и приношения. Было бы неразумно не давать со своей стороны ничего тому, от кого мы получаем все. Вот почему мы приносим известную часть наших средств в дар Богу и жертвуем некоторую часть их на содержание служителей публичного культа в соответствии со значением их функций. Ибо подобно тому, как в первые века существования церкви служители Христа получали пропитание посредством проповеди Евангелия, т. е. жили за счет пожертвования людей, благодарных за несомую этими служителями благую весть, и подобно тому, как у евреев и у большинства других народов священнослужители жили за счет даров и жертвоприношений, так и ныне в каждом государстве в соответствии с требованиями справедливости следует содержать священников за счет того, что приносится в дар. Эти дары должны быть поэтому во всех отношениях наилучшими. Суеверный культ слишком разнороден вследствие разнообразия религиозных верований, которое в особенности характерно для народов, исповедующих многобожие (предполагающее целый ряд небожителей, нечто вроде государства воздушных людей). Такого рода культы поэтому трудно описать. Исповедовавшие многобожие народы древности верили даже, что живущие на небе боги имеют свой собственный язык и называют вещи иначе, чем люди. Например, они полагали, будто тот, кого на земле называли Ромулом, на небе назывался Квирином. Точно так же, по мнению греческих поэтов, отцов языческой церкви, и другие существа и предметы назывались будто бы на небе иначе, чем на земле. Подобным же образом и духовенство именует церковью то, что мы именуем государством, а в церкви называется каноном то, что в государстве называется законом, и святейшеством то, что в монархии называется величеством. Не удовлетворившись одной общиной Богов, древние язычники вообразили еще вторую такую общину, состоящую из морских Богов и находящуюся под верховной властью Нептуна, а также третью, подземную – под властью Плутона. Кроме того, не было почти ни одной твари, которую они не провозгласили бы Богом или Боги ней; не было почти ни одной добродетели, которой они не посвятили бы храма или алтаря; лишь работа и прилежание, два божества, милостивые сами по себе, составили здесь исключение. Одним словом, все, что могло иметь имя, могло также стать божеством. Всякий понимает, как мало все это согласуется с естественным разумом. Но повелеть, чтобы такое суеверие называлось религией, мог лишь закон, который и любое другое суеверие мог объявить культом. Задача, которую все государства ставят перед религиозным культом, сводится к тому, чтобы Бог или Боги данного государства были милостивы как к самому государству, так и к отдельным гражданам. Однако большинству людей простой милости Бога недостаточно. Они рассуждают следующим образом: Бог, правда, пошлет мне добро, но, может быть, не то, которого я желаю; он отвратит от меня несчастье, но все же и мне не мешает быть осторожным. Хотел бы я поэтому знать, каковы те блага, которые он хочет ниспослать мне, и какого рода то угрожающее мне несчастье, которое необходимо отвратить. При всем их благоговении к Богу они, по-видимому, все же постоянно сомневаются в его мудрости и доброте. Следствием этого является то, что почти все люди из страха перед будущим прибегают ко всякого рода приметам, число которых слишком велико, чтобы их можно было перечислить. Все предзнаменования лживы, за исключением лишь откровений пророков, при том условии, если последние посредством чудес доказали, что они действительно пророки. То, что берется предсказывать на основании созерцания звезд астрология, не имеет ничего общего с наукой; это лишь ловкий маневр людей найти себе средства к существованию и поживиться за счет глупой толпы. Точно так же надо судить о людях, которые, не совершив никакого чуда, выдают себя за пророков. Если кто-либо неспособный совершать чудеса считает свои сны предзнаменованием будущих событий, то это глупость; если он требует, чтобы ему верили, то это безумие; если же он предвещает государству гибель, то это преступление. Вера многих людей в то, что колдуньи вредят тем, кому они желают зла, ни на чем не основана. Если же колдуньи желают причинить кому-либо несчастье и это несчастье действительно наступает, то они сами воображают, что несчастье причинено по их просьбе дьяволом, которого они будто бы видели и постоянное содействие которого будто бы обеспечили. Вот почему колдуньи иногда сознаются в совершении колдовских действий. Будущего они, разумеется, также не знают и лишь надеются, что наступит то, чего они желают. Тем не менее они заслуженно несут наказания как за свой злой умысел, так и за преступный культ. Кроме того, люди придавали пророческое значение простым предчувствиям, т. е. чувству страха и надежды, и даже собственным снам. Предзнаменованием служил и случайный полет птиц. Люди всматривались также во внутренности животных, надеясь найти в них указание на будущее. Предзнаменованием будущего считались и случайно оброненные кем-либо слова. Все необыкновенное рассматривалось как чудо и знамение, ибо предполагали, что Боги предсказывают этим будущие события. В ходу были также разного рода жребии; иначе говоря, люди хотели знать судьбу посредством всякого рода игры случая. Но я опускаю бесчисленные Другие виды предсказаний, чтобы не задерживаться слишком долго на человеческой глупости. 13. Два обстоятельства являются обычно причинами религиозных переворотов, и оба они зависят от священников: это бессмысленные догматы и образ жизни, не соответствующий предписаниям проповедуемой ими религии. Мудрые владыки римской церкви заблуждались, думая, что невежеством толпы (vulgi ignorantia) можно злоупотреблять в такой мере, чтобы требовать от нее – и не только в то или иное время, но из века в век – веры в противоречащие друг другу слова. Толпа постепенно становится образованнее и начинает в конце концов понимать значение употребляемых ею слов. И вот когда эта толпа видит, что учители религии не только употребляют сами, но и свято требуют от других употреблять слова, противоречащие друг другу, то она готова сначала к тому, чтобы презирать этих учителей, как невежд, а затем к тому, чтобы считать само их учение ложным и либо исправить его, либо изгнать его из государства. Учители церкви должны поэтому прежде всего остерегаться вносить в религиозный культ что-либо из естественных наук. Ибо, совершенно не зная естественных наук, они не могут не приходить иногда к нелепым утверждениям, которые, будучи впоследствии обнаружены даже и неучеными людьми, вызывают пренебрежение ко всему, чему учат эти учители. Так, разоблаченное Лютером невежество учителей римской церкви не только в значительной мере подорвало католическую религию у нас и у других народов, но и сделало сами народы независимыми от Рима. Если бы эти учители римской церкви не касались вопросов о пресуществлении, т. е. о природе тела и пространства, о свободе воли, т. е. о природе воли и разума, и ряда других, которых я не стану здесь перечислять, то они сохранили бы все, что приобрели. Что касается другой причины религиозных переворотов, а именно нравов, то очевидно следующее: среди народов (vulgus) никто не может быть настолько глуп, чтобы не считать обманщиком того, кто учит вещам, в которые и без того трудно верить, если к тому же образ жизни такого учителя свидетельствует, что последний сам не верит в то, чему учит. Человек из народа приходит в таком случае к заключению, что не следует верить в то, во что предписывает верить такой учитель, особенно когда, как он полагает, последнему выгодно, чтобы ему верили. Следовательно, если представители духовенства, как это бывает всегда и везде, требуют, чтобы верующий был менее жадным, менее честолюбивым, менее надменным, менее преданным чувственности, чем другие, чтобы он меньше вмешивался в мирские, т. е. политические, дела, менее бранился, менее завидовал, был проще, т. е. чистосердечнее, а также сострадательнее и правдивее по сравнению с другими; если, повторяю, представители духовенства требуют всего этого от верующих, между тем как сами не следуют этим правилам, то они не могут жаловаться на то, что им в конце концов перестают верить. Я по крайней мере убежден, что причина сильного расцвета христианской религии во времена святых апостолов в значительной мере заключалась в том, что жизнь языческих служителей культа не была святой и моральной. Эти служители культа, разделяя с современной им толпой все ее пороки, сверх того, еще вмешивались в столкновения государств; они оберегали Богов, как няни оберегают маленьких детей, очевидно, для того, чтобы не допустить к ним нежелательных просителей. Желательны же были этим алчным людям только те просители, от которых они ждали благодеяний.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ О ГРАЖДАНИНЕ
Его высокопревосходительству Вильяму, графу Девонширскому, моему высокочтимому господину[103] . Высокочтимый господин! Римский народ, помня о Тарквиниях и уважая свое государство, ненавидел царей и устами цензора Марка Катона утверждал, что цари – из породы хищных зверей. Ну а сам-то римский народ, который разорил чуть ли не весь мир с помощью всех этих Африканских, Азиатских, Македонских, Ахейских и прочих полководцев, получивших свои титулы от имени ограбленных народов, разве сам он не был ужаснейшим чудовищем? Поэтому столь же мудро, как и Катон, сказал Понтий Телезин, который во время сражения с Суллой у Коллинских ворот, объезжая ряды своего войска и призывая разрушить и уничтожить сам Рим, воскликнул: «Никогда не переведутся истребляющие свободу Италии волки, если не вырубить лес, в котором они всегда укрываются». Конечно, правильны оба утверждения: и человек человеку Бог, и человек человеку волк. Первое – в том случае, если речь идет об отношениях между собою сограждан, второе – когда речь идет об отношениях между государствами. В первом случае благодаря справедливости, доброте и прочим мирным добродетелям человек возвышается до подобия Божия, во втором – из-за злых и дурных людей даже людям порядочным, если они хотят сохранить свое существование, приходится прибегать к добродетелям военным – к силе и хитрости, то есть к звериной жестокости. И хотя люди обычно ставят ее в упрек друг другу, в силу врожденной им привычки, видя собственные дела свои в другом и, как в зеркале, принимая правое за левое, а левое за правое, однако естественное право исходя из необходимости самосохранения личности не позволяет считать это пороком. Иные, пожалуй, могут удивиться, как это на Катона, человека столь выдающейся мудрости, до такой степени смогла подействовать ненависть, что он уступил аффекту и, пренебрегая требованиями разума, не признавал справедливым для царей то, что он считал таковым для народа. Но я уже давно пришел к тому убеждению, что необычная мысль никогда не нравилась толпе, да к тому же и мудрость, превышающая некий посредственный уровень обычно не вызывает сочувствия, потому что либо ее не понимают, либо если и понимают, то снижают до своего уровня. Деяния и высказывания греков и римлян сделались знаменитыми и стали достоянием истории благодаря не разуму, а мощи и иной раз даже благодаря тому самому волчьему зверству, в котором они взаимно упрекают друг друга, а уж история вместе с общественными деяниями пронесла через века имена самих деятелей, кто бы они ни были. Истинная мудрость есть не что иное, как познание истины в любом предмете. Поскольку же она вытекает из памяти о вещах благодаря определенным и точным наименованиям, она представляет собой результат не внезапного мощного порыва души, а подлинного разума, то есть философии. Именно через нее открывается путь от созерцания отдельных предметов к общим понятиям. И эта философия делится на столько же ветвей, сколько существует родов вещей, которые могут быть доступными человеческому разуму, и каждая из этих ветвей получает различное наименование в зависимости от различия изучаемых ею предметов. Наука, изучающая формы, называется геометрией, наука о движении – физикой, наука о естественном праве называется философией морали, тогда как вся наука в целом является философией, подобно тому как море в одном случае называется Британским, в другом – Атлантическим, в третьем – Индийским, в зависимости от наименования тех земель, которые оно омывает, в целом же это океан. Что касается геометров, то они превосходно справляются со своим делом. Ведь вся та польза, которую приносят людям в жизни наблюдение за звездами, описание и изображение земель, счет времени, дальние плавания, все, что есть прекрасного в зданиях, вся мощь укреплений, все удивительное в машинах, наконец, все то, что отличает наше время от древнего варварства,- почти всем этим люди обязаны геометрии. Да и всем тем, чем мы обязаны физике, сама физика обязана той же геометрии. И если бы философы, трактующие вопросы морали, достигли подобных успехов в своей деятельности, вряд ли человеческое усердие смогло бы что-нибудь прибавить еще к тому, чтобы сделать жизнь счастливой. Ведь если бы мотивы человеческих поступков были познаны столь же точно, как отношения величин в геометрических фигурах, то честолюбие и корыстолюбие, чье могущество опирается на ложные представления толпы о праве и несправедливости, оказались бы безоружными, и человеческий род наслаждался бы столь прочным миром, что единственным поводом для борьбы мог бы оказаться лишь недостаток территории из-за постоянного увеличения численности людей. А теперь же беспрерывно ведущаяся и мечами и перьями война, то же, что и прежде, невежество в естественных законах и праве, философские учения, помогающие каждой из противоборствующих сторон обосновать собственную правоту, одно и то же действие, восхваляемое одними и порицаемое другими, люди, одобряющие сегодня то, что в другое время они же и порицают, и подходящие с разными мерками к себе и другим,- все это является очевиднейшими доказательствами, что все написанное до сих пор философами, трактующими вопросы морали, не принесло ни малейшей пользы для познания истины; они предпочитали не просвещать умы, а подтверждать изящной и приятной для слуха речью ни на чем не основанные предположения. С этой частью философии случилось нечто схожее с тем, что происходит на общественных дорогах. Все ходят по ним, путешествуют туда и сюда, гуляют и развлекаются, но ничего на них не сеют. Мне представляется единственное объяснение этому: никто из тех, кто обращался к рассмотрению этого предмета, не сформулировал соответствующий принцип изложения. Ведь мы не можем произвольно положить начало нашему изучению предмета, как произвольно можно выбрать любую точку круга. В самом мраке сомнения берет начало некая нить рассуждения, постепенно выводящая нас на яркий свет: именно здесь лежит исходный пункт изложения (docendi), отсюда, оглядываясь на пройденный путь, следует обрести свет, который развеет сомнения. Следовательно, всякий раз, как писатель опускает эту нить по неопытности или в нетерпении обрывает ее, он описывает путь своих заблуждений, а не познания. А посему, коль скоро я обратил свои устремления на исследование естественной справедливости, само это слово – справедливость, обозначающее твердое желание воздавать каждому свое, напомнило мне, что прежде всего следует понять, почему каждый стремится скорее назвать какую-то вещь своей, чем отдать ее другому. А поскольку было ясно, что происходит это не по природе, а в силу соглашения между людьми (ибо все, что природа дала им, люди уже распределили между собой), то отсюда я приходил к другому вопросу, а именно: ради чего и в силу какой необходимости люди, несмотря на то что все принадлежало всем, предпочли тем не менее обладать каждый своей собственностью. И я увидел, что за общей собственностью на вещи неизбежно последует война, а за ней и всевозможные несчастья, потому что люди начнут силою бороться между собой за возможность пользоваться ими. Но по природе все стремятся избежать этого. Таким образом, я обнаружил два самых бесспорных требования человеческой природы: естественную потребность (cupiditas naturalis), в силу которой каждый домогается для себя права собственности на вещи, находящиеся в общем пользовании, и естественный разум, в силу которого каждый стремится избежать насильственной смерти как величайшего из природных несчастий. Мне кажется, что в этом скромном труде я, исходя из этих принципов, с наивозможной ясностью и последовательностью показал необходимость соблюдения верности договорам, а также вытекающие отсюда основы нравственной добродетели и обязанностей гражданина. Что касается раздела о Царстве Божием, то он был введен с тою целью, дабы не показалось, что существуют какие-то противоречия между естественными велениями Бога и законом, изложенным в Священном писании. В ходе всего изложения я самым тщательным образом прилагал все усилия к тому, чтобы ничего не сказать о гражданских законах какого бы то ни было народа, то есть старался не приближаться к берегам, опасным из-за подводных скал и бушующих ныне бурь. Я знаю, сколько труда и усилия потратил я на исследование истины, но я не знаю, чего мне удалось достигнуть: ведь мы все переоцениваем наши открытия, ибо мы пристрастны к себе. Поэтому я предлагаю эту книжку скорее на твой суд, чем на твое одобрение. Ибо я по опыту знаю с несомненностью, что твое одобрение определяется не славой автора, не новизной мысли, не красотой слога, но надежностью оснований. Если книга понравится тебе, то есть если окажется сильной, полезной, небанальной, только тогда я с почтением посвящу ее тебе, превосходнейший муж, «моя честь и прибежище», если же я заблуждался, ты по крайней мере будешь иметь во мне свидетеля благодарности, ибо я хотел использовать предоставленный мне твоими щедротами досуг, с тем чтобы заслужить твою благосклонность. Да хранит тебя, столь замечательного гражданина, в сем бренном пристанище всемогущий и всеблагой Господь, да пребудешь ты в нем сколь возможно доле, а по завершении сей жизни да увенчает он тебя славою града небесного. Твоего превосходительства нижайший раб Томас Гоббс. Париж, 1 ноября 1646 г.ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Все, что, по-видимому, способно наилучшим образом возбудить внимание читателя: важность и полезность рассматриваемого предмета, правильный метод изложения, достойная причина и достойная цель сочинения, наконец, скромность самого сочинителя – все это я обещаю вам, читатели, и уже в этом месте нашей книги даю вам возможность как бы заранее взглянуть собственными глазами на ее содержание. В этой книжке излагаются обязанности людей, сначала просто как людей, затем – как граждан и, наконец,- как христиан. Эти обязанности заключают в себе как основы естественного и международного права, происхождение и сущность, так и, насколько допускает характер нашего сочинения, сущность христианской религии. Впрочем, этого рода знания, за исключением того, что касается христианской религии, древнейшие мудрецы считали нужным передать потомкам, лишь разукрасив стихами, прикрыв аллегориями как некую прекраснейшую и священную тайну власти, дабы не осквернять ее словами непосвященных. А между тем одни философы изучали с пользою для человеческого рода формы и движение вещей, другие – причины и природу вещей, не нанося по крайней мере этим вреда человечеству. В последующие времена, как известно, этой гражданской наукой (scientia Civilis) первымзаинтересовался Сократ, когда она еще только зарождалась и лишь частично, как бы сквозь облака, просвечивала в управлении государством, и так отдался ей, что, оставив все прочие разделы философии, только ее одну почитал достойной своего таланта. А за ним обратились к ней Платон, Аристотель, Цицерон и прочие философы, как греческие, так и латинские, и вот уже не только все философы во всем мире, но и просто досужие люди стали заниматься ею и продолжают до сих пор, полагая ее легкой, не требующей «каких усилий, без всякого труда доступной любому неподготовленному уму. О высоком авторитете этой науки особенно свидетельствует то, что люди, полагающие себя опытными в ней, или те, кто по положению своему должен бы быть таковым, до такой степени довольны из-за этого сами собой, что совершенно спокойно соглашаются занимающихся другими науками и признавать и называть талантливыми, учеными, образованными и т. д., но только не мудрецами, полагая, что этого имени заслуживают лишь они одни за свое превосходство в знании гражданской науки. Но оценивать ли значение науки авторитетом тех, кто ею занимается, или числом авторов, пишущих о ней, или, следуя суждению мудрых людей, из всех наук наиболее уважаемой, конечно, оказывается та, которая важна для государей и других людей, управляющих родом человеческим; даже в своем ложном обличье она доставляет удовольствие чуть ли не всем людям, и самые выдающиеся философские умы посвящают себя преимущественно ей. Пользу этой науки, но изложенной корректно, то есть выводимой с очевидной необходимостью из правильных принципов, мы лучше всех поймем тогда, когда рассмотрим, какие потери проистекают для рода человеческого из ее ложного понимания, сводящегося лишь к пустословию. Ведь в тех вопросах, которые мы изучаем только ради тренировки нашего ума, если и будет допущена какая-то ошибка, она не опасна, и мы ничего не теряем в этом случае, кроме времени. Но в исследованиях, имеющих значение для жизни, не только заблуждение, но и неосведомленность неизбежно чреваты оскорблениями, ссорами, убийствами. Поэтому, сколь велики эти потери, столь же велика и польза от того, насколько правильно изложено учение об обязанностях. Сколько царей, сколько просто порядочных людей было убито из-за этого единственного заблуждения – имеет ли подданный право убить царя-тирана? А сколько людей погубило другое заблуждение – может ли быть верховный государь на известных основаниях лишен своей власти определенными людьми? А сколько людей уничтожило ошибочное положение о том, что цари не стоят выше толпы, а являются слугами ее? Наконец, причиною скольких мятежей оказался тезис о том, что частные граждане имеют право судить, справедливы или нет повеления царей, и что они не только имеют право, но и обязаны обсуждать их до того, как они будут объявлены? Кроме того, в общераспространенной моральной философии (philosophia moralis) есть еще много других, не менее опасных положений, перечислять которые нет необходимости. Я полагаю, что древние, предвидя это, предпочли окутать науку о справедливости мифами, а не вести о ней споры и рассуждения. Ведь до того, как стали обсуждаться эти вопросы, государи не требовали себе верховной власти, а осуществляли ее. Власть же свою они отстаивали не в спорах, а карая преступников и защищая честных людей. В свою очередь граждане искали меру справедливости не в разглагольствованиях частных лиц, а в законах государства: мир среди них поддерживался не спорами, а силою власти. Более того, верховную власть, представленную ли одним человеком или неким советом, они почитали как некое зримое божество. Поэтому они никогда не шли, как теперь, за бессовестными честолюбцами, стремящимися ниспровергнуть государственный строй. Ибо им не могло прийти в голову желание уничтожить то, что спасало их от уничтожения. Иначе говоря, они по простоте тех времен не могли усвоить себе столь ученой глупости. Поэтому царил мир и был золотой век, который кончился только тогда, когда был свергнут Сатурн, а люди стали считать возможным поднять оружие и против царей. Повторяю, древние не только понимали это, но и, как мне кажется, весьма удачно выразили это в одном из своих мифов. Говорят, что Иксион, приглашенный Юпитером на пир, влюбился в Юнону и хотел овладеть ею. Но вместо богини он овладел облаком, принявшим ее вид. Таким образом родились кентавры, полулюди, полукони, существа воинственные и беспокойные. Это можно истолковать так: честные граждане, призванные на совет для решения государственных вопросов, пожелали подчинить собственному разумению справедливость, сестру и супругу власти, получив на самом деле как облако лишь ложное и пустое ее подобие, и породили эти двусмысленные учения философов-моралистов, в чем-то верные и привлекательные, но и грубые и поистине звериные, являющиеся причиной всех столкновений и убийств. И вот поскольку подобные взгляды рождаются чуть ли не ежедневно, то если бы кто-нибудь развеял эти облака и неоспоримыми доводами доказал, что не существует ни одного подлинного учения о справедливом и несправедливом, о добре и зле, если не говорить о законах, установленных в каждом государстве, и, наконец, что никто не должен судить, будет ли какое-то действие справедливым или несправедливым, добрым или дурным, кроме тех, кому государство поручило толкование своих законов, то такой человек, бесспорно, показал бы одновременно не только широкий и прямой путь к миру, но и скрытые и темные тропинки, ведущие к мятежам. Можно ли представить что-нибудь более полезное? Что же касается метода, то я решил, что речь должна идти не только о порядке изложения, сколь бы ни был он важен, но что следует начать с самого предмета государства, а затем перейти к его возникновению и форме и к самым истокам справедливости. Ведь всякую вещь лучше всего можно понять, рассмотрев те части, из которых она складывается. Подобно тому, как в часах или в какой-нибудь другой достаточно сложной машине нельзя узнать, в чем состоит роль каждой детали и колесика, если не разобрать их и не изучить отдельно материал, форму и движение этих деталей, так и при изучении государственного права и гражданских обязанностей необходимо если и не расчленять самое государство, то по крайней мере рассматривать его как бы расчлененным, то есть постараться правильно понять, какова человеческая природа, что делает ее пригодной или непригодной для создания государства и каким образом люди должны объединяться между собой, если они хотят жить вместе. И вот, следуя этому методу, я прежде всего в качестве исходного пункта, понятного всем по собственному опыту и с которым никто не сможет не согласиться, выдвигаю положение о том, что люди от природы таковы, что, когда их не удерживает страх перед какой-то общей для них властью, они, не доверяя друг другу и испытывая взаимное опасение, необходимо предпочитают каждый защищать себя собственными силами, если бы им это было позволено делать по праву. Может быть, вы возразите, что некоторые с этим не согласны. Но разве это значит, что я противоречу сам себе, заявляя, что одни и те же люди утверждают и отрицают одно и то же? Отнюдь нет, это не я противоречу себе, а те, кто на деле признают то самое, что они отрицают на словах. Ведь мы видим, что все государства, даже если они находятся в мирных отношениях со своими соседями, тем не менее укрепляют свои границы, располагая вдоль нее войска, строят укрепления вокруг городов, запирают ворота, выставляют стражу. Зачем все это было нужно, если бы они ничего не опасались со стороны своих соседей? Да и внутри самих государств, где существуют законы и злодеев ожидает кара, мы видим, что каждый гражданин никогда не отправляется в путь, не взяв с собой оружия для самозащиты, и не отправляется спать, не заперев не только двери от своих сограждан, но и сундуки и шкатулки от своих домашних. Могли ли люди яснее показать, что они не доверяют ни самим себе, ни друг другу? А поскольку все поступают именно так, то и государства, и люди тем самым сознаются и в своем страхе, и в своем взаимном недоверии. В спорах же они отрицают это, то есть из желания возразить другим они противоречат сами себе. Некоторые, далее, выдвигают и следующее возражение: если попустить это положение, то из него с необходимостью вытекает, что все люди не только дурны (с этим, как это ни неприятно, вероятно, все же придется согласиться, тем более что о том же ясно говорится в Священном писании), но и ДУРНЫ по природе, с чем нельзя согласиться, не впадая в нечестие. Это последнее утверждение о том, что люди дурны по природе, отнюдь не следует из нашего принципа. Ведь даже если дурных людей меньше, чем хороших, однако поскольку мы не в состоянии отличить хороших от дурных, то даже и перед людьми хорошими и скромными постоянно стоит необходимость не доверять другому, быть осторожным, предвосхищать действия другого, подчинять его себе, защищаться любым способом. И еще более неверным выводом было бы, что дурные люди являются дурными по природе. Ведь хотя от природы, то есть от самого рождения, благодаря тому, что они рождаются животными, люди сразу же стремятся к тому, что им нравится, и, насколько это в их силах, или в страхе бегут от угрожающего им зла, либо гневно его отражают, их, однако, обычно не считают дурными на этом основании: ведь те душевные аффекты, которые порождены животной природой, сами по себе не являются дурными, но дурными являются иногда действия, проистекающие из них, которые могут иной раз оказаться и вредными, и противоречащими долгу. Младенцы, если им не дать все, что они хотят, плачут и сердятся, бьют своих родителей, и поступать так заставляет их сама природа, но их нельзя винить, и они не являются дурными, во-первых, потому, что они не могут причинить вреда, а во-вторых, потому, что, будучи лишенными разума, они еще не несут никаких обязанностей. Но если же в зрелом возрасте, приобретя достаточно сил, позволяющих им наносить вред людям, они будут продолжать действовать таким же образом, вот тогда только они становятся дурными и могут быть названы так. Так что дурной человек – это почти то же самое, что и великовозрастное дитя либо мужчина с умом ребенка, а само это качество «быть дурным» есть по существу недостаток разума в том возрасте, когда люди уже обычно приобретают его естественным образом, благодаря учению и собственному горькому опыту. Следовательно, если мы хотим сказать, что люди дурны по природе оттого, что по природе не способны к познанию и разумному мышлению, то нам придется признать, что люди от природы могут испытывать страсть, страх, гнев и прочие животные аффекты, но они не являются дурными от природы. Итак, заложенное мною основание остается незыблемым, и исходя из этого, я прежде всего показываю, что положение человека вне гражданского общества, которое можно назвать естественным состоянием, не может быть ничем иным, как войною всех против всех (bellum omnium contra omnes), и во время этой войны у всех есть право на все. Далее, все люди, побуждаемые собственной природой, поняв весь ужас своего положения, необходимо стремятся выйти из этого несчастного и отвратительного состояния, но это оказывается возможным лишь в том случае, если они по взаимному соглашению откажутся от своего права на все. Далее я разъясняю и обосновываю природу соглашений и то, каким образом должен совершаться перенос права с одного на другого, с тем чтобы соглашения имели силу, а также какие права и кому должны быть обязательно предоставлены для обеспечения мира, то есть в чем состоят требования разума, которые, собственно, и могут быть названы естественными законами (leges naturales). Все это излагается в разделе книги, названном СВОБОДА. После этого я показываю, что такое государство, сколь многообразны его формы, каким образом возникает оно само и верховная власть в нем и какие права должны быть обязательно перенесены гражданами, намеревающимися создать государство, на верховного правителя, будь то один человек или один совет, ибо в противном случае не будет никакого государства и сохранится право всех на все, то есть право войны. Далее, я провожу различие между различными видами государств: монархией, аристократией, демократией, патриархальной и деспотической властью; говорю, каким образом они возникают, выявляю преимущества и недостатки каждого из них. Кроме того, я говорю о том, что может разрушить государство и каковы обязанности лиц, осуществляющих верховную власть. Наконец, я разъясняю природу закона и противозаконного действия, указываю на отличие закона от совета, договора, права. Все это излагается в разделе, озаглавленном ВЛАСТЬ. Для того чтобы не сложилось впечатления, что то право, которым, как я убедительно доказал в предыдущих разделах, обладают по отношению к гражданам верховные правители, противоречит Священному писанию, в заключительной части, которая называется РЕЛИГИЯ, я показываю, что оно не противоречит Божественному праву, коль скоро Бог повелевает повелителями по природе, то есть в силу естественного разума. Во-вторых, оно не противоречило Божественному праву, когда Бог правил иудеями в силу древнего договора об обрезании. В-третьих, оно не противоречит Божественному праву и тогда, когда Бог повелевает христианами в силу договора о крещении. Таким образом, это право верховных правителей, или право государства, вообще не находится в противоречии с религией. Наконец, я указываю, что является необходимым для вступления в Царство Небесное, а из этого с полной очевидностью прихожу к заключению, что то повиновение, которое, как я утверждал, каждый гражданин, исповедующий христианство, обязан проявлять по отношению к своему христианскому государю, не может противоречить христианской религии, как свидетельствует Священное писание, если мы будем следовать общепринятому толкованию. Итак, вы знаете мой метод. Узнайте же причину и цель этого сочинения. Я изучал философию для собственного удовольствия, выделяя основные элементы в каждом из ее разделов, и постепенно стал описывать их, разделив на три части: в первей речь идет о теле и его общих свойствах, во второй – о человеке и его специфических качествах и аффектах, в третьей – о государстве и об обязанностях граждан. Таким образом, первый раздел содержит первую философию и элементы физики, здесь перечисляются понятия времени, места, причины, силы, отношения, пропорции, количества, формы, движения. Вторая часть посвящена воображению, памяти, интеллекту, мышлению, стремлению, воле, добру, злу, нравственному, безнравственному и тому подобному. Третья трактует о том, что было названо выше. И пока я пополнял материал, приводил его в порядок, медленно и тщательно его писал (ведь я не только рассуждаю, но и провожу подсчеты), случилось так, что на моей родине за несколько лет до того, как запылала гражданская война, разгорелись споры о праве власти и о должном со стороны граждан повиновении, споры, явившиеся предвестниками близкой войны. Это и стало причиной, заставившей меня поторопиться с окончанием этой третьей части, отложив в сторону остальные. Так и случилось, что та часть, которая должна быть заключительной в порядке изложения, выходит в свет первой по времени, тем более что, как мне казалось, она, опираясь на свои собственные опыты, познанные на опыте, не нуждается в предыдущих частях. Однако я сделал это не в поисках похвалы, хотя в этом случае я и мог бы извинить себя тем, что немного людей совершило что-либо достохвальное, не будучи честолюбивыми; нет, я сделал это ради вас, читатели, надеясь, что, поняв и усвоив мною предлагаемое вам учение, вы предпочтете спокойно поступиться некоторыми имущественными благами (ибо дела человеческие не могут совершаться без потерь), чем допустить смуту в государстве. Я сделал это для того, чтобы, измеряя справедливость ваших замыслов и свершений не речами или помыслами частных лиц, но законами государства, вы бы не позволили честолюбцам вашей кровью укреплять собственное могущество. Чтобы вы поняли, что предпочтительнее самим иметь возможность жить при настоящем, хотя и не самом лучшем порядке вещей, чем, начав войну и погибнув в ней либо состарившись, утешать себя мыслью, что другие люди в другом веке будут иметь лучший общественный строй. Кроме того, я сделал это для того, чтобы вы посчитали не гражданами, а вражескими лазутчиками тех, кто, не желая подчиняться гражданскому правителю и нести общественные повинности, хочет в то же время оставаться в государстве и пользоваться его защитой от насилия и несправедливостей; и не принимали бы опрометчиво все, что они предлагают вам открыто или тайно, за Слово Божие. Я скажу яснее. Если какой-нибудь вития, либо проповедник, либо просто казуист станет уверять вас, будто бы со Словом Божиим согласуется учение, утверждающее право гражданина убить верховного правителя, да и вообще любого человека, без указания верховной власти, или подстрекать граждан на восстание или вступление в любой заговор против государства, то не верьте ему, но донесите на него. Тот, кто согласен с этим утверждением, тот признает достойной цель, поставленную мною в этом труде. Наконец, на протяжении всего изложения я старался придерживаться следующих правил: во-первых, не говорить о справедливости отдельных поступков, но предоставить эту оценку законам. Далее, не касаться тех или иных конкретных законов какого-либо государства, то есть говорить не о том, каковы законы, но – что такое законы, в-третьих, стараться, чтобы не создалось впечатление, будто я полагаю, что граждане должны оказывать меньшее повиновение государству аристократическому или демократическому, чем монархическому. Ведь хотя в десятой главе я рядом аргументов пытался убедить, что монархия лучше остальных форм государства (я согласен, что в нашей книге это единственное положение не доказано, а лишь постулировано), однако я в ряде мест совершенно ясно говорю, что всякое государство в равной степени должно обладать верховной властью. В-четвертых, не высказываться ни за, ни против богословских учений, за исключением тех, которые высказываются против гражданского повиновения и подрывают государственный строй. Наконец, я не хотел тотчас же представить это сочинение на суд широкой публики, опасаясь издать по неразумию то, что не следовало бы издавать, и поэтому, напечатав приватно лишь несколько экземпляров, я разослал их друзьям, с тем чтобы, выяснив их мнение, исправить, смягчить и разъяснить все то, что покажется ошибочным, резким или неясным. Особенно резкие возражения встретило следующее: я сделал гражданскую власть слишком могущественной, но здесь возражали церковники; я уничтожил свободу совести но здесь возражали сектанты; я освободил верховных правителей от ответственности перед гражданскими законами, но здесь возражали юристы. На меня эти возражения, поскольку они исходили от людей пристрастных, не произвели большого впечатления и только заставили покрепче стянуть эти узлы. Что же касается замечаний тех, у кого вызвали трудности сами принципиальные положения: естественное право, человеческая природа, сущность договоров, возникновение государства, то, поскольку эти возражения были следствием искреннего непонимания, а не обиды, я сделал в нескольких местах примечания, которые, как я полагаю, смогут удовлетворить несогласных. Наконец, я постоянно прилагал самые тщательные старания, дабы не обидеть кого-нибудь, кроме тех, чьим целям противоречит мое сочинение, и тех, кого всегда обижает любое несогласие с их мнением. А поэтому если вы обнаружите что-то, выраженное не очень точно или сказанное резче, чем следует, то я очень прошу вас, читатели, соблаговолите принять это спокойно, ибо все сие написано не из партийных пристрастий, а ради мира, и тем человеком, кому можно и простить что-то за искреннюю боль за нынешнее несчастие отечества.СВОБОДА
ГЛАВА I О ПОЛОЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ВНЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
1. Введение. 2. Начало гражданского общества – во взаимном страхе. 3. Люди по природе равны между собой. 4. Откуда рождается желание взаимно наносить вред друг другу. 5. Источник распрей – неравенство характеров. 6. Другой источник распрей – стремление многих достичь одного и того же. 7. Определение права. 8. Право на достижение цели дает право на необходимые для ее достижения средства. 9. На основании естественного права каждый может судить о тех средствах, которые необходимы для его безопасности. 10. На основании естественного права все принадлежит всем. 11. Право всех на все бесполезно. 12. Состояние людей вне общества – война. Определение войны и мира. 13. Война противоречит стремлению человека к самосохранению. 14. На основании естественного права каждый может заставить другого, находящегося в его власти, дать гарантию повиновения в будущем. 15. Природа повелевает стремиться к миру. 1. Способности человеческой природы могут быть сведены к четырем родам: телесной силе, опыту, разуму, чувству. Отправляясь в наших последующих рассуждениях от этого исходного пункта, мы прежде всего скажем о том, как ведут себя люди, наделенные этими способностями, по отношению друг к другу: способны ли они от природы и благодаря какому именно качеству к жизни в обществе и к защите себя от чужого насилия. Продвигаясь далее, мы укажем, какие меры необходимо принять для этого и како вы условия установления общества, то есть мира между людьми, иначе говоря, каковы фундаментальные законы природы (naturaeleyes). 2. Большинство из тех, кто писал когда-либо о государстве, исходят так или иначе из предположения (выражаемого более или менее категорично) о том, что человек есть животное, способное от природы к жизни в обществе [104]. Греки говорят: ???? ????????? (существо, живущее в государстве)[105]. На этом основании они строят учение о государстве таким образом, что, по их представлениям, для сохранения мира и управления всем родом человеческим нужно только, чтобы люди согласились на некие условия договора, которые они называют законами. Эта аксиома, хотя и принимаемая большинством, тем не менее ложна, и ошибочность ее исходит из слишком несерьезного отношения к человеческой природе. Ведь если мы глубже рассмотрим причины, заставляющие людей объединяться и радоваться взаимному общению, то легко поймем, что это происходит не потому что иначе не могло бы быть по природе, но в силу превходящих обстоятельств. Ибо если бы человек любил человека по своей природе, то есть как человека, невозможно было бы привести ни одного основания, почему каждый человек не любит равным образом всех людей, поскольку они такие же люди, как и он, или почему он предпочитает посещать общество тех, где он находит больше уважения или выгоды. Значит, по природе мы ищем не сотоварищей, а уважения или выгоды, которые они нам могут дать; именно этого – прежде всего, а их самих – только во вторую очередь. А с какой целью собираются люди, становится ясным из того, что они делают в своих сообществах. Ведь если они объединяются в целях торговли, то каждый заботится не о своем компаньоне, а о собственных интересах. Если они объединяются ради политической деятельности, то рождается тоже своего рода дружба, в которой больше взаимного страха, чем любви; отсюда иной раз может родиться политическая группировка, но доброжелательство – никогда. Если, наконец, они собираются для развлечения и веселья, то здесь обычно всякий особенно доволен собой, если ему удается вызвать смех присутствующих, что дает ему возможность (в соответствии с самой природой смешного) возвыситься в собственных глазах в контрасте с безобразием или слабостью другого. Даже если иной раз это носит совершенно невинный характер и не наносит обиды, все равно ясно, что удовольствие им доставляет не их общество, а собственная слава. Впрочем, на подобного рода собраниях достается главным образом отсутствующим, по косточкам разбирается, обсуждается, осуждается и подвергается осмеянию вся их жизнь, слова, дела, не щадят и самих собеседников, на долю которых выпадает то же самое, едва выйдут они из комнаты, так что весьма неглупым представляется поведение того, кто взял себе обычай последним уходить с такого сборища. А ведь истинным наслаждением, даваемым нам общением, является то, к которому нас влечет сама природа, то есть аффекты, присущие всякому живому существу, до тех пор, пока в результате каких-то неприятностей или чьих-то наставлений (чего с некоторыми никогда и не случается) интерес к настоящему не отступит перед воспоминаниями о прошлом; а без этого речь многих, весьма красноречивых в данном предмете людей становится холодной и сухой. Так что если случится присутствующим рассказывать различные истории и если кто-нибудь начнет что-то рассказывать о самом себе, то и все остальные с энтузиазмом принимаются говорить каждый о себе; и если кто-то расскажет что-нибудь удивительное, то и остальные рассказывают нечто подобное, ну а если ничего подобного с ними не случалось, то и выдумывают. Наконец, о тех, кто пытается представить себя мудрее остальных: если, например, они собираются, чтобы поговорить о философии, то здесь сколько людей, столько и поучающих остальных, ибо все хотят быть наставниками, а в противном случае они не только, как и все прочие, не испытывают взаимной любви друг к другу, но скорее ненавидят. Всякому, кто достаточно глубоко изучил человеческие отношения, по опыту совершенно ясно, что всякое добровольное сообщество образуется либо из-за взаимной нужны, либо ради славы, ибо всякий, вступающий в него, стремится либо извлечь отсюда какую-то пользу, либо достичь своих сотоварищей того, что греки называли ??????????, то есть почета и уважения. К такому же выводу приводит и разум исходя из самих дефиниций воли, блага, чести, пользы. Ведь поскольку общество образуется добровольно, то во всяком сообществе нужно искать объект этой воли, то есть то, что представляется каждому вступающему в сообщество благом для него. А все, что представляется благом, приятно и касается либо тела, либо души. Всякое духовное наслаждение – это либо слава, то есть мнение о себе, либо в конечном счете сводится к славе. Все прочее относится к чувственным удовольствиям либо к тому, что ведет к ним, а все это может быть выражено одним общим именем польза (commoda). Следовательно, всякое общество создается либо ради пользы, либо ради славы, то есть из любви к себе, а не к ближнему. Однако из стремления к славе не может быть образовано ни одно общество, достаточно многолюдное и на достаточно долгий срок, ибо слава, равно как и почет, если достается всем, значит, не достается никому – ведь она вытекает из сравнения, является результатом и превосходства, и если кто-то не имеет в самом себе основания гордиться собой, то общество других не сможет ему ничем помочь. Ибо каждый оценивается в зависимости от того, на что он способен сам, без посторонней помощи. И хотя полезные блага повседневной жизни могут возрастать благодаря людской взаимопомощи, но поскольку этих благ достигнуть значительно легче, господствуя над другими, а не в союзе с ними, то ни у кого не должно оставаться сомнения, что люди по природе своей, если исключить страх, жаждут скорее господства, чем сообщества. Следовательно, необходимо признать, что все крупные и прочные людские сообщества берут свое начало не во взаимной доброжелательности, а во взаимном страхе людей [106]. 287 3. Причина взаимного страха заключается как в природном равенстве людей, так и во взаимном желании причинить вред друг другу. Из этого вытекает, что мы не можем ни ожидать безопасности от других, ни обеспечить ее сами для себя. Ведь если мы посмотрим на зрелых мужей, мы увидим, сколь хрупко строение человеческого тела, с разрушением которого исчезает вся сила, мощь и мудрость человека, и как легко даже самому слабому убить более сильного, и поэтому никто, полагаясь на свои физические силы, не станет считать себя от природы сильнее других. Равны те, кто располагает равными возможностями друг против друга. И даже те, кто способен на самое большее – убить другого, могут лишь то, что равно могут и другие. Следователь но, все люди от природы равны, неравенство, существующее ныне, создано гражданским законом. 4. Желание нанести вред другому присуще в естественном состоянии всем, но по разным причинам, а потому не может оцениваться одинаково. Ибо один человек, исходя из признания природного равенства, считает позволительным для остальных все, что он считает позволительным самому себе,- именно так поступает человек скромный и правильно оценивающий собственные возможности. Другой же, полагая себя выше остальных, считает только для себя позволительным все и требует себе особого почета по сравнению с остальными – так поступают характеры заносчивые. Следовательно, у этого последнего желание нанести вред проистекает из тщеславия и ложной оценки собственных сил, у первого же – из необходимости защищать от него свое имущество и свободу. 5. Далее, поскольку наиболее ожесточенная борьба – это борьба умов и талантов, то неизбежно именно она порождает самую резкую вражду. Ведь не только возражения, но даже простое несогласие вызывает неприязнь. Ведь несогласие с кем-нибудь в чем-либо есть по существу молчаливое обвинение того в ошибке, точно так же как несогласие в большинстве пунктов равнозначно признанию оппонента глупцом. Это ясно уже из того, что самые ожесточенные войны происходят между сектами одной и той дае религии и между различными группировками в одном и том же государстве, ведущими спор кто о вероучении, кто о политике. А так как все духовное удовольствие и радость состоят в том, что человек, сравнивая себя с другими, может проникнуться величайшим самоуважением, то невозможно, чтобы люди иной раз не выражали взаимную неприязнь и презрение смехом, жестами, словами или как-нибудь еще. А большей, чем эта, обиды не бывает, и именно из нее обычно рождается страстное желание причинить вред другому. 6. Самая же распространенная причина, заставляющая людей взаимно желать зла друг другу, является результатом того, что одновременно множество людей стремятся к обладанию одной и той же вещью, однако чаще всего они не могут ни пользоваться одновременно этой вещью, ни разделить ее между собой. Следовательно, ее приходится отдавать сильнейшему, а кто будет сильнейшим, решит борьба. 7. Поэтому среди стольких опасностей, ежедневно в силу естественных людских склонностей угрожающих каждому, тем более не следует упрекать людей в стремлении к самозащите, ибо иначе мы поступать не можем. Ведь каждый стремится к тому, что является для него благом, и избежать того, что является злом, прежде всего величайшего из зол, существующих в природе,- смерти; и все это происходит с той же природной необходимостью, с какой камень падает вниз. Поэтому ничуть не бессмысленно, ни чуть не позорно, ничуть не противоречит истинному разуму прилагать все силы к тому, чтобы уберечь и спасти от смерти и страданий собственное тело и его части. А то, что не противоречит истинному разуму, то признается всеми и справедливым и совершенным по праву. Ведь этим словом обозначается не что иное, как свобода для каждого пользоваться своими способностями согласно истинному разуму. Таким образом, первое основание естественного права состоит в том, чтобы каждый в силу своих возможностей оберегал собственную жизнь и тело. 8. А поскольку право на достижение цели не имело бы смысла для того, кому отказано в праве на необходимые для этого средства, то, следовательно, каждый в силу присущего ему права на самосохранение обладает также правом пользоваться всеми средствами и совершать всякое действие, без которых он не может обеспечить самосохранение. 9. А являются ли необходимыми или нет средства, которыми он намерен пользоваться, или действие, которое он собирается предпринять для сохранения собственной жизни и тела, каждый на основании естественного права должен судить сам. Ведь если бы противоречило истинному разуму мое право самому судить о том, что представляет для меня опасность, то об этом бы судил другой. Следовательно, если другой судит о том, что касается меня, то точно так же, поскольку все мы по природе равны, я буду судить о том, что касается его. Таким образом, истинный разум, то есть естественное право, дает мне возможность судить, отвечает ли интересам моей безопасности чье-либо решение или нет. 10. Природа каждому дала право на все: то есть в чисто естественном состоянии[107], а именно: до того, как люди взаимно связали себя какими бы то ни было договорами, каждому было позволено делать что угодно и по отношению к кому угодно, владеть и пользоваться всем, чем он хотел и мог. Ведь поскольку все, чего желает человек, представляется ему благом именно в силу того, что он этого желает, это благо может вести к его безопасности или по крайней мере представляться таковым; судить же о том, действительно ли оно ведет к этому или нет, мы в предыдущем параграфе предоставили самому человеку, и, согласно параграфу у, все, что необходимо способствует обеспечению жизни и тела человека, и становится, и считается согласным с естественным правом, следовательно, в естественном состоянии все могут иметь и делать все. Это и есть то, что обычно выражают в словах: природа дала каждому все. Отсюда понятно также, что в естественном состоянии мерилом права является польза. 11. Но такого рода всеобщее право на все оказалось совершенно бесполезным для людей. Ибо результат этого права по существу тот же самый, как если бы не было вообще никакого права. Ведь хотя всякий о любой вещи мог сказать: это мое, он не мог тем не менее пользоваться ею из-за того, что ближний с равным правом и равной силой претендовал на нее же. 12. Если к естественной склонности людей нападать друг на друга, которую объясняют аффектами, и прежде всего неосновательной самооценкой, присоединить еще право всех на все, когда один по праву нападает, а другой по праву сопротивляется ему, результатом чего является всеобщая непрестанная подозрительность и пристрастность, и памятуя при этом, как трудно малыми и слабыми силами уберечься от врагов, нападающих на нас с желанием одолеть и поработить, невозможно отрицать, что естественным состоянием людей до объединения в общество была война, и не просто война, а война всех против всех. Ибо что такое война, как не то время, когда желание насильственной борьбы достаточно ясно декларируется как в словах, так и в делах. Остальное время называется миром. 13. А сколь мало подходит для сохранения как всего рода человеческого, так и каждого в отдельности человека постоянная война, судить нетрудно. Но эта война по своей природе вечна, потому что из-за равенства борющихся она не может окончиться ничьей победой; ибо здесь самим победителям постоянно угрожает столь страшная опасность, что нужно считать чудом, если кто-нибудь, даже самый мужественный, дожив до старости, умирает естественной смертью. Примером этого состояния в наше время могут служить американцы, а в древние времена прочие народы, ныне уже цивилизованные и процветающие, а когда-то немноголюдные, дикие, кратковечные, бедные, грязные, лишенные в своей жизни всех тех преимуществ и радости, которые дают людям мир и жизнь в обществе. Поэтому всякий решивший остаться в том состоянии, в котором все позволено всем, впадает в противоречие с самим собой. Ибо всякий человек в силу естественной необходимости стремится к благу для себя, и нет такого человека, кто счел бы для себя благом подобную войну всех против всех, которая естественна в этом состоянии. В результате мы приходим к мысли, что взаимный страх заставляет нас искать выход из этого состояния и приобретать себе друзей, чтобы если уж необходимо вести войну, то была бы она не против всех, а мы сами не остались бы в одиночестве. 14. Союзников приобретают либо силой, либо по их согласию: силой – когда победитель заставляет побежденного служить себе под угрозой смерти или заключив его в оковы; по его согласию – когда союз создается ради взаимной помощи по обоюдному согласию сторон, без применения насилия. Победитель может по праву заставить побежденного или сильный – более слабого, как взрослый – ребенка или крепкий и здоровый – больного, дать гарантию повиновения в будущем, если тот не желает умереть. Ведь если право нашей самозащиты проистекает от угрожающей нам, по нашему мнению, опасности, а опасность – от равенства сил, то гораздо разумнее и надежнее для нашей безопасности, воспользовавшись удобным моментом, обеспечить себе искомую безопасность, заручившись гарантией, чем пытаться потом, когда они станут сильнее, окрепнут и освободятся от нашей зависимости, снова обретать ее в борьбе, исход которой неизвестен. И наоборот, невозможно придумать ничего глупее, чем слабого и зависимого от тебя человека самому же превратить в сильного врага, выпустив его из-под своей власти. Из этого становится понятным, что в естественном состоянии человека надежная и непобедимая сила дает право управлять и повелевать теми, кто не способен сопротивляться; а поэтому всемогуществу уже по самому его существу непосредственно принадлежит право на любое действие. 15. Однако в силу указанного равенства сил и прочих человеческих возможностей люди, находящиеся в естественном состоянии, то есть в состоянии войны, не могут надеяться на длительную безопасность. Поэтому истинный разум повелевает нам искать мира, пока есть хоть малейшая возможность на его достижение; если же достичь его невозможно, нужно искать себе союзников в войне; это закон природы, как будет показано далее.ГЛАВА II О ЗАКОНЕ ПРИРОДЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДОГОВОРАМ
1. Естественный закон не есть соглашение людей, но веление разума. 2. Основной закон природы требует искать мира, если его можно достичь, если же это невозможно, необходимо заботиться о защите от врага. 3. Первый частный закон природы: право на все сохранить невозможно. 4. Что означает отказаться от права, что означает передать право. 5 Для перенесения права необходимо согласие принимающего. 6. Слова переносят право только в настоящем. 7. Слова о будущем имеют силу для перенесения права, если существуют и другие признаки волеизъявления. 8. В свободном дарении право не переходит в силу слов о будущем. 9. Определение договора и соглашения. 10. В договорах право переходит с помощью слов о будущем. 11. Договоры, основанные на взаимном доверии, в естественном состоянии не имеют силы, в государстве же – наоборот. 12. Никто не может вступать в соглашение с животными. Никто не может вступать в соглашение с Богом, если не было откровения. 13. И никто не может давать обет Богу. 14. Соглашения, превышающие человеческие возможности, не имеют обязательной силы. 15. Каким образом мы освобождаемся от соглашений. 16. Обещания, вынужденные угрозой смерти, в естественном состоянии имеют силу. 17. Последующее соглашение, противоречащее предыдущему, не имеет силы. 18. Соглашение о не сопротивлении наносящему телесные повреждения не имеет силы. 19. Соглашение, принуждающее к самообвинению, не имеет силы. 20. Определение клятвы. 21. Клятва должна выражаться в той форме, которой пользуется принимающий ее. 22. Клятва не прибавляет ничего к тому обязательству, которое вытекает из соглашения. 23. Клятву надлежит требовать только в том случае, когда нарушение соглашения либо может остаться скрытым, либо может быть наказано только Богом. 1. В определении естественного закона авторы не могут прийти к соглашению и тем не менее очень часто пользуются этим термином в своих сочинениях. Действительно, метод, требующий начинать с определений и исключения бессмыслицы, характерен для тех, кто не оставляет возможности для спора с собой. Что же касается остальных, то один станет доказывать это тем, что подобный поступок противоречит единодушному мнению всех мудрейших или образованнейших народов, нимало не заботясь о том, кто, собственно, будет судить о мудрости, образованности и нравственности этих народов, другой же скажет, что это деяние противоречит единодушному мнению всего рода человеческого. Такого рода определение никоим образом не может быть принято, ибо в противном случае было бы вообще невозможно кому-нибудь нарушить этот закон, за исключением детей и сумасшедших. Ведь понятие человеческий род охватывает во всяком случае всех людей, действительно руководствующихся разумом. Следовательно, они либо не совершают ничего вопреки разуму, либо совершают это бессознательно, а посему заслуживают извинения. Связывать же законы природы с согласием тех, кто их чаще нарушает, чем соблюдает, во всяком случае, несправедливо. Кроме того, люди осуждают в других то, что одобряют в самих себе; наоборот, на людях хвалят то, что наедине презирают, и высказываются, скорее прислушиваясь к мнению других, чем к собственному опыту, соглашаются скорее под влиянием ненависти, страха, надежды, любви или какого-либо иного душевного аффекта, чем под влиянием разума. Поэтому нередко случается, что целые народы с величайшим единодушием и энергией делают то, что наши авторы весьма охотно признают противоречащим естественному закону. Но так как все согласны считать совершающимся по праву то, что совершается не вопреки истинному разуму, мы должны считать происходящим вопреки праву то, что этот разум отвергает, то есть что противоречит некой истине, выведенной путем правильных умозаключений из правильных посылок. А то, что совершенно несправедливо, мы называем происходящим вопреки некоему закону. Стало быть, закон есть некий истинный разум, который, будучи не менее любой другой духовной способности или аффекта частью человеческой природы, называется также естественным. Следовательно, естественный закон, если необходимо мое определение, есть требование истинного разума[108] относительно того, что следует и чего не следует делать ради возможно более продолжительного сохранения жизни и телесного здоровья. Первый и основной закон природы гласит: необходимо стремиться к миру всюду, где это возможно; если мира достичь невозможно, нужно искать средства для ведения войны. В последнем параграфе первой главы мы показали, что это требование истинного разума. А то, что требования истинного разума есть законы природы, было только что сказано. Это первый закон, потому что все остальные вытекают из него и указывают пути к достижению мира либо к обеспечению защиты. Один из естественных законов, проистекающих из этого основного, гласит: право всех на все не должно сохраняться, некоторые же отдельные права следует либо перенести на других, либо отказаться от них. Ведь если бы каждый сохранял своеправо на все, из этого бы необходимо следовало, что одни по праву нападали, другие же по праву защищались, ибо каждый в силу естественной необходимости пытается защитить собственное тело и то, что необходимо для его поддержания. Значит, последовала бы война. Таким образом, если кто-то не отказался бы от своего права на все, он поступил бы, безусловно, вопреки соображениям мира, то есть вопреки закону природы. Говорят, что отступаются от своего права в тех случаях, когда кто-либо просто отказывается от него либо переносит его на другого. Просто отказывается тот, кто соответствующим знаком или знаками заявляет, что он хочет, что бы в дальнейшем ему не было позволено совершать какое-то определенное действие, которое ранее он имел право совершать. Переносит же право на другого тот, кто соответствующим знаком или знаками заявляет этому другому, согласному принять от него это право, что он хочет, чтобы в дальнейшем ему не было позволено противиться этому человеку, совершающему какое-то определенное действие, которому он ранее имел право противиться. А то, что перенесение права состоит в одном только непротивлении, понятно из того, что тот, на кого переносится право, до этого перенесения уже имел право на все; отсюда – невозможность приобретения нового права, законное же сопротивление переносящего, в силу которого другой не мог пользоваться своим правом, исчезает. Следовательно, всякий приобретающий себе право в естественном состоянии всего лишь получает возможность спокойно и без законных возражений пользоваться своим первоначальным правом. Например, если кто-нибудь продаст или подарит другому свой земельный участок, он отнимает право на этот участок только у себя, но не у других. Для перенесения права требуется волеизъявление не только переносящего, но и принимающего. Если нет хотя бы одного из них, право остается у прежнего обладателя. Ведь если бы я захотел отдать принадлежащее мне тому, кто отказывается это принять, я тем самым не отказался полностью от моего права, т. е. перенес его на кого-либо. Ибо причина, из-за которой я захотел подарить нечто одному, заключена в нем одном и не имеет отношения к другим. Если же не существует никаких иных знаков, выражающих желание отказаться от права или перенести его, кроме слов, эти слова должны относиться или к настоящему, или к прошлому. Ибо слова, относящиеся к будущему, ничего не переносят. Ведь если кто-нибудь, например, говорит о будущем так: завтра я дам,- этим он ясно показывает, что он не дал. Таким образом, в течение всего сегодняшнего дня право остается у того же обладателя и остается также и завтра, если он тем временем действительно не отдаст. Ведь то, что является моим, остается моим, если я его потом не отдам. Так что, если я в настоящий момент скажу, допустим, я даю либо я дал, чтобы ты имел (это) завтра, эти слова означают, что я уже (нечто) дал и право обладать (вещью) завтра перенес на сегодня. Однако, поскольку одни слова не являются достаточными знаками волеизъявления, при наличии других знаков волеизъявления слова, касающиеся будущего, могут иметь такую же силу, как слова, относящиеся к настоящему. Ведь так как по другим знакам ясно, что говорящий о будущем хочет, чтобы его слова имели силу для осуществления переноса его права, то они и должны иметь эту силу. Ибо перенос права зависит не от слов, а, как было сказано в 4-м пункте этой главы, от изъявления воли. Если кто-то переносит на другого какое-то свое право и делает это не ради полученного взамен блага и не по договору, такого рода перенос называется дар (donum) или добровольное дарение (donatcio libera). В случае добровольного дарения имеют обязательную силу только те слова, которые относятся к настоящему или к прошлому. Ибо, если они относятся к будущему, они не имеют обязательной силы как слова в силу соображений, приведенных в предыдущем параграфе. Следовательно, обязательство должно рождаться от других знаков волеизъявления. Поскольку все, что делается добровольно, делается ради некоего блага для выражающего эту волю, невозможно указать какого-либо иного знака, знаменующего волю дарителя, кроме некоего блага, приобретенного или приобретаемого в результате этого дарения. Предполагается, что никакое подобное благо не было приобретено и не существует соглашения об этом, потому что в таком случае это не было бы добровольным дарением. Следовательно, остается ожидать ответного блага без соглашения. Не существует никакого знака, дающего возможность тому, кто произнес слова о будущем, обращенные к человеку, не связанному обязательством ответного благодеяния, истолковывать его слова как налагающие на него обязательство. Нельзя признать разумным, что те, кто всегда готов проявить доброжелательность по отношению к другим, оказывались бы связанными обязательством на основании любого обещания, подсказанного добрым чувством. И поэтому следует признать, что давший такое обещание может поразмыслить и изменить свое желание, точно так же, как и тот, кому дано обещание, может утратить свои заслуги. А до тех пор, пока кто-то раздумывает, он свободен, и о нем не говорят, что он подарил. Если же кто-то часто обещает, дарит же редко, то он заслуживает осуждения за легкомыслие, и его следует назвать раздающим не дары, а посулы. Действие двух или более лиц, взаимно переносящих друг на друга свои права, называется договором (contractus). В любом договоре либо оба участника тотчас же исполняют то, о чем заключен договор, так что никто никому не остается должен, либо один исполняет это, другой же остается должником, либо никто из них не исполняет этого тотчас. Там, где обе стороны тотчас исполняют договоренность, там сразу же по исполнении этого договор прекращается. Там же, где один или оба остаются должниками, там должник обещает в дальнейшем исполнить договоренность, и такого рода обещание называется соглашением (pactum). Соглашение же, совершаемое должником и заимодавцем, даже если обещание выражено словами о будущем, е менее переносит право, так же как если бы оно было выражено словами о настоящем или прошедшем. Выполнение обязательства есть самый очевиднейший знак того, что выполнивший обязательство понял слова своего должника в том смысле, что тот готов исполнить обязательство в условленное время, и благодаря этому же знаку он понимает, что он именно так понят, ибо, если он не поправил того, значит, хотел, чтобы было именно так. Таким образом, обещания, даваемые ради уже полученного блага, в том числе и соглашения, служат знаками волеизъявления, то есть заключительного этапа размышления, уничтожающего свободу не исполнить обязательство, и, следовательно, являются обязывающими. Ибо, где кончается свобода, начинается обязательство. 11. Возникающие в рамках договора соглашения, основанные на взаимном доверии, когда ни та, ни другая сторона не исполняет тотчас же своих обязательств, в естественном состоянии не имеют силы, если у одной из сторон возникнет законное опасение[109]. Ведь тот, кто первым исполняет свое обязательство, из-за бесчестности большинства людей, стремящихся к собственной выгоде правыми и неправыми путями, отдается на произвол того, с кем он вступил в договор. Поэтому неразумно первым исполнять обязательство, если нет уверенности, что другой выполнит его. А есть ли в этом уверенность или нет, об этом судит тот, у кого возникает опасение, как это было показано в 9-м пункте предыдущей главы. Это, повторяю, относится к естественному состоянию. В гражданском же состоянии, где есть сила, способная принудить обе стороны, тот, кто по договору первым должен исполнить обязательство, первым должен и сделать это; ведь поскольку другой может быть принужден к исполнению обязательства, то исчезает основание бояться невыполнения другим своего обязательства. Из того обстоятельства, что во всяком дарении и во всяком соглашении требуется принятие переносимого права, следует, что никто не может вступать в соглашение с тем, кто не может заявить о своем согласии. Следовательно, нельзя ни заключить соглашения, ни передать, ни отнять у них какое-либо право, поскольку они лишены речи и разума. И никто не может вступать в соглашение с божественным величием или обязывать себя данным ему обетом, если только ему не будет угодно словами Священного писания поставить вместо себя неких людей, наделенных полномочиями оценивать и принимать подобные обеты и соглашения в качестве его представителей. Поэтому для людей, пребывающих в естественном состоянии, где они не связаны никаким гражданским законом, не нужны обеты, если только человеку в несомненнейшем откровении не стала известна воля Божья, принимающая обет или соглашение. Ведь если то, что обещают они в своем обете, противоречит закону природы, они не связаны этим обетом, ибо никто не обязан исполнять недозволенное; если же то, что они обещают в обете, предписывается каким-нибудь законом природы, они связаны не обетом, а законом; если до принятия обета они были свободны делать или не делать что-то, то эта свобода остается у них и дальше, ибо для того, чтобы мы были связаны обетом, требуется явно выраженная воля налагающего обязательство, которая, как предполагается в данном случае, отсутствует. Налагающим обязательство я называю того, кому кто-то обязан, обязанным я называю того, кто связан обязательством. Соглашения заключаются только о действиях, доступных размышлению. Ведь соглашение не может быть заключено без желания вступающего в него. Выражение же воли есть заключительный акт размышления. Следовательно, соглашения могут быть только о вещах возможных и относящихся к будущему. А поэтому никто не может связать себя обязательством совершить невозможное. Поскольку же мы чаще всего вступаем в соглашения и связываем себя обязательством о тех вещах, которые в тот момент кажутся возможными, а позднее становится ясной их невозможность, это тем не менее не освобождает нас от всякого обязательства. Дело в том, что дающий обещание на будущее, хотя он и не уверен в нем, получает выгоду в настоящем, с тем, что он отплатит взаимностью. Ибо желание того, кто оказывает услугу в настоящем, направлено только на собственное благо, составляющее ценность обещанной вещи, сама же вещь является объектом его желания не сама по себе, но лишь в том случае, если получение ее возможно. Но если это окажется невозможным, необходимо исполнить обязательство в той мере, в какой возможно. Следовательно, соглашения обязывают не к исполнению самого обязательства, а к приложению всех усилий для его исполнения, ибо в нашей власти только это, но не сами вещи. От соглашений мы освобождаемся двумя путями: или исполнением обязательства, или получив освобождение от нашего обязательства. В первом случае – потому что на большее мы не обязывались, во втором – потому, что тот, кому мы дали обязательство, снимая с нас обязательство, тем самым как бы возвращает нам право, переданное нами ранее ему, ибо снятие обязательства есть дарение, то есть, согласно пункту 4 настоящей главы, перенесение права на того, кому производится дарение. 16. Обычно спрашивают, являются ли обязательными или нет соглашения, заключенные под угрозой насилия. Например, если я, чтобы спасти свою жизнь, пообещаю разбойнику отдать ему завтра тысячу золотых и не делать ничего для того, чтобы его могли схватить и отдать под суд, связан ли я этим обязательством или нет? И хотя иногда такого рода соглашение должно считаться недействительным, однако оно оказывается недействительным не потому, что причиной его был страх: ведь тогда бы из этого следовало, что те соглашения, в силу которых люди объединяются для жизни в государстве и создают законы, не имеют силы (ибо если кто-то соглашается подчиниться власти другого, то это исходит от взаимного страха быть убитым) и что неразумно поступает тот, кто доверяет пленнику, обещающему выкуп за свое освобождение. Является общепринятой истиной, что соглашение обязывает, если оно принесло благо и если обещание и его предмет позволительны. Позволительно же и обещать нечто ради спасения жизни, и жертвовать чем угодно из своего имущества кому угодно, даже разбойнику. Следовательно, соглашения, продиктованные страхом, накладывают на нас обязательства, если только этому не препятствует какой-нибудь гражданский закон, в силу которого обещанное оказывается недозволенным. Если кто-то сначала обещал одному нечто сделать или чего-то не делать, позднее же договаривается с другим о противоположном, то второй договор в таком случае является недействительным. Ибо тот, кто переносит на другого свое право в силу первого соглашения, более не обладает правом что-либо делать или не делать. Поэтому последующими соглашениями он не переносит никакого права, и его обещание не имеет правовой силы. Следовательно, обязательной силой обладает только первое соглашение, нарушать которое недопустимо. Никто не может быть обязан какими-либо соглашениями не сопротивляться тому, кто стремится убить его, ранить или нанести какое-либо иное телесное повреждение. Ибо в каждом человеке есть некая высшая ступень страха, за пределами которой он воспринимает угрожающее ему зло как предельное и поэтому в силу естественной необходимости всеми силами избегает его, и очевидно, что иначе он действовать не может. Когда дело доходит до такой степени страха, не следует ожидать, чтобы кто-нибудь отказался помочь себе бегством или силой. А так как никто не обязан совершать невозможное, то те, кому угрожает смерть, величайшее из существующих несчастий, либо ранение, либо иное телесное повреждение, если они не способны вынести это, не обязаны выносить. А кроме того, связанному соглашением верят, ибо единственной гарантией соглашений является верность им. Тех же, кого ведут на казнь или даже на более мягкое наказание, заковывают в цепи или приставляют к ним стражу, что является несомненнейшим признаком того, что их не считают достаточно связанными соглашением о непротивлении. Одно дело, если я даю обязательство так: «Если я не выполню обещанного в установленный день, убей меня», другое, если так: «Если я не выполню обещания, то не буду противиться моему убийству». В первой форме дают обязательство все, когда это нужно, а иногда бывает нужно; во второй же форме – никто, и в ней никогда не возникает необходимости. Ведь в чисто естественном состоянии, если ты хочешь убить, то имеешь на это право в силу самого состояния, так что нет необходимости заранее оговаривать, что ты убьешь обманщика. В гражданском же состоянии, где право жизни и смерти и всякого телесного наказания принадлежит государству, это право на убийство не может быть предоставлено частному человеку. И самому государству для того, чтобы наказать кого-либо, нет необходимости путем соглашения требовать от последнего повиновения, достаточно, чтобы никто не защищал других от наказания. Если бы в естественном состоянии могло бы быть заключено между двумя государствами соглашение, предусматривающее смерть в случае его нарушения, то имелось в виду, что ему предшествовало другое соглашение, запрещающее такое убийство до определенного срока. Поэтому, если к указанному сроку обязательство не будет выполнено, восстанавливается право войны, то есть враждебное состояние, где все дозволено, а значит, дозволено и сопротивляться. Наконец, соглашением о несопротивлении мы накладываем на себя обязательство из двух наличных зол выбирать то, которое представляется большим, ибо смерть есть большее зло, чем борьба. Но из двух зол невозможно не выбрать меньшее. Следовательно, подобное соглашение требует от нас невозможного, что противоречит природе соглашений. 19. Точно так же никакое соглашение не может обязать кого-либо обвинить самого себя или другого, чье осуждение принесет ему огорчение. Поэтому ни отец не обязан свидетельствовать против сына, ни супруг против другого супруга, ни сын против отца, ни кто бы то ни был против того, без кого он не может существовать, ибо не имеет силы свидетельство заведомо противоестественное. Но хотя и никто никаким соглашением не обязан обвинять самого себя, однако при государственном разбирательстве он может быть принужден отвечать под пыткой. Но полученные таким путем ответы не являются свидетельствами, а служат лишь подспорьем при установлении истины. Таким образом, скажет ли человек под пыткой правду или ложь или вообще ничего не скажет, он поступает правомерно. 20. Клятва (jus-jurandum) есть речь, сопровождающая обещание, которой обещающий заявляет, что в случае не выполнения им своего обязательства он отказывается от божественного милосердия. Это определение вытекает из самих слов, выражающих сущность клятвы, а именно: Да поможет мне в этом Господь, либо иных, имеющих то же значение, как, например, говорили римляне: Ты, Юпитер, порази того, кто нарушит эту клятву, как я поражаю эту свинью. И этому не мешает, что иногда клятва может от носиться не только к обещанию, но и к заявлению, ибо, подтверждая свое заявление клятвой, человек обещает говорить истину. Хотя в некоторых местах существовал обычай у подданных клясться именем своих королей, этот обычай был обязан своим происхождением желаниям этих королей обладать божественными почестями. Ведь клятва введена для того, чтобы религиозное благоговение перед божественным могуществом внушило им больший страх перед нарушением верности слову, чем тот, который мы испытываем перед людьми, от которых деяния наши могут остаться скрытыми. 21. Из этого следует, что клятва должна произноситься в той форме, которая употребляется у принимающего ее. Ведь не имеет смысла заставлять кого-то клясться Богом, в которого он не верит и которого поэтому не боится. Ибо хотя благодаря естественному светочу можно познать существование Бога, однако никто не считает возможным клясться им в иной форме и другим именем, чем те, которые предписываются его собственной, то есть, как полагает сам дающий клятву, истинной, религией. Из приведенного определения клятвы можно сделать вывод, что само по себе соглашение обязывает нас ничуть не меньше, чем то, чем мы клялись. Ибо соглашение есть именно то, что нас обязывает, клятва же имеет в виду возмездие Бога, взывать к которому было бы бессмысленно, если бы нарушение соглашения не было бы уже само по себе непозволительным. Но оно не было бы непозволительным, не будь соглашение обязательным. Кроме того, тот, кто отказывается от Божьего милосердия, вовсе не обрекает себя на наказание, ибо человек всегда имеет право мо лить о прощении, сколь бы виновен он ни был, и удостоиться, будь на то воля Божья, небесного милосердия. Значит, единственный смысл клятвы состоит в том, что у людей, по природе склонных к нарушению данного ими слова, появляется более серьезная причина страшиться ее нарушения. Требовать клятвы там, где никакое нарушение соглашений, даже если бы оно и возникло, не может остаться незамеченным и где тот, кому дается клятва, располагает достаточной властью, чтобы наказать нарушителя, значит делать больше, чем необходимо для обеспечения собственной защиты, что свидетельствует скорее не столько о желании добра себе, сколько зла другому. Ибо клятва уже сама по себе должна призвать гнев Бога, то есть гнев всемогущего против тех, кто нарушает данное слово, полагая возможным в надежде на собственное могущество избежать людского возмездия и гнева всезнающего против тех, кто нарушает данное ими слово в надежде остаться скрытым от людских взоров.ГЛАВА III ОБ ОСТАЛЬНЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАКОНАХ
1. Второй закон природы: соглашения надо соблюдать. Слово следует держать по отношению ко всем, без всякого исключения. 3. Что такое несправедливость. 4. Обида (нарушение права) может быть причинена лишь тому, с кем мы вступили в соглашение. 5. Разделение справедливости на справедливость людей и действий. 6. Разделение справедливости на уравнивающую и распределяющую. 7.Несправедливость не может быть причинена томи, кто хочет ее. 8.Третий закон природы: о неблагодарности. 9. Четвертый закон природы: каждый стремится быть полезным. 10. Пятый закон природы: о милосердии. 11. Шестой закон природы: наказание направлено только на будущее. 12. Седьмой закон природы: против оскорбления. 13. Восьмой закон природы: против высокомерия. 14. Девятый закон природы: о скромности. 15. Десятый закон природы: о равенстве или против лицеприятия. 16. Одиннадцатый закон природы: о том, что должно находиться в общем владении. 17. Двенадцатый закон природы: о разделе по жребию. 18. Тринадцатый закон природы: о праве первородства и первого владения. 19. Четырнадцатый закон природы: о неприкосновенности посредников, способствующих сохранению мира. 20. Пятнадцатый закон природы: о третейском судье. 21. Шестнадцатый закон природы: никто не может быть судьей в своем деле. 22. Семнадцатый закон природы: судьи не должны ждать вознаграждения от тех, чье дело они рассматривают. 23. Восемнадцатый закон природы: о свидетелях. 24. Девятнадцатый закон природы: не может быть никакой договоренности с судьей. 25. Двадцатый закон природы: против пьянства и всего, что мешает действию разума. 26. Правило, согласно которому можно тотчас же узнать, противоречат или нет закону природы наши намерения. 27. Законы природы обязывают только перед внутренним нашим судом. 28. Иногда законы природы нарушаются действием, согласным с гражданскими законами. 29. Законы природы неизменяемы. 30. Тот, кто старается исполнять законы природы, справедлив. 31. Естественный закон совпадает с законом моральным. 32. Почему сказанное о естественном законе не совпадает с учениями философов о добродетелях. 33. Естественный закон, собственно говоря, не является законом и является им лишь в той мере, в какой излагается в Священном писании. 1. Второй из производных законов природы: соглашения должны соблюдаться; или: данное слово нужно держать. Ведь в предыдущей главе было показано, что закон природы требует в качестве необходимого условия достижения мира, чтобы все переносили друг на друга некоторые из своих прав, и что такое перенесение называется соглашением, поскольку речь идет о будущем. А это может способствовать установлению мира в том случае, если мы действительно исполняем или не исполняем то, об исполнении или неисполнении чего мы договорились: соглашения были бы напрасны, если бы они не исполнялись. Поскольку же придерживаться соглашения, то есть соблюдать данное слово, необходимо для достижения мира, то, согласно пункту 2 второй главы, это является требованием закона природы. И в этом отношении никакого исключения не составляют лица, с которыми мы вступаем в соглашение, если они не соблюдают слова, данного другим, и не собираются его исполнять или имеют какой-нибудь иной недостаток. Ведь тот, кто вступает в соглашение, тем самым признает действительность этого действия. Потому что сознательно предпринимать бесцельное действие противно разуму. Точно так же, если он не считает нужным исполнять взятое обязательство, уже тем, что он так думает, признает это соглашение бесцельным. Следовательно, тот, кто заключает соглашение с человеком, не намереваясь исполнять данное слово, утверждает одновременно, что соглашение и полезно, и бесполезно, что абсурдно. Следовательно, по отношению к любому человеку следует либо исполнять данное ему слово, либо не вступать в соглашение, то есть следует либо объявить войну, либо установить прочный и надежный мир. Нарушение соглашения, равно как и востребование назад подаренного, всегда заключающееся в каком-то действии либо отказе от него, называется несправедливостью (нарушением права – injuria). Само же действие или уклонение от него называются несправедливыми, так что одно и то же означают неправда и несправедливое действие или уклонение от него. Представляется, что это название несправедливого дано действию или уклонению от него, потому что они совершаются не по праву (sine iure), поскольку тот, кто действует или не действует, еще ранее перенес его на другого. И существует некое сходство между тем, что в повседневной жизни называется несправедливостью, и тем, что в школах обычно называют бессмыслицей. Ведь подобно тому, как тот, кто под натиском аргументов вынужден отказаться от утверждения, которое он ранее отстаивал, и это называется быть доведенным до бессмыслицы, точно так же тот, кто по слабости душевной делает или отказывается делать то, что он до этого обязался не делать или от чего не отказываться, тот совершает неправое дело (injuria) и впадает в не меньшее противоречие, чем тот, кто в школьных занятиях оказывается приведенным к абсурду. Ведь, вступая в соглашение о будущем действии, он тем самым хочет, чтобы оно произошло; не исполняя же его, он хочет, чтобы оно не произошло, то есть в одно и то же время хочет, чтобы оно произошло и не произошло, что представляет собой бессмыслицу в человеческом общении, подобно тому как абсурд есть некое отступление от права (несправедливость) в рассуждении. 4. Отсюда следует, что несправедливость[110] можно совершить только по отношению к тому, с кем существует соглашение, либо – кому нечто подарено, либо – кому по соглашению что-то обещано. Поэтому ущерб и несправедливость очень часто не связаны между собой. Ведь если господин прикажет слуге, который обязался повиноваться ему, выплатить деньги третьему лицу либо оказать какую-то услугу и если тот не выполнит этого, он, конечно, нам несет ущерб этому третьему лицу, но нарушит право только по отношению к хозяину. Точно так же и в государстве, если кто-то нанесет ущерб кому-нибудь, с кем он не вступал ни в какое соглашение, он наносит ущерб тому, кому причиняет зло, нарушение же права он совершает только по отношению к тому, кому принадлежит высшая власть в государстве. Ведь если тот, кому нанесен ущерб, станет требовать удовлетворения за нарушение права, тот, кто нанес обиду, сказал бы так: «Какое мне до тебя дело? Почему я должен поступать по твоему, а не по своему усмотрению?» Поскольку в данном случае не было никаких соглашений, я не нахожу, что можно было бы возразить на эти слова. 5. Слова справедливое и несправедливое, точно так же как справедливость (justitia) и несправедливость (injustitia), двусмысленны, ибо они имеют различное значение применительно к лицам и к действиям. В применении к действиям справедливое означает сделанное по праву, несправедливое – сделанное вопреки праву. Тот же, кто сделал нечто справедливое, называется поэтому невиновным, а не справедливым, того же, кто совершил нечто несправедливое, мы называем поэтому же виновным, а не несправедливым. Когда же речь идет о лицах, то быть справедливым значит то же, что и получать удовольствие от справедливого поступка, стремиться к справедливости либо пытаться в любом деле делать только то, что справедливо. А быть несправедливым – значит пренебрегать справедливостью либо считать, что она должна измеряться не данным словом, а непосредственной выгодой. Так что слова справедливость и несправедливость означают не одно и то же по отношению к намерениям и разуму человека, как и по отношению к его действиям или отказу от них. Бесчисленное множество поступков справедливого человека могут быть несправедливыми, а несправедливого – справедливыми. Справедливым человеком следует назвать того, кто поступает справедливо по указанию закона, несправедливо же – только по своей слабости, а несправедливым – того, кто поступает справедливо под страхом наказания, предусмотренного законом, несправедливо – по душевной низости. 6. Справедливость действий обычно разделяется на коммутативную (уравнивающую) и дистрибутивную (распределяющую); первая из них строится, как говорят, на арифметической, а вторая – на геометрической пропорции [111]. Первая относится к обмену, продаже, покупке, взятию и возвращению займа, сдаче и взятию в аренду и прочим аналогичным юридическим действиям, совершающимся между двумя контрагентами, где, как говорят, возникает коммутативная (уравнивающая) справедливость, если за равное воздается равным. Что же касается дистрибутивной (распределяющей) справедливости, то она появляется тогда, когда речь идет о положении и заслугах человека, когда каждому воздается по заслугам его, больше – тому, кто достойнее, меньше – тому, кто менее достоин, то есть пропорционально его заслугам (???? ??? ?????). Я согласен, что здесь возникает некоторое различие в понятии равенства, а именно: простое равенство, когда сопоставляются две равноценные вещи, например фунт серебра с двенадцатью унциями этого серебра; другой же вид равенства определяется существом вещи (secundum quid), например когда нужно распределить между сотней людей тысячу фунтов, и шестьсот достанется шестидесяти, а четыреста – сорока: здесь нет равенства между 600 и 400, но, поскольку существует равное отношение и между числом тех, которым распределяются эти деньги, каждый из них получит равную часть, а поэтому такое распределение называется равным. Такого рода равенство есть то же самое, что и геометрическая пропорция. Но какое это имеет отношение к справедливости? Ведь если мы продадим наши вещи за столько, за сколько сможем, то не будет совершено никакой несправедливости по отношению к покупателю, который хотел этого и стремился к этому, точно так же, если я из собственного имущества дам человеку меньше, чем он заслуживает, то я не совершу никакой несправедливости, если только я дам столько, сколько обещал. Это подтверждает сам Спаситель наш Христос в Евангелии. Следовательно, это различие касается собственно не справедливости, а равенства. Однако же невозможно отрицать, что справедливость есть своего рода равенство, состоящее только в том, что, поскольку все мы от природы равны, никто не должен требовать себе права больше, чем он сам предоставляет другому, если только это право не приобретено им по соглашению. Эти возражения против почти общепринятого разделения в понимании справедливости сделаны были для того, чтобы никто не думал, что несправедливостью является что-нибудь иное, кроме нарушения слова и договора, как это и было определено выше. 7. Исстари известно положение: невозможно совершить несправедливость по отношению к тому, кто ее хочет. Но да позволено будет нам вывести справедливость этих слов из наших принципов. Допустим, что нечто считающееся кем-то несправедливостью по отношению к себе совершено с его же согласия. Следовательно, по его желанию совершается то, что по соглашению было запрещено. Но если по его желанию происходит то, что запрещает соглашение, то тем самым само соглашение (на основании пункта 15 предыдущей главы) становится недействительным. Следовательно, появляется снова право на это действие, а значит, действие совершается по праву и поэтому не является несправедливостью. 8. Третье требование естественного закона состоит в том, чтобы не позволять тому, кто первым, доверяя тебе, оказал тебе услугу, оказаться из-за этого в худшем положении, то есть чтобы никто не принимал услуги, если он не собирается приложить все силы к тому, чтобы оказавший услугу не имел основания раскаиваться в этом. В противном случае тот, кто первым совершит доброе дело, видя, что он ничего не получит взамен, поступит вопреки разуму. Но тем самым будет уничтожена вся человеческая взаимопомощь и взаимное доверие, а вместе с ними и всяческое доброжелательство, и не останется никакого желания поддержать друг друга и проявить взаимную симпатию. А это неизбежно приведет к сохранению состояния войны вопреки основному закону природы. А поскольку нарушение этого закона не есть нарушение доверия, то есть соглашений, ибо предполагается, что между ними не существует никаких соглашений, то обычно говорят не о справедливости, а, имея в виду, что благодеяние и благодарность взаимосвязаны, называют это неблагодарностью. 9. Четвертый завет природы требует от каждого считаться с интересами других. Чтобы правильно понять это требование, нужно заметить, что люди, образующие сообщество, обладают различными характерами, определяемыми из различия владеющих ими аффектов. Это очень похоже на то различие, которое мы находим в камнях, привезенных для строительства и различающихся и породой, и формой. Ведь подобно тому, как отбрасывают как бесполезный камень, который из-за своей шероховатой и угловатой формы отнимает у других больше места, чем сам заполняет, а из-за плотности не может быть ни сжат, ни обтесан, так и человека, который из-за жестокости своего характера отнимает у других самое необходимое, не желая расставаться даже с излишним, и не способен исправиться в силу упрямого сопротивления своих страстей, называют обычно неприятным для других и невыносимым. Ведь поскольку предполагается, что каждый не только по праву, но и по естественной необходимости всеми силами стремится приобрести необходимое для поддержания собственного существования, то, если кто-нибудь захотел бы требовать себе больше, чем ему необходимо, он был бы виновен в возникновении войны, потому что для него одного не было никакой необходимости вступать в борьбу. Значит, он в этом случае поступает вопреки основному закону природы (lex naturae fundamentalis). Отсюда следует, что природа требует от каждого считаться с интересами других, что и нужно было показать. Тот же, кто нарушает этот закон, может быть назван неприятным и невыносимым. Цицерон же противопоставляет человеку предупредительному бесчеловечного (inhumanum), как будто он знал об этом законе. 10. Пятое требование закона природы состоит в том, что каждый, не пренебрегая мерами предосторожности на будущее, должен прощать другому прошлую вину, если тот раскаивается и просит прощения. Прощение за прошлое, то есть забвение обиды, есть не что иное, как согласие на мир с тем, кто, спровоцировав войну, раскаивается в содеянном и просит о мире. Заключение же мира с тем, кто не раскаялся, то есть с тем, кто сохраняет враждебность либо не дает гарантию на будущее, то есть ждет не мира, а каких-то преимуществ для себя, есть не мир, а страх, а следовательно, не может быть требованием природы. Тот же, кто не желает простить раскаивающегося и обещающего в будущем не совершать подобного, тот вообще не хочет мира, а это противно естественному закону. Шестое требование естественного закона предписывает в отмщении, то есть при наложении наказания, иметь в виду не прошлое зло, а будущее благо; иначе говоря, налагать наказание можно только с одной-единственной целью: исправить самого виновного либо его наказанием сделать лучше других. Это прежде всего подтверждается тем, что каждый по закону природы обязан прощать другому, но только при условии, что сначала будут приняты меры предосторожности на будущее, как показано в предыдущем параграфе. Кроме того, поскольку мщение, если оно имеет в виду только лишь прошедшее, есть не что иное, как тщеславное торжество и удовлетворение самолюбия, и оно совершенно бесцельно, ибо имеет в виду только прошлое, а цель же – всегда в будущем, а все, что не имеет никакой цели, бессмысленно; следовательно, мщение, не имеющее в виду будущего, проистекает от пустого тщеславия и потому противоречит основному закону природы. Итак, закон природы предписывает нам, воздавая отмщение, смотреть не назад, а вперед. Нарушение же этого закона называется жестокостью. Поскольку же всякого рода проявления ненависти и презрения особенно провоцируют на ссору и драку, так что большинство предпочитает скорее потерять не то что мир, а жизнь, лишь бы не терпеть оскорбления, то из этого следует седьмым пунктом следующее требование естественного закона: да никто не покажет другому ни делом, ни словом, ни выражением лица, ни смехом, что он ненавидит или презирает его. Нарушение этого закона называется оскорблением. Хотя нет ничего чаще, чем надругательства и насмешки более сильных над более слабыми, и в частности судей над подсудимыми, не имеющие к тому же никакого отношения ни к существу обвинения, ни к функциям судьи, тем не менее эти люди поступают вопреки естественному закону и должны быть признаны людьми, оскорбляющими других. Вопрос о том, кто из двух людей достойнее, касается не естественного, а гражданского состояния. Ведь выше было показано (гл. I, п. 3), что по природе все люди равны между собой, и поэтому неравенство, существующее в настоящее время, например в богатстве, власти, знатности рода проистекает из гражданского закона. Я знаю, что Аристотель в первой книге Политики в качестве основания всей политической науки утверждает, что одни люди созданы природой, чтобы повелевать, другие – чтобы служить им, как будто различие между господином и рабом является результатом не человеческого установления, а их способностей, то есть естественного знания или незнания. Это положение противоречит не только разуму (как было показано выше), но и опыту [112]. Ведь едва ли кто-нибудь настолько глуп, чтобы не счесть более правильным подчиняться самому себе, чем другим. И если спорят между собой более мудрые и более сильные, то не всегда и даже не часто мудрые берут верх над сильными. Следовательно, либо люди от природы равны между собой, и тогда следует признать это равенство, либо они не равны, и в таком случае, поскольку они будут бороться за власть, необходимо для достижения мира между ними считать их равными. Поэтому восьмым пунктом естественного закона предписывается, чтобы каждый считался по природе равным любому другому. Противоположный этому закон есть высокомерие. Подобно тому, как в интересах самосохранения каждого человека ему необходимо отказаться от некоторых своих прав, не менее необходимо в целях того же самосохранения оставить за собой некоторые права, а именно: право защиты тела, право пользования воздухом, водой и всем прочим, необходимым для жизни. Поэтому, так как заключающие мир сохраняют много общих прав и, кроме того, приобретают много частных, появляется девятое требование природного закона, согласно которому каждый обязан предоставлять любому другому те же самые права, которые он требует для себя самого. Иначе он делает бессмысленным равенство, установленное нами в предыдущем параграфе. Ибо что иное означает признание равенства личностей, вступающих в сообщество, как не предоставление равных возможностей тем, у кого иначе не было бы никаких оснований для вступления в это сообщество? А предоставление равного равным есть то же самое, что пропорциональное предоставление. Соблюдение этого закона называется умеренностью, нарушение же – жадностью (?????????); нарушающие этот закон на латинском языке называются невоздержанными и нескромными (immodici et immodesti). 15. Десятым пунктом следует повеление естественного закона, чтобы каждый, распределяя права среди других, оставался бы беспристрастным к обеим сторонам. Предыдущим законом запрещено требовать себе больше прав, чем мы предоставляем их остальным. Мы можем, если хотим, требовать себе меньше, ибо иной раз это является выражением нашей скромности. Но если вдруг мы сами должны предоставить право другим, то в этом случае закон запрещает нам благоволить одним больше, чем другим. Ибо тот, кто, благоволя больше одному, чем другому, не соблюдает естественного равенства, наносит оскорбление обойденному. Выше было показано, что оскорбление противно естественным законам. Соблюдение этого требования называется справедливостью, нарушение – лицеприятием, или по-гречески одним словом – ????????????. 16. Из предыдущего закона выводится одиннадцатый: тем, чего нельзя разделить, следует, если возможно, пользоваться сообща; если же позволяет количество, каждый может брать, сколько захочет; если же количество не позволяет этого, тогда следует пользоваться по заранее установленному порядку и пропорционально числу пользующихся. Ведь иначе никоим образом нельзя сохранить равенство, которого, как мы показали в предыдущем параграфе, требует естественный закон. 17. Точно так же, если что-то не может быть ни разделенным, ни использованным сообща, естественным законом установлено (и это есть двенадцатое требование), чтобы пользование этой вещью происходило либо по очереди, либо отдавалось только кому-нибудь одному по жребию и чтобы при поочередном владении так же жребием определялось, кому принадлежит первая очередь. Ибо здесь так же необходимо иметь в виду равенство, а не прибегая к жребию, его соблюсти невозможно. 18. Жребий же бывает двух родов: либо произвольный, либо естественный. Произвольный является результатом согласия спорящих. Он зависит от чистой случайности и, как говорят, от счастья (fortuna). Естественный же есть результат первородства (по-гречески ?????????? – как бы полученное по жребию) и первого владения. Поэтому то, что не может быть разделено и не может быть использовано сообща, переходит к тому, кто первым завладел этой вещью, точно так же как и перворожденному достается имущество отца, если только сам отец раньше не передал это право кому-то еще. Пусть это будет тринадцатым законом природы. 19. Четырнадцатое предписание естественного закона требует обеспечить неприкосновенность посредникам, способствующим установлению мира. Ибо разум, устанавливающий цель, устанавливает и необходимые средства. А первое требование разума – мир, прочее же относится к средствам, без которых мир не может быть обеспечен, но мир не может быть достигнут без посредничества, а посредничество невозможно без обеспечения безопасности. Следовательно, необходимость обеспечивать неприкосновенность посредникам в установлении мира есть требование разума, то есть закон природы. 20. Далее, если бы даже люди пришли к единому мнению относительно всех этих и всех прочих законов природы и стремились бы их соблюдать, тем не менее ежедневно возникали бы сомнения и споры по поводу применения этих законов к тем или иным фактам: противоречит или нет закону совершенный проступок, а это уже юридический вопрос (quaestio juris). В результате возникает борьба между сторонами, поскольку обе стороны считают себя обиженными. Таким образом, для сохранения мира, поскольку в данном случае невозможно найти другое справедливое средство, необходимо обеим спорящим сторонам обратиться к кому-то третьему и дать взаимное обязательство подчиниться его решению по спорному делу. И такой человек называется арбитр (третейский судья). Следовательно, пятнадцатое требование естественного закона обязывает обе несогласные друг с другом стороны в правовом споре подчиняться решению какого-то третьего лица. 21. Из того, что арбитр, или судья, избирается спорящими для решения их дела, следует, что арбитром не должен быть один из самих спорящих. Ибо предполагается, что каждый от природы ищет собственного блага, а справедливости – только ради достижения мира, то естьакцидентально (в зависимости от обстоятельств), а поэтому он не может соблюсти предписываемую естественным законом справедливость с той тщательностью, с какой это сделает третий. Таким образом, в законе природы шестнадцатым пунктом записано: никто не должен быть судьей, или арбитром, в своем деле. 22. Из этого же следует семнадцатым пунктом, что никто не должен быть арбитром в деле, победа в котором любой стороны сулит ему большую надежду на выгоду и обретение славы. Основание здесь то же, что и в предыдущем законе. 23. Когда же возникает спор относительно самого факта, имел ли он место или нет, тогда по естественному закону (см. пункт 15) арбитр в равной мере не должен верить ни той, ни другой стороне, ибо они утверждают противоположное. Поэтому он должен верить третьему или четвертому или еще кому-то для того, чтобы иметь возможность вынести решение о том, имел ли место данный факт, поскольку это невозможно установить иным путем. Таким образом, восемнадцатый естественный закон обязывает арбитров и судей там, где они не могут обнаружить бесспорных признаков совершенного деяния, выносить решение на основании показаний свидетелей, считающихся беспристрастными к обеим сторонам. 24. Из приведенного выше определения арбитра можно далее сделать вывод, что не должно существовать никакого соглашения или обмена обещаниями между арбитром и спорящими, обязывающих его высказаться в пользу одной из сторон или вынести решение о том, что является или представляется ему справедливым. Ведь арбитр обязан законом природы, который рассматривается в пункте 15, вынести решение, которое он считает справедливым. И к обязательству, налагаемому этим законом, никакое соглашение не может ничего прибавить. А поэтому оно было бы излишним. Кроме того, если бы он, вынося тем самым решение, продолжал настаивать на его справедливости, он бы тем самым не только делал заключенное соглашение недействительным, но и оставлял бы спор нерешенным и после вынесения приговора, а это противоречит обязанности арбитра, избранного спорящими сторонами с тем условием, что они берут на себя обязательства повиноваться решению, которое он вынесет. Следовательно, закон природы требует, чтобы решение выносилось свободно, и это и есть девятнадцатое его требование. 25. Далее, поскольку законы природы есть не что иное, как требование истинного разума, и соблюдать законы природы может только тот, кто сохраняет способность к здравому суждению, то ясно, что тот, кто добровольно и сознательно разрушает или ослабляет свои мыслительные способности, тот добровольно и сознательно нарушает закон природы. Ибо нет никакой разницы, поступил ли кто-нибудь вопреки своему долгу, или он сознательно сделал нечто, что могло бы помешать исполнению им своего долга. Люди разрушают или ослабляют способность разумно мыслить, когда совершают действия, приводящие к утрате разумом своего естественного состояния. Наиболее очевидный пример такого состояния являют пьяные и захмелевшие. Следовательно, двадцатым нарушением закона природы является пьянство. 26. Быть может, кто-нибудь, видя, что перечисленные выше указания естественного закона выведены нами определенным образом из единственного требования разума, побуждающего нас к сохранению нашего существования и нашей безопасности, скажет, что выведение этих законов столь трудно, что не следует ожидать их массового усвоения, а посему они необязательны. Ведь законы обладают обязательной силой только в том случае, если они известны, в противном же случае они вообще не являются законами. Я отвечу ему, что действительно надежда, страх, гнев, честолюбие, корыстолюбие, тщеславие и прочие душевные аффекты мешают каждому познать законы природы до тех пор, пока эти страсти господствуют в его душе. Но нет такого человека, душа которого когда-нибудь наконец не успокаивалась. А это и есть самое удобное время для познания (закона) любым человеком, сколь бы необразован и темен он ни был. Здесь необходимо соблюсти только одно правило: когда ты сомневаешься, соответствует или нет естественному праву то, что ты собираешься сделать по отношению к другому, представь себя на его месте. И тогда все те страсти, которые подталкивали тебя на этот поступок, как бы оказавшись на противоположной чаше весов, удержат тебя от этого поступка. И это правило не только легко, но и всем широко известно в следующих словах: не делай другому того, чего не желаешь самому себе (quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris). 27. Поскольку же большинство людей из-за неправедного стремления к сиюминутной выгоде совершенно не способны соблюдать эти законы, сколь бы хорошо они их ни знали, даже если бы вдруг некоторые более скромные, чем остальные, и попытались осуществить те самые равенство и пользу, которые подсказывает разум, то, поскольку остальные не делали бы ничего подобного, они поступали бы отнюдь не разумно. Они готовили бы себе не мир, но более скорый конец и, соблюдая закон[113], становились бы добычей не соблюдающих его. Поэтому не следует полагать, что природа, то есть разум, обязывает людей исполнять все эти законы в тех обстоятельствах, когда они не исполняются остальными людьми. Однако же мы обязаны стремиться исполнять их, когда станет очевидным, что исполнение их ведет к той цели, для которой они созданы. Поэтому неизбежен вывод, что закон природы является обязательным всюду и всегда перед судом внутренним, то есть на суде совести, перед внешним же судом — не всегда, а только тогда, когда это не может повлечь за собой опасности. 28. Законы, обязывающие совесть, могут быть нарушены не только противоречащим им деянием, но и деянием, согласным с ними, в том случае, когда совершающий такого рода поступок в мыслях своих не согласен с ним. То есть, хотя само по себе действие согласуется с законами, совесть, однако же, противится им. 29. Законы природы неизменны и вечны: то, что они запрещают, никогда не может быть разрешено; то, что они повелевают, никогда не может быть непозволительным. Ибо никогда высокомерие, неблагодарность, нарушение соглашений, или несправедливость, бесчеловечность, оскорбление не будут позволительны, никогда противоположные им качества не станут непозволительными в той мере, в какой они мыслятся выражением душевного настроения, то есть если они рассматриваются на судилище совести, в единственном месте, где они обладают обязательной силой и являются законами. Однако действия могут настолько разниться в зависимости от обстоятельств и требований гражданского закона, что в одно время могут считаться справедливыми, а в другое — несправедливыми и то, что считалось разумным, в другой момент становится неразумным. Требования же разума остаются неизменными и не меняют ни цели, которой являются мир и самозащита, ни средств, то есть именно тех добродетелей души, о которых мы сказали выше и ни одна из которых не может быть уничтожена ни обычаем, ни гражданским законом. 30. Из вышесказанного ясно, как легко соблюдать законы природы, ибо они требуют лишь желания, но искреннего и постоянного, и мы можем с полным основанием назвать справедливым того, кто его проявит. Ибо тот, кто всеми силами стремится, чтобы все его действия отвечали требованиям природы, ясно демонстрирует свое желание исполнять эти законы, а это и есть то, к чему обязывает нас разумная природа. А тот, кто исполнил все, что обязан, может быть назван справедливым. 31. Все авторы согласны, что естественный закон в то же время является и законом моральным (lex moralis). Посмотрим, почему это правильно. Нужно иметь в виду, что благо и зло суть имена, прилагаемые к вещам для обозначения стремления к ним или отвращения от них со стороны тех, кто дает им соответствующее имя. Стремления же людей различны в соответствии с различием склада их характера, образа жизни, взглядов, как это можно видеть на примере наших чувственных восприятий, например вкуса, осязания, обоняния, и в значительно большей степени на тех примерах, которые относятся к проявлениям нашей повседневной жизни, где то, что один хвалит, то есть называет благом, другой порицает как зло, более того, очень часто один и тот же человек в разное время одно и то же хвалит и порицает. При этом неизбежно возникают разногласия и столкновения. Следовательно, они находятся в состоянии войны до тех пор, пока добро и зло определяются различными мерками в зависимости от различия интересов в данный момент. Это состояние все, пока находятся в нем, легко признают злом и соответственно признают мир благом. Следовательно, те, кто не может прийти к соглашению относительно блага в настоящем, соглашаются относительно будущего, а это уж дело разума. Ибо настоящее воспринимается чувствами, а будущее только разумом. Если разум указывает, что мир является благом, отсюда на том же основании следует, что все средства, необходимые для достижения мира, суть благо, а посему скромность, справедливость, верность, человечность, сострадание, которые, как мы доказали, необходимы для достижения мира, являются добрыми нравами, или обычаями, то есть добродетелями. Следовательно, закон, требуя средств для достижения мира, требует тем самым и добрых нравов, или добродетелей. А поэтому он называется моральным законом. 32. Поскольку люди не в состоянии освободиться от того иррационального стремления, заставляющего их предпочитать будущему благу благо непосредственное, с которым тесно связано множество непредвиденных несчастий, то хотя все и согласны в похвалах вышеназванным добродетелям, однако до сих пор не могут прийти к соглашению относительно их природы, то есть содержания каждой из них. Ибо всякий раз, когда кому-то не нравится чей-то добрый поступок, этому поступку тотчас же присваивается имя какого-нибудь близкого порока, точно так же дурные поступки, доставляющие, однако, удовольствие, причисляются к какой-нибудь добродетели. В результате получается, что одно и то же действие одними одобряется и называется добродетелью, другими же осуждается и считается пороком. И до сих пор философы не смогли найти никакого лекарства от этого зла. Ибо, не принимая принципа, в силу которого благость действия состоит в том, что оно ведет к миру, и, наоборот, его зло – в том, что оно возбуждает раздор, они создали моральную философию, не имеющую ничего общего с нравственным законом и противоречащую самой себе. Ибо они пытались утверждать, что природа добродетели заключена в некой середине между двумя крайностями, пороки же проявляются в самих крайностях, что, очевидно, ложно. Ведь хвалят же смелость и, называя ее именем храбрости, относят к добродетелям, если признают основательной причину ее, хотя она и принадлежит к крайностям. Точно так же и щедрость определяется не большим или меньшим или средним размером подарка, а причиной, его вызвавшей. И не является несправедливостью, если я кому-то дам из собственных средств больше, чем следовало. Итак, естественные законы суть выражение сущности моральной философии. Здесь я привел лишь те ее требования, которые касаются нашего самосохранения и направлены против тех опасностей, которые являются результатом наших раздоров. Но существуют и другие требования разумной природы, из которых рождаются другие добродетели. Ведь и умеренность есть требование разума, поскольку невоздержанность ведет к болезням и смерти. Точно так же и храбрость, то есть способность всеми силами сопротивляться непосредственной опасности, которой легче избежать, чем преодолеть ее, поскольку храбрость есть средство самосохранения для того, кто сопротивляется. 33. Так как то, что мы называем законами природы, есть не что иное, как некие выводы разумения того, что следует и чего не следует делать, закон же, собственно и строго говоря, есть высказывание того, кто полноправно приказывает другим что-то делать или чего-то не делать, то тем самым законы природы, собственно говоря, не являются законами в той мере, в какой они исходят от природы. Однако коль скоро они же занесены Господом в Священное писание, как это мы увидим в следующей главе, они имеют полное право называться именем законов. Ибо Священное писание есть всеобъемлющее высказывание Господа, повелевающего на основании высшего права.ГЛАВА IV О ТОМ, ЧТО ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН БОЖЕСТВЕННЫЙ
1. Естественный и моральный закон есть божественный. 2. В общем виде это подтверждается Священным писанием. 3. В частности, это относится к основному естественному закону, согласно которому следует стремиться к миру. 4. А также к первому естественному закону, повелевающему упразднить общность имущества (и установить различие между моим и твоим). 5. А также ко второму, согласно которому следует хранить верность обещанному. 6. А также к третьему, предписывающему проявлять благодарность в ответ на благодеяния. 7. А также к четвертому, касающемуся предупредительности. 8. А также к пятому, касающемуся милосердия. 9. А также к шестому, согласно которому, осуществляя наказания, имеют в виду только будущее. 10. А также к седьмому, запрещающему нанесение оскорблений. 11. А также к восьмому, осуждающему гордость. 12. А также к девятому, касающемуся скромности. 13. А также к десятому, направленному против лицеприятия. 14. А также к одиннадцатому, повелевающему сообща обладать тем, что не может быть разделено. 15. А также к двенадцатому, касающемуся раздела с помощью жребия. 16. А также к пятнадцатому, касающемуся избрания посредством арбитра. 17. А также к семнадцатому, согласно которому арбитры не должны получать вознаграждение за выносимые ими решения. 18. А также к восемнадцатому, касающемуся использования свидетелей. 19. А также к двадцатому, воспрещающему пьянство. 20. Закон природы вечен. 21. Он обращен к совести. 22. Его легко соблюдать. 23. Правило, с помощью которого можно сразу узнать, противоречит какая-нибудь вещь закону природы или нет. 24. Закон Христа – естественный закон. 1. Закон естественный и закон моральный называют обычно еще и божественным. И для этого есть все основания, во-первых, потому, что разум, собственно и являющийся самим законом природы, дан каждому непосредственно Богом в качестве руководящего принципа собственных поступков, во-вторых, потому, что жизненные принципы, вытекающие отсюда, суть те заветы божественного Всемогущества, которые были переданы нам как законы Царствия Небесного Господом нашим Иисусом Христом и святыми пророками и апостолами. Поэтому мы попытаемся в этой главе подтвердить текстами Священного писания те выводы, касающиеся естественного закона, к которым мы выше пришли логическим путем. 2. Прежде всего мы укажем те места, в которых заявляется, что божественный закон заключен в истинном разуме (recta ratio). Пс. 36, 30, 31: Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него. Иер. 31, 33: Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. Пс. 18, 8: Закон Господа совершенен, укрепляет душу. И далее (9): Заповедь Господа светла, просвящает очи. Втор. 30, 11: Заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека. И далее (14): Весьма близко к тебе слово сие: оно в устах твоих и в сердце твоем. Пс. 118, 34: Вразуми меня и буду соблюдать закон Твой. Там же (105): Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Притч. 9, 10: Познание Святого – разум. В Евангелии от Иоанна (1, 1.) сам провозвестник закона Христос называется Словом (?????), а далее (9) тот же Христос называется Светом истинным, просвещающим всякого человека, входящего в сей мир. Все это суть описания истинного разума, требования которого и есть закон природы, как это было показано выше. 3. Установленный нами основной естественный закон, а именно нужно стремиться к миру, составляет сущность божественного закона, это явствует из следующих мест (Рим. 3, 17), где справедливость (составляющая верховный закон) называется путем мира. Пс. 84, 11: Правда и мир облобызаются. Матф. 5, 9: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И святой Павел, сказав в последнем стихе главы 6 Послания к Евреям, что Христос (податель закона, о котором идет речь) – вечный верховный, первосвященник по чину Мельхисидекову, добавляет в первом стихе следующей главы: Ибо Мельхисидек, царь Салима, священник Бога Всевышнего и т. д., а в другом стихе добавляет: по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Отсюда ясно, что Христос как царь в царствии своем соединяет справедливость и мир. Пс. 33, 15: Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним. Ис. 9, 6: Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности. Ис. 52, 7: Как прекрасны на горах ноги благо-вестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой!» Лук. 2, 14 говорит, что при рождестве Христовом прозвучал глас славящих Бога: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! И у Исайи (53, 5) Евангелие называется учением мира. У Исайи же (59, 8) справедливость называется путем мира. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Мих. 5, 4, 5 о мессии говорит: И станет Он, и будет пасти в силе Господней и т. д., ибо тогда Он будет великим до краев земли. И будет Он – мир. И Притч. 3, 1, 2: Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои, да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. 4. Что касается первого закона, согласно которому надлежит упразднить общность всех вещей, то есть установить различие между моим и твоим, первое свидетельство того, сколь противна миру эта общность, мы находим в словах Авраама к Лоту (Быт. 13, 8, 9): Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими... Не вся ли земля перед тобой? Отделись же от меня. Закон же различения нашего и чужого подтверждает все те места Священного писания, в которых запрещается вторгаться в жизнь других, как, например, в заповедях: не убий, не укради, не прелюбодействуй. Ведь они предполагают уничтожение права всех на все. 5. Те же самые предписания подтверждают второй естественный закон о сохранении верности. Не посягай на чужое – что это, как не посягай на то, что в силу заключенного с тобой соглашения перестало принадлежать тебе? И очень выразителен ответ на вопрос в Псалмах (14, 1, 4): Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? – Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. А в книге Притч. 6, 1, 2 говорится: Сын мой! Если ты поручился за ближнего твоего... ты опутал себя словами уст твоих. 6. Третий закон о благодарности подтверждают следующие места: Втор. 25, 4: Не заграждай рта волу, когда он молотит. А это святой Павел (Кор. 9, 9) считает сказанным о людях, а не только о волах. Притч. 17, 13: Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Втор. 20, 10, 11: Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир, если он согласится на мир и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Притч. 3, 29: Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. 7. Следующие Священные тексты согласуются с четвертым законом, предписывающим быть внимательным к другому. Исх. 23, 4, 5, 9: Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, веди его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его: развьючь вместе с ним. Притч. 13, 30: Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Притч. 12, 26: Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Притч. 15, 18: Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю. Притч. 18, 25: Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг, более привязанный, нежели брат. То же подтверждает и Лука (10) в притче о Самаритянине, пожалевшем иудея, раненного разбойниками, а также наставление Христа (Матф. 5, 39): А я говорю вам: не противьтесь закону. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. 8. Среди бесчисленного множества мест, подтверждающих пятый закон, можно привести следующие. Матф. 6, 14, 15: Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также Матф. 18, 21, 22: Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: Не говорю тебе: до семи, но до семижды семидесяти раз. Значит, столько раз, сколько он согрешит. 9. В подтверждение шестого закона могут быть приведены все те места, которые приказывают проявлять милосердие. Например, Матф. 5, 7: Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Лев. 19, 18: Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего как самого себя. Есть, однако, люди, полагающие, что Священное писание не только не подтверждает, но, наоборот, опровергает этот закон тем, что нечестивцев ожидает вечное наказание после смерти, где уже нет места ни исправлению, ни поучительному примеру. Некоторые разрешают это противоречие, утверждая, что Бог, не связанный никаким законом, все творит во славу Себе, но человеку не дано поступать так же. Как будто Бог ищет славы в смерти грешника, то есть желает понравиться самому себе. Более правильным будет ответ, если мы скажем, что вечное наказание было установлено еще до грехопадения и имело в виду только внушить людям страх перед грехом на будущее. 10. Седьмой закон подтверждает слова Христа (Матф. 5, 22): А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака» (пустой человек), подлежит синедриону (верховное судилище); а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной. Притч. 10, 18: Яго разглашает клевету, тот глуп. Притч. 14, 21: Кто презирает ближнего своего, тот грешит. Притч. 15, 1: Оскорбительное слово возбуждает ярость. Притч. 22, 10: Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратится ссора и брань. 11. Восьмой закон, предписывающий признавать равенство по природе, то есть относящийся к смирению, подкрепляют следующие места. Матф. 5, 3: Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царствие Небесное. Притч. 6, 16 -17: Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые и т. д. Притч. 16, 5: Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем: можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Притч. 11, 2: Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными – мудрость. То же самое у Исайи (40, 3,4), где возвещается пришествие Мессии, предвещающего царствие Его: Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему: всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да принизятся. Это, без сомнения, относится не к горам, а к людям. 12. Справедливость, названная нами девятым законом природы, в силу которого каждому предписывается признавать за другими те же права, которые он хочет для самого себя, закон, объемлющий собой все прочие законы, является именно тем, который устанавливает и Моисей (Лев. 19, 18): Возлюби ближнего своего, как самого себя. И Спаситель наш говорит, что это высший моральный закон. Матф. 22, 36-40: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего и т. д. Это и есть наивысшая и первая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Возлюбить же ближнего своего, как самого себя, есть не что иное, как позволить ему все то, что мы хотим, чтобы было позволено нам самим. 13. Десятым законом запрещается лицеприятие, как это говорится и в следующих местах. Матф. 5, 45: Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему всходить над злыми и добрыми. Колос. 3, 11: Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Деян. 10, 34: Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. 2 Пар. 19, 7: Нет у Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия. Рим. 2, 11: Ибо нет лицеприятия у Бога. 14. Не знаю, содержится или нет четко в Священном писании одиннадцатый закон, повелевающий пользоваться сообща тем, чего нельзя разделить. На практике его применение встречается повсюду в общем пользовании колодцами, дорогами, реками, святынями: иначе поступать нельзя, пока будут жить люди. 15. На двенадцатом месте мы поставили закон природы, в силу которого то, чего нельзя разделить и чем нельзя пользоваться сообща, должно предоставляться по жребию. Этот закон может быть подтвержден примером Моисея, который по повелению Бога (Чис. 34) по жребию распределил во владение племенам части земли обетованной. То же подтверждает и пример апостолов (Деян. 1, 24-26), которые по жребию допустили в свое число Матфея и Иуста, сказавши: Ты, Господи, укажи, кого избрал, и т. д. То же самое можно заключить из Притч. 16, 33: В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа. И, как в тринадцатом законе, наследование полагалось Исаву как перворожденному сыну Исаака, если бы он сам (Быт. 25, 43) не продал бы своего права или если бы Отец не решил иначе. 16. Святой Павел в Послании к Коринфянам (1 Коринф. 6) порицает христиан этого города за то, что они решают свои тяжбы в общественных судах у нечестивых судей, у своих врагов, и говорит, что это грех, если они боятся претерпеть несправедливость и испытать обман. Ведь это противоречит закону, повелевающему нам быть взаимно доброжелательными. Но если возникнет спор о вещах, совершенно необходимых, как поступать в таком случае? И здесь (1 Коринф. 6, 5) апостол говорит так: К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Следовательно, этими словами он подтверждает закон природы, который мы назвали пятнадцатым и гласящий о том, что, если невозможно избежать тяжбы, нужно по согласию сторон выбрать какого-нибудь арбитра, третейского судью, чтобы, согласно шестнадцатому закону, ни один из тяжущихся не оказался судьей в собственном деле. 17. То, что судья, или арбитр, не должен принимать дары за свой приговор (а это семнадцатый закон), ясно из Исх. 23, 8: Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых и Еккл. 20, 31: Дары и приношения ослепляют очи судей. Отсюда следует, что он не обязан одной стороне более, чем другой, что является девятнадцатым законом и подтверждается также Втор. 1, 17: Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте, а также всеми текстами, которые были приведены против лицеприятия. 18. Необходимость привлекать свидетелей при суждении о том, был ли совершен какой-то проступок (а это восемнадцатый закон), Священное писание не только подтверждает, но и требует большего числа свидетелей (Втор. 17, 6): По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осужденный на смерть. То же самое во Втор. 19,15. 19. Пьянство, которое мы поставили на последнее место среди нарушений естественного закона потому, что оно препятствует действию истинного разума, запрещается и в Священном писании на том же основании (Притч. 20, 1): Вино – глумливо, сикера – буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен и (Притч. 31, 4, 5): Не царям пить вино, и не князьям – сикеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. А чтобы мы знали, что зло этого порока по существу состоит не в количестве выпитого вина, а в том, что оно ослабляет способность разума к суждению, в следующем стихе говорится: Дайте сикеру погибающему и вино – огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспоминает больше о своем страдании. Точно те же основания приводит и Христос, запрещая пьянство (Лук. 21, 34): Берегитесь, дабы сердца ваши не погрязли в пьянстве и хмеле. 20. Сказанное в предыдущей главе о вечности закона природы подтверждается и текстом (Матф. 5, 18): Истинно говорю вам, что, пока не прейдут небо и земля, нет ничего в законе, что бы не исполнилось, и (Пс. 118, 160): Основание слова всего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. 21. Мы сказали также, что законы природы основываются на совести, то есть праведен тот, кто всеми силами стремится исполнить их. И даже если кто-нибудь выполнит все те действия, которые повелевает закон (а это есть только внешнее повиновение), но не в силу самого закона, а только в силу наказания, грозящего за неповиновение, либо из тщеславия, он все же не будет праведником. И то и другое подтверждается Священным писанием. Первое (Ис. 55, 7): Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, да обратится к Господу, и он помилует его. Иез. 18, 31: Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? Из всех этих и подобных им текстов можно достаточно ясно понять, что Бог не накажет деяния тех, чье сердце справедливо. Второе подтверждается местом из (Ис. 29, 13, 14): И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне и устами своими и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня и т. д. Матф. 5, 20: Истинно говорю вам: если ваша правда не больше, чем у книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное. И далее наш Спаситель объясняет, что заветы Божьи могут быть нарушены не только делами, но и помыслами. Ведь книжники и фарисеи самым тщательным образом соблюдают закон во внешних поступках, но только из тщеславия, а иначе они готовы нарушить его. Кроме того, в разных местах Писания во множестве встречаются выражения, которые совершенно ясно говорят, что Бог принимает помыслы за содеянное, и это равно в добрых, как и дурных делах. 22. О том, что закон природы легко исполнить, заявляет и Христос. У св. Матф. (11, 28-30): Придите ко мне все страждущие и т. д. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И найдите покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко. 23. Наконец, то правило, с помощью которого, как я сказал, можно понять, противоречит или нет закону природы чье-либо намерение, а именно: Не делай другому того, чего бы ты не желал для самого себя, почти в тех же словах возвещается нашим Спасителем (Матф. 7, 12): Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. 24. Подобно тому, как всякий закон природы есть закон божественный, так и закон Христа, который целиком излагается в 5, 6, 7-й главах от Матфея, также полностью есть учение природы (за исключением лишь повелевания не жениться на той, которая была отвергнута мужем за прелюбодеяние,- требование, добавленное Христом как объяснение установленного божественного закона, когда он возражал иудеям, неправильно истолковавшим закон Моисея). Я сказал, что в указанных главах излагается весь закон Христа, но не все учение Христа, ибо часть этого учения есть вера, которая не включается в понятие закона. Ибо законы имеют в виду действия, следующие за нашей волей, а не убеждения и не веру, ибо они не зависят от нас и не подчиняются нашей воле.ВЛАСТЬ
ГЛАВА V О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
1. Естественные законы недостаточны для сохранения мира. 2. Законы природы в естественном состоянии молчат. 3. Безопасность людского существования по законам природы состоит в согласии многих лиц. 4. Согласие многих лиц не может быть достаточно устойчивой гарантией для длительного мира. 5. Почему порядок среди некоторых бессловесных животных определяется одним лишь согласием, а у людей дело обстоит иначе. 6. Для установления мира среди людей требуется не только согласие, но и единение. 7. Что есть единение. 8. В единении право каждого переносится на одного. 9. Что такое государство. 10. Что такое гражданское лицо. 11. Что означает обладать высшей властью и что такое подданный. 12. Два рода государств -государства естественные и установленные. 1. Само собой ясно, что действия людей определяются их волей, а воля – надеждой и страхом, так что, если им представляется, что нарушение законов принесет им большее благо или меньшее зло, чем их соблюдение, они охотно их нарушают. Ибо надежда на безопасность и самосохранение для каждого состоит в возможности собственными силами и средствами предвосхитить явно или скрытно действия своего ближнего. Отсюда понятно, что естественные законы не предоставляют кому бы то ни было возможности спокойно следовать им сразу же, как только они становятся известными людям, а поэтому, пока не будет гарантии от нападения со стороны других, у каждого сохраняется его исконное право на самозащиту теми средствами, какими он посчитает нужным и сможет воспользоваться, значит, право на все, то есть право войны. И для исполнения естественного закона достаточно каждому быть в душе готовым к миру там, где он может быть. 2. Общеизвестна истина, что на войне законы молчат. И это правильно не только в отношении гражданских законов, но и в отношении естественного закона, если имеются в виду не намерения, а действия, как об этом говорится в 27-м пункте главы 3. При этом предполагается, что это не просто война, а война всех против всех, а это и есть чисто естественное состояние; ведь даже в войне одного народа против другого народа обычно все же соблюдается некоторая мера. Поэтому в древности сложился даже определенный своеобразный способ хозяйствования, который называли ????????? – жить награбленным. Этот образ жизни при сложившемся положении не противоречил закону природы и даже приносил славу тем, кто энергично следовал ему, не проявлял при этом жестокости. У них было принято, грабя все остальное, не убивать людей и не трогать пахотных быков и сельские орудия. Не следует, однако, думать, будто бы их побуждал к этому закон природы: они просто стремились добыть себе славу и избежать упрека в чрезмерной жестокости. 3. Следовательно, для сохранения мира необходимо соблюдение естественного закона; для соблюдения же естественного закона необходима безопасность и нужно знать, что может обеспечить такую безопасность. Здесь невозможно придумать ничего другого, кроме того, чтобы каждый обладал такими средствами защиты, которые бы сделали нападение одного на другого столь опасным, что оба сочли бы за лучшее для себя протянуть руку, а не поднимать ее на другого. Но прежде всего очевидно, что согласие двоих или троих отнюдь не способно обеспечить такого рода безопасность (ибо достаточно присоединиться к одной из сторон одному или нескольким людям, как ей обеспечена твердая и несомненная победа), что заставляет противника напасть первым. Таким образом, для обеспечения той безопасности, которую мы хотим получить, необходимо, чтобы число объединяющихся ради взаимопомощи было настолько велико, что увеличение числа врагов на несколько человек не имело бы существенного значения для достижения победы. 4. Далее, сколь бы велико ни было число объединившихся между собой ради самозащиты, если, однако, среди них не будет согласия относительно того, каким образом лучше всего это следует делать, но каждый на свой лад станет уповать лишь на собственные силы, они не достигнут ничего, потому что, не имея единого мнения, они станут лишь мешать друг другу. И даже если они смогут как-то объединиться для единого действия в надежде на победу, добычу или мщение, все равно в силу различия своих взглядов и устремлений, соперничества и зависти, от природы присущих людям и побуждающих их к взаимной борьбе, они столь значительно расходятся друг с другом, что только какая-то общая угроза способна заставить их искать взаимопомощи и мира между собой. Отсюда следует, что согласие большинства, состоящее лишь в направлении всех своих действий к одной и той же цели и общему благу, то есть общество, созданное только ради взаимной помощи, не обеспечивает вступающим в соглашение, то есть своим членам, искомой нами безопасности, позволяющей соблюдать в наших отношениях вышеназванные законы природы, но необходимо нечто большее для того, чтобы их, пришедших однажды к взаимному согласию, миру и взаимной помощи ради общего блага, некий страх удержал бы от новых столкновений, когда какое-то частное благо придет в противоречие с общим. 5. Аристотель относит к созданиям, которых он называет общественными, не только человека, но и многих других животных, в частности муравья, пчелу и т. д., которые, хотя и лишены разума, позволяющего вступать в соглашения и подчиняться приказу, тем не менее единодушно, то есть желая и избегая одного и того же, так направляют свои действия к общей цели, что их сообщества не знают раздоров. Однако их объединения не являются государствами, а потому и они сами не могут называться общественными животными, ибо они управляются только собственным согласием, то есть множеством воль, направленных на один объект, а не так, как в государстве,- единой волей. Действительно, в этих созданиях, живущих только чувственными ощущениями и побуждениями, единство стремлений столь прочно, что нет необходимости в какой-либо иной силе для его поддержания, а следовательно – и для поддержания мира между ними, кроме их естественного желания. Среди людей же дело обстоит иначе. Во-первых, у людей существует борьба за почести и общественное положение, среди животных ее нет. Отсюда у людей существуют ненависть и зависть, порождающие восстания и войны, у животных же этого нет. Во-вторых, естественные желания у пчел и подобных созданий одинаковы и направлены на общее благо, которое у них не отличается от частного, для человека же почти ничто не считается благом, если оно не заключает в себе нечто особенное и отличающееся от того, чем владеют остальные. В-третьих, животные, не обладая разумом, не видят и даже не подозревают, что могут видеть какие-то недостатки в управлении своими общими делами, среди же людей есть множество считающих себя умнее всех прочих и потому предпринимающих попытки государственных переворотов, и каждый из этих новаторов вводит свои собственные новшества, а это и ведет к раздору и гражданской войне. В-четвертых, бессловесные животные, хотя и могут голосом выражать различные свои чувства, лишены, однако, способности к членораздельной речи, которая необходима для того, чтобы возбудить в душе страсти и представить зло худшим, а добро лучшим, чем это есть в действительности. Человеческая речь – это некая труба, подающая сигнал к войне и восстанию: ведь говорят же, что некогда речи Перикла гремели, сверкали молнией, потрясали всю Грецию. В-пятых, эти животные не отличают несправедливости от ущерба. Поэтому, пока им хорошо, они не винят сотоварищей. Люди же, наоборот, докучают государству, когда у них много свободного времени: ведь обычно они только тогда начинают бороться за свое общественное положение, когда одержат победу в сражении против голода и холода. Наконец, согласие этих бессловесных тварей естественно, согласие же людей является лишь результатом соглашения, то есть искусственно. А поэтому не нужно удивляться, если людям для того, чтобы жить в мире, требуется нечто большее. Следовательно, согласия, то есть сообщества, созданного без участия некой общей власти, которая бы угрозой наказания правила отдельными людьми, еще недостаточно для обеспечения безопасности, требуемой для осуществления естественной справедливости. 6. Таким образом, поскольку стремления многих воль, направленных к единой цели, недостаточно для сохранения мира и надежной его защиты, требуется как необходимое средство для обеспечения мира и его защиты единая воля всех людей. А это может осуществиться только в том случае, если каждый подчинит свою волю другой единой воле, будь то воля одного человека или одного собрания, так что она будет считаться представляющей волю всех и каждого, какова бы она ни была, в отношении всего того, что необходимо для достижения общего мира. Собранием (concilium) же я называю множество людей, обсуждающих то, что следует предпринять или чего не следует предпринимать для общего блага всех людей. 7. А такое подчинение воль всех этих людей воле одного человека либо воле одного собрания происходит тогда, когда каждый из них обязуется соответствующим соглашением перед каждым из остальных не противиться воле того человека либо того собрания, которому он подчинился, то есть не отказывать ему в своих средствах и своей помощи против кого угодно (ибо предполагается, что он сохраняет за собой право самозащиты против насилия). Такое подчинение и называется единством. Под волей же собрания понимается воля большинства тех людей, из которых состоит собрание. 8. Хотя сама по себе воля и не является свободной, а только источником свободных действий (ведь мы хотим не желать, а делать) и поэтому менее всего зависит от размышлений и соглашений, однако тот, кто подчиняет свою волю воле другого, переносит на этого другого право на свои силы и возможности, и, поскольку все остальные делают то же самое, в результате тот, кому подчинились, обладает уже такими силами, что угрозою их применения способен привести воли всех отдельных людей к единству и согласию. 9. Созданное таким образом единение называется государством или гражданским обществом (societas civilis), а также гражданским лицом (persona civilis). Ибо если существует единая воля всех, то она и должна приниматься за одно лицо и отличаться от всех отдельных людей и обозначаться единым наименованием, обладая собственными правами и собственным имуществом. Поэтому ни какой-либо гражданин, ни все они вместе, за исключением того, чья воля представляет волю всех, не должны считаться государством. Следовательно, государство (civitas), если дать ему определение, есть единая личность, чья воля на основании соглашения многих людей должна считаться волею их всех, с тем чтобы оно имело возможность использовать силы и способности каждого для защиты общего мира. 10. Хотя всякое государство есть гражданское лицо, это не значит, что и, наоборот, всякое гражданское лицо есть государство. Ибо может быть так, что некоторые граждане с разрешения государства образуют одно лицо для ведения определенных дел. Такими гражданскими лицами будут купеческие компании и многие другие объединения. Но они не являются государствами, потому что их члены не подчинили себя целиком и полностью воле сообщества, а только в некоторых вопросах, определенных государством, так что любой из его членов имеет право предъявить иск в суде всему товариществу, тогда как гражданин не может судиться с государством. Таким образом, подобные товарищества суть гражданские лица, подчиненные государству. 11. Во всяком государстве тот человек или то собрание, чьей воле, как было сказано, подчинили свою волю отдельные лица, обладает, как говорят, высшим могуществом (summam potestatem), или верховной властью (summum imperium), или господством (dominum). Это могущество, или право повелевать, состоит в том, что каждый гражданин перенес всю свою силу и могущество на этого человека или на это собрание. А так как физически перенести свою силу на другого никто не может, то этоозначает не что иное, как отказ от своего права на сопротивление. Каждый гражданин, точно так же как и всякое подчиненное гражданское лицо, называется подданным того, кто обладает верховной властью. 12. Из сказанного выше достаточно понятно, каким образом и в какой последовательности многие естественные лица из стремления к самосохранению и под действием взаимного страха объединились в одно гражданское лицо, которое мы назвали государством. При этом те, кто подчиняется другому из страха, подчиняются либо тому, кого они страшатся, либо кому-то другому, кому они доверяют, с тем чтобы тот защитил их. Например, побежденные на войне сдаются, чтобы их не убили (первый случай), и еще не побежденные – дабы не оказаться таковыми (второй случай) . Первый способ образования государства основывается на естественном могуществе и может быть назван естественным происхождением государства, второй же основывается на сознательном согласии и решении объединяющихся, и такое происхождение государства связано с установлением. Отсюда и два рода государств – естественные, например патриархальное и деспотическое, и установленные, которые могут быть названы также и политическими (гражданскими). В первом – властитель приобретает себе граждан по собственной воле, во втором -граждане своим собственным решением подчиняют себя господству одного человека или собрания людей, наделенных верховной властью. Сначала мы будем говорить об установленном, а затем о естественном государстве.ГЛАВА VI О ПРАВЕ СОВЕТА ИЛИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, ОБЛЕЧЕННОГО В ГОСУДАРСТВЕ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТЬЮ
1. Масса людей вне государства не может обладать каким-либо правом, ни совершать какое-либо действие, на которое не согласится каждый в отдельности. 2. Начало государства есть право большинства, пришедшего к согласию. 3. Каждый сохраняет право защищаться так, как он сочтет нужным, до тех пор, пока не обеспечена его безопасность. 4. Для обеспечения безопасности необходима власть, обладающая правом принуждения. 5. Что такое меч справедливости. 6. Меч справедливости находится в руках того, кто обладает верховной властью. 7. Меч войны принадлежит ему же. 8. Правосудие принадлежит ему же. 9. Право законодательства принадлежит ему же. 10. Назначение должностных лиц и слуг государства принадлежит ему же. 11. Ему же принадлежит право оценки учений. 12. Любой поступок его остается безнаказанным. 13. Ему же граждане предоставили абсолютную власть. Сколь велико должно быть повиновение ему. 14. Он не связан государственными законами. 15. Никто не обладает какой-либо собственностью вопреки воле того, кому принадлежит верховная власть. 16. Гражданские законы указывают, что такое кража, убийство, прелюбодеяние, несправедливость. 17. Мнение тех, кто хотел бы учредить такое государство, в котором бы никто не обладал абсолютной властью. 18. Что является признаком высшей власти. 19. Если сравнить человека с государством, то обладающий верховной властью находится в таком же отношении к государству, в каком находится душа человеческая по отношению к самому человеку (пункт 1, гл. 6). 20. Верховная власть не может по праву быть отменена согласием тех, соглашением которых она была установлена. 1. Прежде всего следует рассмотреть, что представляет собой сама масса[114] (multitude) людей, объединившихся по собственной воле в государство. Следовательно, масса людей не есть нечто единое, но состоит из множества людей, каждый из которых обладает собственной волей и собственным суждением обо всем касающемся его. И если в силу частных соглашений отдельные люди обладают принадлежащим им правом и собственностью, так что один может назвать своим одно, а другой – другое, не существует ничего, о чем бы вся толпа как лицо, отличное от любого отдельного лица, могла бы с полным правом сказать, что это мое, а не чужое. И не существует такого действия, которое могло бы быть приписано толпе как ее собственное, но, если все или большинство в этой толпе придут к соглашению, это не будет единым действием, но будет столько действий, сколько людей. Ведь, хотя во время какого-нибудь крупного волнения обычно говорят, что народ этого государства взялся за оружие, это утверждение, однако, является истинным только по отношению к тем, кто сражается или сочувствует. Ибо государство, которое является одним лицом, не может выступить с оружием против самого себя. Следовательно, все, что делается массой, должно пониматься как сделанное каждым из тех, из кого она складывается. Тот же, кто, принадлежа к этой массе, тем не менее не согласился с ее действиями и не оказывал ей своей помощи, должен рассматриваться как не участвовавший в ее действиях. Кроме того, для массы, еще не слившейся вышеназванным способом в одно лицо, сохраняется то естественное состояние, когда все принадлежит всем и еще не существует твоего и моего, что называют владением, или собственностью, ибо еще не существует той безопасности, которая, как мы показали выше, требуется для исполнения естественных законов. 2. Нужно, далее, принять во внимание, что каждый человек, составляющий массу, для того чтобы положить начало созданию государства, должен соглашаться с остальными, чтобы в тех вопросах, которые предлагаются кем-то на собрании, воля большинства граждан считалась бы волею их всех. Ибо иначе вообще невозможна никакая воля массы людей, интересы и желания которых столь различны и несхожи. Если же кто-нибудь не захочет согласиться, то и без него остальные тем не менее образуют государство, а результатом будет то, что государство применит свое исконное право против несогласного, то есть право войны, как против врага. 3. Поскольку в шестом параграфе предыдущей главы мы сказали, что для безопасности людей требуется не только согласие их, но и подчинение воли каждого в том, что необходимо для обеспечения мира и собственной защиты, и что в этом единстве или подчинении заключается природа государства, то нужно в настоящий момент рассмотреть, что именно из того, что может предлагаться, обсуждаться и решаться на собраниях людей, все воли которых содержатся в воле большинства, необходимо для обеспечения мира и коллективной безопасности. Прежде всего для мира необходимо, чтобы каждый был в такой степени защищен против насилия со стороны других людей, чтобы иметь возможность жить в безопасности, то есть не иметь основательной причины бояться остальных, при условии, что сам он не причинит никакой обиды другим. Впрочем, обезопасить людей от взаимного ущерба так, чтобы они были гарантированы от нападения или несправедливого убийства, невозможно, а поэтому не следует и обсуждать эту тему. Но возможно добиться того, чтобы не существовало основательной причины для страха. Ибо безопасность является той целью, ради которой люди соглашаются подчиняться другим. Ведь если бы мы не могли достичь этой безопасности, то, надо полагать, никто не подчинился бы другому или не отказался бы от права самозащиты такими средствами, какие он сочтет нужными. И никто не должен быть обязанным к чему-то или отказаться от своего права на все до тех пор, пока ему не будет обеспечена безопасность. 4. Для достижения этой безопасности недостаточно, чтобы каждый из тех, кто намеревается слиться в государство, договорился бы с остальными устно или письменно не убивать, не воровать и соблюдать другие подобные законы, ибо для всех очевидна порочность человеческой природы и по опыту слишком хорошо известно, сколь мало удерживает людей от нарушения их долга сознание данного обещания, если им не грозит за это наказание. Поэтому добиваться безопасности нужно не столько соглашениями, сколько наказанием, а эти меры окажутся достаточными тогда, когда будут установлены такие наказания за каждое нарушение права, что будет ясно, что его нарушение есть большее зло, чем соблюдение. Ведь все люди, следуя естественной необходимости, выбирают то, что для них очевидно является благом. 5. Считается, что человек лишь тогда получил право подвергать кого-либо наказанию, когда каждый гражданин дает обязательство, что он не окажет помощи тому, кто должен быть наказан. Я буду называть это право мечом справедливости. Такого рода обязательство в большинстве случаев люди соблюдают достаточно добросовестно, за исключением того, когда они сами или их близкие должны подвергнуться наказанию. 6. Итак, поскольку для безопасности каждого отдельного человека и для всеобщего мира необходимо, чтобы право использовать меч справедливости для наказания было передано какому-то человеку или собранию, то этот человек или это собрание неизбежно мыслятся по праву обладающими верховной властью в государстве. Ведь тот, кто по праву налагает наказание так, как считает нужным, тот по праву может заставить всех делать все, что он пожелает, а большей власти невозможно и придумать. 7. Напрасно заботятся о внутреннем мире те, кто не может обезопасить себя от внешних врагов, равно как не могут обезопасить себя от внешних врагов те, чьи силы не объединены. Поэтому для безопасности каждого отдельного человека необходимо, чтобы существовало какое-нибудь одно собрание или один человек, которые бы обладали правом при любой опасности или какой-то случайности вооружать, собирать, объединять столько граждан, сколько их может потребоваться для общей защиты от врагов, численность и силы которых неизвестны, а когда представится случай – заключать мир с врагами. Это значит, что отдельные граждане перенесли полностью право войны и мира на одного человека или на одно собрание. И это право, которое мы можем назвать мечом войны, принадлежит тому же человеку или собранию, которому принадлежит и меч справедливости. Ибо никто не может по праву принудить граждан браться за оружие и нести военные расходы, кроме того, кто может по праву наказывать отказывающегося повиноваться. Таким образом, и меч войны, и меч справедливости по самой сущности государственного устройства являются неотъемлемой принадлежностью верховной власти. 8. А поскольку право меча есть не что иное, как обладание правом по собственному усмотрению применять меч, из этого следует, что суждение или решение о правильном его применении принадлежит ему же. Ведь если бы право судить принадлежало бы одному, а право исполнять приговор – другому, это не привело бы ни к какому результату: ведь напрасно бы выносил приговор тот, кто не мог бы его исполнить; а если бы приговор исполнялся на основании права, принадлежащего другому, то пришлось бы сказать, что не он обладает правом меча, а другой, чьим лишь помощником он является. Следовательно, всякий суд в государстве должен находиться в руках того, кто обладает мечом, то есть кому принадлежит верховная власть. 9. Далее, так как предупреждение ссор содействует установлению мира не меньше, а даже больше, чем подавление уже начавшихся, и так как все столкновения рождаются из противоречивых представлений людей о моем и твоем, справедливом и несправедливом, полезном и вредном, добром и дурном, достойном и недостойном и тому подобном, что каждый оценивает, исходя из собственного суждения, поэтому обязанностью той же верховной власти является установление и обнародование правил или мерок, благодаря которым каждый бы знал, что следует называть своим, а что чужим, что справедливым, а что – несправедливым, что достойным, а что – недостойным, что добрым, а что – дурным, то есть, одним словом, что следует делать и чего следует избегать в повседневной жизни. Эти правила, или мерки, обычно называют гражданскими законами, или законами государства, и они суть требования того, кто обладает в государстве верховной властью. Гражданские законы, таким образом, если мы попытаемся дать им определение, суть не что иное, как требования, касающиеся действий граждан в будущем, предъявляемые им тем, кто обладает высшей властью. 10. Кроме того, поскольку один человек или одно собрание без помощников и подчиненных им должностных лиц не могут вести все государственные дела, касающиеся войны и мира, а для достижения мира и обеспечения защиты немаловажно, чтобы те, кому положено справедливо решать споры, предугадывать замыслы соседей, разумно руководить военными действиями, всячески заботиться о благе государства, хорошо исполняли бы свои обязанности, то будет разумным, если они будут зависеть от того и избираться тем, кто обладает верховной властью как в военное, так и в мирное время. 11. Очевидно также, что все произвольные действия исходят и необходимо зависят от воли, желание же что-то сделать или не сделать зависит от представлений каждого о добре и зле, награде и каре, которые, по его мнению, последуют за совершением или несовершением какого-то деяния. Таким образом, действия всех людей определяются их собственными представлениями. Поэтому мы неизбежно приходим к очевидному выводу, что в интересах всеобщего мира чрезвычайно важно, чтобы гражданам не проповедовались никакие взгляды и учения, которые бы привели их к мысли, что они имеют право не подчиняться государственным законам, то есть приказаниям того человека или собрания, которым поручена верховная власть в государстве, или что позволено перечить им, либо что большее наказание ожидает тех, кто не желает повиноваться этим проповедникам, чем тех, кто готов подчиниться им. Ведь если один под страхом физической смерти приказывает сделать нечто, а другой под страхом смерти вечной запрещает то же самое, и при этом оба действуют по праву, то это приведет не только к тому, что станет законным наказание даже невинных граждан, но и к полному уничтожению государства. Ведь никто не может служить двум господам, ибо тот, кому, по нашему убеждению, мы обязаны повиноваться из страха вечного осуждения, не в меньшей, а скорее в большей мере является нашим господином, чем тот, которому повинуются под страхом смерти физической. Отсюда следует, что тот, кому государством поручена верховная власть, будь то один человек или собрание, обладает помимо всего прочего еще и правом судить, какие взгляды и учения [115] враждебны интересам мира, и запрещать их распространение. 12. Наконец, из того, что каждый гражданин подчинил свою волю воле того, кто обладает в государстве верховной властью, так что уже не может использовать свои силы против него, с очевидностью следует, что любой поступок правителя должен оставаться безнаказанным. Ведь никто не может физически наказать его, не обладая достаточными силами для этого, и никто не может по праву наказать его, не обладая достаточным для этого правом. 13. Из того, что было сказано, очевидно, что во всяком совершенном государстве (значит, в таком, где ни один из граждан не обладает правом по собственному усмотрению использовать свои силы ради обеспечения собственной безопасности, т. е. где исключается право частного меча) есть тот, кто обладает наивысшей властью, больше которой люди не могут по праву предоставить кому-либо, или иначе – больше которой ни один смертный не может иметь по отношению к самому себе. Власть же, больше которой люди не могут предоставить человеку, называется абсолютной [116]. Ибо всякий, кто подчинил свою волю воле государства настолько, что оно может безнаказанно делать что угодно, издавать законы, разрешать тяжбы, налагать наказания, по собственному усмотрению пользоваться силами и средствами всех граждан, и все это по праву, без сомнения предоставил ему наивысшую власть, какую только можно предоставить. Это может подтвердить и опыт всех существующих и существовавших когда-либо государств. Ведь хотя иной раз и может возникнуть сомнение, какой именно человек или какое собрание должно обладать верховной властью в государстве, однако всегда существует и действует власть такого рода, если не считать времени восстаний и гражданской войны, когда вместо одной возникают две высшие власти. Бунтовщики же, которые любят обычно поносить абсолютную власть, стремятся не столько уничтожить ее, сколько передать другому. Ведь если уничтожить эту власть, то вместе с ней уничтожается и государство, и наступает всеобщая смута. С абсолютным правом верховного правителя связывается такое повиновение граждан, какое необходимо для управления государством, то есть такое, чтобы не считать это право предоставленным напрасно. Такого рода повиновение (хотя по некоторым причинам в нем иной раз может быть по праву отказано), поскольку все же большего повиновения быть не может, мы называем безусловным повиновением. Обязательство проявлять такого рода повиновение рождается не непосредственно из того соглашения, в силу которого мы перенесли все принадлежащее нам право на государство, но опосредованно, а именно как следствие того факта, что без повиновения право власти не имело бы силы и соответственно государства вообще не существовало бы. Ибо – одно дело сказать: я предоставляю тебе право делать что угодно, а другое: я выполню все, что ты прикажешь. И может быть дано такое приказание, что я предпочту быть скорее убитым, чем исполнить его. Следовательно, если никто не может быть обязан к добровольной смерти, тем более он не может быть принужден к тому, что хуже смерти. Следовательно, если бы мне приказали покончить жизнь самоубийством, я не связан никаким обязательством, ибо, если даже я откажусь, право власти ничуть не пострадает, так как могут найтись другие, кто не откажется это выполнить, да и я отказываюсь выполнить то, чего я не обещал. Подобным же образом, если обладающий верховной властью прикажет кому-нибудь убить его, я имею в виду правителя, то этот человек не обязан делать это, так как невозможно понять, как он мог взять на себя такое обязательство. И сын не обязан убивать своего родителя, не виновен или виновен он и справедливо осужден, так как найдутся и другие, которые охотно выполнят это приказание, и сам сын скорее предпочтет умереть, чем жить в позоре и бесчестии. Есть и много других случаев, когда исполнение одного и того же приказания для одних является бесчестным, а для других нет и когда по праву одни обязаны повиноваться, а другие – нет, и это ни в коем случае не подрывает абсолютного права власти, предоставленного правителю. Ибо у него ни в одном из этих случаев не отнимают право наказания тех, кто откажется повиноваться. А те, кто все же совершает такое убийство, хотя бы и на основании права, предоставленного им тем человеком, кому оно принадлежит, используют это право вопреки требованиям истинного разума; и тем самым они грешат против естественных законов, то есть против Бога. 14. И никто не может даровать что-нибудь самому себе, потому что предполагается, что он уже имеет то, что он может даровать себе. И равным образом он не может дать обязательства самому себе: ведь поскольку в данном случае дающий обязательство и налагающий обязательство является одним и тем же лицом, а налагающий обязательство в состоянии освободить обязавшегося от этого обязательства, то не имело бы смысла давать обязательство самому себе тому, кто по собственному усмотрению может освободить себя же от него. А тот, кто может это сделать, уже фактически свободен. Отсюда очевидно, что само государство не связано гражданскими законами, ибо гражданские законы суть законы государства и, если бы оно было связано ими, оно было бы связано обязательствами самому себе. Государство не может быть обязанным и перед гражданином. Ведь так как гражданин, если бы захотел, может освободить государство от обязательства и так как он хочет этого всякий раз, как этого хочет государство, потому что воля каждого гражданина во всех делах представлена в воле государства, государство оказывается свободным от обязательства, когда захочет, то есть фактически оно уже свободно. Воля же государства есть воля того собрания или того человека, коему вручена высшая власть. Следовательно, она представляет воли отдельных граждан; поэтому тот, кому вручена верховная власть, не связан гражданскими законами (ибо это означало бы быть обязанным самому себе) и не обязан никому из граждан. 15. Поскольку же, как было показано выше, до установления государства все принадлежит всем и не существует ничего, что кто-нибудь мог бы назвать своим, чего бы другой с тем же правом не стал требовать как принадлежащее ему: ведь там, где все общее, ни у кого нет никакой собственности; следовательно, собственность [117] возникает вместе с государством и собственным для каждого является только то, чем он может владеть благодаря законам и мощи всего государства, то есть благодаря тому, кому в нем вручена верховная власть. Отсюда понятно, что отдельные граждане не обладают каждый своей собственностью, на которую никто из их сограждан не имеет права, потому что они связаны одними и теми же законами, но никто не обладает такой собственностью, на которую бы не имел права обладающий верховной властью, чьи приказания суть сами законы, чья воля охватывает воли отдельных граждан и кто поставлен в качестве верховного судьи над ними. Хотя государство многое позволяет гражданам, и поэтому иногда по закону они имеют возможность предъявить иск тому, кто обладает верховной властью, однако этот иск основывается не на гражданском праве, а на естественной справедливости, и речь идет не о том [118], на что имеет право обладающий верховной властью, а о том, что он желает; и поэтому он сам будет здесь судьей, поскольку предполагается, что познание справедливости не позволит ему судить неправедно. 16. Кража, убийство, прелюбодеяние и всякие несправедливости запрещены законами природы, но что именно для гражданина должно считаться кражей, убийством, прелюбодеянием, наконец, вообще несправедливостью (противоправным деянием), определяется не естественным, а гражданским законом. Ибо кражей является не всякое изъятие вещи, которой владеет другой, но только чужой вещи. А что является нашим, а что – чужим, решается гражданским законом. Точно так же не всякое лишение жизни человека является преступлением, но только лишение жизни того, кого запрещает убивать гражданский закон, и не всякое сожительство есть прелюбодеяние, но только то, которое воспрещено гражданским законом. Наконец, нарушение обещания есть несправедливое деяние в том случае, когда само обещание законно, там же, где отсутствует право заключения договора, там и не происходит никакой передачи права, а следовательно, не совершается и никакого нарушения, как было сказано в 17-м параграфе главы II. А то, в какие соглашения мы можем вступать, а в какие не можем, зависит от гражданского закона. Поэтому государство спартанцев установило правильный закон, в силу которого юноши оставались безнаказанными, если им удавалось унести что-то у других и не быть при этом схваченными: ведь это равнозначно введению закона, по которому приобретенное таким способом имущество становилось их собственностью, а не собственностью другого. Поэтому считается повсюду правомерным убийство того, кого мы убиваем на войне, или вынужденное необходимостью самозащиты. Подобным образом сожительство, которое в одном государстве является браком, в другом рассматривается как прелюбодеяние, и наоборот. Точно так же те соглашения, в силу которых один гражданин вступает в брак, не имеют такой же силы по отношению к другому, хотя бы он и принадлежал к тому же государству, потому что тот, кому государство (то есть человек или собрание, обладающее высшей властью в государстве) запрещает вступать в какое-то соглашение, тем самым не обладает правом вступать в соглашение, а поэтому и заключенное им соглашение не имеет силы, а следовательно, и не является браком. Соглашение же, заключенное тем, кому ничто не мешает заключить его, тем самым действительно, а потому и является браком [119]. И отнюдь не прибавляет силы некоторым незаконным соглашениям то обстоятельство, что они сопровождались клятвой или присягой, ибо, как было сказано выше в 22-м параграфе II главы, клятвы ни в коем случае не укрепляют договор. Следовательно, что такое воровство, человекоубийство, прелюбодеяние и вообще нарушение права, мы узнаем из гражданского закона, то есть из требований того, кто обладает верховной властью в государстве. 17. Большинству людей высшая власть и абсолютное могущество представляются настолько тягостными, что они ненавидят даже самое имя такой власти. А происходит это прежде всего из-за незнания человеческой природы и естественных законов, отчасти же по вине тех, кто, оказавшись обладателями подобной власти, злоупотребляет ею по собственному произволу. Поэтому, дабы избежать установления такого рода верховной власти, некоторые из них полагают, что форма государства будет достаточно совершенной, если будущие его граждане, собравшись вместе, обсудив и одобрив на этом собрании определенные условия, придут к взаимному соглашению, потребуют соблюдения этих условий и установят необходимые наказания для тех, кто их нарушит. Для решения этих вопросов, как и вопроса об отражении внешних врагов, устанавливаются специальные собрания в определенное время, с тем чтобы, если не будет принято удовлетворительного решения, вновь проводить подобные собрания. Кто же не видит, что при таком государственном устройстве собрание, издающее подобные предписания, обладает абсолютной властью? Следовательно, если собрание является постоянным или время от времени собирается в определенный срок и в определенном месте, то эта власть является постоянной. Если же такие собрания полностью распускаются, то либо одновременно разрушается и государство, и тем самым возвращается состояние войны, либо все же где-то остается власть наказывать тех, кто преступает законы, кто бы они и сколько бы их ни было; но этого не может произойти, если не существует абсолютной власти. Ведь тот, кому предоставлено достаточно сил, чтобы угрозой наказания принудить любое число граждан, обладает такой властью, больше которой граждане не могут представить. 18. Таким образом, очевидно, что во всяком государстве имеется либо один человек, либо совет, то есть собрание, которое по праву обладает такой властью по отношению к отдельным гражданам, какой вне государства каждый обладает по отношению к самому себе, то есть высшей или абсолютной властью, ограниченной силами государства, и ничем другим. Ведь если бы его власть была ограничена, то это необходимо исходило бы от более могущественной власти, ибо тот, кто устанавливает ограничения, должен обладать большей властью, чем тот, кому устанавливаются эти ограничения. Таким образом, эта сдерживающая власть либо безгранична, либо сама ограничивается другой, более могущественной властью, и так мы дойдем до власти, не имеющей предела, который, кроме того, одновременно является крайним пределом возможностей всех граждан, вместе взятых. Эта же власть называется и верховной, а если эта власть поручена собранию, то оно называется верховным собранием, если же -одному человеку, то такой человек называется верховным владыкой государства. Полномочия же высшей власти следующие: устанавливать и отменять законы, объявлять войну и заключать мир, расследовать все споры и выносить о них решения либо самостоятельно, либо через назначенных ею судей, назначать всех должностных лиц, министров и советников. Наконец, если существует человек, который по праву может совершать любое действие, не позволенное ни одному гражданину, ни всем гражданам вместе, кроме одного этого человека, значит, он обладает высшей властью в государстве, ибо то, что не может быть по праву совершено ни одним гражданином, ни группой граждан, может совершить только само государство. Стало быть, тот, кто совершает это, пользуется правом, принадлежащим государству, это и есть верховная власть (imperium summum). 19. Те, кто имеет обыкновение сопоставлять государство и граждан с человеком и членами его организма, почти единодушно утверждают, что обладающий верховной властью в государстве является по отношению к государству в целом тем же, что голова по отношению ко всему человеку. Однако из вышесказанного ясно, что тот, кто наделен подобной властью, будь то человек или совет, соотносится с государством не как голова, но как душа. Ведь именно благодаря душе человек обладает волей, то есть может чего-то желать или не желать, так и благодаря тому, кто обладает верховной властью, и никак иначе, государство обладает волей и может чего-то желать или не желать. С головой скорее следует сравнить собрание советников или одного советника, чьим советом (если только речь идет о ком-нибудь одном) пользуется в самых важных делах тот, кто обладает верховной властью в управлении государством. Ведь дело головы – советовать, а души – повелевать. 20. Если верховная власть установлена в силу соглашений, которые отдельные граждане, то есть подданные, заключают между собой (а все соглашения и получают свою силу от воли участников,и теряют ее, распадаясь по их же согласию), то кто-то может сделать из этого вывод, что верховная власть может быть уничтожена, если все подданные согласятся на это. Хотя это и верно, я все же не вижу никакой опасности с правовой точки зрения, которая отсюда может возникнуть для обладающих верховной властью. Ведь поскольку предполагается, что во взаимных обязательствах между собой находятся все люди, то если какой-нибудь один гражданин не захочет этого, все остальные, сколь бы они ни были единодушны между собой, будут связаны этим обязательством. И ни один из них не может, не нарушая права, сделать то, что по заключенному со мною соглашению он обязался не делать. А невозможно себе представить, чтобы когда-нибудь случилось так, что все граждане до одного, без единого исключения, выступили бы единодушно против верховной власти. Следовательно, не существует опасности для обладающих верховной властью по праву лишиться своей власти. Если же, однако, мы допустили бы, что их право зависит только от соглашения, в которое вступает каждый гражданин с каждым своим согражданином, то легко бы могло случиться, что они были бы лишены своей власти на якобы правовом основании. Ведь когда собирается множество подданных по приказанию ли власти или на мятежные сходки, очень многие считают, что всеобщее согласие есть согласие большинства. А это неверно. Ведь убеждение, в силу которого согласие большинства считается всеобщим согласием, исходит не от природы и не является верным, когда речь идет о мятежах; оно исходит из гражданского установления и является верным только тогда, когда тот человек или тот совет (curia), который обладает верховной властью, собирая граждан, желает, принимая во внимание многочисленность их, дать слово избранным от имени избравших и считать мнение большинства высказывающихся о предмете обсуждения за всеобщее мнение. Ибо предполагается, что обладающий верховной властью собрал граждан не для того, чтобы обсуждать это его право, если только он сам, не желая более заниматься политикой, в недвусмысленных выражениях не отказывается от этой власти. Поскольку же большинство по своему незнанию за согласие всего государства принимает согласие не только его большинства, но даже и весьма малой части его граждан, если они выражают сходные с ним взгляды, оно может посчитать правомерным лишение правителя верховной власти, если только это происходит на каком-то большом собрании граждан и осуществляется голосованием большинства присутствующих. Но хотя власть устанавливается в результате соглашений отдельных граждан между собой, право властвовать тем не менее зависит не от одного этого соглашения. Сюда присоединяется еще и обязательство перед обладающим властью. Ведь каждый гражданин, вступая в соглашение с каждым другим гражданином, говорит так: я переношу свое право на этого человека, чтобы и ты перенес на него же свое право. В результате право использовать собственные возможности на благо самому себе, которым обладает каждый, переносится целиком на какого-то человека или совет ради всеобщего блага. Таким образом, благодаря соглашениям, налагающим взаимные обязательства на каждого отдельного гражданина, и дарованию права, быть верным которому они обязываются перед властителем, власть опирается на двойное обязательство граждан – перед собственными согражданами и перед повелителем. Следовательно, граждане, сколько бы их ни было, не могут по праву лишить власти правителя без его собственного согласия на это.ГЛАВА VII О ТРЕХ ВИДАХ ГОСУДАРСТВА: ДЕМОКРАТИИ, АРИСТОКРАТИИ, МОНАРХИИ
1. Существует только три вида государства: демократия, аристократия, монархия. 2. Олигархия не является особой формой государства, отличной от аристократии, анархия же вообще не является государством. 3. Тирания не есть особая форма государства, отличная от законной монархии. 4. Не существует смешанной формы государства, образованной из названных форм. 5. Демократия гибнет, если не будут установлены определенные сроки и место собраний. 6. При демократии промежутки между собраниями должны быть краткими или же верховная власть должна на время этих промежутков поручаться кому-то одному. 7. При демократии отдельные граждане взаимно обязуются повиноваться народу, сам же народ не обязан повиноваться никому. 8. Каким образом устанавливается аристократия? 9. При аристократии оптиматы не вступают ни в какое соглашение и не дают обязательства ни какому-либо гражданину, ни народу в целом. 10. Для оптиматов необходимо соглашение о собраниях. 11. Что устанавливает монархию? 12. Монархия не обязана никому никакими соглашениями за полученную власть. 13. Монархия всегда обладает возможностью осуществить все те действия, которые требуются для реализации власти. 14. Какого рода ошибка и какими людьми совершается тогда, когда государство по отношению к гражданам, а граждане по отношению к государству не исполняют своих обязанностей. 15. Монарх, не ограниченный во времени своего правления, может избрать своего наследника. 16. О монархах, ограниченных во времени своего правления. 17. Монарх, сохраняющий право власти, не может передать в силу какого-либо обещания право на средства, необходимые для осуществления власти. 18. Каким образом граждане освобождаются от подчинения. 1. Об установлении государства как такового уже сказано. Теперь следует сказать о его видах. Мы будем подразделять государства в зависимости от того, кому поручается верховная власть в государстве. Ибо верховная власть может принадлежать либо одному человеку, либо собранию (consilium), либо общине (curia), состоящей из многих людей. В свою очередь собрание многих людей может включать либо всех граждан, так что каждый из них обладает правом голоса и может, если захочет, участвовать в обсуждении государственных дел, либо только часть из них. Отсюда возникают три вида государства. Первый -там, где верховная власть принадлежит собранию, в котором любой гражданин имеет право голоса, называется демократией. Второй – там, где верховная власть принадлежит собранию, в котором не все граждане, а только определенная их часть имеет право голоса, называется аристократией. Третий, где верховная власть принадлежит одному, называется монархией. В первом случае тот, кому принадлежит власть, называется «демос», народ, во втором – оптиматы, в третьем – монарх. 2. Древние авторы, писавшие о государстве, ввели в политическую науку три других вида, противоположные названным выше, а именно – анархию, или беспорядок, противопоставляемый демократии, олигархию, то есть власть немногих, противоположную аристократии, и тиранию, противопоставляемую монархии. Но все они не есть самостоятельные виды государства, а три отрицательных наименования, которые дали перечисленным видам государства те, кому не нравились либо данная форма правления, либо сами правители. Ведь люди, давая имена вещам, обычно обозначают не только сами вещи, но и одновременно собственное отношение к ним, например любовь, ненависть, гнев. В результате то, что один называет демократией, другой называет анархией, то, что для одних аристократия, для других – олигархия и, кого один называет королем, другой честит тираном. Таким образом, этими именами обозначаются не различные виды государства, а различные суждения людей о тех, кто правит. Прежде всего разве не очевидно, что анархия противостоит всем перечисленным видам государства? Ведь этим словом обозначается вообще отсутствие всякого управления, то есть что государства нет вообще. Как же может получиться, что не-государ-ство становится видом государства? Далее, в чем собственно состоит различие между олигархией, обозначающей власть немногих, тли магнатов, и аристократией, что означает власть лучших, то есть оптиматов, если не в том, что различие между людьми приводит к тому, что они по-разному смотрят на вещи, и те, кто одним представляется наилучшими, другим кажутся наихудшими. 3. Но в том, что королевство (regnum) и тирания не являются различными видами государства, убедить не так легко в силу эмоционального отношения людей, которые, хотя и предпочитают, чтобы государство подчинялось скорее одному, чем многим, однако же, признают такое управление правильным только в том случае, если оно отвечает их желаниям. Различие же между королем (rex) и тираном следует искать с помощью разума, а не чувства. Прежде всего они различаются не тем, что власть одного больше, чем другого, ибо власти большей, чем верховная, существовать не может, и не тем, что власть одного ограничена определенными условиями, а другого – нет, ибо тот, чья власть ограничена определенными условиями, не король, а подданный того, кто предписывает ему эти условия. Далее, они не различаются и способом обретения власти. Ведь когда даже в демократическом или аристократическом государстве какой-нибудь гражданин силою захватит верховную власть, то, если он совершит это с согласия граждан, он становится законным монархом, если же он делает это без их согласия, то он враг, а не тиран. Следовательно, они различаются только тем, как они осуществляют свою власть, и королем является тот, кто правит справедливо, тираном же – тот, кто поступает иначе. Таким образом, дело сводится к тому, что граждане считают нужным правителя, законно обладающего верховной властью, называть королем, если, по их мнению, он справедливо использует свою власть, если же он поступает иначе – тираном. Следовательно, монархия и тирания не являются различными формами государства, но тому же самому монарху может даваться почетное имя короля и позорное имя тирана. Что же касается множества выпадов против тиранов, которые мы встречаем в литературе, то они ведут свое начало от греческих и римских писателей, живших или под властью народа, или под властью оптиматов, а потому ненавидевших не только тиранов., но и королей. 4. Есть и такие, которые, считая вообще-то необходимым существование в государстве верховной власти, в то же время утверждают, что, если она будет принадлежать кому-то одному, человеку ли или собранию, следствием этого будет, что все граждане окажутся на положении рабов. Желая избежать такого положения, они полагают возможным существование некой смешанной формы государства, состоящей из трех вышеназванных типов, однако отличной от каждой из них в отдельности, которую они называют смешанной монархией, либо смешанной аристократией, либо смешанной демократией, в зависимости от того, какой из трех указанных видов занимает преимущественное положение. Например, если бы назначение должностных лиц и решение вопросов войны и мира являлось прерогативой короля, суды же были бы отданы магнатам, финансовые вопросы – народу, а власть издавать законы принадлежала бы всем им вместе, то такая форма государства называлась бы смешанной монархией. Даже если бы оказалось возможным существование такого рода государственной формы, она бы все равно не способствовала свободе граждан. Ибо до тех пор, пока все согласны между собой, подчинение отдельных граждан столь велико, что большего и быть не может, но если начинаются разногласия, то возобновляется гражданская война и право частного меча, что хуже всякого подчинения. Но в 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-м параграфах предыдущей главы было достаточно убедительно показано, что деление такого рода верховной власти [120] невозможно. 5. Рассмотрим теперь, как поступают люди, устанавливая каждый из видов государства. Собравшиеся вместе с целью создания государства едва ли уже не самим фактом своего собрания представляют собой демократию. Ведь из того, что они собрались добровольно, очевидно, что они связали себя обязательством исполнять то, что будет решено единодушным мнением большинства. Это и есть демократия, пока длится собрание либо переносится на определенные время и место. Ведь собрание это, чья воля есть воля всех граждан, обладает верховной властью. И так как предполагается, что на этом собрании каждый гражданин обладает правом голоса, то, следовательно, это и есть демократия, как это определяется в параграфе 1 настоящей главы. Если же они разойдутся, и собрание будет распущено, и не будет принято предварительно никакого решения о времени и месте нового собрания, тогда вновь начинается анархия и то состояние, в котором они находились до своего объединения, то есть состояние войны всех против всех. Следовательно, народ сохраняет верховную власть только до тех пор, пока существуют всем известные и твердо установленные сроки и место собрания, на которое может явиться всякий, кто пожелает. Если же сроки и место собрания не известны и не установлены, то люди могут собираться в разных местах и в разное время, то есть образовывать партии, либо вообще не собираться. И это уже не ?????, то есть народ (populus), а разрозненная толпа (multitudo dissoluta), которой нельзя приписать никакого законного действия, никакого права. Таким образом, понятие демократии складывается из двух компонентов, первым из которых является периодический созыв собраний демос) ?????, вторым – решение большинством голосов (??????), то есть власть. 6. Кроме того, чтобы народ сохранил за собой верховную власть, недостаточно только объявить всем определенные сроки и место собрания. Необходимо также, чтобы промежутки между этими собраниями не были бы настолько велики, чтобы за это время могло случиться что-то такое, из-за чего при отсутствии верховной власти государство оказалось бы в трудном положении, или в крайнем случае чтобы на это время осуществление верховной власти было передано какому-то одному человеку или единому совету. А если этого не сделать, то безопасность и мир для каждого гражданина не будут достаточно обеспечены, да и государством это нельзя будет назвать, потому что здесь из-за отсутствиябезопасности каждый вновь обретает право на самозащиту любыми средствами, какие он сам сочтет необходимыми. 2. Демократия устанавливается не в силу соглашения отдельных лиц с народом, но как результат взаимных соглашений каждого лица со всеми прочими в отдельности. Отсюда, во-первых, очевидно, что в любом соглашении до того, как оно будет заключено, должны существовать вступающие в соглашение лица. Но до установления государства не существует народа как некоего единого лица, а лишь множество отдельных лиц, и поэтому невозможно никакое соглашение между народом и гражданином. Когда же государство уже создано, всякое соглашение гражданина с народом не имеет смысла, потому что народ своей волей охватывает и волю этого гражданина, которому он, как предполагается, дает обязательство и поэтому может освободиться от этого обязательства, когда захочет, и, следовательно, актуально он уже свободен. А во-вторых, из того, что в соглашение между собой вступают отдельные люди, можно сделать вывод, что установление государства было бы бессмысленным, если бы граждане никакими соглашениями не были обязаны делать или не делать то, что государство повелевает им делать или не делать. Поскольку же заключение подобных соглашений предполагается необходимым при создании государства, а с другой стороны, как было показано, не существует вообще соглашений между гражданином и народом, то, следовательно, такие соглашения совершаются между отдельными гражданами, то есть каждый гражданин обязуется подчинить свою волю воле большинства на том условии, что и остальные поступят таким же образом, как будто бы каждый говорит: я переношу свое право на народ ради тебя, чтобы и ты перенес на него же твое право ради меня. 3. Аристократия, или собрание оптиматов, обладающее верховной властью, происходит от демократии, которая переносит на нее свое право. Это следует понимать как то, что народу предлагается избрать большинством голосов определенных людей, отличающихся от остальных либо славой, либо происхождением, либо еще чем-то, а на избранных переносится целиком право всего народа, то есть государства, и то, что по праву было до сих пор прерогативой народа, теперь становится по праву прерогативой совета избранных оптиматов. А тогда становится совершенно очевидным, что народ, передав верховную власть оптиматам, перестает существовать как единое лицо. 4. Как при демократии народ, так и при аристократии совет (curia) оптиматов свободны от всякого обязательства. Ведь поскольку граждане, хотя и не вступают в соглашение с народом, именно в силу взаимных соглашений друг с другом тем самым обязаны подчиняться любым действиям народа, они обязаны поэтому подчиниться действию народа, переносящего право управления на оптиматов. И хотя совет оптиматов избран народом, последний не может обязать его к чему-либо, ибо с учреждением этого совета народ, как было только что сказано, перестает существовать и исчезает то основание, которое делало его лицом (persona), а поэтому одновременно исчезает всякое обязательство по отношению к этому лицу. 5. Аристократия имеет и другие общие с демократией черты. Во-первых, если не установлено определенное время и место собрания курии оптиматов, она перестает быть курией и единым лицом (persona una), а становится неорганизованной толпой, не обладающей верховной властью. Во-вторых, нельзя допускать больших промежутков между заседаниями этого совета, ибо это может нанести ущерб верховной власти, если только не передать право на ее отправление какому-нибудь одному человеку. Основания для этого те же, что мы привели в 5-м параграфе. 6. Как аристократия, так и монархия происходят от власти народа, переносящего свое право, то есть верховную власть, на одного человека. Здесь также имеется в виду, что выдвигается один определенный человек, выделяющийся среди всех прочих знатностью или чем-то еще, и на него переносится большинством голосов все право, принадлежащее народу, и все полномочия народа, принадлежавшие ему до избрания этого человека, теперь по праву принадлежат избранному. После этого народ более не является единым лицом, но становится разрозненной толпой, потому что он был единым лицом только благодаря верховной власти, которую теперь передал этому человеку. 7. Монарх также никаким соглашением не обязан кому-либо за полученную власть, ибо он получает власть от народа, но, как только что было сказано выше, народ тотчас же по передаче власти перестает быть лицом, а если исчезает лицо, одновременно исчезает и обязательство перед лицом. Таким образом, граждане обязаны повиноваться монарху только в силу тех соглашений, которыми они взаимно взяли на себя обязательство исполнить все, что сочтет нужным народ, то есть повиноваться монарху, если он поставлен народом. 8. Монархия отличается и от аристократии, и от демократии тем, что при них необходимо установление определенного места и времени для того, чтобы создалась возможность обсуждать и принимать решения, то есть реально осуществлять власть, при монархии же такое обсуждение и принятие решений возможно в любое время и в любом месте. Ведь поскольку ни народ, ни оптиматы не представляют физического единства, им необходимы собрания. Монарх, будучи физически единым, всегда обладает непосредственной возможностью осуществлять свою власть. 9. Поскольку, как было сказано выше (в параграфах 7, 9, 12-м), обладающие в государстве верховной властью не связаны в силу каких-либо соглашений никакими обязательствами по отношению к кому-либо, они тем самым не могут совершить никакой несправедливости по отношению к гражданам. Ибо несправедливость (нарушение права), согласно вышеприведенному определению (в третьем параграфе третьей главы), есть не что иное, как нарушение соглашений. Поэтому там, где не существует предварительно заключенного соглашения, там не может иметь место и никакая несправедливость. Конечно, и народ, и совет оптиматов, и монарх могут нарушать естественные законы самым различным образом, например жестокостью, пристрастностью, оскорблениями и прочими пороками, но все это не подходит под строгое и точное определение понятия несправедливости. Но если гражданин откажется повиноваться верховной власти, его действия будут названы в собственном смысле слова несправедливыми (нарушающими право) по отношению к другим согражданам, потому что каждый гражданин, вступая в соглашение с каждым другим, обязался повиноваться тому, кто обладает верховной властью, а теперь же лишает его предоставленного ему права, не спрашивая его согласия. И если в народном собрании или в собрании оптиматов будет принято какое-то решение, нарушающее какой-нибудь естественный закон, вина за это лежит не на самом государстве, то есть на гражданском лице, но на тех гражданах, чьими голосами было принято это решение. Ведь нарушение является результатом выражения естественной воли, а не политической, являющейся фиктивной: в противном случае виновными оказались бы и те, кто не одобряет этого решения. При монархии же любое нарушение монархом естественных законов является его собственной виной, потому что в его лице воля государства совпадает с его естественной волей. 10. Народ, который решил избрать монарха, может передать ему верховную власть либо безусловно (simpliciter), без ограничения времени правления, либо на определенный срок. В первом случае предполагается, что переданная монарху власть сохраняется такой, какой обладал передавший ее народ. На этом основании народ по праву может избрать кого-то монархом, и на том же основании этот последний может избрать монархом другого, так что монарх, которому власть передана безусловно, обладает не только правом владения, но и правом назначения наследника и на этом основании может провозгласить себе наследником кого ему будет угодно. 11. Если же власть передается только на определенный срок, то в таком случае интерес представляют и другие моменты, а не только сама передача власти. Во-первых, сохранил ли за собой народ, передавая ему власть, право собираться в определенные сроки и в определенном месте. Во-вторых, если он сохранил за собой это право, то сохранил ли за собой право собраться до истечения того времени, на которое он предоставил монарху право обладания верховной властью. В-третьих, пожелал ли он собраться по воле этого временного монарха, и только так. Предположим, что народ уже передал верховную власть какому-то одному человеку только на время его жизни. А теперь представим сначала, что все разошлись с собрания, не приняв вообще никакого решения о месте, где должно произойти собрание для новых выборов после его смерти. В таком случае очевидно, согласно 5-му параграфу этой главы, что народ уже не является более лицом, а лишь разрозненной массой, в которой каждому равно позволено встречаться с кем угодно в самое разное время и в любом угодном ему месте, а если сможет, то и захватить власть на основании равного для всех, то есть естественного, права. Поэтому всякий монарх, обладающий властью на таких условиях, обязан на основании естественного закона, упоминаемого в восьмом параграфе третьей главы, не отвечать злом на добро – обязан принять меры, чтобы после его смерти государство не распалось, а для этого либо установить определенный срок и место, где бы граждане смогли, если захотят, собраться, либо самому назвать себе преемника, исходя из того, что он сочтет более способствующим общей пользе граждан. Следовательно, тот, кто получил верховную власть, ограниченную временем его жизни, как это было только что сказано, фактически обладает абсолютной властью и может принимать решение о наследовании ее. Во-вторых, если предположить; что народ, избрав временного монарха, предварительно на своем собрании принял решение о времени и месте нового собрания после смерти монарха, в таком случае с его смертью власть сосредоточивается в руках народа без какого бы то ни было нового решения граждан, но на основании прежнего права. Ибо в течение всего этого времени верховная власть как собственность принадлежала народу, а монарху принадлежало лишь пользование, то есть осуществление ее, как узуфруктуарию. Если же народ, избрав временного монарха, назначит определенное время для собрания, которое должно произойти еще в пределах времени, назначенного ему для правления, то такого правителя следует считать не монархом, а первым слугой народа, и народ может, если захочет, лишить его власти даже до истечения срока, как это сделал римский народ, предоставивший начальнику конницы Минуцию равную власть с Квинтом Фабием, которого он еще раньше сделал диктатором. Причина этого состоит в том, что невозможно допустить, чтобы отдельный человек или собрание, располагающие полным и непосредственным правом действовать, сохраняли бы эту власть, не будучи в состоянии ею пользоваться на деле. Ведь власть есть не что иное, как право повелевать, доколе это физически возможно. Наконец, если народ, провозгласив временного монарха, уже более не может собраться вновь без разрешения провозглашенного им монарха, то очевидно, что народ тем самым распался и провозглашенный на таких условиях монарх обладает абсолютной властью, потому что граждане уже не в состоянии возродить государство, если только этого не захочет тот, кто единолично обладает властью. И не имеет значения, что он мог бы пообещать созывать граждан в определенные сроки, потому что теперь уже не существует то лицо, которому дано такое обещание, или существование этого лица зависит от его воли. То, что мы сказали о четырех названных выше случаях, возможных при избрании народом временного монарха, можно полнее объяснить сравнением с абсолютным монархом, у которого нет никакого наследника. Ведь народ является для граждан такого рода господином который может иметь только такого наследника, которого он сам назовет. Кроме того, промежутки между сроками собраний граждан можно сравнить с тем временем, когда монарх спит. Ведь в обоих случаях прекращается осуществление власти, сама же власть сохраняется. Наконец, невозможность для собрания после его роспуска собраться вновь так же означает смерть народа, как и сон, от которого никогда не просыпаются, означает смерть человека. И подобно тому, как не имеющий наследника король перед тем, как заснуть, чтобы никогда уже не проснуться, то есть умереть, передавая кому-нибудь исполнение верховной власти до тех пор, пока он не проснется, тем самым передает ему и право наследования, так и народ, который, избирая временного монарха, лишает себя одновременно права на собрание, передает ему господство над государством. Далее, подобно тому как король, перед тем как заснуть, поручает другому на время исполнение верховной власти, а проснувшись, получает его обратно, так и народ, после избрания временного монарха сохраняющий право собираться в определенный срок и в определенном месте, в этот самый день вновь обретает свою власть. И подобно тому, как король, который, поручая другому исполнение власти, оставаясь при этом бодрствующим, может, когда захочет, вернуть ее себе, так и народ, который законно собирается на собрание в течение срока, предоставленного временному монарху, может, если захочет, отобрать у него власть. Наконец, как король, который передает исполнение власти другому, пока он сам будет спать, может проснуться только в том случае, если этого захочет тот, кому он передал власть, вместе с жизнью теряет и власть, так и народ, который вручил власть временному монарху на условиях, запрещающих ему вновь собраться без его разрешения, безвозвратно распадается, и власть остается у избранного монарха. 12. Если монарх даст гражданину или группе граждан какое-то обещание, следствием которого окажется невозможность осуществления верховной власти, то это обещание или соглашение, сопровождалось ли оно клятвой или нет, не имеет силы. Ибо соглашение есть перенос права, который в силу сказанного в 4-м параграфе главы II требует соответствующего выражения воли того, кто его переносит. Но тот, кто достаточно ясно выражает желание придерживаться поставленной цели, тот достаточно ясно заявляет, что он не отказывается от права на средства, необходимые для достижения этой цели. И тот, кто, обещая нечто необходимое для верховной власти, продолжает удерживать, однако, самое власть, достаточно убедительно показывает этим, что он дал это обещание, исходя из убеждения, что без него верховная власть не может удержаться. Стало быть, как только станет ясным, что это обещание не может быть претворено в жизнь, не нанося ущерба верховной власти, оно должно считаться как бы не имевшим места, то есть недействительным. 13. Мы рассмотрели, каким образом граждане, подчиняясь требованиям природы, связали себя взаимными соглашениями, обязывающими их подчиняться верховной власти. Теперь следует рассмотреть, как можно освободиться от оков такого повиновения. Первый путь – это отречение, то есть когда кто-то не переносит на другого права власти, но отбрасывает его, то есть отрекается: ведь то, что мы отбрасываем, мы как бы оставляем без надзора, предоставляя равно каждому возможность взять это себе. В результате каждый из граждан вновь может на основании естественного права по собственному усмотрению заботиться о своей безопасности. Второй путь – если государство окажется захваченным врагами и не сможет более сопротивляться им, то, очевидно, тот, кто до этого обладал верховной властью, теперь ее утрачивает. Ведь граждане, приложив все силы к тому, чтобы не попасть в руки врагов, выполнили те соглашения о повиновении верховной власти, которые каждый из них заключил друг с другом. И теперь они должны приложить все усилия, чтобы выполнить те обещания, которые они дали после поражения, стремясь избежать смерти. Третий путь: в монархических государствах (ибо для демоса и курии оптиматов это невозможно), если вообще нет никакого наследника, то все граждане свободны от своих обязательств. Ведь очевидно, что никто не может быть связан обязательством, если ему неизвестно, кому он обязан повиноваться. Этими тремя путями все граждане переходят сразу же от подчинения к общей свободе во всем, то есть свободе естественной и животной, ибо природное состояние к гражданскому состоянию, то есть свобода к подчинению, относится так же, как страсть к разуму или животное к человеку. Кроме того, отдельные граждане могут по праву освободиться от подчинения по воле того, кто обладает верховной властью, в том случае, если они покинут родину. Последнее может произойти двумя путями: либо по разрешению, когда кто-то, получив прощение, добровольно уезжает на жительство в другое место, либо по приказанию, как изгнанник. И в том, и в другом случае он будет свободен от подчинения законам покинутого государства, потому что он подчиняется теперь законам нового.ГЛАВА VIII О ПРАВЕ ГОСПОД НАД РАБАМИ
1. Что такое господин и раб. 2. Разделение рабов на тех, кто, снискав доверие, пользуется естественной свободой, и тех, кто содержится в тюрьме и в оковах, работая в мастерских. 3. Обязательство раба рождается из предоставленной ему господином телесной свободы. 4. Закованные в цепи рабы не связаны никакими соглашениями с господами. 5. Имущество рабов не является их собственностью, не принадлежащей хозяину. 6. Господин может продать раба или передать по завещанию. 7. Господин не может нарушить права в отношении своего раба. 8. Господин господина есть господин его рабов. 9. Какими способами рабы могут приобрести свободу. 10. Господство над животными есть требование естественного права. 1. В двух предыдущих главах мы говорили об установленном государстве (civitas institutiva), то есть таком, которое возникло благодаря взаимному согласию многих лиц, связавших себя данными друг другу соглашениями о взаимной верности им. Теперь же следует сказать о естественном государстве (civitas naturalis), которое может быть названо также и приобретенным (acquisita), поскольку власть в нем приобретается благодаря естественным силам и могуществу. И прежде всего необходимо знать, какими средствами может быть добыто право господства над человеческой личностью. Там, где такое право приобретено, создается некое маленькое царство (regnum). Ведь быть царем (rex) есть не что иное, как обладать господством над многими лицами, и поэтому большая семья есть царство, и маленькое царство – это семья. Но если вернуться снова к естественному состоянию и рассмотреть людей такими, какими они были в тот момент, когда они только что, подобно грибам, появились вдруг из земли уже взрослыми, не связанными никакими обязательствами друг с другом, то существует только три способа, которыми один человек может получить господство над личностью другого. Первый из них имеет место тогда, когда сами люди добровольно, по взаимному соглашению друг с другом ради обеспечения мира и взаимной безопасности отдают себя во власть и подчиняются господству какого-нибудь человека или собрания. Об этом мы уже говорили. Второй способ выражается в том, что человек, захваченный в плен на войне, или побежденный, или неуверенный в своих силах, обещает победителю, или более сильному, дабы избежать смерти, служить ему, то есть выполнить все, что тот ему прикажет. В этом соглашении благо, приобретаемое побежденным, или более слабым, состоит в даровании ему жизни, которая по праву войны в естественном состоянии людей могла быть отнята у него, благо же, обещанное им, есть готовность служить и повиноваться. В силу этого обещания побежденный обязан служить победителю и проявлять абсолютное повиновение любыми возможными средствами, если только это повиновение не вступает в противоречие с божественными законами. Ведь тот, кто обязан повиноваться чьим-либо приказаниям, еще не зная, что именно тот прикажет, связан безусловным обязательством, не имеющим никакого исключения. И тот, кто связан подобным обязательством, есть раб, а тот, кому он обязан повиноваться, господин. Третий же путь обретения права на личность есть право рождения, об этом способе приобретения права будет сказано в следующей главе. 2. Не всякий военнопленный, которому пощадили жизнь, мыслится вступившим в договор со своим господином, ибо не всякому верят настолько, чтобы предоставить ему достаточно свободы, дающей ему возможность при желании либо убежать, либо уклониться от исполнения своей службы, или замыслить какое-то зло, или причинить ущерб господину. Впрочем, и они выполняют работу, но в эргастулах или закованными в цепи, и поэтому их называют не просто рабами, как всех рабов, но и специальным словом – колодники; и в наше время имеют различное значение слова serviteur, un serf, а также un esclave. 3. Следовательно, обязательство раба по отношению к господину рождается не просто из факта дарования жизни, но из того, что содержат его не в оковах и не в тюрьме. Ведь обязательство возникает из соглашения, соглашение же может существовать только тогда, когда существует доверие, как явствует из параграфа девятого главы второй, где приводится определение соглашения как обещания того, кому доверяют. Следовательно, благодеяние, выражающееся в даровании жизни, соединено с доверием, в силу которого господин предоставляет рабу телесную свободу, дающую ему возможность, если он пожелает забыть о налагаемых соглашением обязательствах и узах, не только бежать от господина, но и лишить последнего жизни, хотя он сохранил жизнь ему самому. 4. Поэтому те рабы, которых содержат в эргастулах и заковывают в цепи, не подпадают под вышеприведенное определение рабов, ибо они служат не на основании соглашения, а только из страха побоев. Поэтому, если они убегут или убьют господина, они тем самым ничем не нарушат естественных законов. Ведь если человека заковывают в цепи, то, значит, налагающий оковы предполагает, что скованный не связан достаточно надежно никакими другими обязательствами. 5. Итак, господин обладает равным правом на господство над рабом, заключенным в оковы, как и над не заключенным, ибо обладает высшей властью по отношению и к тому, и к другому и может сказать о рабе точно так же, как и о любой другой вещи, одушевленной или неодушевленной,- это мое. Отсюда следует, что все, что принадлежало рабу до того, как он оказался в рабстве, теперь принадлежит господину, и все, что раб приобретает, будет приобретено для господина. Ибо тот, кому принадлежит право распоряжаться личностью человека, может распоряжаться всеми вещами, которыми могло распоряжаться это лицо. Следовательно, не существует ничего, что бы раб мог сохранить как собственное вопреки воле господина. Однако у него есть предоставленная ему господином собственность и господство над его вещами, которыми раб может владеть и защищать их от других рабов, точно так же, как и у гражданина, как мы видели выше, нет ничего собственно принадлежащего ему вопреки воле государства или того, кто обладает верховной властью, но у каждого гражданина есть собственность по отношению к своему согражданину. 6. Следовательно, поскольку и сам раб и все, чем он владеет, принадлежит господину, а каждый на основании естественного права может располагать своей собственностью так, как он захочет, господин может по собственному усмотрению продать раба, заложить его либо передать по завещанию. 7. Кроме того, сказанное выше о положении подданных в установленном государстве, а именно что обладающий в государстве верховной властью не может нанести им никакой несправедливости, является верным и по отношению к рабам, потому что они подчинили свою волю воле господина. А поэтому все, что он сделает, он сделает по их желанию, а невозможно нанести никакой обиды тому, кто сам хочет этого. 8. Если вдруг господин оказался в плену или по собственной воле стал рабом или подданным другого, этот последний станет господином не только его самого, но и его рабов; по отношению к ним он будет верховным владыкой, по отношению же к их хозяину – непосредственным. Ведь поскольку не только раб, но и все, что он имеет, принадлежит хозяину, поэтому и рабы первого являются рабами второго, и их первый господин может распоряжаться ими лишь в той мере, в какой это будет угодно верховному господину. И поэтому, если когда-то в государствах у господ будет абсолютная власть над рабами, она будет считаться происходящей из естественного права и не установленной гражданским законом, а предшествующей ему. 9. Раб освобождается от рабства точно так же, как в установленном государстве подданный освобождается от подчинения. Во-первых, если господин дарует ему свободу. Ибо право распоряжаться собой, которое раб передал господину, господин может вернуть обратно рабу. Такого рода освобождение называется манумиссией (добровольный отпуск на волю). Это аналогично разрешению переехать в другое государство, предоставляемому государством своему гражданину. Во-вторых, если господин прогонит раба от себя; это то, что в государстве называется изгнанием и с точки зрения результата не отличается от манумиссии, хотя они и различаются по своему характеру: в первом случае свобода оказывается наказанием, а во втором – наградой, но в обоих случаях господа отказываются от владения. В-третьих, если раб окажется в плену, то новое рабство уничтожает прежнее. Ведь рабы, подобно всем прочим вещам, приобретаются на войне, и справедливость требует, чтобы господин защищал их, если он хочет, чтобы они принадлежали ему. В-четвертых, раб получает свободу, если не известен наследующий господину, например если господин умирает, не оставив наследника и не сделав завещания. Ибо предполагается, что никто не связан обязательством, если он не может знать, перед кем он обязан. Наконец, раб, заключенный в оковы или каким-нибудь иным способом лишенный телесной свободы, освобождается от этого второго вида обязательства, налагаемого соглашением. Ибо не существует соглашения там, где нет веры вступающему в соглашение, и невозможно нарушить слово, которое не было дано. Господин же, сам находящийся в рабстве у другого, не может освободить своих рабов так, чтобы они оказались свободными и от власти верховного господина. Ведь, как было показано выше, такого рода рабы принадлежат не ему, а верховному господину. 10. Право на не имеющих разума животных приобретается таким же образом, как и на человеческую личность, то есть благодаря естественным силам и возможностям. Ведь если в естественном состоянии, поскольку ведется всеобщая война против всех, каждому позволено порабощать или даже убивать людей, коль скоро это будет представляться ведущим к его благу, то тем более то же самое будет позволено против зверей, то есть по собственному желанию обращать в рабство тех, которые по их способностям могут быть приручены и быть ему полезными, остальных же как вредных непрестанно преследовать силой оружия и уничтожать. Следовательно, господство над животными берет свое начало от естественного права, а не от положительного божественного права. Ведь если бы подобное право не существовало до появления Священного писания, никто бы не имел права убивать животных в пищу себе, и поистине ужасающе было бы положение людей, которых звери могли бы безнаказанно пожирать, а они бы – нет. Следовательно, если естественное право позволяет животному убивать человека, то это же право позволяет человеку убивать зверей.ГЛАВА IX О ПРАВЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ И О ПАТРИАРХАЛЬНОМ ЦАРСТВЕ
1. Власть отца не определяется рождением. 2. Власть над детьми принадлежит тому, кто первый обладает ею. 3. Власть над детьми первоначально принадлежит матери. 4. Подкинутый ребенок принадлежит тому, кто его воспитывает. 5. Рожденный от гражданина и от обладающего высшей властью принадлежит властителю. 6. В союзе мужчины и женщины, не предусматривающем, кто является в нем главой, дети принадлежат матери, если соглашением или гражданским законом не предполагается иное решение. 7. Дети подчиняются родителям точно так же, как рабы – господам и граждане – государству. 8. Об уважении к родителям и господам. 9. В чем состоит свобода и о различии между гражданами и рабами. 10. В патриархальном государстве его право на граждан не отличается от права в установленном государстве. 11. Вопрос о праве наследования имеет место только в монархическом государстве. 12. Монарх может передать верховную власть в государстве по завещанию. 13. Или подарить, или продать. 14. Монарх, не сделавший завещания, всегда считается желающим, чтобы ему наследовал монарх. 15. И кто-нибудь из его детей. 16. И лучше мужчина, чем женщина. 17. И лучше старший из сыновей, чем младший. 18. И если у него пет детей, то в первую очередь брат. 19. И таким же образом тот, кто наследует власть, наследует и право назначения наследника. 1. Сократ есть человек, следовательно, он есть и животное – представляет собой правильное умозаключение и к тому же совершенно очевидное, потому что для признания истинности вывода не нужно ничего, кроме понимания слова человек, ибо животное входит в само определение человека, и любой может добавить недостающее предложение, а именно: человек есть животное. И также правильно утверждение: Софрониск – отец Сократа, следовательно, он является и его господином, но оно не является совершенно очевидным, потому что господин не включается в определение отца; поэтому для того, чтобы это стало очевидным, необходимо объяснение связи отца и господина. Те, кто до сих пор пытались утверждать господство отца над детьми, не приводили никаких доказательств, кроме самого рождения, как будто бы очевидно само по себе, что то, что рождено мною, то и является моим. Это похоже на то, как при виде треугольника сразу же, без всякого рассуждения, считать очевидным, что сумма его углов равняется двум прямым. Кроме того, поскольку владение, т. е. верховная власть, неделимо, и никто не может служить двум господам, а в рождении участвуют два лица, мужчина и женщина, то невозможно вообще, чтобы владение приобреталось только в силу одного рождения. Поэтому здесь необходимо более тщательно исследовать происхождение отцовской власти. 2. Таким образом, нам придется вернуться к естественному состоянию, в котором благодаря природному равенству все взрослые люди должны считаться равными между собой. Там по праву природы победитель является господином побежденного; следовательно, по природному праву господство над ребенком принадлежит тому, кто первым имеет над ним власть. Но очевидно, что тот, кто только что родился, прежде всего оказывается во власти матери, чем во власти кого-либо другого, и поэтому она может по своему усмотрению либо воспитать его, либо подбросить. 3. Если же она его воспитывает, то, поскольку природное состояние есть состояние войны, предполагается, что она воспитывает его так, чтобы он повиновался ей. Поскольку же по естественной необходимости мы все стремимся к тому, что для нас самих представляется благом, то невозможно представить, чтобы кто-то дал кому-то жизнь, с тем чтобы тот смог со временем, обретя силы, стать по праву его врагом. А всякий является врагом любому, кому он не повинуется и кем не повелевает. Таким образом, в естественном состоянии всякая роженица становится одновременно и матерью, и госпожой. Утверждение же некоторых о том, что в данном случае господином становится не мать, а отец в силу превосходства мужского пола, не имеет никакого значения, да и разум утверждает противоположное, ибо естественное неравенство сил мужчины и женщины не столь велико, чтобы мужчина мог приобрести власть над женщиной, не прибегая к войне, кроме того, не противоречит этому и обычай, ибо женщины, в частности амазонки, некогда вели войны против своих врагов и сами решали, как им поступить со своим потомством, да и поныне в очень многих местах женщины обладают верховной властью. И решение об их детях принимают не мужья, а они сами, и они делают это бесспорно на основании естественного права, потому что тот, кто обладает верховной властью, не связан, как было сказано выше, гражданскими законами. Прибавим к этому, что в естественном состоянии нельзя знать, кто является отцом сыну, если на него не укажет мать. Поэтому он является сыном того, кого захочет мать, и поэтому он принадлежит матери. Таким образом, первоначально господство над детьми принадлежит матери, и у людей, как и у прочих живых существ, плод следует за чревом. 4. От матери же господство переходит к другим по-разному. Во-первых, если мать потеряет свое право иди откажется от него, подбросив ребенка. Поэтому воспитавший подкидыша приобретает то самое право господства, которое принадлежало матери. Ибо мать, подбрасывая ребенка, отнимает у него жизнь, которую она дала ему не самим фактом рождения, но вскармливая его; то есть из-за подкидывания уничтожается и обязательство, возникшее из дарования жизни. Спасенный же обязан всем тому, кто, вскормив, спас его (предоставив ему пищу), он обязан ему и как воспитанник – матери, и как раб – господину. Ведь хотя в естественном состоянии, где все принадлежит всем, мать может потребовать назад себе сына на том же основании, что и любой другой, однако сын не может по праву быть возвращен матери. 5. Во-вторых, если мать взята в плен на войне, то рожденный ею принадлежит захватившему ее, потому что тот, кто обладает господством над личностью, тот обладает господством над всем, что принадлежит ей, а стало быть, и над ребенком, как было сказано в пятом параграфе предыдущей главы. В-третьих, если мать является гражданкой какого-нибудь государства, то тот, кто в этом государстве обладает верховной властью, будет обладать и господством над тем, кто рожден ею, ибо он господин и матери, которая обязана во всем повиноваться обладающему верховной властью. В-четвертых, если женщина соединяется с мужчиной для совместной жизни на том условии, что власть будет принадлежать мужу, то родившийся у них ребенок принадлежит отцу, ибо ему принадлежит и власть над матерью. Но если женщина, обладающая властью, родит детей от подданного, последние принадлежат матери. Ведь в ином случае женщина не может иметь детей, не теряя власти. И вообще, если союз мужчины и женщины образует некое единение, при котором один подчиняется власти другого, то дети принадлежат тому, кому принадлежит власть. 6. Однако в естественном состоянии, поскольку мужчина и женщина вступают в союз, не подчиняясь при этом власти друг друга, их дети принадлежат матери на основаниях, приведенных выше в третьем параграфе, если их соглашением не предусмотрено нечто иное. Ведь на основании соглашения мать может располагать своим правом, как ей угодно, подобно тому как это некогда делали амазонки, которые, родив детей от соседних племен, по соглашению отдавали им мужское потомство, девочек же оставляли себе. В государстве же, если заключен контракт между мужчиной и женщиной о совместном проживании, рожденные ими дети принадлежат отцу, потому что во всех государствах, установленных отцами, а не матерями семейств, власть в доме принадлежит мужу. Такого рода соглашение называется браком, если оно совершается на основании гражданских законов. Если, же речь идет только о сожительстве, дети могут принадлежать или отцу, или матери в зависимости от различия гражданских законов, существующих в различных государствах. 7. Поскольку, согласно параграфу третьему, мать первоначально является госпожой своих детей, и уже после нее – отец или кто-то другой на основании переходящего к ним права, то очевидно, что дети таким же образом подчинены тем, кто кормит и воспитывает их, как и рабы – господам, а подданные – тому, кто обладает верховной властью в государстве, и что родитель не может совершить несправедливости по отношению к сыну, пока последний находится в его власти. И от подчинения сын освобождается таким же образом, как и подданный, и раб, и эмансипация не отличается от манумиссии, а абдикция (исключение из состава семьи) есть то же, что и изгнание. 8. Освобожденный от опеки отца сын и отпущенный на свободу раб уже не так боятся лишенного отцовской и господской власти отца семейства и почитают его не так, как раньше, если иметь в виду истинное и внутреннее уважение. Ведь честь есть не что иное, как уважение к чужому могуществу, а поэтому, кто слабее, тому всегда оказывается и меньше чести. Но не следует думать, что освобождающий сына из-под своей опеки и отпускающий раба на свободу хочет настолько уравнять последних с собой, чтобы они даже не чувствовали себя обязанными за оказанное им благодеяние, но во всем бы вели себя как равные ему. А поэтому всегда следует помнить, что освобождаемые от подчинения, будь то раб, сын или какая-нибудь колония, должны дать обязательство проявлять по крайней мере все те внешние знаки почтения, которые оказываются низшими высшим. Отсюда следует, что требование почитать родителей есть требование естественного закона, и это не только выражение благодарности, но и результат соглашения. 9. Кто-нибудь спросит, в чем же состоит различие между свободным, или гражданином, и рабом. И насколько мне известно, еще ни один автор не объяснил, что такое свобода и что такое рабство. Обычно считается, что свобода есть возможность делать по собственному усмотрению все что угодно, не боясь наказания, а не иметь такой возможности есть рабство. Ничего подобного не может иметь места в государстве, не ставя под угрозу мир во всем роде человеческом, потому что никакое государство не может существовать без власти и права принуждения. Согласно нашему определению, свобода есть не что иное, как отсутствие препятствий для движения; например, вода в сосуде не свободна потому, что сосуд мешает ей вылиться, а если сосуд разбить, то она становится свободной. И свобода для каждого может быть большей или меньшей в зависимости от большего или меньшего пространства, предоставленного ему, как, например, заключенный в более просторной камере имеет больше свободы, чем заключенный в более тесной. И человек может быть свободен в одном отношении, идя в одном направлении, и не свободен в другом, подобно идущему по дороге, огороженной с обеих сторон терновником и загородками, чтобы не повредить расположенные вдоль дороги виноградники и посевы. И такого рода препятствия являются внешними и абсолютными, и в этом смысле все рабы и подданные свободны, если они не закованы в цепи и не заключены в тюрьму. Другие же зависят от нашего сознания, препятствуя движению не абсолютно, а акцидентально, оставляя нам возможность выбора: так, находящийся на корабле не связан настолько, чтобы не иметь возможности броситься в море, если он этого вдруг захочет. И здесь точно так же: чем больше открывается возможных путей человеку, тем большей свободой он обладает. И в этом и состоит гражданская свобода. Ибо ни один подданный, ни один сын, ни один раб не является настолько связанным страхом наказания со стороны государства, отца или господина, сколь бы суровыми они ни были, чтобы не иметь возможности сделать все и прибегнуть к любому средству, которое окажется необходимым для защиты его жизни и здоровья. Поэтому я не вижу, на что бы мог пожаловаться даже любой раб, ссылаясь на то, что он лишен свободы, если только несчастье не состоит в том, что ему не позволяют вредить самому себе, и он обретает вновь право на жизнь, утраченное в результате войны или неких ударов судьбы или даже по собственной вине вместе со всеми средствами существования и всем прочим, необходимым для жизни и здоровья, но на условии подчинения другому. Ведь тот, кому угроза наказания не позволяет делать все, что он хочет, не есть угнетенный раб, а человек, которым управляют и которого кормят. Во всяком государстве и семье, где существуют рабы, свободные граждане и дети свободных имеют то преимущество перед рабами, что выполняют более почетные поручения государства и семьи и к тому же владеют не только предметами первой необходимости. Различие же между свободным гражданином и рабом состоит в следующем: свободный служит только государству, раб же – еще и согражданину. Всякая же иная свобода находится вне гражданских законов и принадлежит лишь правителям. 10. Отец семейства, дети и рабы его, объединенные силою отцовской власти в одно гражданское лицо, называются семьей. Если же она станет благодаря разросшемуся потомству и покупке новых рабов столь многочисленной, что ею будет невозможно повелевать, не прибегая к неверному жребию войны, она будет называться патриархальным царством. Хотя и приобретенное силою, оно отличается от установленной монархии своим происхождением и способом своего установления, но в уже сложившейся форме оно обладает всеми теми же особенностями, что и монархия, и право властвования в обеих формах одно и то же, так что нет необходимости что-то говорить о них специально. 11. По какому праву была установлена верховная власть, сказано. Теперь необходимо вкратце сказать, по какому праву она сохраняется. Право же, на основании которого она сохраняется, называется правом наследования. Поскольку же при демократии верховная власть принадлежит народу, то до тех пор, пока существуют граждане, власть принадлежит ему. Ибо народ не имеет преемника. Аналогично при аристократии, когда умирает один из оптиматов, на его место остальные ставят кого-нибудь другого, а поэтому здесь, строго говоря, нет никакого наследования, если только все они сразу не окажутся неспособными править, чего, как я полагаю, никогда не случается. Следовательно, вопрос о праве наследования имеет место только при абсолютной монархии. Ведь те, кто только временно осуществляют верховную власть, сами не являются монархами, а лишь слугами государства. 12. Прежде всего, если монарх назначит своим завещанием себе преемника, последний наследует ему. Ибо, если монарх был назначен народом, то он, как то указано в параграфе 2 главы VII, обладает по отношению к государству всеми правами, какими обладал народ. Но народ мог избрать его самого, следовательно, на том же основании он может сам избрать другого. Но и в патриархальном царстве существуют те же самые права, что и в установленном королевстве. Поэтому всякий монарх может назначить себе преемника в своем завещании. 13. А то, что кто-то может передать другому по завещанию, он с тем же правом может при жизни даровать или продать. Следовательно, кому бы он ни передал высшую власть, в виде ли дара или за деньги, он передал ее по праву. 14. Если же он при жизни не объявил своей воли относительно наследника ни в завещании, ни каким-то иным путем, то прежде всего предполагается, что он не хотел вернуть государство к анархии, то есть к состоянию войны, что означало бы гибель граждан, ибо он не мог сделать этого, не нарушая естественных законов, налагавших на него перед судом совести обязательство сделать все, что необходимо способствует сохранениюмира, а если бы он захотел иного, то ему не составляло труда заявить об этом открыто. Далее, поскольку право переходит по воле отца, то решать вопрос о наследнике следует исходя из того, что указывает на его волю. Предполагается, следовательно, что он хотел оставить своих подданных под монархическим правлением, а не под каким-либо иным прежде всего потому, что и сам он одобрил такую форму правления примером собственного царствований и ни словом, ни делом не осудил его впоследствии. 15. Далее, поскольку все люди в силу естественной необходимости (necessitas naturalis) более доброжелательны по отношению к тем, кто способствовал их чести и славе, чем ко всем остальным, а посмертную славу и честь каждому приносит могущество их детей, а не каких бы то ни было иных людей, то отсюда можно сделать вывод, что отец доброжелательнее относится к собственным детям, чем к кому-либо другому. Таким образом, предполагается, что воля отца, не оставившего завещания, состояла в том, чтобы его наследником был кто-нибудь из его детей. Это следует предполагать в том случае, если нет иных, более ясных указаний, свидетельствующих о противоположном. К такого рода признакам может принадлежать обычай, устанавливающийся в результате ряда сменявших друг друга наследований власти. Ведь предполагается, что тот, кто ничего не говорит о наследовании своей власти, принимает существующий в его королевстве обычай. 16. Среди детей предпочтение оказывается мужчинам перед женщинами прежде всего на том, может быть, основании, что они, как правило, хотя и не всегда, более способны к великим делам, и особенно – к ведению войны, а, кроме того, когда приходится прибегать к ссылкам на обычай, такой порядок не противоречит ему. Поэтому следует толковать волю отца в их пользу, если не противоречит тому иной обычай или иное, более ясное указание на его волю. 17. Поскольку все сыновья равны, а власть неделима, ее наследует старший по возрасту. Ведь если мы устанавливаем какое-то различие в зависимости от возраста, то более других достойным власти будет старший, ибо сама природа свидетельствует, что старший, как это обычно бывает, оказывается мудрее. А другого судьи, кроме природы, в этом деле быть не может. Если же мы стали бы считать всех братьев равными, то преемник был бы назначен по жребию. Но естественным жребием является первородство, и именно в силу его предпочтение уже оказано старшему по рождению, и нет человека, чтобы судить, какому роду жребия следует отдать предпочтение при решении этого вопроса. Тот же самый принцип, защищающий право перворожденного, имеет силу и для перворожденной. 18. Если же детей вообще нет, тогда власть перейдет к братьям и сестрам на основе того же принципа, по которому наследовали бы дети, если бы они были. Ведь предполагается, что, чем ближе человек по родству, тем он благожелательнее. И братья пользуются преимуществом перед сестрами, равно как и старшие перед младшими. Здесь действует тот же принцип, что и при наследовании детьми. 19. Далее, принцип наследования власти тот же, что и принцип наследования права назначения преемника. Ибо будет считаться, что перворожденный, если он умрет раньше отца, перенес свое право наследования на своих детей, если только отец до этого не принял иного решения. Поэтому преимущественным правом наследования будут пользоваться внуки и внучки по сравнению со своими дядьями. Повторяю, все это происходит именно так, если этому не мешает местный обычай, с которым, как предполагается, отец согласен, если он не высказывает противоречащего ему решения.ГЛАВА X СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРЕХ ВИДОВ ГОСУДАРСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ КАЖДОГО ИЗ НИХ
1. Сравнение естественного состояния с гражданским. 2. Преимущества и трудности одинаковы и для правителя, и для граждан. 3. Преимущества монархии. 4. Единовластие не является несправедливым на том основании, что один оказывается могущественнее всех остальных. 5. Опровержение мнения утверждающих, что господин и его рабы не могут образовать государство. 6. При власти народа поборы тяжелее, чем при власти монарха. 7. Невиновные граждане меньше рискуют подвергнуться наказанию при монархе, чем при власти народа. 8. При монархии личная свобода отдельного гражданина не меньше, чем при власти народа. 9. Граждане ничего не теряют, если не все из них допускаются к обсуждению общественных дел. 10. Обсуждение государственных дел на больших собраниях не имеет смысла из-за невежества большинства участников. 11. А также из-за злоупотребления красноречием. 12. А также из-за борьбы партий. 13. А также из-за нестабильности законов. 14. А также из-за разглашения происходящего на них. 15. Эти недостатки присущи демократии, поскольку люди от природы получают удовольствие, когда ценят их способности. 16. Трудности, возникающие для государства, управляемого малолетним государем. 17. Доказательством превосходства монархии является власть начальников в войске. 18. Лучшая форма господства та, где граждане представляют наследство правителя. 19. Аристократия тем лучше, чем ближе к монархии, и тем хуже, чем дальше от нее. 1. Что такое демократия, аристократия и монархия, уже было сказано. А теперь, сопоставив их между собой, следует рассмотреть, какая же из этих форм лучше всего способствует сохранению мира среди граждан и обеспечению их интересов. Прежде всего сопоставим вообще преимущества и недостатки государства как такового, дабы никому не пришло вдруг в голову, что лучше каждому жить по собственному усмотрению, вообще не создавая государство. Вне государства каждый имеет полнейшую свободу, но эта свобода бесполезна, потому что тот, кто в силу собственной свободы делает все, что пожелает, в силу того, что свободой обладают и все остальные, равно и претерпевает все, что заблагорассудится другим. Когда же появляется государство, каждый гражданин сохраняет за собой столько свободы, сколько необходимо для спокойной и благополучной жизни, отнимая у других ее лишь настолько, чтобы не бояться их. Вне государства у каждого есть право на все, но он не может пользоваться ничем, в государстве же каждый спокойно пользуется ограниченным правом. Вне государства кто угодно может по праву ограбить или убить кого угодно, в государстве же это может только один человек. Вне государства мы можем защитить себя только собственными силами, в государстве же нас защищают силы всех граждан. Вне государства ни у кого нет твердой уверенности в награде своим трудам, в государстве такая уверенность есть у каждого. Наконец, вне государства – господство страстей, война, страх, бедность, мерзость, одиночество, варварство, невежество, дикость; в государстве – господство разума, мир, безопасность, богатство, благообразие, взаимопомощь, утонченность, науки, доброжелательство. 2. Аристотель в 14-й главе VII книги Политики устанавливает два рода правления, один из которых направлен к выгоде правителя, другой – подданных [121]. Как будто бы там, где с гражданами обходятся суровее, существует один вид государства, а там, где мягче,- другой! В этом совершенно невозможно с ним согласиться. Ибо все интересы правителя и подданных одинаковы и общи для них, ибо и выгоды и невыгоды их являются результатом характера правления. Неприятности, случившиеся с тем или иным гражданином из-за его неудачливости, глупости, небрежности, неспособности или роскошного образа жизни, могут и не быть связанными с несчастьями правителя. Но эти несчастья не проистекают из характера правления, ибо могут произойти в любом государстве. Если же они возникают со времени установления государства, то их придется признать результатом характера правления, но они будут общими и для правителя, и для граждан, так же как общими для них являются и преимущества. Первым и величайшим преимуществом для всех является мир и безопасность. Ведь и тот, кто правит, и тот, кем правят, используют для защиты своей жизни силы сразу всех своих сограждан. И жертвами величайшего несчастья, которое может произойти в государстве,- гражданской междоусобицы, возникающей из анархии, равно становятся и тот, кто обладает верховной властью, и любой из граждан. Во-вторых, если тот, кто обладает верховной властью, требует от своих граждан столько денег, что они оказываются не в состоянии прокормить себя и свою семью и поддерживать свои физические силы, то это плохо не только для них самих, но и для правителя, который никакими богатствами без физической помощи граждан не сможет защитить свою власть и свои богатства. Если же он будет требовать столько, сколько необходимо для управления страной, это будет равно выгодно и ему самому, и гражданам способствуя обеспечению и защите всеобщего мира. И невозможно представить, каким образом общественное богатство может приносить несчастье отдельным гражданам, если только частные лица не разорены настолько, что не в состоянии своей деятельностью добывать себе необходимые средства для поддержания своих физических и духовных сил. Ведь это было бы невыгодно и для самого правителя, являясь результатом не дурного порядка и дурных учреждений (ведь граждане могут испытывать угнетение в любом государстве), а результатом дурного управления благоустроенным государством. 3. А теперь нам необходимо показать путем сравнения достоинств и недостатков каждого из перечисленных видов государства, демократии, аристократии и монархии, что наилучшим из них является монархия. Поэтому аргументы типа: вселенная управляется единым Богом; древние предпочли всем прочим видам государства монархию, отдав одному Юпитеру власть над богами; при возникновении государств и народов решения старейшин считались законами; установленная Богом при сотворении мира власть отца была монархической; прочие виды правления были созданы позднее из обломков монархии, разрушенной мятежами; народ божий управлялся царями и т. д.,- хотя все они представляют нам монархию в весьма привлекательном виде, мы все же опустим, потому что это не рассуждения, а лишь примеры и свидетельства [122]. 4. Есть люди, которым единовластие не нравится потому, что это правление одного человека. Они считают несправедливым, что среди такого множества людей кто-нибудь один обладает такой властью, что может по собственному произволу распоряжаться судьбами всех остальных. Эти люди, конечно, хотели бы освободить себя и из-под власти единого Бога, если бы это было возможно. Но возражение такого рода против власти одного человека подсказано завистью, когда они видят, что один обладает тем, чего жаждут все. Точно так же они считают несправедливым правление немногих, если только сами не окажутся в их числе или хотя бы будут иметь надежду на это. Ведь если несправедливо, что не все обладают равными правами, тогда несправедливо и правление оптиматов. Поскольку же, как было показано выше, равенство означает состояние войны и именно поэтому по всеобщему согласию установилось неравенство, это неравенство более не должно считаться несправедливостью, если имеет больше тот, кому мы добровольно больше и дали. Таким образом, недостатки, сопровождающие правление одного человека, являются следствием личности человека, а не того, что это один человек. А теперь посмотрим, что приносит гражданам больше неприятностей – власть ли одного человека или власть многих людей. 5. Прежде всего следует отбросить утверждение тех, кто вообще отрицает существование государства, образовавшегося из любого числа рабов под властью общего господина. В параграфе 9 главы V государство определяется как единое лицо, сложившееся из многих людей, чья воля на основании заключенных ими соглашений должна считаться выражением воли их всех, и это лицо может использовать силы и возможности каждого для их общей защиты и обеспечения мира. А единое лицо, согласно сказанному в том же параграфе той же главы, существует тогда, когда воли многих заключены в воле одного. Но воля каждого раба содержится в воле господина, как это было показано в параграфе 5 главы VIII, так что последний может по своей воле использовать их силы и способности. Следовательно, существует государство, состоящее из господина и многих рабов. И против этого нельзя привести никакого возражения, которое не было бы равным образом направлено против государства, образованного отцом и детьми его. Ведь у господина, не имеющего детей, рабы занимают их место, ибо в них заключается почет и защита его, и, как было указано выше в параграфе 5 главы VIII, рабы подчиняются господам так же, как дети родителям. 6. Среди недостатков верховной власти следует указать то, что правитель помимо средств, необходимых на общественные расходы, то есть на содержание государственных чиновников, на постройку и поддержание укреплений, на ведение войны, на достойное содержание своего двора, может, если захочет, потребовать по своему произволу еще и другие, с помощью которых он мог бы увеличить богатства своих детей, родственников, фаворитов и даже просто льстецов. Нужно признать, что это действительно недостаток, но из числа тех, которые встречаются во всех видах государства, и в демократическом государстве он еще более несносен, чем в монархическом. Ведь если монарх и захочет обогатить всех этих людей, то их немного, потому что они имеют отношение лишь к одному человеку. А в демократическом государстве сколько демагогов, то есть ораторов, пользующихся влиянием у народа, а их и так-то много, и с каждым днем прибывают все новые, столько же тех, кто хочет обогатить своих деток, родственников, друзей и подхалимов. Ведь каждый из них стремится не только по возможности больше обогатить свои семейства, сделать их могущественнее и знаменитее, но и привлечь к себе своими благодеяниями других, чтобы укрепить собственное положение. Монарх в значительной мере может удовлетворить своих слуг и друзей, назначая их на военные должности, поскольку их не так много, не нанося ущерба гражданам, в демократии же, где нужно насытить многих и все новых и новых, это становится невозможным без притеснения граждан. Хотя монарх и может выдвигать недостойных людей, однако часто он не хочет делать этого, ораторы же в демократическом государстве, как это и понятно, все и всегда хотят этого, потому что им это необходимо: ведь иначе могущество тех, кто делал бы это, возросло настолько, что представляло бы опасность не только для других демагогов, но и для государства. 7. Другой недостаток, связанный с существованием верховной власти, это тот постоянный страх смерти, который неизбежно должен испытывать каждый подданный, понимая, что правитель может не только подвергнуть его любому наказанию за любое нарушение, но и в гневе по собственному произволу убить ни в чем не повинных граждан, ничем не нарушивших закон. И это поистине великое несчастье для любой формы государства, где оно происходит, а несчастьем это становится потому, что происходит, а не потому, что может произойти, но это уже вина правящего, а не самого правления: ведь не все поступки Нерона выражают сущность монархии. И все же при власти одного человека граждане реже подвергаются несправедливому осуждению, чем при власти народа. Ведь цари жестоки только к тем, кто либо докучает им неуместными советами, либо оскорбляет их своими речами, либо противится их личной воле. Но они стремятся помешать тому, чтобы возможное превосходство в могуществе одного гражданина над другим причинило бы вред государству. Поэтому под властью какого-нибудь Нерона или Калигулы могут невинно пострадать только те, кто им известен, то есть придворные, или те, кто занимает видное положение в государстве, и не все, а только те, кто владеет чем-то, что жаждет получить для себя правитель, что же касается тех, кто докучает ему или оскорбляет его, то они несут наказание по заслугам. Таким образом, при монархии тот, кто хочет жить незаметно, находится вне опасности, какой бы ни был правитель. Ибо страдают только честолюбцы, прочие же защищены от обид со стороны более могущественных. Но при господстве народа может существовать столько Неронов, сколько существует ораторов, стремящихся льстить народу: ведь каждый из них силен лишь постольку, поскольку могуществен сам народ, и, пытаясь спасти от наказания тех, кто по собственному произволу или из личной ненависти безвинно обрек на смерть своих сограждан, они действуют как бы по молчаливому соглашению: сегодня – я тебе, завтра – ты мне, взаимно потакая страстям друг друга. Кроме того, существует некий предел для могущества частных лиц, за которым оно становится опасным для государства, и поэтому монархам иной раз необходимо принять меры к тому, чтобы государство не претерпело какого-либо ущерба. Поэтому они пытаются ограничить это могущество, если оно заключено в богатстве, ограничивая это богатство, если же это могущество основывается на народных симпатиях, тогда они уничтожают само это влиятельное лицо, не предъявляя никаких других обвинений. То же самое обычно происходит и в демократиях. В Афинах, например, влиятельные люди подвергались остракизму, отправляясь в изгнание, не совершив никакого преступления, только из-за своего влияния, а в Риме умерщвляли тех, кто добрыми делами стремился завоевать симпатии народа, и обвиняли их в стремлении к царской власти. В этом отношении демократия и монархия равны, однако репутация их различна, ибо демократия исходит от народа и то, что совершается большинством, большинство же и одобряет. Поэтому говорят, что людей наказали из ненависти к их достоинствам, если это делают монархи, если же то же самое делается по воле народа, то это считается совершенным в интересах государства. 8. Есть и такие, кто считает монархию худшим государственным строем, чем демократия, потому, что в первой меньше свободы, чем во второй. Если под свободой понимают отказ от подчинения законам, то есть повелениям народа, то в этом случае ни в демократии, ни в какой-либо другой государственной форме вообще нет никакой свободы. Если же под свободой понимается немногочисленность законов и запретов, и при этом распространяющихся только на то, без запрещения чего мир невозможен, тогда я утверждаю, что в монархии не меньше свободы, чем в демократии. Ибо монархия не меньше, чем демократия, может прекрасно уживаться с такой свободой. Ведь даже если на воротах и башнях какого угодно государства написать самыми огромными буквами слово «свобода», это будет свобода не каждого гражданина, но свобода государства; и государство, управляемое народом, имеет на него не больше права, чем государство, управляемое монархом. Но когда частные граждане, то есть подданные, требуют свободы, они по существу, говоря о свободе, требуют себе не свободы, а господства, даже не подозревая об этом по своему невежеству. Ведь если бы каждый предоставлял другим такую же свободу, какую он хочет для себя, как этого требует закон природы, то вновь бы вернулось то естественное состояние, в котором все имеют право делать все; и если бы люди знали, что такое состояние хуже всякого подчинения, они бы отвергли его. Но если кто-то требует свободы только для самого себя, отказывая в ней всем остальным, разве это не есть требование господства? Ведь тот, кто свободен от всяких уз, тот является господином всех остальных, кто скован ими. Следовательно, в народном государстве свобода граждан не больше, чем в монархическом. Что вводит в заблуждение, так это равное участие в исполнении общественных обязанностей и управлении государством. Ведь там, где власть принадлежит народу, отдельные граждане принимают участие в управлении постольку, поскольку они составляют часть правящего народа. Они равноправно принимают участие в исполнении общественных обязанностей, поскольку обладают равными правами в избрании должностных лиц в государстве. И это как раз и есть то, что утверждает Аристотель во 2-й главе VI книги Политики, называя, как это делалось в его время, свободой власти: В демократии свобода уже предполагается. Это то, что обычно говорят: вне такого рода государства никто не является свободным [123]. Отсюда, между прочим, можно сделать вывод, что те граждане, которые оплакивают уничтожение свободы в монархии, негодуют лишь на то, что их не допускают к кормилу правления государством. 9. Но кто-нибудь, быть может, скажет, что именно поэтому народное государство (status popularis) должно быть поставлено намного выше монархии, коль скоро там, где государственными делами занимаются все, для всех открывается возможность проявить при общественном обсуждении самых сложных и важных вопросов свою мудрость, знания, красноречие. А в силу присущей человеческой природе жажды славы нет ничего приятнее этого для всех, кто превосходит других, или полагает, что превосходит, в этих качествах. В монархических же государствах этот путь, ведущий к славе и более высокому положению, для большинства граждан закрыт. Что же тогда является недостатком, если не это? Я скажу. Видеть, как мнение человека, презираемого нами, оказывается предпочтенным нашему, как пренебрегают на глазах у нас нашей мудростью в неясной надежде пустой славы навлекать на себя несомненнейшую вражду, не зная при этом, победим ли мы или окажемся побежденными, ненавидеть и быть предметом ненависти из-за несогласия во взглядах; бесплодно открывать всем наши замыслы и желания, когда это не нужно, оставлять в небрежении собственное хозяйство, все это я называю недостатками демократии. Стоять же в стороне от борьбы честолюбий, хотя такого рода состязания приятны людям красноречивым, не должно представляться им несчастьем, если только мы не станем утверждать, что для людей воинственных является несчастьем, когда их удерживают от битвы из-за того, что она доставляет им удовольствие. 10. Кроме того, есть немало причин, в силу которых обсуждение важных вопросов в многолюдных собраниях происходит менее успешно, чем там, где в их обсуждении участвуют лишь немногие. Одна из них состоит в том, что для принятия правильных решений обо всем, что способствует благополучию государства, необходимо иметь представление о происходящем не только внутри государства, но и за его пределами. Что касается внутреннего положения, здесь необходимо знать, на какие средства существует и защищает себя государство, где берутся эти средства, где удобнее всего размещать оборонительные сооружения, где набирать и на какие средства содержать войско, каково отношение граждан к государю или руководителям государства и тому подобное. В области внешних отношений нужно знать, сколь значительна и в чем выражается мощь каждого из соседних государств, что мы выигрываем и что теряем от связей с ними, каково их отношение к нам и друг к другу и какие они принимают решения по текущим делам. Поскольку в многолюдном собрании, в большинстве своем не имеющем представления о подобных вещах, чтобы не сказать – неспособном понять их, только очень немногие разбираются в этом, что, кроме вреда для решения важных вопросов, может дать своими глупыми высказываниями это великое число участников обсуждения? 11. Другая причина, делающая большое собрание не слишком удобным для обсуждения государственных дел, состоит в том, что каждый желающий разъяснить свое предложение считает необходимым произнести бесконечно длинную речь и к тому же, стремясь произвести впечатление, хочет сделать ее своим красноречием насколько возможно красивее и приятнее для слушателей. Задача же красноречия состоит в том, чтобы добро и зло, полезное и вредное, достойное и недостойное представить большим или меньшим, чем оно есть в действительности, и представить справедливым то, что является несправедливым, в зависимости от того, насколько это может оказаться полезным для достижения поставленной оратором цели. Это и есть убеждение, и хотя ораторы прибегают к логическим рассуждениям, однако исходят при этом не из истинных принципов, но из того, что греки называют ???????, то есть из общепринятых представлений, по большей части являющихся ложными, и стремятся своей речью не раскрывать истинное положение вещей, а воздействовать на чувства и души слушателей. А это значит, что решения принимаются под влиянием не истинного разума, а душевного порыва. И это вина не человека, но самого красноречия, цель которого, как утверждают все учителя риторики, не истина, хотя она и не исключается, но победа, и задача ее – не учить, а убеждать. 12. Третья причина, делающая обсуждение в большом собрании менее полезным, состоит в том, что на таких собраниях в государстве рождаются партии, а партии приводят к мятежу и гражданской войне. Ведь когда ораторы, имеющие равные возможности, вступают в сражение друг с другом и высказывают в своих речах совершенно противоположные взгляды, побежденный начинает ненавидеть победителя и заодно всех тех, кто поддержал его мнение, как бы выразив тем самым пренебрежение к мнению и мудрости побежденного, и стремится найти средство доказать, что предложение его противника вредно для государства, полагая, что это вернет ему его славу и посрамит противника. Кроме того, когда голоса разделились не столь резко, чтобы у побежденных не осталось надежды, что они смогут на другом собрании, если там будет присутствовать еще несколько человек, разделяющих их мнение, одержать победу, тогда главари их созывают остальных и отдельно от прочих граждан обдумывают, каким образом можно бы было отменить ранее принятое решение, и решают между собой, что на ближайшее собрание они придут в большем числе первыми, устанавливают, что, кто и в каком порядке должен говорить, чтобы заставить вновь обсуждать этот вопрос и чтобы решение, принятое в силу численного перевеса противников, отменить, воспользовавшись тем, что те на этот раз, отчасти по неосмотрительности, не явились. И такого рода усилия и деятельность, используемая для формирования народного мнения (ad faciendum populum), называются созданием партии (factio). Когда же партия не набирает достаточно голосов, но на деле оказывается более сильной или ненамного слабее противника, тогда пытаются силой оружия получить то, чего не смогли получить с помощью красноречия и всяческих ухищрений, и тогда начинается гражданская война. Но кто-то скажет, что это совсем не обязательно, да и не часто случается. С таким же успехом он мог бы сказать, что ораторы не обязательно жаждут славы и что не столь часто влиятельные ораторы расходятся между собой в важных вопросах. 13. Отсюда следует, что там, где верховная власть по изданию законов принадлежит подобным собраниям, законы неустойчивы и меняются в зависимости от того, что на собрание (curia) явится сегодня больше сторонников одной партии, а завтра – другой; так что законы там носятся туда и сюда, как на волнах. 14. В-четвертых, обсуждения на больших собраниях имеют еще тот недостаток, что государственные решения, которые чаще всего весьма важно сохранять в тайне, становятся известными врагам еще раньше, чем они могут быть приведены в исполнение, и враги не хуже самого принимающего решение народа знают, что он может, чего не может, что хочет, а чего не хочет. 15. Все эти недостатки, проявляющиеся при обсуждении вопросов на больших собраниях, убеждают, что монархия лучше демократии именно потому, что при демократии важнейшие вопросы чаще доверяются рассмотрению подобных собраний, чем в монархических государствах; да иначе, пожалуй, и не может быть. Ведь нет ничего, что заставило бы кого-то предпочесть государственную деятельность занятию своим личным имуществом, кроме того, что на этих собраниях ему видится поприще для его красноречия, с помощью которого он может стяжать славу мудрого и одаренного человека и, вернувшись домой, в случае успеха торжествовать перед своими друзьями, родителями, женой подобно тому, как некогда Марку Кориолану все его военные деяния доставляли удовольствие лишь потому, что он видел, как мать радуется его славе. Ну а если бы в демократическом государстве народ пожелал бы доверить обсуждение вопросов войны и мира и создание законов только одному человеку или очень немногим, довольствуясь лишь правом назначения магистратов и других должностных лиц, то есть властью без ее исполнения, тогда придется признать, что демократия и монархия ничем не отличаются друг от друга. 16. Преимущества и недостатки, преобладающие в том или ином виде государства, не являются результатом того, что сама власть или исполнение государственных дел в одном случае поручается одному, а не многим, в другом же, наоборот,- многим, а не малому числу. Ведь власть – это возможность, а ее исполнение, то есть управление, есть действие. Возможность одинакова в любом виде государства, в зависимости от того, вытекает ли она из предложений многих или немногих, опытных или неопытных людей. Отсюда понятно, что преимущества и недостатки правления зависят не от того, кто воплощает авторитет государства, а от исполнителей этой власти. Поэтому отнюдь не мешает возможности разумного управления государством то, что монархом оказывается женщина, несовершеннолетний или даже младенец, лишь бы только оказались дельными и знающими те, кто поставлен во главе тех или иных общественных ведомств. И даже, когда говорится горе государству, где царствует ребенок, не означает, что монархический строй хуже демократического, но, наоборот, свидетельствует, что недостатки монархии могут быть лишь случайными, потому что иной раз при несовершеннолетнем короле многие, движимые честолюбием, опираясь на свою силу, пытаются принять участие в решении государственных дел, и государство, таким образом, управляется демократически, а отсюда рождаются все те несчастья, которые, как правило, сопровождают народную власть. 17. Очевиднейшим признаком того, что самая абсолютная монархия есть наилучшая из всех государственных форм, является то, что не только цари, но и государства, управляемые народом или оптиматами, всю власть во время войны передают только одному человеку, притом настолько абсолютную, что большей и не может быть. Здесь попутно следует также заметить, что никакой царь не может дать полководцу власти над войском больше, чем он сам по праву имеет над всеми гражданами. Поэтому монархия есть самая лучшая форма правления в военном отношении. А чем иным являются многочисленные государства, как не военными лагерями, укрепленными и вооруженными друг против друга, состояние которых (так как их не сдерживает никакая общая для них власть, и ненадежный мир между ними похож на краткое перемирие) должно рассматриваться как естественное состояние, то есть как состояние войны? 18. Наконец, поскольку для нашего самосохранения необходимо нам быть подданными какого-нибудь человека или собрания, то лучше всего быть подданным того, кому важно, чтобы мы были целы и невредимы. А это случается тогда, когда мы являемся наследством правителя: ведь каждый по собственной воле стремится сохранить свое наследство. А богатства государей составляют не имения и деньги граждан, а их крепкие тела и бодрый дух, с чем легко согласятся те, кто знают, каких огромных денег стоит господство даже над малыми государствами и насколько легче людям добыть деньги, чем деньгами -людей. Да и нелегко привести в пример какого-нибудь подданного, лишенного своим государством жизни или имущества без всякой вины с его стороны, а только по одному произволу властителя. 19. До сих пор мы сравнивали монархическое и народное государства и ни слова не сказали об аристократии. О последней, по-видимому, исходя из того, что было сказано о первых, а именно что она наследственна, довольствуется лишь избранием магистратов, обсуждение же дел поручает небольшому числу наиболее компетентных лиц и, говоря попросту, характер ее правления намного ближе к монархическому, чем к демократическому, из всего этого, повторяю, можно сделать вывод, что она и удобнее для каждого гражданина и надежнее, чем прочие.ГЛАВА XI МЕСТА И ПРИМЕРЫ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРАВУ НА ВЛАСТЬ И КОТОРЫЕ, ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ, ПОДТВЕРЖДАЮТ ВЫШЕСКАЗАННОЕ
1. Установленное государство берет начало в согласии народа. 2. Суды и войны зависят от воли обладающих верховной властью. 3. Никто не имеет права наказывать того, кто обладает верховной властью. 4. Там, где нет верховной власти, нет и государства, а лишь анархия. 5. Рабы и дети обязаны беспрекословно повиноваться господам и родителям. 6. Абсолютная власть самым очевидным образом получает одобрение во многих местах Ветхого и Нового завета. 1. Говоря во 2-м параграфе главы VI о возникновении установленного, или политического, государства из согласия между собой толпы, мы показали, что в этом случае либо все должны прийти к согласию, либо – считаться врагами. Таково было и начало Царства Божьего над иудеями, установленного Моисеем (Исх. 19, 5, 8): если вы будете слушаться гласа моего и т. д., будете у меня царством священников и т. д. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и т. д. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. Таково было и начало власти Моисея под Богом, то есть власти как бы царской (Исх. 20, 18, 19): весь народ видел громы и пламя и т. д. Я сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать. Подобным же было и начало царствования Саула (1 Цар. 12, 12, 13): Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против нас, вы сказали мне: нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш – царь ваш; итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы и требовали. А так как соглашались не все, а лишь большинство (ибо были (1 Цар. 10, 27) сыновья Велиала, которые сказали: «ему ли спасать нас? И презирали его»), то тех, кто не согласился, как врагов хотели умертвить. 1 Цар. 11, 12: Тогда сказал народ Самуилу: кто говорил, Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их. 2. В той же шестой главе, в параграфах шестом и седьмом, было показано, что как суд, так и война зависят от решения того, кто обладает в государстве верховной властью, то есть в монархии – от решения единого монарха, или царя. И это подтверждается мнением самого народа (1 Цар. 8, 20): И мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны наши. А в отношении судилищ и всего, о чем можно спорить, добро это или зло, подтверждается также свидетельством царя Соломона (3 Цар. 3, 9): даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло; а также – свидетельством Авессалома (2 Цар. 15, 3): у царя некому выслушать тебя. 3. То, что цари не могут быть наказаны своими подданными, как это показано выше, в 12-м параграфе главы VI, подтверждает царь Давид, который, хотя Саул хотел умертвить его, сам, однако, воздержался от убийства последнего и запретил это сделать Авессе, говоря (1 Цар. 24, 7): не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника господнего, останется ненаказанным? И когда тот разорвал край хламиды его, он сказал (1 Цар. 24, 7): да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него. И он приказал убить амалетинянина, который убил Саула, хотя тот и сделал это ради него (2 Цар. 1, 15). 4. Содержащееся в книге Судей (17, 6) место: В те дни у Израиля не было царя, но каждый делал то, что ему казалось справедливым, говорящее, что там, где нет монархии, начинается анархия, то есть полный хаос, можно было бы привести в доказательство превосходства монархии над всеми прочими формами государства, если только под словом царь понимать не только одного человека, но и единый совет, лишь бы только в нем была сосредоточена верховная власть. Если мы будем понимать это так, отсюда следует, что без существования верховной и абсолютной власти всякому будет дозволено делать все, что ему будет угодно, то есть то, что ему будет казаться правильным (как мы это и пытались доказать во всей шестой главе). А такое положение несовместимо с сохранением существования человеческого рода, и поэтому предполагается, что во всяком государстве по закону природы должна кому-то принадлежать верховная власть. 5. Мы сказали (гл. VIII, параграфы 7, 8), что рабы обязаны безусловно повиноваться господам и дети родителям (гл. IX, параграф 7). То же самое говорит апостол Павел о рабах (Колос. 3, 22): Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И о детях (Колос. 3, 20): Дети, будьте послушны во всем родителям вашим, ибо это благоугодно Богу. И подобно тому, как мы под безусловным повиновением понимаем исполнение всего, что не противоречит законам Господа, так и в приведенных выше местах из апостола Павла после слова все следует подразумевать дополнение: кроме того, что противоречит законам Господа. 6. Но, чтобы не перечислять по пунктам все права государей, я скажу только об их власти в целом, то есть о том, что подданные должны безусловно и абсолютно повиноваться им. Прежде всего из Нового завета (Матф. 23, 2, 3): На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Он говорит: делайте все, то есть повинуйтесь безусловно. Почему? Потому что сидят они на седалище Моисеевом, то есть гражданского владыки, а не первосвященника Аарона (Рим. 13, 1, 2): Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Следовательно, поскольку власти, существовавшие во времена святого Петра, были установлены Богом, а все цари в то время требовали от подданных полного подчинения, такая власть была установлена Богом. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия (1 Пет. 2, 13 -15). И так же говорит Павел в послании к Титу (3, 1): Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Каким властям? Разве не правителям того времени, которые требовали безусловного повиновения? Далее, если обратиться к примеру самого Христа, которому по наследственному праву, идущему от Давида, должно было принадлежать царство иудейское, то ведь он, живя как подданный, платил подать кесарю и признавал ее положенной кесарю: Тогда говорит им: Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу (Матф. 22, 21). И он же, когда ему стало угодно явить себя царем, стал требовать полного подчинения: пойдите в селение, которое перед вами; и тотчас найдите ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязавши, приведите ко мне; и если кто скажет вам, отвечайте, что они надобны Господу (Матф. 21, 2, 3). Значит, он сделал это по праву господина, то есть царя иудеев. Ибо отнять у подданного имущество его на том основании, что оно надобно господину, это и есть абсолютная власть. А вот совершенно очевидные свидетельства Ветхого завета, касающиеся того же (Втор. 5, 27): приступи ты и слушай все, что скажет Господь Бог наш, тебе, и ты пересказывай нам все... и мы будем слушать и исполнять. А под этим словом все понимается полное повиновение. Далее (Нав. 1, 16): Они в ответ Иисусу сказали: все, что повелишь, сделаем и, куда ни пошлешь нас, пойдем; как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя; только Господь Бог твой да будет с Тобою, как он был с Моисеем; всякий, кто воспротивится повелению Твоему и не послушает слов Твоих во всем, что Ты ни повелишь ему, будет предан смерти. И притча о терновнике (Суд. 9, 14, 15): Сказали все дерева терновнику: иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревам: если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите и покойтесь под тенью моей, если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Смысл этой притчи в том, что нужно покоряться словам тех, кого воистину поставили царями над собой, если не хотим сгореть в огне гражданской войны. Более подробно описывается царское могущество самим Богом в словах Самуила (1 Цар. 8, 9 и т. д.): Объяви им права царя, который будет царствовать над ними и т. д.; Вот какие будут права у царя, который будет царствовать над вами, сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам и т. д.; И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти и т. д. Масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим и т. д. Разве такого рода власть не является абсолютной? Но сам Бог называет ее царским правом. И, как мне кажется, никто, даже первосвященник иудейский, не был освобожден от такого рода подчинения. Когда же (3 Цар. 2, 26, 27) царь, то есть Соломон, сказал первосвященнику Авиафару: ступай в Анафоф, на твое поле; ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой. И удалил Соломон Авиафара от священства Господа, то нет никаких доказательств, что поступок сей не понравился Богу, ибо мы нигде не читаем, что он осудил Соломона или сам царь в это время был не любим Богом.ГЛАВА XII О ВНУТРЕННИХ ПРИЧИНАХ, РАЗРУШАЮЩИХ ГОСУДАРСТВО
1. Суждение о добре и зле есть дело каждого отдельного человека – эта мысль опасна для общества. 2. Подданные, повинуясь государям, могут совершать грех – эта мысль опасна для общества. 3. Тираноубийство дозволено – эта мысль опасна для общества. 4. Гражданским законам подчинены и те, кто обладает верховной властью,- эта мысль опасна для общества. 5. «Верховная власть может делиться» – эта мысль опасна для общества. 6. Вера и святость не приобретаются усердием и разумом, но являются результатом сверхъестественного воздействия и вдохновения – это опасная для общества мысль. 7. Каждый гражданин обладает собственностью, т. е. абсолютным владением своим имуществом,- это опасная для общества мысль. 8. Непонимание различия между народом (populus) и толпой ( niultitudo) ведет к мятежу. 9. Чрезмерно суровые конфискации, даже если они справедливы и необходимы, ведут к мятежу. 10. Честолюбие ведет к мятежу. 11. Надежда на успех ведет к мятежу. 12. Красноречие, лишенное мудрости,- единственное необходимое качество для того, чтобы поднять мятеж. 13. Как глупость толпы и красноречие честолюбцев взаимно помогают друг другу разрушить государство. 1. До сих пор говорилось о том, какие причины и какие договоры способствовали установлению государства и каковы права повелителей по отношению к своим гражданам. А теперь необходимо сказать несколько слов о том, какие причины их разрушают, то есть в чем причины мятежей. Подобно тому, как в движении естественных тел нужно принимать во внимание три фактора: внутреннее расположение, которое должно способствовать осуществлению движения; внешнюю движущую силу (agens), производящую фактически определенное движение, и само действие,подобно этому и в государстве, где происходят волнения граждан, необходимо учитывать три момента: во-первых, учения и настроения, враждебные миру, к которым предрасположены умы отдельных граждан; во-вторых, личность тех, кто возбуждает, собирает, направляет граждан, уже готовых на возмущение и вооруженную борьбу; в-третьих – то, как это происходит, то есть саму заговорщическую деятельность. Что касается учений, которые предрасполагают к мятежу, то первым и самым главным является следующее: суждение о добре и зле принадлежит каждому человеку. Мы согласны, что в естественном состоянии, где каждый опирается на одинаковое право и никто в силу каких бы то ни было соглашений не подчинился власти других, это положение правильно, более того, в 9-м параграфе главы I мы сами доказали, что это так. Но в гражданском состоянии это положение ложно. Ибо в 9-м параграфе главы VI было показано, что определение добра и зла, справедливого и несправедливого, достойного и недостойного принадлежит гражданским законам, а посему то, что законодатель повелевает нам делать, то и должно почитаться за благо, а то, что он нам запрещает,- за зло. Законодателем же всегда является тот, кому в государстве принадлежит верховная власть, то есть в монархии – монарх. Это же мы подтвердили в 6-м параграфе главы XI, сославшись на слова Соломона. Ведь если бы пришлось следовать чему-то, как благу, и избегать чего-то, как зла, того, что показалось таковым каждому в отдельности, то какой бы смысл имели его слова (1 Цар. 3, 9): дай рабу твоему сердце послушное, дабы мог он судить народ твой и отличать доброе от злого. А поскольку именно царям принадлежит право отличать доброе от злого, поэтому несправедливы, хотя и ставшие привычными, слова: царь – тот, кто поступает справедливо, и царям следует повиноваться только тогда, когда они отдают справедливые приказания, и тому подобное. Но до установления власти нет ни справедливого, ни несправедливого, ибо их природа относительна и зависит от повеления, всякое же действие по своей природе безразлично, и право считать нечто справедливым и несправедливым принадлежит повелителю. Поэтому законные монархи своим повелением делают справедливым то, что они повелевают, а запрещением – несправедливым то, что они запрещают. Частные же люди, присваивая себе право познания добра и зла, стремятся уподобиться царям, а этого не может быть, если мы хотим сохранить благополучие государства. Самое первое из всех велений Божьих (Быт. 2, 17): Не вкушай от древа познания добра и зла, и самое первое из всех искушений диавольских (Быт. 3, 5): Будьте как боги, знающие добро и зло. И первый упрек Бога человеку (Быт. 3, 11): Кто сказал тебе, что ты наг, если ты не вкусил от древа, от которого я запретил тебе вкушать? Этими словами Бог как бы говорил: разве не потому посчитал ты недостойной наготу твою, в которой угодно мне было создать тебя, что ты сам присвоил себе познание достойного и недостойного? 2. Грех есть все то, что человек совершает вопреки своей совести, потому что поступающие так пренебрегают законом. Но нужно различать здесь следующее: моим грехом является поступок, совершая который я понимаю, что это грех; но то, что я считаю чужим грехом, я сам иногда могу совершать, не считая это своим грехом. Ведь если мне прикажут совершить то, что является грехом для того, кто приказывает мне это, я, исполняя его приказание, не совершаю греха, если только приказывавший является моим господином по праву. Ведь если я по приказу государства пойду на войну, которую я считаю несправедливой, я тем самым не поступлю несправедливо, скорее, наоборот – если я откажусь пойти на войну, присваивая себе принадлежащее государству установление справедливого и несправедливого. Те, кто не учитывает этого различия, постоянно оказываются перед необходимостью совершать грех всякий раз, как им приказывают совершить нечто недозволенное или представляющееся таковым. Ведь если они подчинятся, они поступят против своей совести, если же они не подчинятся, они нарушат право. Если они поступят против совести, они тем самым показывают, что они не боятся наказания в жизни будущей, если же они поступят вопреки праву, они подрывают, насколько это в их силах, человеческое общество и гражданскую жизнь в настоящем. Следовательно, мнение тех, кто доказывает, что подданные совершают грех, исполняя повеления государей, представляющиеся им несправедливыми, и ошибочно, и должно быть отнесено к числу тех, которые подрывают гражданское повиновение. А проистекает это мнение из первоначального заблуждения, на которое мы указали выше, в предыдущем параграфе. Ибо, присваивая себе суждение о добре и зле, мы сами превращаем и наше повиновение, и наше неповиновение в грех. 3. Третье опасное мнение, проистекающее из того же источника, утверждает: тираноубийство дозволено. Более того, и сегодня некоторыми теологами, а некогда всеми софистами, Платоном, Аристотелем, Цицероном, Сенекой, Плутархом и прочими сторонниками анархии в Греции и Риме считалось даже достойным величайшей хвалы. Тиранами же они называют не только монархов, но и всех тех, кто в любом государстве отправляет верховную власть. Ведь в Афинах не только Писистрат, правивший единолично, но и после него тридцать мужей, правивших одновременно, каждый назывался тираном. Но тот, кого люди хотят убить как тирана, правит или по праву, или не по праву. Если он правит, не имея права, тогда он – враг и убит по праву; но это следует называть не тираноубийством, а убийством врага. Если же он по праву обладает властью, тогда возникает вопрос, который задаст Бог: Кто внушил тебе, что это тиран, если ты не вкушал от древа, от которого я запретил тебе вкушать. На каком основании ты называешь тираном того, кого Бог сделал царем, если не на том, что ты, оставаясь частным человеком, присваиваешь себе познание добра и зла? Сколь опасно и гибельно для государств, и особенно для монархий, это мнение, легко понять из того, что в силу этого положения любой царь, дурной или хороший, может быть приговорен к смерти судом одного человека и умерщвлен рукою одного убийцы. 4. Четвертое враждебное гражданскому обществу мнение принадлежит тем, кто полагает, что гражданским законам подчинены даже те, кто наделен верховной властью. Выше, в 14-м параграфе главы VI, было показано, что это положение неверно, потому что государство не может иметь обязательств ни перед самим собой, ни перед каким-либо гражданином, ибо воля каждого гражданина содержится в воле государства, так что, если бы государство пожелало быть свободным от подобного обязательства, захотели бы того же и граждане, и поэтому государство фактически от него свободно. А то, что является истинным в отношении государства, считается истинным и относительно человека или собрания людей, которые обладают верховной властью, ибо именно они и являются государством, которое может существовать только благодаря тому, что они обладают верховной властью. То, что приведенное выше положение несовместимо с самой сущностью государства, ясно уже из того, что в силу этого положения познание справедливого и несправедливого, то есть определение того, что противоречит гражданским законам, а что – нет, переходит к отдельному человеку. Следовательно, повиновение прекращается, как только какое-то приказание покажется противоречащим законам, а заодно исчезает и всякая возможность принуждения, а это означает уничтожение самой сущности государства. Однако это заблуждение имеет влиятельных защитников – Аристотеля и других, полагающих, что по немощи человеческой природы следует верховную власть в государстве доверить лишь одним законам. Те, кто полагает необходимым оставить самим законам право принуждения, право толкования и введения законов, являющееся неотъемлемой прерогативой государства, как мне кажется, недостаточно глубоко понимают природу государства. Ведь хотя отдельные граждане и могут иногда на законном основании вступать в спор с государством, однако это имеет место только тогда, когда решается вопрос не о том, что может государство, а о том, чего желает оно на основании какого-то определенного закона. Например, когда на основании какого-то закона идет речь о жизни гражданина, то решается вопрос не о том, может ли государство в силу своего абсолютного права лишить его жизни, а о том, желает ли оно на основании этого закона сделать это. И если он нарушил закон, оно желает этого, но только в таком случае. Поэтому то обстоятельство, что закон дает возможность гражданину вступать в спор с государством, не служит достаточным доказательством того, что государство связано своими собственными законами. Наоборот, совершенно очевидно, что государство не связано своими собственными законами, потому что никто не связан обязательством перед самим собой. Значит, законы издаются для Тита и Гая, а не для государства, хотя юристы в своем тщеславии и заставили людей несведущих полагать, будто законы зависят не от авторитета государства, а от их мудрости. 5. Пятое, крайне опасное для государства утверждение – верховную власть можно разделить. Делят же по-разному. Некоторые делят ее так, что предоставляют гражданским правителям власть в том, что касается вопроса мира и устроения повседневной жизни, в том же, что касается спасения души, они передают ее другим. Случается же так, что граждане, измеряя справедливость (а она более всего необходима для всеобщего благополучия) не так, как должно, то есть не так, как требуют гражданские законы, а как требуют учения тех, кто для государства являются либо частными, либо вообще чуждыми лицами, из суеверного страха не желают оказывать государям должное повиновение, совершая из страха именно то, чего они страшатся. Ибо что может быть гибельнее для государства, чем удерживать людей под страхом вечных мучений от повиновения государям, то есть законам, иначе говоря, не позволять им поступать по справедливости? Другие же делят верховную власть таким образом, что как на войне, так и в мирное время предоставляют ее одному человеку (которого они называют монархом), но право распоряжаться деньгами они предоставляют не ему, а другим. Поскольку же деньги -это главная сила (nervi) и на войне, и в мирное время, то те, кто настаивают на таком разделении власти, на самом деле не делят ее, но отдают эту власть тем, в чьих руках находятся деньги, и лишь номинально предоставляют ее другому. Если же они действительно произведут разделение власти, они тем самым разрушат государство вообще, ибо без денег невозможно ни вести войны, если возникает такая необходимость, ни сохранять общественный мир. 6. Обычно говорится, что вера и святость не приобретаются усилиями естественного разума, но всегда изливаются и нисходят на людей сверхъестественным путем. Но если это правда, то я не понимаю, почему от нас требуют объяснения нашей веры, или почему любой истинный христианин не становится пророком, или, наконец, почему каждый не должен был бы по собственному наитию определять, что ему делать, а чего не делать, вместо того чтобы руководствоваться указаниями правителей или требованиями истинного разума. Следовательно, это ведет к тому, что суждение о добре и зле передается отдельному человеку, единственным следствием чего становится разрушение государства. Это учение столь широко распространилось по всему христианскому миру, что число отступников от естественного разума становится чуть ли не бесконечным. Ясно, что оно было создано неразумными людьми, которые из усердного чтения Писания набрались великого множества священных слов и научились так ловко сплетать их в своих проповедях, что их ничего не значащая речь представлялась, однако, профанам чуть ли не божественной, и тот, в чьих словах никакого смысла нет, а речь великолепна, неизбежно покажется им боговдохновенным. 7. Седьмое вредное для государства учение предоставляет каждому отдельному гражданину абсолютное господство над тем, чем он владеет, т. е. такое право собственности, которое исключает право на это же имущество не только сограждан, но и самого государства. А это неправильно. Ведь тот, кто имеет над собой господина, сам не обладает абсолютным правом господства, как это доказано в 5-м параграфе главы VIII. Государство же с самого начала является господином всех своих сограждан. До принятия гражданского ига ни у кого не было никакого собственного права, но все было общим для всех. Так откуда же получил ты свою собственность, если не от государства? А откуда она у государства, если бы каждый не передал ему свое право? Значит, и ты передал государству свое право. Следовательно, твое право владения и твоя собственность существуют лишь постольку и до тех пор, поскольку и до каких пор хочет этого государство. Точно так же и в семье каждый из сыновей владеет лишь той собственностью и до тех пор, какую и до каких пор признает за ним отец. Но значительное большинство людей, занимающихся наукой о государстве, рассуждают иначе. Они говорят, что мы равны по природе, и поэтому нет никаких причин, дающих кому-нибудь большее право отнять у меня мое имущество, чем мне – у него. Мы знаем, что иногда государство нуждается в деньгах для обеспечения своей безопасности, но те, кто их требует, лишь говорят, что возникла такая необходимость, деньги же вносятся добровольно. Сторонники вышеприведенного мнения не знают, что то, что они хотят установить, уже существует с самого возникновения государства, а поэтому, рассуждая так, как будто бы они имеют дело с беспорядочной толпой, не организованной в государство, они разрушают уже существующее. 8. И наконец, опасным для всякого государственного правления, а особенно монархического, является недостаточно четкое отличие народа от толпы (multitude). Народ есть нечто единое, обладающее единой волей и способное на единое действие. Ничего подобного нельзя сказать о толпе. Народ правит во всяком государстве, ибо и в монархическом государстве повелевает народ, потому что там воля народа выражается в воле одного человека. Масса (multitude) же – это граждане, то есть подданные. При демократии и аристократии граждане – это масса, но собрание (curia) – это уже народ. И при монархии подданные – это толпа, а, как это ни парадоксально, царь есть народ. Низы общества (vulgus hominum), да и многие другие, совершенно не замечающие, что дело обстоит именно так, о большом количестве людей всегда говорят как о народе, то есть о государстве. Они говорят, будто государство восстало против царя, что невозможно; или будто народ желает или не желает того или другого, когда этого желают или не желают вечно недовольные ворчуны-подданные, прикрывающиеся именем народа, подстрекающие граждан против государства, то есть толпу против народа. Таковы те мнения, которые способны толкнуть граждан на мятежные действия. А поскольку в любом государстве необходимо поддерживать величие того или тех, кому принадлежит верховная власть, то подобные мнения естественным образом ведут за собой обвинение в оскорблении величества. 9. Более всего огорчает человека бедность, то есть недостаток во всем том, что необходимо для поддержания жизни и достоинства человека. И хотя нет никого, кто не знал бы, что состояние добывается трудом и сохраняется благодаря бережливости, однако же все неимущие обычно возлагают вину за это не на собственную леность и расточительство, а на государственный режим, обвиняя его в разорении частных лиц общественными поборами. Однако люди должны помнить, что тем, у кого нет наследственного имущества, необходимо не только работать, чтобы жить, но и сражаться, чтобы работать. Каждый из иудеев, которые во времена Ездры строили стены Иерусалима, одной рукой выполнял работу, а в другой держал меч. И надо понять, что и в любом государстве рука, держащая меч,- это царь или верховный совет, и ее следует поддерживать трудом граждан ничуть не меньше той, которой каждый создает свое собственное благосостояние, налоги же и подати суть не что иное, как плата тем, кто с оружием в руках бдительно охраняет труд каждого гражданина от вражеских набегов. Жалобы же тех, кто видит причину своей бедности в необходимости платить налоги, не более справедливы, чем жалобы тех, кто объяснял бы свою бедность необходимостью платить долги. Но большинство людей не задумывается ни о чем подобном. С ними происходит то же, что бывает при болезни, называемой incubus: эта болезнь, происходящая от переедания, заставляет, однако, человека думать, что на него нападают, тяжко давят и душат его. Ну а то, что к восстаниям склонны те, которым кажется, что они задавлены всей махиной государства и что перевороты в государственном строе любезны тем, кто не доволен настоящим, достаточно ясно само по себе. 10. Другое опасное для государства душевное заболевание охватывает тех, кто, в изобилии располагая свободным временем, находится не у дел. К почестям и известности стремятся от природы все люди, но особенно те, кто вовсе не мучается заботами о хлебе насущном. Досуг заставляет их то предаваться рассуждениям о политике, то проводить время в поверхностном чтении книг историков, ораторов, политиков и так далее. В результате они начинают полагать, что и их талант, и их образование позволяют им заниматься самыми важными государственными делами. А поскольку они не все оказываются такими, какими они себе представляются, да и если бы они такими оказались, они бы все равно уже в силу своей многочисленности не могли бы все быть призваны к исполнению государственных должностей, то неизбежно многие остаются не у дел. Видя в том себе оскорбление, они из зависти к тем, кто их обошел, и не теряя надежды на реванш, не могут уже мечтать больше ни о чем другом, как о провале замыслов государства. Поэтому нет ничего удивительного, что они жадно ищут удобного случая для государственного переворота. 11. К числу опасных настроений следует отнести и надежду на успех. Люди могут, сколько кому угодно, придерживаться мнений, враждебных миру и государственному режиму, могут подвергаться самым ужасным обидам и оскорблениям со стороны власть имущих, но если у них нет ни малейшей надежды на успех или она очень мала, то за этими настроениями не последует никакого мятежа: каждый будет делать вид, что с ним ничего не произошло, и предпочтет тяжкое еще более тягостному. А для того чтобы появилась такая надежда, необходимы четыре условия: многочисленность [сторонников], материальные средства, взаимное доверие и вожди. Не имея значительного числа сторонников, выступление против властей становится не мятежом, а актом отчаяния. Под средствами я понимаю оружие и снабжение, без которых многочисленность не имеет значения, равно как и оружие без взаимного доверия, а все это вместе – без объединения вокруг какого-нибудь вождя, которому они готовы повиноваться не в силу обязательств, которыми они подчинили себя его власти (ведь мы предположили в настоящей главе, что эти люди еще не знают обязательств, выходящих за пределы того, что им самим представляется правильным и благом), но добровольно, из уважения к его доблести, военному опыту или разделяя его устремления. И если эти четыре условия окажутся осуществимыми, тогда людям, недовольным настоящим и собственной меркой измеряющим правоту своих поступков, для начала мятежа и смуты в государстве будет недоставать только человека, который бы смог поднять и побудить к действию их самих. 12. Говоря о Катилине, мятежнее которого никогда никого на свете не было, Саллюстий считает характерной его чертой то, что он обладал немалым красноречием, мудрости же в нем было немного. Саллюстий противопоставляет мудрость и красноречие, отдавая последнее как необходимое качество человеку, от рождения склонному к мятежам, в первой же видя повелительницу мира. Но красноречие бывает двоякого рода: одно ясно и изящно раскрывает мысли и понятия, складывающиеся в уме, возникая из созерцания самого мира и из точного и определенного понимания собственного значения употребляемых слов, второе же стремится возбудить такие душевные аффекты, как надежда, страх, гнев, сострадание, являясь результатом метафорического употребления слов, старающегося приспособиться к состоянию души слушателя. Первый вид красноречия строит свою речь на истинных принципах, второй – на расхожих мнениях, каковы бы они ни были. Искусство первого – логика, второго – риторика. Цель первого – истина, второго – победа. Оба находят и свое применение: первое есть средство размышления, второе – убеждения. Ведь первый вид красноречия никогда не расстается с мудростью, второй же – почти никогда не встречается с ней. Ну а то, что такого рода могущественное красноречие, далекое от знания, то есть от мудрости, действительно составляет характерную черту тех, кто подстрекает и возбуждает народ на восстание, легко понять из самой той задачи, которую они перед собой поставили. Ведь они не смогли бы внушить народу эти абсурдные, враждебные миру и гражданскому обществу мысли, если бы сами не придерживались их же, а это свидетельствует о таком невежестве, которое невозможно предположить в разумном человеке. Разве можно считать кого-нибудь хоть в какой-то мере разумным, если он не знает, откуда получают свою силу законы, каковы принципы справедливого, несправедливого, нравственного, безнравственного, блага, зла, что способствует установлению и сохранению мира между людьми, а что разрушает его, что такое свое, а что – чужое, чего, наконец, он желает для самого себя, дабы делать то же самое и для другого? Способность же превращать своих слушателей из глупцов в безумцев, представлять дурное – худшим, правильное – дурным, распалять надежду, преуменьшать опасности вопреки разуму дает им красноречие, но не то, которое представляет вещи такими, каковы они на самом деле, но то, другое, которое, волнуя умы, заставляет людей видеть все в том свете, в каком это представляется взволнованному воображению ораторов. 13. Даже многие из тех, кто благожелательно относится к государству, невольно способствуют формированию мятежных настроений среди граждан, излагая юношеству в школах и всему народу с кафедр учение, построенное на вышеназванных положениях. Те же, кто стремится использовать эти настроения в целях собственного честолюбия, направляют все усилия прежде всего на то, чтобы объединить всех недовольных в партию, готовящую заговор, а затем самим захватить господство в этой партии. Они создают партию, беря на себя роль посредников и истолкователей мыслей и действий каждого ее члена, давая поручения людям и определяя места собраний, где предстоит разговор о том, как преобразовать государственное правление в соответствии с их идеями. А для того чтобы господствовать в партии, нужно в ней организовать другую, то есть проводить еще и секретные совещания в узком составе, где бы можно было определить то, что затем будет предложено на общем собрании, и от чьего имени, и что и в каком порядке каждый должен говорить, и какими средствами привлечь на свою сторону людей могущественных и пользующихся наибольшим уважением среди рядовых членов партии. А когда они таким образом создадут достаточно большую партию, в которой они благодаря своему красноречию господствуют, они поднимают ее на захват государственной власти и иногда подчиняют себе государство, тем более что им не противодействует никакая другая партия, и весьма часто они наносят государству великий ущерб и порождают гражданскую войну. Ибо глупость и красноречие помогают друг другу уничтожать государство, подобно тому как некогда дочери царя Фессалии Пелия помогли Медее погубить их отца, как об этом рассказывается в мифе. Желая вернуть дряхлому старику молодость, они по совету Медеи разрубили его на куски, напрасно ожидая, что он воскреснет. Точно так же толпа по своей глупости, подобно дочерям Пелия, желая возродить древнее государство, ведомая красноречием честолюбцев, как колдовством Медеи, чаще губит государство, разделенное на партии и охваченное пожаром, чем преобразовывает его.ГЛАВА XIII ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ТЕХ, КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЕРХОВНУЮ ВЛАСТЬ
1. Право на верховную власть и ее осуществление не совпадают. 2. Благо народа – высший закон. 3. Долг правителей – стремиться к общей пользе большинства, а не к чьей-то частной выгоде. 4. Под благом понимаются всякого рода преимущества (commoda). 5. Спрашивается, является ли обязанностью монархов забота о спасении души граждан в соответствии с тем, что представляется наилучшим их совести. 6. В чем состоит благо народа. 7. Лазутчики необходимы для защиты народа. 8. Иметь наготове воинов, оружие, укрепления, денежные средства еще в мирное время необходимо для защиты народа. 9. Правильное обучение граждан науке о государстве необходимо для сохранения мира. 10. Равное распределение общественных повинностей ведет к сохранению мира. 11. Естественная справедливость требует, чтобы денежные средства облагались налогом в соответствии с тратами каждого, а не находящегося во владении имущества. 12. Для сохранения мира полезно сдерживать честолюбцев. 13. А также распустить партии. 14. Законы, поощряющие производительную деятельность (artes lucrativae) и сдерживающие расходы, способствуют увеличению благосостояния граждан. 15. Законы не должны требовать более того, что требует благо граждан и государства. 16. Не следует налагать наказания более суровые, чем это предусмотрено законами. 17. Суд должен помогать гражданам против корыстных судей. 1. Из того, что было сказано до сих пор, ясно, в чем состоят обязанности граждан и подданных в каждом виде государства и каковы права по отношению к ним у верховных правителей. Но еще не было сказано, в чем же состоят обязанности самих повелителей и как они должны вести себя со своими подданными. Нужно различать право на верховную власть и ее осуществление, ибо они могут существовать раздельно, как, например, когда тот, кто обладает правом, не может или не хочет сам участвовать в решении споров между тяжущимися или в обсуждении каких-то дел. Ведь иной раз цари не могут заниматься делами по возрасту, а иной раз, если даже могут, предпочитают осуществлять свою власть через помощников и советников. А там, где право на власть и ее осуществление разделены, там государственное правление похоже на установленное правление миром, в силу которого Бог, этот всеобщий перводвигатель (primus omnium motor), производит через ряд вторичных причин все, что совершается в природе. Там же, где обладающий правом власти желает сам участвовать во всех судах, совещаниях и общественных действиях, такого рода правление можно было бы сравнить с тем, которое осуществлял бы Бог, пожелавший вопреки установленному порядку в мире непосредственно проявить себя во всяком деле. Таким образом, в этой главе мы будем кратко и в общей форме говорить об обязанностях тех, кто обладает верховной властью, осуществляют ли они ее по собственному или по чужому праву. Я не собираюсь разбирать здесь, чем может отличаться деятельность одного государя от другого, ибо это следует предоставить тем, кто занимается политической практикой в том или ином государстве. 2. Все обязанности правителей можно выразить одной фразой: благо народа – высший закон. Ведь хотя те, кто обладает верховной властью над людьми, строго говоря, не могут подчиняться законам, то есть воле людей, потому что понятия «верховный» и «подчиняться другим» противоречат друг другу, тем не менее их обязанностью является всеми силами повиноваться истинному разуму, представляющему собой естественный, нравственный и божественный закон. Поскольку же власть устанавливается ради мира, а мир необходим для блага людей, то использовать власть обладающему ей не в интересах народного блага означало бы действовать вопреки естественному закону. И как благо народа диктует закон, позволяющий государям познать свой долг, так оно же указывает средства, позволяющие им осуществить их долг. Ибо могущество граждан – это могущество государства, то есть того, кто обладает верховной властью в государстве. 3. Здесь народ понимается не как единое гражданское лицо, то есть как само государство, которое управляет, а как множество граждан, которыми управляют. Ведь государство установлено не ради самого себя, а ради граждан. Однако речь идет не о частных интересах того или иного гражданина. Ведь правитель, пока он является таковым, может заботиться о благе граждан только с помощью законов, касающихся всех, и он только в том случае исполнит свой долг, если всеми силами будет стремиться к тому, чтобы благодаря его благодетельным установлениям как можно большему числу граждан и как можно дольше жилось бы хорошо и чтобы никто не страдал, кроме как по собственной вине или в силу случайности, которой невозможно было предвидеть. А иной раз для блага большинства бывает полезным, чтобы дурным людям пришлось бы плохо. 4. Под благом (salus) же следует понимать не только простое сохранение жизни, какой бы она ни была, но, насколько это возможно, счастливую жизнь. Ведь люди добровольно объединились и установили государство именно для того, чтобы иметь возможность жить как можно счастливее, насколько это позволяют условия человеческого существования. Поэтому те, кто взял на себя отправление верховной власти в такого рода государствах, поступили бы против закона природы, обманув доверие тех, кто доверил им осуществление власти, если бы не стремились в дозволенных законами пределах в изобилии обеспечить граждан всеми благами, необходимыми не только для жизни, но и для удовольствия. Но все те, кто захватил власть с помощью оружия, стремятся к тому, чтобы их подданные могли служить им всеми силами души и тела, а посему они стали бы действовать вопреки собственным целям и интересам, если бы не пытались обеспечить им все, что позволяет им не только жить, но и быть сильными. 5. Прежде всего все государи уверены, что для вечного спасения важнее всего, каково вероисповедание (граждан) и какого культа они придерживаются. В таком случае можно спросить, не грешат ли против закона природы и все прочие верховные повелители, и все прочие, осуществляющие верховную власть в государстве, будь то единоличный правитель или совет, не заставляя преподавать такое учение и исполнять такой культ, которые, по их убеждению, необходимо приведут их граждан к вечному спасению, и разрешая проповедовать и совершать противоположное. Очевидно, что они поступают против совести и желают, насколько это от них зависит, вечной погибели своих граждан. Ибо если бы они этого не хотели, то невозможно объяснить, почему они позволяют (а принудить их, как занимающих высшее положение, нельзя) гражданам узнавать и делать то, из-за чего, как они уверены, те должны быть осуждены. Но этот трудный вопрос мы оставим нерешенным. 6. Гражданские блага, имеющие отношение только к этой жизни, могут быть разделены на четыре категории: первая – защита от внешних врагов, вторая – сохранение внутреннего мира, третья – обогащение в пределах, не угрожающих общественной безопасности, четвертая -свобода, не причиняющая вреда другим. Ибо самое большее, что могут дать для счастья граждан верховные правители, это предоставить им возможность, не боясь ни внешних, ни гражданских войн, пользоваться благами, добытыми их усилиями. 7. Для защиты народа необходимы две вещи: заранее знать и заранее вооружиться. Ведь государства находятся между собой в естественном состоянии, то есть в состоянии вражды. И если они перестали сражаться на поле боя, то это можно назвать не миром, а лишь передышкой, во время которой один враг, следя за действиями и выражением лица, другого, оценивает свою безопасность не соглашениями, а силами и замыслами противника. И это – на основании естественного права, как это показано в 10-м параграфе главы II, поскольку соглашения в естественном состоянии не имеют силы, пока существует обоснованный страх (перед другим). А поэтому для защиты государства необходимо прежде всего, чтобы существовал человек, способный, насколько это возможно, разведать и предугадать планы и действия всех тех, кто может нанести вред государству. Ибо лазутчики для тех, кто осуществляет верховную власть в государстве, то же, что лучи света для человеческой души. И о политическом зрении мы можем сказать даже с большим основанием, чем о естественном, что чувственно и умственно воспринимаемые образы вещей переносятся по воздуху незаметно для других к душе, то есть к тем, кто осуществляет верховную власть в государстве, а потому лазутчики столь же необходимы для блага государства, как лучи света для блага человека. Это можно сравнить с паутиной, которая своими тончайшими нитями, протянувшимися во всех направлениях, указывает паукам, сидящим в своих норках, что происходит снаружи; точно так же и правители без помощи лазутчиков могут знать о том, что им необходимо делать для защиты своих подданных, не больше, чем пауки, которые без помощи своей паутины не могут знать, когда им вылезать из своей норы и куда бежать. 8. Далее, для защиты народа необходимо предварительное вооружение, то есть еще до того, как возникнет опасность, иметь наготове воинов, оружие, флот, не говоря о денежных средствах. Потому что набирать воинов, изготовлять оружие, когда уже несчастье произошло, если и не совсем невозможно, то по крайней мере поздно. Равным образом строить оборонительные сооружения и крепости в соответствующих местах только тогда, когда враг уже вторгся, похоже на действия крестьян, которые, по словам Демосфена, не зная искусства фехтования, прикрывают щитом то одно, то другое место на теле после того, как получили по нему удар. Те же, кто полагает достаточным требовать деньги на содержание воинов и прочие военные издержки тогда, когда опасность уже стала явной, бесспорно не учитывают того, сколь трудно сразу получить столь большие деньги от людей скуповатых. Ведь почти все, кто однажды что-то причислил к своему имуществу, настолько считают это своей собственностью, что всякий раз, как от них требуют хотя бы самую малую частицу их имущества на общественные нужды, усматривают в этом несправедливость по отношению к себе. А из того, что государственная казна получает от пошлин и налога с товаров, невозможно сразу составить достаточно значительные средства для обеспечения вооруженной защиты государства. Следовательно, деньги на военные расходы следует собирать в мирное время, если мы хотим сохранить наше государство. Итак, поскольку правителям для обеспечения безопасности граждан необходимо следить за замыслами врагов, иметь наготове оружие, оборонительные сооружения и денежные средства и поскольку в свою очередь закон природы обязывает государей всеми средствами заботиться о благе граждан, из этого следует, что засылать лазутчиков, содержать войско, строить укрепления, собирать необходимые для всего этого денежные средства им не только позволено, но, наоборот, не позволено не делать этого. Можно еще прибавить к этому, что им позволено делать силою ли или хитростью все, что, по их мнению, может способствовать ослаблению угрожающей им мощи врагов; ибо правители государств обязаны принимать все меры, дабы не допустить угрожающих государству несчастий. 9. Для сохранения же внутреннего мира требуется немало, ибо, как было указано в предыдущей главе, многое способствует его нарушению. Там мы показали, что существуют вещи, способствующие возникновению мятежных настроений, и есть факторы, активно побуждающие к действиям мятежно настроенных людей. В их числе мы на первое место поставили некоторые учения. Таким образом, обязанность осуществляющих верховную власть состоит в том, чтобы вытравить их из сознания граждан и внушить противоположные. Поскольку же мысли нельзя внушить человеческому уму силой власти и угрозой наказания, а лишь убеждением, ясностью доводов, то законы, которым надлежит бороться с этим злом, должны преследовать не заблуждающихся, но сами заблуждения. Эти заблуждения, которые, как мы утверждали в предыдущей главе, несовместимы со спокойствием государства, проникают в сознание людей необразованных и с кафедр проповедников, и из повседневных разговоров людей, не занятых своим имением и располагающих досугом, а к этим последним они приходят от учителей их молодежи в университетах. Поэтому, если кто-то хочет утвердить здравомыслие в государстве, тому следует начинать с университетов. Именно там должны быть заложены истинные и правильно построенные основания гражданского учения, усвоив которые юношество сможет впоследствии и в частных беседах, и в общественных проповедях наставлять в нем народ. И они будут делать это тем энергичнее и убедительнее, чем глубже познают истину того, чему станут учить в своих проповедях. Ведь если ныне только в силу сложившейся у слушателей привычки распространены представления ложные и не более понятные, чем случайные сочетания слов, извлеченных из урны, то насколько лучше воспримут люди по той же причине истинное учение, согласное с разумом и самой природой вещей? Таким образом, я считаю долгом правителей кодификацию основных положений истинного гражданского учения и введение обязательного преподавания их во всех университетах государства. 10. Мы показали, что второй причиной, предрасполагающей людей к восстанию, является порождаемое бедностью недовольство. Бедность же свою, являющуюся в действительности результатом или роскошного образа жизни, или собственной беспомощности в делах, они ставят в вину тем, кто управляет государством, и считают, что их разорило бремя общественных налогов. Но такого рода жалобы иногда могут оказаться справедливыми, когда бремя государственных расходов возлагается на граждан неравномерно. Ведь бремя, легкое для всех вместе, может оказаться тяжелым, даже невыносимым для остальных, если многие пожелают избавиться от него. Людям обычно тяжело не столько само бремя, сколько его неравномерность. И они всячески стараются избавиться от этих повинностей, вступая в борьбу между собой, и те, кто терпит в ней поражение, завидуют более счастливым, считая себя униженными. Таким образом, если мы хотим уничтожить основные причины для недовольства, для достижения спокойствия в обществе важно, а следовательно, и является обязанностью правителей равномерное распределение общественных повинностей. Кроме того, поскольку вносимые гражданами на общественные нужды средства есть не что иное, как плата за предоставляемый им мир, то разумно, чтобы те, кто на равных основаниях пользуется миром, платили бы поровну, касается ли это денег или исполнения каких-то работ в интересах общества. Ведь существует естественный закон (согласно 15-му параграфу главы III) о том, чтобы каждый, предоставляя права другим, считал себя равным со всеми, а поэтому правители в силу естественного закона обязаны равномерно распределять между гражданами общественные обязанности. 11. Равенство же понимается здесь не как равенство денежного состояния, но как равенство налагаемых обязанностей, то есть как равенство отношения между обязанностями и получаемыми преимуществами. Ведь хотя миром пользуются все в равной мере, однако преимущества, предоставляемые миром, не для всех одинаковы. Ибо одни получают больше, а другие меньше благ. И наоборот, одни тратят больше, другие меньше. Следовательно, можно спросить, должны ли граждане вносить средства на общественные нужды в соответствии с тем, как они богатеют, или в соответствии с тем, что они потребляют, то есть должны ли облагаться налогом лица в соответствии со своими средствами или же сами вещи, чтобы каждый платил в соответствии с тем, что он потребляет. Но примем во внимание, что там, где налоги платятся в соответствии с состоянием, люди, имеющие одинаковый доход, неодинаково богаты, потому что один бережливо сохраняет приобретенное, другой же расточает его благодаря роскошному образу жизни, и тем самым, равно пользуясь благами мира, не в равной мере несут те тяготы, которые налагает государство, и, с другой стороны, там, где облагаются налогом сами вещи, каждый, в своем частном потреблении, тем самым, что он потребляет, незаметно выплачивает государству положенную тому часть в соответствии не с тем, чем он владеет, а с тем, что он получил от государства. Таким образом, более не может быть сомнения в том, что первый принцип обложения налогом противоречит справедливости, а потому не является обязанностью правителей, второй же находится в согласии с разумом и их долгом. 12. Мы сказали, в-третьих, что достижению общественного мира мешает недовольство людей, порождаемое честолюбием. Ведь есть люди, считающие себя умнее всех остальных и более способными управлять государством, чем те, кто делает это в настоящее время. Не имея иной возможности показать, сколь великую пользу государству способны они принести, первые доказывают это, принося ему вред. Поскольку же невозможно уничтожить в душе человеческой честолюбие и жажду почестей, в обязанность правителей не входит прилагать усилия в этом направлении. Ведь они могут твердо установленной системой наград и наказаний заставить людей понять, что путь к почестям идет не через критику существующего правления, не через организацию партий и попытки снискать народное благоволение, а совсем иным способом. Добрыми гражданами являются те, кто соблюдает заветы отцов, уважает законы и право. Если бы мы всегда видели, что эти люди удостаиваются почестей, а интриганы подвергаются наказанию и презрению со стороны тех, кто обладает верховной властью, то честолюбие скорее стало бы проявляться в повиновении, чем в сопротивлении (правителю). Однако иной раз случается так, что с мятежным гражданином, имея в виду его могущество, приходится обращаться поласковее, как с норовистым конем. Но это только тогда, когда и седоку, и повелителю грозит быть сброшенными. Мы же говорим здесь о тех, чьи авторитет и могущество не подвергаются сомнению. И я повторяю, что обязанностью их является покровительствовать послушным гражданам, а неблагонадежных держать, насколько возможно, в повиновении власти, ибо иного пути поддержания общественной власти нет, а без нее невозможно обеспечить покой граждан. 13. Если обязанность повелителей состоит в обуздании неблагонадежных граждан, то тем более их обязанностью является роспуск и уничтожение самих партий. Партией же я называю какое-то число граждан, объединенных между собой либо соглашением, либо могуществом какого-то человека вопреки воле того или тех, кому принадлежит верховная власть. Таким образом, партия есть как бы государство в государстве. Ведь подобно тому, как в естественном состоянии из объединения людей рождается государство, так из нового объединения граждан появляется партия. Согласно этому определению, партия есть известное число граждан, связавшихсебя обязательством безусловного повиновения какому-либо иностранному государю или гражданину или же заключивших между собой некое соглашение или договор о взаимной защите против всех остальных, не исключая и тех, кто обладает верховной властью в государстве. И даже чье-то влияние среди народа, если оно столь велико, что позволяет набрать войско, если этому не помешает государство, потребовав заложников или какого-то иного залога, заключает в себе опасность возникновения партии. То же самое можно сказать и о богатствах частных лиц, если они превосходят всякую меру, потому что деньгам подвластно все. Следовательно, если правильно то, что государства находятся по отношению друг к другу в естественном, а стало быть, враждебном состоянии, то государи, допускающие существование партий, по существу впускают в собственные стены врага, а это противоречит благу граждан и тем самым естественным законам. 14. Для благосостояния граждан необходимы две вещи: труд и бережливость. Способствует этому и третье: естественные дары земли и воды; есть и четвертое – военное ремесло, которое иногда увеличивает состояние граждан, чаще же – уменьшает его: необходимыми же являются только первые два условия. Ведь государство, расположенное на маленьком морском острове, дающем людям лишь место для обитания, может разбогатеть и без занятий земледелием и рыбной ловлей, а только лишь благодаря торговле и ремеслу, однако же нет сомнения, что, обладай они большей территорией, они смогли бы, оставаясь в том же числе, стать богаче либо обеспечить такое же богатство для большего числа людей. Четвертое же, а именно военное ремесло, некогда входило в число прибыльных занятий как мастерство добытчика. И оно считалось законным и почетным в те времена, когда человеческий род жил отдельными семьями и еще не было создано государство. Ведь грабеж есть не что иное, как война в миниатюре. И великие государства, например римское и афинское, некогда настолько разбогатели от военной добычи, налогов с чужих государств, земли, захваченной силой оружия, что не только не требовали от своих беднейших граждан никаких денег на общественные нужды, но и даже сами распределяли между ними деньги и землю. Однако такого рода увеличение богатств меньше всего должно приниматься в расчет. Ведь если говорить о выигрыше, то военное ремесло подобно игре в кости, благодаря которой большинство разоряется и только очень немногие богатеют. Следовательно, поскольку только три вещи способствуют увеличению богатства граждан: плоды земли и воды, труд и бережливость, только забота о них составляет обязанность правителей. В первом случае будут полезны законы, поощряющие занятия теми искусствами, которые способствуют улучшению и увеличению даров земли и моря: таковы земледелие и рыболовство. Во втором случае полезны все законы, запрещающие безделье и поощряющие предприимчивость, внушающие уважение к таким наукам, как наука мореплавания, благодаря которой в одно государство стекаются товары со всего света, потребовавшие лишь труда на их приобретение, механика, под которой я понимаю все виды деятельности, в которых отличились те или иные мастера, а также математические науки, эти источники и навигационной науки, и науки механики. В третьем случае полезны законы, запрещающие чрезмерные расходы как на пищу, так и на одежду и вообще на все предметы потребления. А поскольку такие законы полезны для вышеназванных целей, к обязанности правителей относится их установление. 15. Свобода граждан состоит не в том, чтобы на них не распространялись государственные законы, и не в том, чтобы обладающие верховной властью в государстве не могли издавать любые, какие им только будет угодно, законы. Но поскольку все действия и поступки граждан никогда не охватываются законами, да и не могут быть предусмотрены в силу своего разнообразия, необходимо, чтобы существовало почти бесконечное множество того, что и не требуется законом, и не запрещается им, но что каждый волен делать или не делать по собственному усмотрению. Здесь, как говорится, каждый пользуется своей свободой, и здесь свобода должна пониматься именно в этом смысле, то есть как часть естественного права, предоставляемая гражданам гражданскими законами. Подобно тому, как вода, запертая со всех сторон берегами, застаивается и портится, а оказавшись на открытом пространстве, разливается и свободнее течет туда, где находит для этого больше путей, так и граждане, если бы они ничего не делали без приказания законов, впали бы в апатию, но, если бы они поступали вопреки законам во всем, государство бы разрушилось; и, чем больше остается не предусмотренного законами, тем больше у них свободы. Обе крайности опасны: ведь законы придуманы не для прекращения человеческой деятельности, а для ее направления, подобно тому как природа создала берега не для того, чтобы остановить течение реки, а чтобы направлять его. Мера этой свободы должна определяться благом граждан и государства. Поэтому прежде всего противоречит долгу тех, кто повелевает и обладает властью, устанавливать большее число законов, чем это необходимо для блага государства и граждан. Ведь поскольку люди обычно чаще решают, что они должны делать и чего не должны, на основании естественного разума, а не знания законов, то там, где законов слишком много, так что их и невозможно все упомнить, и они запрещают то, что естественный разум сам по себе не запрещает, люди неизбежно по незнанию их без всякого дурного намерения все же запутываются в этих законах, как в сетях, вопреки той не приносящей вреда свободе, которую правители обязаны сохранить гражданам в силу естественного закона. 16. Существенным моментом этой свободы, не представляющей угрозы для государства и необходимой гражданам для счастливой жизни, является отсутствие страха перед каким-либо наказанием, которое, кроме того, можно заранее предвидеть или ожидать. А это происходит там, где либо вообще законом не определены никакие наказания, либо граждане не подвергаются наказаниям более суровым, чем это определено (законом). Там, где не определены никакие наказания, тот, кто первым нарушил закон, ожидает неопределенного, то есть произвольного, наказания, и предполагается, что страх его беспределен, ибо несчастья бесконечны. Но закон природы повелевает тем, кто не подвластен гражданским законам на основаниях, изложенных нами в 11-м параграфе главы III, и тем самым – верховным правителям, что они, воздавая отмщение и налагая кару, должны иметь в виду не прошлое зло, а будущее благо, и поэтому совершают ошибку те, кто измеряет налагаемые ими наказания иной меркой, помимо общественной пользы. Там же, где наказание определено либо законом, гласящим в ясных выражениях, что если будет совершен такой-то поступок, то последует за это такое-то наказание, либо обычаем, когда наказание, не предустановленное законом, но вынесенное впервые произвольно, позднее определилось наказанием первого преступника (ибо естественная справедливость требует, чтобы за одинаковые проступки налагалось бы одинаковое наказание), там, повторяю, требовать наказания более сурового, чем это определено законом, значит вступать в противоречие с законом природы. Ведь цель наказания не в том, чтобы сломить волю человека, а в том, чтобы направить ее и сделать такой, какой хочет ее увидеть тот, кто установил наказание. И размышление о предстоящем поступке есть не что иное, как взвешивание, как бы на весах, положительных и отрицательных последствий поступка, который мы собираемся предпринять, когда то, что перевешивает, необходимо влечет за собой действие. Ведь если законодатель установит за преступление наказание меньшее, чем нужно для того, чтобы страх перевесил желание совершить его, то этот перевес желания над страхом наказания, благодаря которому и совершается преступление, должен лежать на совести законодателя, то есть верховного правителя; а поэтому, если он налагает большее наказание, чем то, которое он сам же определил в своих законах, он наказывает другого за свою вину. 17. К свободе, не угрожающей государству и необходимой для граждан, принадлежит и возможность для каждого без страха пользоваться правами, предоставленными ему законом. Ведь напрасно закон будет проводить различие между своим и чужим, если неправедный суд, разбой и воровство снова уничтожат его. А неправый суд, грабеж и воровство происходят там, где судьи могут быть подкуплены. Ведь страх, удерживающий людей от преступления, является результатом не установления, но неотвратимости наказания. Ибо мы оцениваем будущее, исходя из прошлого, и то, что редко случается, мы редко и ожидаем. Следовательно, если судьи, уступая подаркам, влиянию и даже милосердию, смягчают положенные по закону наказания, давая таким образом нечестным людям надежду на безнаказанность, то порядочные граждане, окруженные преступниками, разбойниками и проходимцами, не смогут не только свободно общаться между собой, но даже и пошевельнуться; более того, само государство развалится, и каждый вновь обретет право защищать свою безопасность, как ему заблагорассудится. Таким образом, закон природы повелевает верховным правителям не только самим творить справедливость, но и заставлять под угрозой наказания поступать так же и назначенных ими судей, то есть прислушиваться к жалобам граждан и назначать, когда это нужно, чрезвычайных судей, чтобы расследовать деятельность постоянных.ГЛАВА XIV О ЗАКОНАХ И ИХ НАРУШЕНИЯХ
1. Чем отличается закон от совета. 2. Чем он отличается от соглашения. 3. Чем – от права. 4. Разделение законов на божеские и человеческие; божеские – в свою очередь на естественные и установленные (позитивные), естественные – в свою очередь на частные и общенародные. 5. Разделение человеческих, то есть гражданских, законов на духовные и светские. 6. На распределительную и наказующую части. 7. Распределительная и наказующая части не являются видами законов, а их частями. 8. Предполагается, что любой закон имеет в виду наказание за его нарушение. 9. Предписания десяти заповедей о почитании родителей, о человекоубийстве, о прелюбодеянии, воровстве, лжесвидетельстве суть гражданские законы. 10. Гражданский закон не может требовать чего-либо вопреки закону природы. 11. Важно, чтобы были известны как сам закон, так и его создатель. 12. Каким образом мы узнаем, кто создал закон. 13. Для того чтобы стал известен закон, необходимо его опубликование и истолкование. 14. Разделение гражданского закона на писаный и неписаный. 15. Естественные законы не являются писаными; толкования юристов и обычай сами по себе не являются законами, а становятся таковыми лишь с соизволения верховной власти. 16. Что означает термин проступок в самом широком его истолковании. 17. Определение проступка. 18. Различие между проступком, совершенным по слабости и по злой воле. 19. К какой категории проступков принадлежит атеизм. 20. В чем состоит преступление, называемое оскорблением величия. 21. Оскорбление величия нарушает не гражданские, а естественные законы. 22. Поэтому оно подлежит наказанию не по праву власти, а по праву войны. 23. Неправильность разделения на активное и пассивное повиновение. 1. Люди, не задумывающиеся над точным значением слова, иногда смешивают закон то с советом (consilium), то с соглашением (pactum), то – с правом. Смешивают закон с советом те, кто считает, что обязанностью монарха является не только выслушивать своих советников, но и повиноваться им, полагая, что напрасно спрашивать совета, если не следовать ему. Различие между советом и законом следует искать в различии между советом (собранием – consilium) и приказанием (mandatum). Совет есть указание (praeceptum), повиновение которому основано на самой сущности дела, приказание (iussum) же есть указание, повиновение которому зависит от указывающего. Ведь, собственно, нельзя сказать: я так хочу, я так приказываю, если основанием этого не является воля. А так как законам повинуются не ради самого их предмета, но по воле указующего, закон есть не совет, но приказание и может быть определен следующим образом: закон есть приказание того лица – будь то человек или совет,- чье указание служит основанием для повиновения. Поэтому предписания Бога людям, предписания государства гражданам и вообще всех обладающих силой тем, кто не способен им противостоять, должны быть названы их законами. Следовательно, закон и совет различаются во многих отношениях. Ведь закон исходит от того, кто обладает властью над теми, кем он повелевает, совет же – от того, кто такой властью не обладает. Исполнять то, что предписывает закон, является моей обязанностью, а то, что предлагает совет, зависит от моего усмотрения. Совет имеет в виду интересы того, кому он дается, закон же – цели того, кто его устанавливает. Совет можно дать только тем, кто хочет его выслушать, закон же устанавливается и для тех, кто не хочет этого. Наконец, право советника может быть ликвидировано по воле того, кому этот совет дается, право же законодателя не может быть ликвидировано волею того, для кого устанавливается закон. 2. Закон смешивают с соглашением те, кто полагает, что законы есть не что иное, как ??????????? (соглашения), или формулы существования, определенные по общему согласию всех людей. В их числе можно назвать и Аристотеля, который в предисловии к «Риторике к Александру» определяет закон следующим образом: ????? ???? ????? ????????? ??? ????????? ?????? ?????? ?????? ??? ??? ???????? ??????, то есть закон есть речь, утвержденная по общему согласию государства, указывающая, каким образом следует поступать в каждом отдельном случае. Но это определение не закона вообще, а закона гражданского. Ведь очевидно, что божеские законы не возникли благодаря согласию людей, равно как и естественные законы. Ведь если бы происхождение их зависело от согласия людей, то они по их согласию могли бы быть отменены, однако они неизменны. Но это и не является правильным определением гражданского закона. Ведь государство в данном случае рассматривается либо как гражданское лицо, обладающее единой волей, либо как множество людей, каждый из которых обладает собственной свободной волей. Если оно рассматривается как одно лицо, то в таком случае неправильно употребление выражения «по общему согласию», ибо одно лицо не может иметь «общего согласия». Не следовало говорить и указывающая, что нужно делать, но повелевающая: ведь государство, указывая гражданам на что-то, приказывает это сделать. Следовательно, Аристотель понимал под государством множество людей, устанавливающих по общему согласию принципы поведения, как например, подтверждение голосованием писаного закона. А они в свою очередь суть не что иное, как взаимные соглашения, которые только тогда обязывают кого-либо и, следовательно, становятся законами, когда с установлением верховной власти последней будет обеспечено право принуждения других людей, которые в противном случае не стали бы подчиняться. Таким образом, согласно определению Аристотеля, законы суть не что иное, как голые и не имеющие силы соглашения, которые только с появлением лица, по праву осуществляющего власть в государстве, по его усмотрению станут или не станут законами. Значит, он смешивает соглашения с законами, чего не следовало делать: ведь соглашение есть обещание, закон – приказание; в соглашениях говорится: «я сделаю», в законах – «сделай», соглашение нас обязывает, закон – связывает обязательством; соглашение обязывает обязательством в силу всеобщего соглашения о повиновении. Поэтому в соглашении сначала определяется, что следует делать, а уже потом дается обязательство сделать это, в законе же мы сначала обязываемся к действию, и только потом определяется, что следует делать. Поэтому Аристотель должен был дать гражданскому закону следующее определение: гражданский закон есть речь, утвержденная волею государства и повелевающая, что следует делать в каждом случае. Это совпадает с тем определением, которое мы привели выше (в параграфе 9 главы VI), а именно: гражданские законы суть приказания [человека или собрания], наделенного верховной властью в государстве, о том, что делать гражданам в будущем. 3. Закон смешивают с правом те, кто требует делать дозволенное божеским правом, несмотря на запрещение этого законом государства. То, что запрещается божеским законом, не может быть позволено гражданским законом, но и то, что повелевает божеский закон, не может быть запрещено гражданским законом. Однако же то, что нечто разрешается божеским законом, то есть то, что нечто может совершаться по божескому праву, ничуть не мешает, чтобы то же самое было запрещено гражданским законом. Ведь низшие законы могут ограничить свободу, не оговоренную в высших, хотя и не могут расширить ее. Право же есть естественная свобода, не установленная законами, а оговоренная в них. И если устранить законы, свобода сохранится, и сначала ее ограничивают естественный и божественный закон, дальше ограничивают гражданские законы, а то, что не затронуто общегосударственным законом, опять-таки может быть ограничено постановлениями отдельных городов и общин. Таким образом, существует большое различие между законом и правом, ибо закон – это узы, право же есть свобода, и они противоположны друг другу. 4. Все законы могут быть разделены, во-первых, в зависимости от того, кем они созданы, на божеские и человеческие. В свою очередь божеский закон в соответствии с двумя путями, которыми Бог раскрыл людям свою волю, делится на естественный, или нравственный, закон и закон установленный. Естественный закон – это тот, который Бог объявил всем людям в своем бессмертном слове, рожденном им, то есть через естественный разум. Это и есть тот закон, который я пытаюсь разъяснить всей этой книгой. Установленный же закон есть тот, который Бог раскрыл нам в пророческом слове, с которым он обращался к людям в образе человека. Таковы законы, которые он установил для иудеев относительно государственного устройства и божеского культа; они могут называться гражданскими божественными законами, потому что они были созданы для государства Израиля, избранного им народа. В свою очередь естественный закон может быть разделен на естественный закон для людей, и только этот закон может быть назван законом природы, и на естественный закон для государств, который может быть назван законом народов, а обычно называется правом народов (ius gentium). Предписания обоих законов одинаковы, но, поскольку государства, как только они созданы, обретают особенности, присущие личности, закон, который мы, говоря об обязанностях отдельных людей, называем естественным, в приложении к целым государствам, нациям и народам называется правом народов. И все изложенные выше положения естественного закона и права, перенесенные без всякого изменения на государства и народы, могут рассматриваться как положения законов и права народов. 5. Всякий человеческий закон есть закон гражданский. Ибо вне государства человек находится в состоянии вражды, где, поскольку никто не подчиняется друг другу, нет вообще никаких законов, за исключением требований естественного разума, а это уже закон Божеский. В государстве же только само государство, то есть человек или собрание, которым поручена верховная власть в государстве, является законодателем, и тем самым законы государства есть законы гражданские. Гражданские законы могут быть разделены в зависимости от их предмета на духовные и светские. Духовные законы – это те, которые касаются религии, то есть богослужения и культа, определяющие ритуал, лиц, предметы, места культа, а также, какое учение о божестве должно преподаваться народу, в каких выражениях и с какими обрядами должны совершаться молебствия и тому подобное; ибо все это не определено никаким установленным божественным законом. Ведь гражданские духовные законы суть законы человеческие; они называются также церковными и касаются предметов духовных; светские же законы называются обычно вообще гражданскими. 6. С другой стороны, гражданский закон в соответствии с двумя задачами законодателя, одной из которых является – судить, а другой – заставлять подчиняться решению суда, состоит из двух частей – дистрибутивной (распределяющей) и виндикативной (карающей). Первая определяет каждому его право, то есть устанавливает правила, с помощью которых мы могли бы знать, что является нашей собственностью, а что – чужой, с тем чтобы нам не мешали свободно пользоваться тем, что принадлежит нам, а мы в свою очередь не препятствовали другим свободно пользоваться их собственностью; а также, что каждому позволено делать или не делать и что не позволено. Вторая определяет, каким должно быть наказание для тех, кто преступил закон. 7. Обе эти части не являются видами законов, а остаются двумя частями того же закона. Если закон не говорил бы, например, ничего, кроме да будет твоим то, что ты поймал в море своей сетью, то он был бы бесполезен. Потому что, если даже другой отнимет у тебя твой улов, он тем не менее продолжает оставаться твоим. Ибо в естественном состоянии, где все является общим для всех, твое и чужое не различаются, и поэтому то, что закон определяет как твое, было твоим и до этого закона, и после его издания не перестает быть твоим, хотя бы им и владел другой. Следовательно, закон не дает ничего, если только не имеется в виду, что вещь принадлежит тебе в такой мере, что все остальные не имеют права помешать тебе в любое время беспрепятственно пользоваться ею и извлекать прибыль. Для осуществления собственности на имущество как раз и требуется не просто возможность пользоваться им, но и возможность пользоваться одному, а это может осуществиться, если другим будет запрещено препятствовать этому пользованию. Но напрасны будут попытки запретить это тем, кто не подкрепит запрет страхом наказания. Бесполезен закон, если он не содержит обеих частей – и той, что запрещает совершать беззакония, и той, что карает провинившихся. Первая из них, называемая дистрибутивной (распределяющей), является запретительной и обращена ко всем; вторая, называемая виндикативной, или карающей, является повелевающей и обращена только к должностным лицам. 8. Отсюда понятно, что любой гражданский закон явно или скрыто предполагает наказание. Ведь там, где наказание не определено ни в писаном законе, ни примером наказания какого-то человека, уже подвергнувшегося ему за нарушение закона, там оно «предполагается произвольным, зависящим от усмотрения законодателя, то есть верховного правителя. Ведь закон не имеет смысла, если его можно безнаказанно нарушать. 9. Поскольку же из гражданских законов вытекает, во-первых, что каждый обладает своим собственным, отличным от другого правом, во-вторых, что нельзя посягать на чужое, то это значит, что гражданскими законами являются следующие требования: не отказывай родителям в почтении, ибо это установлено законом, не убивай человека, которого запрещают убивать законы, избегай запрещенного законами сожительства, не отбирай чужую вещь против воли хозяина, не подрывай законов и судов лживым свидетельством. Естественные законы требуют того же, но неявно: ведь естественный закон (как сказано во 2-м параграфе главы III) повелевает соблюдать соглашения, а поэтому и повиноваться, когда этого требует соглашение, и не касаться чужого, когда гражданским законом определено, что есть чужое. А все граждане, согласно тринадцатому параграфу шестой главы, уже с самого создания государства взяли на себя обязательство подчиняться приказаниям того, кто обладает верховной властью, то есть гражданским законам, еще до того, как они могли быть нарушены. Ведь естественный закон имел обязательную силу в естественном состоянии, где, во-первых, поскольку природа дала всем все, не было ничего чужого, и поэтому невозможно было посягнуть на чужое, во-вторых, где все было общим, а поэтому и всякое сожительство было позволительно, в-третьих, где было состояние войны, а посему было позволено убивать, в-четвертых, где все определялось по собственному суждению каждого, а следовательно, и то, почитать ли родителей, наконец, где не существовало никаких общественных судов, а потому не было вообще возможности выступить со свидетельством, ни с истинным, ни с ложным. 10. Так как обязательство соблюдать эти законы появляется раньше, чем сами законы, ибо оно заключено уже в самом возникновении государства в силу естественного закона, запрещающего нарушение соглашений, то естественный закон повелевает соблюдать все законы гражданские. Ведь когда мы обязываемся повиноваться, еще не зная, что нам прикажут, мы обязываемся повиноваться вообще и во всем. Отсюда следует, что не может существовать ни одного гражданского закона, противоречащего закону естественному, который бы не оскорблял Бога, по отношению к которому сами государства не обладают никаким собственным правом и не могут устанавливать законов. Ведь хотя закон природы запрещает воровство, прелюбодеяние и т. п., однако, если гражданский закон прикажет посягнуть на что-то, это уже не будет воровством, прелюбодеянием и т. п. Так некогда лакедемоняне, разрешая юношам специальным законом похищать чужое имущество, тем самым повелевали, чтобы это имущество было бы для них уже не чужим, а собственным, а посему такое похищение уже не было воровством. Аналогично и совокупления у язычников, согласно их законам, будут законными браками. 11. Для существования закона необходимо, чтобы гражданам были известны две вещи: первое – кому (будь то человек или совет) принадлежит верховная власть, то есть право издавать законы; второе – в чем состоит сам закон. Ведь тот, кто никогда не знал, ни кому, ни в чем он обязан повиноваться, не может этого сделать, и поэтому его по существу следует считать не связанным обязательством. Я не говорю, что сущность существования закона необходимо требует, чтобы первое или второе было постоянно известно, достаточно будет, если об этом узнают однажды и если потом гражданин забудет либо о праве законодателя, либо о самом законе, это не отменяет его обязательства повиноваться закону, потому что он мог бы об этом помнить, будь у него, как это требует закон природы, желание повиноваться. 12. Знать законодателя – зависит от самого гражданина, ибо без его согласия или собственного обязательства, выраженного или подразумеваемого, никто не может получить права законодательства. Обязательство выражено, если граждане с самого начала устанавливают между собой форму государственного правления или своим обещанием отдают себя под чью-то власть. Обязательство по крайней мере подразумевается, когда прибегают к помощи чьей-либо власти или какого-либо закона для покровительства и защиты от других. Ведь если мы требуем, чтобы наши сограждане в наших интересах подчинились бы чьей-либо власти, мы самим этим требованием признаем эту власть законной. Поэтому никогда нельзя ссылаться на незнание того, кому принадлежит власть издания законов. Ведь каждый помнит то, что он отдал сам. 13. Знание законов людьми зависит от законодателя, обязанного их обнародовать, иначе это не законы. Закон есть повеление законодателя, а повеление есть объявление его воли. Следовательно, нет закона, пока не известна воля законодателя, а она становится известной путем опубликования закона. При этом должны стать известными две вещи: первая, что тот или те, кто провозглашает закон, сами обладают правом издания законов либо делают это по поручению того или тех, кто таким правом обладает, и второе – само содержание закона. Первое обстоятельство, то есть то, что опубликованные законы исходят от того, кто обладает верховной властью, может стать несомненным, то есть быть известным точно и в философском смысле слова только тем, кто воспринял их непосредственно из уст самого законодателя, остальные же верят, но основания верить им столь велики, что не верить едва ли возможно. Да и в демократическом государстве, где каждый желающий может участвовать в принятии законов, гражданин, почему-то отсутствовавший при этом, должен верить тем, кто присутствовал. Но в государствах монархических и аристократических, поскольку лишь немногим дозволено услышать от монарха или совета оптиматов их повеления, оказалось необходимым предоставить этим немногим возможность сделать это известным и всем остальным. Таким образом, мы верим, что эдикты и декреты, объявленные нам от имени правителей устно или письменно теми, кому это поручено, действительно исходят от правителей. Но верим мы этому вот по каким причинам: мы убедились, что государь или верховный совет постоянно при обнародовании своей воли прибегали к помощи тех советников, писцов, глашатаев, пользовались той же печатью и тому подобное; что авторитет их ни в чем не пострадал; что те, кто нарушил закон, не веря подобной его публикации, понесли наказание; что те, кто, доверяя этой публикации и повинуясь эдиктам и декретам, изданным правителями, не подвергаются преследованию, и, наоборот, тот, кто, не доверяя этим законам, не повинуется им, подвергается наказанию. Ведь если все это может происходить постоянно, то это служит достаточно очевидным доказательством и достаточно ясным проявлением воли обладающего властью; лишь бы при этом ни в законе, ни в эдикте или декрете не содержалось ничего, что умаляло бы полноту власти самого правителя. Ибо не следует думать, что он, сохраняя желание властвовать, желал бы хотя бы часть своей власти отдать кому-нибудь из своих помощников. Что же касается самого содержания закона, то там, где возникает какое-то сомнение в нем, его следует разрешать у тех, кому верховной властью поручено расследование судебных дел, то есть вершить суд. Ибо судить есть не что иное, как путем соответствующего толкования применять законы к тому или иному случаю. А кому именно поручено это, мы узнаем точно таким же образом, как узнаем, кому доверено право публиковать законы. 14. Опять-таки гражданский закон в зависимости от способа своего обнародования может быть либо писаным, либо неписаным. Писаный закон я понимаю как такой, которому для того, чтобы стать законом, необходимо либо слово, либо какой-то иной знак, указывающий на волю законодателя. Ведь законы вообще, и по своей сущности, и по времени, возникают одновременно с самим родом человеческим и поэтому старше и изобретения букв и искусства письма. Следовательно, для писаного закона не обязательна письменность, но обязательно слово; только оно имеет отношение к сущности закона, запись же есть лишь способ запоминания закона. Ведь до изобретения букв законы, как мы знаем, обычно складывались стихами для того, чтобы их легче было запоминать, и произносились нараспев, неписаный закон – это тот, который для своего распространения не нуждается ни в чем, кроме голоса природы, или естественного разума; таковы естественные законы. Ведь закон природы хотя и отличается от гражданского в том, что касается воли, но в том, что касается действий, совпадает с гражданским. Например, не пожелай: когда это требование обращено лишь к уму (душе), это только естественный закон, но требование не посягай – это и есть естественный и гражданский закон. А поскольку совершенно невозможно перечислить все общие правила, на основе которых можно было бы решать все будущие тяжбы, число которых почти бесконечно, то очевидно, что во всех случаях, упущенных писаными законами, нужно следовать закону естественной справедливости, который требует воздавать равным равное, и таково же требование гражданского закона, который налагает наказание на тех, кто сознательно и добровольно нарушил своими действиями закон естественный. 15. Если мы поймем это, нам прежде всего станет ясным, что естественные законы, хотя и излагаются в сочинениях философов, не могут из-за этого называться писаными, равно как и сочинения юристов не должны считаться законами, ибо они не освящены авторитетом верховной власти, точно так же как и ответы ученых-юристов, то есть судей, кроме тех случаев, когда они с согласия верховной власти вошли в обычай. А тогда их следует отнести к писаным законам не благодаря самому обычаю, который сам по себе еще не делает законы, но в силу выраженной воли верховного правителя, каковую можно увидеть в том, что он позволяет этому суждению, справедливому или нет, стать обычаем. 16. Проступок в самом широком значении слова охватывает любой поступок, слово или желание, противоречащее истинному разуму. Ведь каждый выбирает себе средства для достижения поставленной цели путем рассуждения. И если он будет рассуждать правильно, то есть исходя из очевиднейших посылок, он составит непрерывную цепь рассуждений из необходимо следующих выводов. И будет идти самым прямым путем; в противном случае он собьется с пути, то есть сделает, скажет или попытается сделать нечто противоречащее его собственной цели. Если это произойдет, то будут говорить, что в своих рассуждениях он ошибся, в действиях же своих и желаниях он совершил проступок, ибо проступок следует за заблуждениями так же, как воля за мыслью. Это наиболее общее употребление слова, включающее всякий неразумный поступок, противоречит ли он закону, например разрушить чужой дом, или не противоречит закону, например построить свой дом на песке. 17. Когда же речь идет о законах, понятие проступка сужается и означает не всякий поступок, противоречащий истинному разуму, но только тот, который можно поставить в вину и поэтому называется malum culpae [зло неблагоразумия] . Если совершена какая-то провинность, то это не значит, что ее тотчас же должно назвать проступком или виной, но только в том случае, если провинность совершена сознательно. Поэтому следует установить, что значит провиниться сознательно и что значит провиниться без умысла. Природа человеческая такова, что каждый называет благом то, что он для себя желает, а злом – то, чего избегает. А поскольку люди различны, то одному кажется благом то, что для другого представляется злом, и один и тот же человек назовет злом то, что он раньше называл благом, и одно и то же представляется в самом себе хорошим, а в другом – дурным. Ведь все мы оцениваем добро и зло тем удовольствием или страданием, которое мы испытываем в данный момент или которого мы ожидаем в будущем. Поскольку же успехи наших недругов, приносящие им почести, богатство и могущество, и удачи наших сверстников, с которыми мы соперничаем на поприще славы, всем неприятны и потому и представляются и являются злом, а люди обычно считают дурными, то есть обвиняют тех, от кого ждут себе зла, то совершенно невозможно, чтобы наказуемые и ненаказуемые поступки определялись бы с согласия всех людей, каждому из которых нравится или не нравится не одно и то же. Впрочем, они могут прийти к согласию относительно некоторых общих вещей, например признать, что воровство, прелюбодеяние и тому подобное суть проступки: это то же самое, как если бы они сказали, что все называют злом то, что обозначается словами, обычно употребляемыми в дурном смысле. Но мы не спрашиваем, является ли воровство проступком, мы спрашиваем, что мы должны называть воровством, и так далее. Следовательно, при таком разнообразии мнений определять, что такое сознательная провинность, исходя из представлений одного человека, а не другого, не следует, ибо природа всех людей одинакова, и не существует никакого иного разума, кроме разума отдельных людей и разума государства. Таким образом, именно государство должно определять, что такое сознательная провинность, и, следовательно, вина, то есть проступок, есть то, что кто-то сделал или не сделал, сказал или пожелал в противоречии с разумом государства, то есть против законов. 18. Кто-нибудь может поступить противозаконно просто по человеческой слабости, вовсе не желая этого. Тем не менее этот поступок как противозаконный будет с полным основанием поставлен ему в вину и назван проступком. Но есть и те, кто пренебрегает законом, и всякий раз, как только появится надежда на безнаказанное обогащение, их не удержит от нарушения законов никакое сознание заключенных соглашений и необходимости держать слово. У таких людей не только поступки, но и мысли преступны. Те, кто совершает проступок только по слабости, остаются порядочными людьми даже тогда, когда они совершают его, эти же люди, даже если они не совершают проступка, остаются негодяями. И хотя и то и другое, и действие, и мысли, могут противоречить законам, однако эти два вида противоречия имеют различные наименования. Неправое действие называется ??????? – противоправное деяние, неправая мысль – ?????? – ????? -несправедливость и злой умысел, потому что в первом случае имеется в виду душевная слабость и волнение, во втором же случае – душевная недобропорядочность при полном душевном спокойствии. 19. Если же не существует проступка, который бы не был нарушением какого-нибудь закона, если не существует закона, который не был бы повелением того, кто обладает верховной властью, и если никто не обладает верховной властью, которая не была бы ему предоставлена по нашему общему согласию, то каким же образом можно говорить, что совершает проступок тот, кто либо отрицает существование Бога, или божественное управление миром, либо изрыгает на Господа иную хулу? Ведь он может сказать, что никогда не подчинял свою волю воле Бога, поскольку он не верил в его существование. И хотя это мнение ошибочно, а поэтому является проступком, однако его следует отнести к числу проступков, совершенных по неразумию или незнанию [124], а такие проступки юридически не наказуемы. С этими словами приходится, по-видимому, согласиться, и действительно этот проступок, сколь бы серьезен и крайне опасен он ни был, все же следует отнести к проступкам, совершаемым по неразумию; но извинять его неразумием и незнанием – это бессмыслица. Ведь атеиста либо наказывает сам Бог, либо государи, поставленные им, но не как царь наказывает подданного за несоблюдение законов, а как враг наказывает врага за то, что тот не пожелал принять законы, то есть по праву войны, как восставших на богов гигантов •???????? [богоборцев]. Ибо являются врагами друг другу те, кто не подчиняется ни общему правителю, ни друг другу. 20. Из соглашения, в силу которого граждане взаимно обязались друг перед другом абсолютно и беспрекословно во всем повиноваться государству, то есть верховному правителю, будь то один человек или совет (как мы определили это в предыдущей главе), вытекает для каждого обязательство повиноваться любому гражданскому закону в отдельности, ибо в силу того же соглашения возникает обязательство исполнять каждый гражданский закон так, как если бы он содержал в себе сразу все законы, отсюда очевидно, что гражданин, отказавшийся повиноваться этому общему соглашению, отказывается тем самым повиноваться всем законам одновременно. А это настолько же тяжелее любого другого проступка, насколько беспрерывная цепь проступков тяжелее единственного проступка. Это как раз и есть тот проступок, который называется оскорблением величия,- проступок, состоящий в действии или высказывании, которыми гражданин или подданный заявляет, что он более не намерен повиноваться тому человеку или тому совету, которому поручена верховная власть в государстве. Гражданин выражает такого рода намерение действием, когда совершает или пытается совершить насилие по отношению к тем лицам, которые либо сами обладают верховной властью, либо исполняют приказания обладающих ею. Таковы предатели, цареубийцы и те, кто поднимает оружие против государства или перебегает к врагам во время войны. Выражают то же намерение словом те, кто прямо заявляет, что ни они сами, ни граждане не обязаны повиноваться либо в целом, когда говорят, что не следует повиноваться им безусловно, абсолютно и во всем (сохраняя, разумеется, должное всем повиновение Богу), либо частично, когда говорят, что те не имеют права по своему усмотрению вести войну, заключать мир, набирать войско, собирать налоги, назначать должностных лиц и магистратов, вводить законы, решать споры, устанавливать наказания или делать еще что-то, без чего не может существовать государство. Все эти и подобные им заявления и действия являются преступлением оскорбления величия на основании не гражданского, а естественного закона. Но может оказаться так, что какое-либо действие, совершенное до установления гражданского закона, становится таковым, если происходит после его появления. Например, если закон потребует считать доказательством гражданского неповиновения чеканку монеты или подделку государственных печатей, то совершивший это после издания закона будет привлечен к суду по обвинению в оскорблении величия точно так же, как и любой другой, но проступок его будет менее тяжким, ибо он нарушает не все законы одновременно, но только один-единственный закон. Ведь закон, называя оскорблением величия то, что по природе не является этим преступлением, хотя и по праву применяет к обвиняемому это страшное имя и налагает на него более суровую кару, однако не может сделать само преступление более тяжким. 21. Проступок же этот, который по естественному закону является преступлением оскорбления величия, есть нарушение естественного, а не гражданского закона. Ведь поскольку обязательство гражданского повиновения, благодаря которому гражданские законы обретают силу, предшествует всякому гражданскому закону, и преступление оскорбления величия, естественно, есть не что иное, как нарушение этого обязательства, то, следовательно, оскорбление величия нарушает закон, который предшествует гражданскому закону, то есть естественный закон, запрещающий нам нарушать соглашения и данное слово. Поэтому, если какой-нибудь верховный правитель сформулирует гражданский закон формулой не поднимай восстания, он этим не достигнет никакого результата. Ведь всякий закон не имеет силы, если предварительно граждане не связали себя обязательством повиноваться ему, то есть не поднимать восстания. Обязательство же, которое обязывает к тому, что уже ранее было обязательным, излишне. 22. Из этого следует, что мятежников, предателей и прочих, изобличенных в оскорблении величия, наказывают не по гражданскому, а по естественному закону, то есть не как дурных граждан, но как врагов государства, не по праву власти или господства, но по праву войны. 23. Некоторые полагают, что нарушение гражданского закона в том случае, когда наказание определено самим законом, можно искупить добровольным принятием наказания. Они считают, что не виновны перед Богом в нарушении естественного закона (хотя, нарушая гражданские законы, мы нарушаем также и естественные, которые повелевают повиноваться гражданским) те, кто понес наказание, требуемое законом, как будто закон незапрещал деяние, но устанавливал наказание как некую цену, за которую можно было бы купить разрешение делать то, что запрещено законом. С тем же основанием можно было бы утверждать, что вообще никакое нарушение закона не является проступком, каждый по праву располагает той свободой, которую он купил ценою собственного риска. Следует, однако, знать, что слова закона могут быть поняты в двояком смысле. Во-первых, его можно толковать как содержащий две части (как об этом было сказано выше, в 7-м параграфе), а именно абсолютно запрещающую, например не делай, и требующую наказания, карающую, например если сделаешь это, понесешь наказание. Во-вторых, как содержащий только одно обусловленное требование, например не делай, если не хочешь понести наказание: в этом случае закон запрещает не безусловно, но в зависимости от определенного условия. Если понимать закон в первом смысле, то совершивший виновен потому, что совершает то, что запрещено законом. Если же во втором, то не виновен, потому что не запрещено совершать действие тому, кто исполняет условие. Ведь в первом смысле запрещено совершать нечто всем, во втором -только тем, кто не хочет понести наказание. В первом случае карательная сторона закона обязывает не обвиняемого, но должностное лицо наложить наказание, во втором случае налагать наказание обязан долженствующий понести наказание, но он не может быть принужден к тому, если это смертная казнь или какое-то иное тяжкое наказание. В каком именно смысле следует понимать закон, зависит от того, кто обладает верховной властью. Следовательно, там, где мы сомневаемся в содержании закона, поскольку мы наверняка знаем, что не совершают проступка те, кто не совершает деяния, то будет проступком, если мы совершим нечто независимо от того, как может быть разъяснен закон позднее. Ибо делать то, в чем ты сомневаешься, является ли это проступком или нет, когда ты свободно можешь воздержаться от этого поступка, есть пренебрежение законами, а тем самым (в силу 28-го параграфа главы III) проступок против естественного закона. Следовательно, все это различение активного и пассивного повиновения излишне: как будто бы наказание, наложенное по решению человека, может искупить проступок против естественного закона, являющегося законом Бога, или как будто бы не совершают проступка те, кто наносит этим вред самим себе.РЕЛИГИЯ
ГЛАВА XV О ЕСТЕСТВЕННОМ ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ
1. План последующего изложения. 2. Над кем царствует Бог. 3. Троякое слово Божие: разум, откровение, пророчество. 4. Двоякое Царство Божие: естественное и пророческое. 5. Право, по которому царствует Господь, основано на его Всемогуществе. 6. То же подтверждается Священным писанием. 7. Обязательство повиновения Богу исходит из человеческой слабости. 8. Законы в естественном Царстве Божием изложены выше: во второй и третьей главах. 9. Что такое почести и культ. 10. Культ выражается в прославлении и действиях. 11. Культ бывает естественный и искусственный. 12. Культ может совершаться по предписанию или быть непроизвольным. 13. В чем цель или назначение культа. 14. Каковы естественные законы, касающиеся атрибутов Бога. 15. Каковы действия, в которых осуществляется естественный культ. 16. В естественном Царстве Божием государство может устанавливать культ Бога по своему усмотрению. 17. Если Бог царствует только по природе, то истолкователем всех законов является государство, то есть тот человек или совет (curia), который обладает дарованной Богом верховной властью в государстве. 18. Устранение некоторых сомнений. 19. Что такое проступок и оскорбление величия в естественном Царстве Божием. 1. То, что природное состояние, то есть состояние абсолютной свободы, при котором никто не царит и никто не подчиняется, есть состояние анархии и вражды, что указания о том, как избежать подобного состояния, есть законы природы, что государство не может существовать без верховной власти, что следует повиноваться обладающим верховной властью безусловно, то есть во всем, что не противоречит велениям Бога, было в предыдущих главах доказано аргументами разума и подтверждено свидетельствами Священного писания. Для полного знания того, в чем состоят обязанности гражданина, нам недостает только одного: знания, что такое законы или повеления Бога. Ведь иначе невозможно знать, противоречат ли законам Бога или нет те приказания, которые мы получаем от гражданской власти. Неизбежным результатом этого становится то, что мы из чрезмерного почтения к государству оказываемся непочтительными по отношению к божественному величию либо, наоборот, из страха согрешить перед Богом мы оказываемся неуважительными по отношению к государству. Чтобы избежать обоих этих подводных камней, необходимо знать божеские законы. Поскольку же знание законов зависит от знания самого правления, то в следующих главах необходимо сказать о Царстве Божием. 2. Псалмопевец говорит (Пс. 96, 1): Господь царствует, да радуется земля. И тот же псалмопевец (Пс. 98, 1): Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах: да сотрясется земля. Значит, хотят ли люди или не хотят, Бог есть царь над всей землей, и, если есть такие, кто отрицает его существование или его провидение, это не отнимет у него престола его. Но хотя Бог в своем могуществе и правит людьми так, что никто не может сделать что-нибудь вопреки его воле, это, однако, собственно и точно говоря, не означает царствования. Ведь царствующим называют того, кто правит не действиями, а словами, то есть приказывая и запрещая. Следовательно, подданными Царства Божиего не могут быть бездушные и неразумные тела, хотя и подвластные могуществу Божьему но не внемлющие ни повелениям, ни угрозам Бога. Не могут ими быть и атеисты, ибо они не верят в Бога, ни те, кто хотя и верят в существование Бога, но не верят, что он управляет земными делами,- ведь и они, оставаясь подвластными могуществу Божьему, не признают тем не менее никаких его повелений и не страшатся его гнева. Поэтому только те должны быть причислены к Царству Божиему, кто признает Бога правителем всего сущего, который давал людям закон и устанавливал наказание тем, кто его преступит. Остальных же мы должны считать не подданными, но врагами Бога. 3. Управлять путем приказаний может только тот, кто открыто объявляет управляемым, в чем состоят его приказания, ибо приказания правящих являются законами для тех, кем управляют. Законы же должны быть обязательно обнародованы, чтобы уничтожить всякую возможность оправдаться их незнанием. Люди объявляют свои законы в словах, то есть во всеуслышание, и не могут вообще иным путем сделать общеизвестной свою волю. Законы же Бога могут стать известными тремя путями. Во-первых, через молчаливое (не выраженное в словах) веление истинного разума. Во-вторых, через непосредственное откровение, выражающееся, как принято считать, в сверхъестественном гласе, видении, сне, в божественной инспирации или озарении. В-третьих, в словах какого-нибудь человека, которого Бог, чтобы внушить к нему доверие прочих, наделил даром истинного чудотворства. Тот человек, в чьих словах раскрывается воля Божия, называется пророком. Эти три пути могут быть названы трояким словом божьим, а именно словом разума, словом чувства и словом пророка. Им соответствуют три способа, дающих нам возможность, как говорят, услышать Бога: правильное рассуждение, чувства и вера. Доступное чувствам слово Божие обращено к немногим, и Бог обращается с откровением лишь к немногим людям, и всегда по-разному, и этим путем ни одному народу не стал известен ни один закон его царствия. 4. В соответствии с тем, как различаются божественное слово разума и слово пророка, Царство Божие можно разделить на два: естественное, в котором он правит с помощью велении истинного разума и которое открыто для всех, кто признает общее для всех божественное могущество в силу своей разумной природы, и пророческое, в котором он правит через слово пророка, это царство доступно не для всех, потому что Бог не всем дал положительные законы, а только избранному народу и некоторым избранным людям. 5. В естественном царстве право Бога управлять и наказывать тех, кто нарушает его законы, опирается только на его неодолимое могущество. Ведь любое право по отношению к другим исходит либо от природы, либо из соглашения. В шестой главе уже было показано, каким образом из соглашения возникает право власти. От природы же это право проистекает именно в силу того, что оно не отнимается природой. Ведь когда у всех по природе было право на все, то у каждого было право управлять всеми, возникающее вместе с самой природой. Причина же, заставившая людей уничтожить это право, заключалась только во взаимном страхе, как это было показано выше (в 3-м параграфе главы II), ибо сам разум требовал отказаться от этого права ради сохранения человеческого рода, поскольку равенство сил и естественных возможностей людей необходимо влечет за собой войну, а война означает гибель человеческого рода. Поэтому если кто-то настолько превзошел своим могуществом прочих, что даже все они общими силами не могли бы ему противостоять, то вообще бы исчезло всякое основание, заставляющее его отказаться от права, предоставленного ему природой. Следовательно, у него бы сохранилось право по отношению ко всем остальным, основанное на превосходстве в силе, благодаря которой он мог бы спасти и себя, и остальных. Следовательно, из самого могущества проистекает право господства тех, чьей мощи невозможно сопротивляться, а значит, тем самым и для всемогущего Бога. И всякий раз, как Бог наказывает преступника или даже убивает его, хотя наказывает он за совершенный им проступок, не следует, однако, говорить, что он не мог по справедливости наказать или даже убить этого же человека и в том случае, если бы тот не совершил никакого проступка. И если при наказании воля Бога может принимать во внимание совершенный перед тем проступок, то из этого не следует, что право наказания или убийства зависит не от божественного могущества, а от проступка человека. 6. Множество раз обсуждавшийся в спорах древних вопрос, почему хорошим людям выпадает на долю злосчастье, а дурным – благо, совпадает с нашим: по какому праву Бог распределяет между людьми блага и несчастья. Своею сложностью этот вопрос поколебал веру в божественную мудрость не только у толпы, но и у философов, и, что еще важнее, у святых [людей]. Как благ,- говорит Давид,- Бог к Израилю, к чистым сердцем; А я- едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых (Пс. 72, 1, 2, 3). И как жестоко укорял Бога Иов за то, что он, будучи праведным, подвергся таким страданиям. В случае с Иовом Бог собственным словом разрешил это противоречие и обосновал свое право не его грехом, а собственным могуществом. Ведь Иов и друзья его спорили между собой, и друзья считали его виновным, ибо он наказан, а он опровергал их обвинения и говорил, что невиновен. Бог же, выслушав их, отверг его жалобы, сказав, что осудил его не за какой-нибудь грех или несправедливость, а чтобы явить собственное могущество: Где был ты, когда я полагал основания земли? и т.д. (Иов 38, 4). О друзьях же его говорит: Гнев мой на тебя и на друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов (Иов 42, 7). Сходный смысл заключается в словах нашего Спасителя, когда встретил Он слепого от рождения. На вопрос учеников: кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? – ответил: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божий (Иоан. 9,3). И хотя сказано: смерть вошла в мир грехом (Рим. 5,12), из этого не следует, что Бог не мог бы своим правом обречь людей на болезни и смерть, даже если бы они никогда не грешили, подобно тому как он создал и прочие живые существа смертными и подверженными болезням, хотя они и не могут грешить. 7. Если Бог обладает правом власти, основанным на его всемогуществе, то очевидно, что обязательство повиноваться ему налагается на людей их бессилием. Ибо обязательство, возникающее из соглашения, о чем было сказано во второй главе, не может иметь место там, где право власти возникает от природы, не опосредованное никаким соглашением. Существует же два вида естественного обязательства. Первый из них, когда свобода уничтожается в силу физических препятствий, в соответствии с чем мы говорим, что небо, земля и все твари подчиняются законам своего создания. Второй – когда свобода уничтожается страхом и надеждой, в соответствии с чем слабейший, отчаявшись в возможности сопротивления, не может не повиноваться сильнейшему. Из этого второго ряда обязательства, то есть из страха или сознания собственного бессилия в сравнении с божественным могуществом, рождается наше обязательство повиновения Богу в естественном Царстве Божием, потому что разум убеждает всех признающих божественное могущество и мудрость, что не следует лезть на рожон. 8. Слово Бога, правящее только в силу природы, есть по-нашему не что иное, как здравый разум, а законы царей можно знать лишь из их слов. Отсюда очевидно, что законы Бога, царствующего только в силу природы, являются единственными естественными законами, то есть теми, которые мы перечислили в главах II и III, выводя их из требований разума: смирение, равенство, справедливость, милосердие и прочие нравственные добродетели, побуждающие к миру, определяющие взаимные обязанности людей по отношению друг к другу. К тем же законам, которых требует истинный разум, относится и то, что касается почитания и культа божественного величия. Нет необходимости повторять, что представляют собой эти естественные законы или нравственные добродетели. Однако следует рассмотреть, какие почести и какой культ божества, то есть какие священные законы, диктует тот же естественный разум. 9. Почести, собственно говоря, есть не что иное, как признание чужого могущества, соединенного с благостью (bonitas). И почтение к кому-нибудь – это то же самое, что и высокая оценка. И таким образом, почитание зависит собственно не от почитаемого, а от почитающего. А за почтением, складывающимся в сознании, следуют необходимо три чувства: любовь, вызванная благостью, надежда и страх, которые определяются могуществом. Из них возникают внешние действия, с помощью которых умилостивляют и делают благосклонными к себе могущественных и которые суть результат самого почтения и тем самым как бы его естественные знаки. Но само почтение (почесть) переносится и на эти внешние выражения почтения, и в этом смысле мы говорим о том, чье могущество мы очень высоко ценим, свидетельствуя нашими словами и делами, что мы его почитаем (honorare), так что почтение здесь значит то же, что и культ. Культ же есть внешнее действие, выражающее внутреннее почтение. Говорят же, что мы почитаем (colere) тех, чей гнев мы стремимся смягчить всяческими услугами и всячески расположить к себе. 10. Внутреннее состояние души выражается либо в словах, либо в поступках, таким образом, всякий культ включает как слова, так и действия. И то и другое может относиться к трем родам, первым из которых является хвала, то есть прославление благости, вторым – прославление могущества, являемого в настоящем, то есть возвеличивание (?????'?????), третьим – прославление блаженства, то есть могущества, обеспеченного в будущем, что называется макаризмом (??????????), прославлением (букв.- признанием счастливым). Повторяю, каждый из этих трех родов почестей может быть выражен не только в словах, но и в действиях. Мы восхваляем, прославляем в словах, когда перечисляем качества (атрибуты), называя того, кого мы чтим, например, щедрым, сильным, мудрым. Действиями же соответственно мы чтим кого-либо, выражая благодарность за доброту, повинуясь могуществу и поздравляя с удачей. 11. Хотим ли мы восхвалять кого-либо словами и действиями, мы найдем, с одной стороны, такие, которые у всех обозначают почтение. Таковы, например, среди атрибутов общие обозначения достоинств и силы, которые могут иметь только похвальное значение: добрый, прекрасный, сильный, справедливый и тому подобное, а среди действий – повиновение, выражение благодарности, молитвы и прочие в том же роде, содержащие в себе признание силы и добродетели. С другой же стороны, мы встретим слова и действия, которые у одних народов имеют похвальное значение, а у других – выражают осуждение либо безразличие; таковы среди атрибутов те определения, которые выражают различные действия или свойства как добродетели или пороки, как достойное или недостойное и т. д. в зависимости от различия их представлений о вещах. Например, убийство врага, бегство, занятие философией, ораторским искусством и тому подобное у одних рассматривается как достойное хвалы, а у других -порицания. Среди действий же – то, что зависит от местных обычаев или предписаний гражданских законов: например, обнажать голову при приветствии, снимать обувь, склоняться в поклоне, обращаться с молитвой стоя, простершись ниц или коленопреклоненно, обрядовые формулы и тому подобное. И тот культ, который у всех и всегда выражает почтение, является естественным, тот же, который связан с особенностями местных обычаев, может быть назван произвольным (условным). 12. Культ, кроме того, может быть установленным по повелению того, кому он воздается, и может быть непроизвольным, то есть таким, каким он представляется тому, кто его совершает. Если это культ, установленный по приказу, то исполняемые во время его совершения действия выражают почтение не как таковые, а в силу приказания, ибо непосредственно они выражают повиновение, повиновение же есть признание могущества, так что культ, совершаемый по приказу, выражается в повиновении. Непроизвольный же культ выражает почтение только в силу самой сущности действия; если последние рассматриваются как почтительные, то это культ, в противном случае – это поношение. Далее, культ может быть общественным и частным. Общественный культ не может быть непроизвольным для отдельных граждан, для государства же может. Ведь поскольку то, что совершается непроизвольно, происходит по воле совершающего, то это был бы не единый общий культ, а культов было бы столько, сколько почитающих, если бы воли всех не объединились по велению одного человека. Частный же культ может быть непроизвольным, если он совершается втайне. То же, что происходит публично, ограничено либо законами, либо чувством неловкости, но и то и другое противоречит сущности непроизвольного действия. 13. Для того же, чтобы понять цель и назначение культа, необходимо понять причину, заставляющую людей радоваться почитанию. Нужно принять во внимание то, что мы показали в другом месте,- радость состоит в том, что всякий рассматривает свою силу, доблесть, мудрость, красоту, друзей, богатства и т. п. как выражение собственного могущества, и причина такой радости есть не что иное, как гордость и триумф души, полагающей себя почитаемой, то есть любимой и внушающей страх, располагающей помощью и услугами людей. Поэтому люди, видя, что кого-то чтут, то есть считают могущественным другие, сами проникаются уверенностью в его могуществе. Таким образом, почет увеличивается благодаря культу, и воображаемое могущество создает истинное. Цель же того, кто требует себе почета или принимает его, состоит в том, чтобы как можно больше людей повиновалось ему из любви или из страха. 14. Для того чтобы знать, каким должен быть культ Бога, отвечающий требованию естественного разума, начнем с атрибутов. И здесь прежде всего очевидно, что Богу следует приписать существование. Ведь не может возникнуть какого-либо желания чтить того, кто, по нашему мнению, не существует. Далее, философы, утверждающие, что мир или мировая душа (то есть часть его) есть Бог, говорят о нем недостойно, ибо они не только никак не определяют Бога, но и вообще отрицают его существование. Ведь имя Бог означает причину мира, утверждающие же, что мир есть Бог, утверждают, будто мир не имеет никакой причины, то есть что Бог не существует [125]. Подобным же образом и те, кто утверждает, что мир не сотворен, а существует вечно (а ведь у вечного не может быть причины), тем самым говорят, что не существует причины мира, то есть не существует Бога. Недостойно Бога и мнение тех, кто приписывает ему бездеятельность и тем самым лишает его управления миром и человеческим родом. Ведь хотя они и признают его всемогущим, однако, если он не заботится о столь низменных вещах, они приходят к избитой мысли: что выше нас, то нас не касается; и поскольку нет ничего, что заставляло бы их любить Бога и бояться его, то для них он как бы и не существует. Что же касается атрибутов, выражающих величие и могущество, те из них, что обозначают нечто конечное и ограниченное в нем, менее всего являются знаками богопочитания. Ибо наше почитание будет недостойным Бога, если мы признаем за ним меньше величия и могущества, чем можем. А всякий конечный атрибут меньше того, что мы можем ему приписать: к конечному всегда очень легко прибавить и приписать нечто большее. Следовательно, Богу нельзя приписать и форму, ибо всякая форма конечна. И нельзя говорить, что мы представляем Бога нашим воображением или любой нашей духовной способностью, ибо все, что мы способны понять, мы понимаем лишь как конечное (finitium). И хотя слово бесконечное обозначает понятие, формируемое сознанием, отсюда, однако, не следует, что мы обладаем каким-то понятием бесконечной вещи (res infinita). Ведь когда мы говорим, что нечто является бесконечным, мы обозначаем этим не нечто в самой вещи, а только бессилие нашего ума, как бы говоря, что мы не знаем границ вещи и где кончается она. Не содержит в себе почтения к Богу и утверждение, что в нашем уме существует его идея; ведь идея есть наше понятие (conceptus), а всякое наше понятие касается только конечного. Невозможно применить к нему понятие частей или целого, ибо это также атрибуты конечного, нельзя говорить, что он находится в каком-то месте, ибо занимать место означает иметь со всех сторон определенные границы и размеры. Нельзя говорить и о том, что он находится в движении или пребывает в покое, ибо и то и другое предполагает нахождение в каком-то месте [126]. Не подобает утверждать существование множества богов, ибо множество не есть бесконечность. Далее, что касается атрибутов, определяющих его блаженство, недостойны Бога такие, которые обозначают претерпевание (если только понимать их не в смысле аффекта, а метонимически, как результат), такие, как раскаяние, гнев, сострадание, либо те, которые означают недостаток чего-либо, как стремление, надежда, желание и та любовь, которая называется страстью. Ведь все это суть выражение недостатка, неудовлетворенной потребности, ибо невозможно представить, чтобы кто-нибудь стремился, надеялся, желал чего-либо, кроме того, чего он лишен и в чем нуждается. Недостойны Бога, наконец, и атрибуты, означающие способность претерпевания, ибо понятие претерпевания есть выражение ограниченной силы и зависимости от другого. Следовательно, когда мы приписываем Богу волю, ее не следует понимать как подобную нашей, называемой разумным стремлением. Ведь если бы Бог пожелал нечто, то он нуждался бы в этом, а говорить так – значит оскорблять Бога. Следовательно, нужно предположить, что воля Бога не аналогична нашей воле, чего, однако, понять мы не можем. Подобным же образом, когда мы приписываем Богу зрение и прочие чувственные восприятия, а также знание и ум, которые в нас суть не что иное, как движение души, возбужденной внешними вещами, действующими на органы чувств, не следует думать, что нечто подобное происходит и с Богом: ведь это бы означало, что его могущество зависит от чего-то еще, а это уже не есть высшее блаженство. Следовательно, тому, кто желает относить к Богу иные имена кроме тех, которых требует разум, с необходимостью придется прибегнуть к таким отрицательным именам, как бесконечный, вечный, неисповедимый, либо к превосходным степеням, как наилучший, величайший, могущественнейший и так далее, либо именам, не требующим определения, как добрый, справедливый, мощный, создатель, царь, и тому подобным. Такое употребление не означает, что мы хотим сказать, что такое Бог, ибо это означало бы ограничить его пределами наших представлений, но выразить собственное восхищение и повиновение, что есть проявление нашего смирения и беспредельного почтения [127]. Ибо разум диктует нам единственное имя, способное обозначить природу Бога,- существующий, или проще – то, что есть, и единственное, выражающее его отношение к нам,- Бог, которое охватывает понятия царь, и господин, и отец. 15. Что касается внешних действий, которыми должно чтить Бога, то самое общее требование разума состоит в том, чтобы они, подобно атрибутам, служили бы выражением душевного настроения почитающего. Прежде всего это относится к молитвам. Тот, кто творит священные изображения из золота или из мрамора, еще не чтит богов, а чтит лишь тот, кто молит их. Ибо молитвы суть выражение надежды, а надежда есть признание божественного могущества и доброты. Во-вторых, это выражение благодарности, являющееся выражением того же внутреннего состояния, только в первом случае молитвы предшествуют благодеянию, благодарность же следует за ним. В-третьих, дары, то есть приношения и жертвы, ибо они суть выражения благодарности. В-четвертых, не следует клясться никаким другим именем, кроме [имени] Бога. Ведь клятва есть призывание гнева человеком против самого себя в случае нарушения им обещания и того, кто может знать, нарушил он обещание или нет, и может наказать его, сколь бы могуществен тот ни был, что доступно одному Богу. Ведь если бы был какой-нибудь человек, от которого не могли бы скрыться преступления его подданных и которому не могла противостоять никакая человеческая сила, то было бы достаточно данного слова без всякой клятвы, а нарушение этого слова могло бы быть наказано человеком, следовательно, не было бы никакой нужды в клятве. В-пятых, следует говорить о Боге почтительно, ибо это выражение страха, а страх есть признание могущества. Из этого требования вытекает, что не следует упоминать имени Божия всуе или бесцельно, ибо это и есть непочтительность. И не следует клясться там, где в этом нет нужды, ибо это бесцельно. Необходимость же в клятве возникает только в отношениях между государствами для того, чтобы избежать или уничтожить насильственную борьбу, которая неизбежно начинается там, где нет доверия к обещаниям, клятва необходима и в государственной жизни для большей надежности судопроизводства. Не следует также спорить о природе Бога, ибо предполагается, что в естественном Царстве Божием все определяется только разумом, то есть исходя из принципов естественного знания. Но с их помощью мы тем более не можем познать природу Бога, если мы даже не можем этим путем достаточно уяснить себе особенности нашего собственного тела или какой-либо другой твари. Поэтому из такого рода рассуждений не может получиться ничего, кроме неразумной попытки применить к божественному величию понятия, созданные по мерке наших представлений. Следовательно, если говорить о божественном праве, также непочтительны и необдуманны слова тех, кто называет что-то несогласным с божественной справедливостью. Ведь и люди считают для себя оскорблением, если дети начинают оспаривать их право или не считают справедливыми их приказания. В-шестых, все, чем мы пользуемся в наших молитвах, благодарениях, жертвоприношениях, должно быть наилучшим в своем роде и выражать почтение. В частности, речь, обращенная к Богу, не должна быть сложена из слов случайных, пустых или низменных, но быть прекрасной и стройной. Ведь хотя и бессмысленно почитание язычниками Бога, изображенного в статуях, однако не лишено основания то, что они в своих священных действиях используют песни и музыку. Точно так же жертвы должны быть прекрасны, дары великолепны, а все действия должны выражать смирение, благодарность и память о полученных благодеяниях, ибо все это свидетельствует о стремлении почитать Бога. В-седьмых, Бога следует чтить не только наедине, но и открыто, в общественном месте, перед всеми людьми. Ведь, как было сказано выше (в 13-м параграфе), культ особенно приятен, потому что он порождает и среди других уважение к почитаемому. Ведь если бы остальные не видели этого почитания, то исчезло бы то, что является самым приятным в культе. Наконец, всеми силами следует блюсти естественные законы, потому что самым страшным оскорблением, превосходящим все остальные, является неуважение к власти Господа, равно как и, наоборот, приятнее всяких жертв для него покорность. Таковы основные из тех естественных законов богопочитания, которые диктует разум каждому человеку. И тот же естественный разум, кроме того, повелевает всем государствам, каждое из которых является единым лицом, придерживаться единообразия в общественном культе. Ведь действия, совершаемые отдельным лицом в согласии с его частным разумением, не являются действиями государства и, следовательно, государственным культом. А то, что исходит от государства, предполагается исходящим от того или тех, кто обладает верховной властью, а потому происходящим с согласия всех граждан, то есть единообразно. 16. Естественные законы богопочитания, перечисленные в предыдущем параграфе, требуют пользоваться только естественными знаками почитания. Следует иметь в виду, что существуют два рода таких знаков: естественные и установленные в силу определенного соглашения, либо ясно выраженного, либо молчаливо подразумеваемого. Поскольку же в любом языке употребление слов, или наименований, является результатом установления, то в силу того же установления оно может и меняться. Ибо все, что зависит и получает свою силу от человеческой воли, может и измениться или быть уничтожено по воле и согласию тех же людей. Следовательно, и имена, которые в силу соглашения между людьми стали применяться к Богу, по их же соглашению могут перестать применяться к нему, а то, что может происходить по установлению людей, может быть установлено государством. Следовательно, государство, то есть те, кто обладает властью в государстве, имеет право судить, какие слова, или наименования, выражают почитание Бога, а какие нет, то есть какое учение о природе и деяниях Бога должно существовать в государстве и проповедоваться в нем. Действия же выражают отношения не в силу человеческих установлений, а естественно, подобно тому как результаты указывают на причины. Некоторые из этих действий всегда служат знаками пренебрежения к тем, перед кем они совершаются, например, такие, которые демонстрируют нечистоту тела, либо такие, которые стыдно совершать перед теми, кого мы чтим. Другие же всегда являются знаками почитания, например, такие, как приблизиться и обратиться достойно и смиренно, уступить дорогу или оказать какую-то иную услугу человеку. Здесь государство не может менять ничего. Но существует бесконечное множество других действий, безразличных и не выражающих ни почитания, ни пренебрежения; такого рода действия могут быть превращены государством в знаки почитания и в этом качестве действительно служить выражением почтения. Отсюда становится понятным, что государству следует повиноваться, какой бы знак почитания Бога, то есть какой культ, оно бы ни установило, лишь бы это можно было использовать как знак почитания, ибо знаком почитания является именно то, что по приказанию государства принимается за таковой. 17. Мы уже сказали, каковы духовные и светские законы, установленные Богом в его царстве, где он правит только по природе. А так как нет никого, кто не мог бы ошибиться в своих рассуждениях, и люди в большинстве случаев по-разному оценивают свои действия, можно задать и такой вопрос: кому же пожелал Бог поручить толкование (велений) истинного разума, то есть своих законов. Что касается гражданских законов, то есть тех, которые относятся к соблюдению справедливости и нравственности в отношениях людей друг к другу, то, как это явствует из сказанного выше об установлении государства, мы доказали, что разум требует передать всякое суждение о них государству. Суждения же суть не что иное, как истолкование законов, и соответственно толкование законов повсюду принадлежит государству, то есть тем, кто обладает в нем верховной властью. Что же касается духовных законов, то здесь следует принять в соображение то, что мы доказали выше (в 13-м параграфе главы V), а именно что отдельные граждане перенесли на того или на тех, кто обладает властью в государстве, столько прав, сколько они могли перенести. Могли же они перенести право решения, каким образом следует почитать Бога. Что они и сделали. А то, что они могли это сделать, ясно из того, что до установления государства каждый должен был своим собственным разумением искать способ почтить Бога. Но каждый может подчинить свой индивидуальный разум разуму всего государства. Кроме того, если бы каждый, почитая Бога, следовал своему собственному разуму, то при таком числе разнообразных способов почитания каждый считал бы культ другого недостойным и даже нечестивым и каждому бы казалось, что другой не чтит Бога. Следовательно, это бы не было культом, даже если бы какой-нибудь из этих способов почитания был совершенно согласен с разумом, потому что сущность культа состоит в том, чтобы он был знаком внутреннего почитания. А знаком является только то, что делает нечто известным для других. Поэтому знаком почитания может быть только то, что и другим представляется тем же. Далее, истинным знаком является то, что становится знаком в силу всеобщего согласия. Следовательно, и почетным является то, что становится знаком почитания с согласия людей, то есть по велению государства. Тем самым не противоречит воле Божией, раскрывающейся только через разум, оказание Богу знаков почитания, установленных государством. Следовательно, граждане могут передать право решения о том, как именно следует чтить Бога, тому или тем, кто обладает в государстве верховной властью. Более того, они должны это делать, ибо в противном случае все абсурдные представления о природе Бога, все смехотворные обряды, существующие у каких-либо народов, окажутся одновременно в одном государстве, и каждый будет уверен, что все остальные только оскорбляют Бога. Поэтому ни о ком нельзя было бы с полным основанием сказать, что он чтит Бога, ибо Бога чтит, то есть оказывает ему внешние знаки почитания, только тот, чьи действия и другими воспринимаются как знаки почитания. Таким образом, можно сделать следующие заключения: толкование естественных законов, как духовных, так и светских, если Бог осуществляет свою власть только через природу, зависит от государственной власти, то есть того человека или совета, кому передана верховная власть в государстве. Из этого следует, что Бог повелевает словами властителей и, наоборот, все приказания, исходящие от них, касающиеся почитания Бога и носящие светский характер, исходят от Бога. 18. С другой стороны, кто-нибудь может спросить, во-первых, не следует ли отсюда, что придется повиноваться государству, если оно прямо прикажет оскорблять Бога либо запретит чтить его. Я отвечаю, что не следует и не должно ему повиноваться в этом: ведь никто не может принять за способ почитания нанесение оскорбления или вообще отказ от почитания. Ибо из тех, кто признает Царство Божие, никто до создания государства не обладал правом отказать Богу в полагающихся ему почестях и поэтому не мог перенести на государство право издавать подобные распоряжения. Далее, если бы спросили, следует ли повиноваться государству, когда оно повелевает говорить или делать нечто хотя и не являющееся прямым оскорблением Бога, однако из чего посредством рассуждения могут быть сделаны выводы, оскорбительные для Бога (например, если прикажут чтить Бога как идола в присутствии тех, кто видит в этом выражение почтения), то это, бесспорно, следует делать[128]. Ведь культ устанавливается как знак почитания, а именно так чтить Бога считается у них знаком почитания и увеличивает почтение к Богу среди тех, кто рассматривает такой способ его почитания как знак почтения. Если же, следовательно, прикажут называть Бога таким именем, значение которого мы не понимаем или не понимаем, какое оно имеет отношение к Богу, то и это следует исполнить; ибо то, что мы делаем ради почитания и именно так понимаем наши действия, является знаком почтения, если и другими воспринимается как такой знак. Поэтому, если мы отказываемся выполнять это, мы отказываемся распространять культ Бога. То же самое можно сказать обо всех атрибутах и действиях, относящихся к чисто рациональному почитанию Бога, которые могут показаться противоречивыми и вызывать споры. Ведь хотя иной раз такого рода требования могут противоречить истинному разуму и поэтому быть проступками, с точки зрения тех, кто правит, они, однако, не противоречат истинному разуму и не являются проступками для подданных, истинный разум которых проявляется в спорных вопросах в подчинении разуму государства. Наконец, если бы тот человек или совет (curia), которому поручена высшая власть в государстве, приказал бы чтить себя теми атрибутами и действиями, которыми должно чтить Бога, можно спросить, следует ли повиноваться ему? Есть много вещей, которые могут быть отнесены и к Богу, и к человеку, ибо и людей можно и восхвалять и возвеличивать; существует и множество действий, которыми могут быть почтены и Бог и люди. Но важны только значения атрибутов и действий. Поэтому следует воздержаться от тех атрибутов, которыми мы показывали бы, что признаем за каким-то человеком власть, которая не зависит от Бога, либо считаем такого человека бессмертным, а власть его безграничной и тому подобное, хотя бы цари и приказали нам чтить их подобным образом. Подобным образом следует воздерживаться от действий, имеющих аналогичное значение, как, например, обращаться с мольбами к отсутствующему, просить то, что может дать один только Бог, например дождь или ясную погоду; подносить им то, что принять может один только Бог, например жертвы всесожжения; либо чтить их жертвоприношениями, то есть оказывая им почести, выше которых быть ничего не может. Ведь все подобные действия подрывают веру во власть Бога, что противоречит исходному положению. Впрочем, коленопреклонение, падение ниц либо иное телодвижение может быть допущено и в гражданском обряде, поскольку они могут обозначать только признание гражданской власти. Ведь культ божества отличается от гражданского не движениями, позой, костюмом или каким-то жестом, но выражением того, что почитающий чувствует к тому, кого он чтит, например, если мы простираемся ниц перед кем-то с намерением сказать этим знаком, что мы считаем его Богом, то это божественный культ, если же мы делаем то же самое в знак признания гражданской власти, то это гражданское почитание. И божественный культ не отличается от гражданского каким-либо действием, которое обычно именуется прислужничество (???????) и рабство (???????), первое из которых обозначает рабов, а второе – их судьбу, но оба суть имена действий одного и того же порядка. 19. Из вышесказанного вытекает, что если Бог царствует на основании только естественного разума, то подданные совершают грех, во-первых нарушая те нравственные законы, которые были изложены во второй и третьей главах; во-вторых нарушая законы, то есть повеления государства, в том, что касается справедливости; в-третьих не почитая Бога как положено (???/? , ?? ??????); в-четвертых не признавая публично словом и делом, что существует единый, всемогущий и всеблагой Бог, верховный царь всего мира, всех земных царей, то есть не почитая Бога. Этот четвертый грех в естественном Царстве Божием на основании сказанного в 20-м параграфе предыдущей главы является преступлением оскорбления божественного величия. Ибо это – отрицание божественного могущества, то есть атеизм. Это можно пояснить примером: предположим, что некий человек, будучи верховным правителем, правил бы в свое отсутствие через наместника и те, кто не стал бы ему повиноваться во всем, совершили бы проступок против него, но, если бы этот последний стал требовать себе царской власти или бы захотел передать ее другому, в таком случае те, кто повиновался бы ему безусловно, не исключая и этого требования, были бы уже виновны в оскорблении величия.ГЛАВА XVI О ВЕТХОЗАВЕТНОМ ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ
1. Истинную религию Бог установил через Авраама, когда прочие народы были во власти суеверия. 2. Соглашением между Богом и Авраамом было запрещено обсуждение приказаний старших. 3. Соглашение между Богом и Авраамом. 4. В этом соглашении содержится не просто признание Бога, но того, который явился Аврааму. 5. Законы, которые были установлены Аврааму, не отличались от законов природы и включали закон об обрезании. 6. Авраам был для своих истолкователем Слова Божия и всех законов. 7. Подданные Авраама не могли согрешить, повинуясь ему. 8. Договор Бога с еврейским народом на горе Синай. 9. Отсюда правление Божие получило имя царства, 10. Какие законы были даны Богом иудеям. 11. Что такое Слово Божие и как оно познается. 12. В чем состояло писаное Слово Божие у иудеев. 13. Власть толковать Слово Божие и верховная государственная власть были объединены в лице Моисея, пока он был жив. 14. Они же были объединены в лице первосвященника, пока жив был Иисус Навин. 15. Они же оставались объединенными в лице первосвященника вплоть до царя Саула. 16. Они же оставались объединенными в лице царей до пленения. 17. Они же принадлежали первосвященникам после пленения. 18. У иудеев только отрицание божественного провидения, идолопоклонство считались преступлениями, оскорблениями божественного величия, во всем же остальном они должны были повиноваться своим правителям. 1. Человеческий род из сознания собственного бессилия и восхищения перед созданиями природы в большинстве своем верит в существование невидимого создателя всех видимых вещей – Бога, перед которым люди даже испытывают страх, понимая, что сами не способны защитить себя, но истинному его почитанию препятствует лишь несовершенство разума и буйство аффектов. Страх же перед невидимым, не считающийся с истинным разумом, есть суеверие. Поэтому людям без особой помощи Бога почти невозможно избежать двух грозящих им опасностей: атеизма и суеверия', последнее порождается страхом, забывшим об истинном разуме, первый – верой в разум, забывшей о страхе. Поэтому большинство людей легко впадало в идолопоклонство, и чуть ли не все народы чтили Бога в образах идолов и изображений вещей конечных, называя, должно быть из страха,призраки и привидения демонами. И как мы читаем в Священной истории, божественному величию было угодно призвать к себе одного из рода человеческого, Авраама, и сверхъестественным образом явиться ему, дабы через него привести людей к истинному почитанию божества и вступить с ним и семенем его в знаменитое соглашение, которое называется то соглашением, то союзом, то Ветхим заветом. Следовательно, он есть начало истинной религии. И после потопа Авраам стал первым учить, что существует единый Бог – творец Вселенной; именно от него берет начало "Царство Божие, основанное на соглашениях" (см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. Кн. 1, гл. 7). 2. В начале мира Бог царствовал над Адамом и Евой не только по природе, но и в силу соглашения, так что, по-видимому, не требовал от них никакого иного повиновения себе, если не считать велений естественного разума, кроме того, что вытекает из договора, то есть является результатом согласия самих людей. Поскольку же соглашение это сразу же потеряло силу и никогда более не возобновлялось, то и не следует в нем искать начало того Царства Божия, о котором мы ведем здесь речь. Однако попутно следует заметить, что требованием не вкушать от древа познания добра и зла, запрещало ли оно суждение о том, что добро, а что зло, или же вкушение плодов какого-то дерева, Бог требовал безусловного подчинения своим приказаниям, не вступая в рассуждения о том, хорошо ли, дурно ли то, что он повелевает. Ведь все дело в запрещении. Древесный плод не содержит в себе по своей природе ничего такого, что могло бы сделать его вкушение нравственно дурным, то есть грехом. 3. Соглашение же между Богом и Авраамом было заключено в следующих словах (Быт. 17, 7, 8, 10): Поставлю завет мой между мной и тобой и между семенем твоим после тебя в роду их как завет вечный в том, что я буду Богом твоим и семени твоего после тебя на веки веков, и дам тебе и семени твоему землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую во владение вечное. А для того, чтобы Авраам и семя его могли сохранить память об этом соглашении, было необходимо установить некий знак. Поэтому было установлено еще и обрезание, но только как знак: Вот завет, который ты будешь соблюдать между мной и тобой и семя твое после тебя: все мужское семя ваше да подвергнется обрезанию, и обрежете крайнюю плоть вашу, в знак договора между мной и вами. Следовательно, договор состоял в том, что Авраам признавал Бога Богом своим и семени своего, то есть отдавал себя под власть его, Бог же давал Аврааму наследование той земли, где он жил тогда, но как чужестранец, Авраам же в знак признания этого соглашения должен был совершить обрезание над собой и над мужским семенем своим. 4. Поскольку Авраам еще до заключения соглашения с Богом признал его создателем мира и царем, он никогда не сомневался ни в существовании его, ни в провидении, то не было ли излишним пожелание Бога приобрести себе повиновение, должное ему уже по природе, заключив соглашение и предложив цену, то есть обещав Аврааму власть над землей Ханаанской на том условии, что тот признает его своим Богом, хотя он уже был им по естественному праву? Таким образом, слова – чтобы стал я Богом твоим и семени твоего после тебя – предполагают, что со стороны Авраама в этом соглашении еще не было достаточным только признать власть и могущество Бога, которыми он располагает над людьми по природе, то есть признание Бога не вообще, что принадлежит области естественного разума, но он должен был признать определенным образом того, кто сказал ему уйди из земли своей и т.д. (Быт. 12, 1), возведи очи и т.д. (Быт 13, 14), кто явился ему под видом трех небесных мужей (Быт. 18, 1, 2) ив видении (Быт. 15, 1) и во сне (Быт. 15, 13), а это уже область веры. Не ясно, в каком виде явился Бог Аврааму, каким голосом говорил с ним. Однако известно, что Авраам поверил, что это был глас Божий и что это было истинное откровение, и что Авраам пожелал, чтобы близкие чтили его как Бога, создателя всего сущего, того, кто с ним говорил так. И вера Авраама состояла не в том, что он верит в существование Бога, или в том, что слова его правдивы, во что и все остальные верят, но в том, что он не усомнился, что тот, чей голос и слова он слышал, является Богом. И Бог Авраам был не просто Бог, но Бог, явившийся ему. Поэтому почитание, которое должен был оказывать Богу Авраам, в таком понимании было культом, основанным не на разуме, а на религиозной вере; культом, который повелел ему не разум, а Бог своей сверхъестественной силой. 5. Но нам не известны никакие законы, ни светские, ни духовные, установленные Богом Аврааму или Авраамом семье своей, ни тогда, ни позднее, за исключением требования обрезания, содержащегося в самом соглашении. Отсюда очевидно, что не существовало иных законов и иного культа, обязательных для Авраама, кроме естественных законов, требуемого разумом культа и обрезания. 6. И Авраам был для евреев истолкователем всех законов, как светских, так и духовных, и не только по природе, коль скоро речь шла только о естественных законах, но и в силу самого соглашения, в котором Авраам обещал повиновение не только за себя, но и за все семя свое. А это было бы невозможным, если бы сыновья его не были обязаны повиноваться его повелениям. И как иначе могут быть поняты слова Бога: и все народы земли благословятся в нем, ибо я знаю, что заповедает он сыновьям своим и дому своему после себя следовать путем Господним и творить праведный суд (Быт. 18, 18, 19), как не то, что сыновья его и дом его обязаны подчиняться его повелениям. 7. Отсюда следует, что подданные Авраама, повинуясь ему, не могли совершить проступка, если только Авраам не потребовал бы от них неверия в существование и провидение Бога или совершения такого деяния, которое явно было бы оскорбительным для Бога. Во всем же остальном Слово Божие должны они были познавать только из его уст, ибо только он был толкователем всех законов и всех Слов Божиих. Ведь только Авраам мог сказать людям, каков Бог, виденный им, и как следует чтить Его. Те же, кто после смерти Авраама стали подданными Исаака и Иакова, не впадая в грех, повиновались им во всем до тех пор, пока признавали каждого из них за Бога и царя своего Авраама и исповедовали как Бога. Ибо они раньше, чем Аврааму, подчинились безусловно Богу; и раньше подчинились Аврааму, чем Богу Авраама, и равным образом раньше – Богу Авраама, чем Исааку. Поэтому для подданных Авраама единственным преступлением оскорбления Божественного величия было отрицание Бога, но для потомков их преступлением оскорбления величия было отрицание Бога Авраама, то есть почитание Бога иначе, чем это было установлено Авраамом, то есть в виде рукотворных кумиров, как это делали прочие народы, которые за это получили название идолопоклонников [129]. И до тех пор подданные легко могли узнавать от своих правителей, что следует и чего не следует исполнять. 8. Продолжая идти вслед за Священным писанием, мы узнаем, что это же соглашение было возобновлено с Исааком (Быт. 26, 3, 4) и с Иаковом (Быт. 28, 13, 14), где Бог называет себя не просто Богом, в бытии которого убеждает природа, но отчетливо Богом Авраама и Исаака. Позднее же, собираясь восстановить через Моисея то же соглашение со всем народом Израиля, Бог сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова (Исх. 3, 6). А потом опять, когда народ тот остановился в пустыне у горы Синай, чувствуя себя не только совершенно свободным, но и испытывая острую ненависть к подчинению человеку, ибо была жива память о недавних невзгодах в Египте, Бог предложил им всем возобновить этот старинный договор в следующих словах: Если послушаетесь голоса Моего и будете соблюдать завет Мой (то есть договор, заключенный с Авраамом, Исааком и Иаковом), будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, и вы будете у меня в царстве священников и народом священным (Исх. 19, 5, 6). И весь народ согласно ответил: все, что сказал Господь, исполним (Исх. 19, 5, 8). 9. Между прочим, в этом договоре обращает на себя внимание не употреблявшееся раньше выражение царская власть (царство). Ведь хотя Бог и был их царем и по природе, и в силу соглашения с Авраамом, однако они как подданные его должны были повиноваться ему и чтить его, лишь следуя велениям природы, религиозное же почитание, установленное Авраамом, они должны были оказывать ему как подданные Авраама, Исаака, Иакова, своих природою данных владык. Ведь сами они не слышали никакого Слова Божия, а знали лишь естественное слово истинного разума: и они не вступали ни в какое соглашение с Богом, если только не считать, что воля каждого из них была заключена в воле Авраама как их владыки. Но уже в силу договора у горы Синай, заключенного по всеобщему их согласию, установлено было над ними Царство Божие. С этого времени берет начало столь часто упоминаемое в Священном писании и в сочинениях теологов Царство Божие; именно его имеют в виду слова Бога, сказанные им Самуилу, когда израильтяне просили себе царя: Не тебя отвергли они, но Меня, дабы Я не царствовал над ними (1 Цар. 8, 7), и слово Самуила к израильтянам: вы сказали мне: «нет, царь пусть царствует над нами», тогда как Господь Бог ваш – Царь ваш (1 Цар. 12, 12), и известные слова Иеремии (Иер. 31, 32): Не такой Завет, какой я заключил с отцами их. Наконец, учение Иуды Галилеянина, о котором упоминает Иосиф Флавий в следующих словах: «Первым писателем, который пошел по четвертому пути в поисках мудрости, был Иуда Галилеянин. Последователи его, соглашаясь в остальном с фарисеями, отличаются от них своей пылкой и непоколебимой любовью к свободе, будучи уверенными, что только Бога можно признать Господином своим и владыкой, и они готовы скорее подвергнуться вместе с родными своими и самыми дорогими им людьми изощреннейшим мучениям, чем назвать господином хоть одного смертного» (Иосиф Флавий. Иудейские древности. Кн. 18. Гл. 2). 10. Зная, каким образом было установлено право царской власти в силу соглашения, следует теперь рассмотреть, какие же законы Бог установил для израильтян. А они всем известны, это Десять заповедей, а также и все другие законы, судебные и ритуальные, которые излагаются с двадцатой главы Исхода до конца Пятикнижия и смерти Моисея. Один из законов, записанных рукою Моисея и переданных таким образом людям, обязывает людей по природе, ибо созданы они Богом, чтимым по природе, и обрели свою силу еще до Авраама. Другие же обязывают в силу соглашения, заключенного с Авраамом, ибо созданы они Богом, как Богом Авраама, и они обрели свою силу до Моисея, ибо соглашение это было заключено раньше; третьи же обязывают только в силу того договора, который был позднее заключен самим народом, ибо созданы они Богом, как царем израильтян. К первому роду принадлежат все Десять заповедей, относящихся к нравственности: Почитай родителей; не убий; не прелюбодействуй; не укради; не лжесвидетельствуй; не завидуй. Все это – естественные законы. Сюда же следует отнести и заповедь, чтобы не поминать всуе имени Божиего, ибо это часть естественного культа, как это было показано в 15-м параграфе предыдущей главы. Точно так же и следующую заповедь, запрещающую поклонение рукотворным кумирам, ибо и это принадлежит естественной религии, как указано в том же параграфе. Ко второму роду принадлежит первая заповедь Скрижалей, запрещающая поклонение чужим богам, ибо в ней есть сущность заключенного с Авраамом договора, в котором Бог не требует ничего иного, как признания его Богом Авраама и семени его. Такова же заповедь о соблюдении субботы. Ибо почитание седьмого дня установлено в память о шести днях творения, как это явствует из слов: Установлена навеки между мною и сынами Израиля (имеется в виду суббота) как знак неизменный, ибо за шесть дней сотворил Господь небо и землю, на седьмой же почил от трудов (Исх. 31, 16, 17). К третьему роду принадлежат политические, судебные и ритуальные законы, обязательные только для иудеев. Законы первого и второго рода, записанные на каменных скрижалях, то есть Десять заповедей, хранились в Ковчеге, остальные же, записанные в Книге всего закона, положены были рядом с Ковчегом (Втор. 31, 26). Ибо они могли меняться, не нарушая слова, данного Авраамом, первые же не могли меняться. 11. Все законы Божий суть Слово Божие, но не наоборот: всякое Слово Божие есть закон. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской – это Слово Божие, но не закон. И не все, что говорится или пишется вместе со Словом Божиим для разъяснения его, есть Слово Божие. Ведь слова: Это говорит Господь – это слова не Господа, а глашатая и пророка. Только то является Словом Божиим, что, по словам истинного пророка, сказал сам Бог. Книги же пророков, заключающие и то, что сказал Бог, и то, что – сам пророк, называются Словом Божиим потому, что содержат Слово Божие. Поскольку же Словом Божиим является все то, и только то, что назвал таковым истинный пророк, то узнать, что именно является Словом Божиим, можно только тогда, когда мы будем знать, кто является истинным пророком, и только тогда поверить Слову Божию, когда мы поверим пророку его. Моисею народ Израиля поверил из-за двух вещей: его чудес и учения. Ведь сколь бы ни велики и несомненны были чудеса, сотворенные им, они бы ему не поверили (во всяком случае не должны были верить), если бы он повел их из Египта во имя иного Бога, а не Бога праотцев своих – Авраама, Исаака и Иакова, ибо это противоречило бы соглашению между ними и Богом. Подобно этому и Бог указал всем иудеям два знака, по которым могли бы они познать истинного пророка: сверхъестественное предсказание будущего, что есть чудо великое, и веру в Бога Авраама, освободившего их из Египта. Если кто-то не обладает одним из этих качеств, тот не истинный пророк, и не следует считать Словом Божиим то, что он выдает за таковое. Ведь если у него не будет такой веры, Бог подвергнет его осуждению в следующих словах: Если восстанет перед тобой пророк либо тот, кто скажет, будто он видел сон, и предскажет знамение и чудо, и сбудется то, что он говорил, и скажет тебе: пойдемте и последуем за другими богами и т. д., то пророк сей или лживый ясновидец будет предан смерти (Втор. 13, 1 – 5). Если же предсказание и осуществится, то он будет отвергнут в следующих словах: Если же ответит в сердце своем: как могут понять, что слово то не изрек Господь? Вот тебе знак, по которому познаешь: если что во имя Господне предсказал пророк и не исполнилось, то не Господь говорил это, а пророк измыслил в тщеславии своем (Втор. 18, 21, 22). Бесспорно, Словом Божиим является то, что возвещается как таковое истинным пророком, и что истинным пророком у иудеев был тот, кто обладал истинной верой и чьи предсказания сбывались. Но что значит следовать за чужими богами и сбылось или нет предсказание, о котором говорят, что оно осуществилось, может вызвать большие споры, особенно когда речь идет о предсказаниях, предвещающих будущее в словах темных и загадочных, а таковы предсказания почти всех пророков, которые не видели Господа воочию, как Моисей, но лишь являлся им в видении во сне (Чис. 12, 8), о них можно судить только на основании естественного разума. Ибо суждение это зависит от толкования его пророчества (prophetiae) и сравнения его с результатом. 12. Записанным Словом Божиим иудеи считали книгу, содержавшую весь закон, которую они называли Второзаконием, и, насколько это можно понять из Священной истории, вплоть до пленения египетского – только эту книгу. Ибо книга эта была передана самим Моисеем-священником (Втор. 31, 9, 26) на сохранение, чтобы лежала она рядом с Ковчегом завета, и цари списывали с нее законы; спустя же много времени по воле царя Иессея (2 Цар. 23, 1) и т. д. была признана Словом Божиим. Когда же впервые вошли в канон остальные книги Ветхого завета, не известно. Что же касается пророков Исайи и прочих, поскольку пророчествовали они только в том, что произойдет во времена пленения или после пленения, то их книги не могли тотчас же быть признанными как пророческие на основании вышеприведенного закона из книги Второзакония (18, 21, 22), который повелевал израильтянам признавать пророком лишь того, чьи предсказания поистине исполнились. Поэтому оказалось так, что книги тех, кого иудеи убивали за их пророчества, позднее, поскольку они сбывались, были признаны ими пророческими, то есть Словом Божиим. 13. Теперь, когда известно, каковы были законы во времена Ветхого завета и каково было вначале Слово Божие, следует рассмотреть, кто – будь то один человек или несколько – имел возможность судить о том, следует ли принимать за Слово Божие пророчества будущих пророков, то есть сбываются ли эти предсказания. Следует также рассмотреть, кто имел право толкования уже существующих законов и писаного Слова Божия. Это придется рассмотреть, прослеживая изменения, происходившие в Израильском государстве в разные времена его истории. Несомненно, что при жизни Моисея вся эта власть была сосредоточена в его руках. Ведь не будь он сам толкователем законов и Слова Божия, эта обязанность должна была бы принадлежать либо каждому в отдельности, либо собранию большинства, то есть синагоге, либо первосвященнику, либо другим пророкам. Но прежде всего то, что эта обязанность менее всего принадлежала частным людям или их собраниям, ясно уже из того, что им не было разрешено, более того, под угрозой строжайшего наказания запрещено общаться с Богом самим, а не через Моисея. Ибо написано (Исх. 19, 24, 25): Священники же и народ да не прейдут пределов и не поднимутся к Господу, чтобы не поразил он их вдруг. Снизошел Моисей к народу и все рассказал им. Далее то, что было сказано по случаю восстания Корея, Дафана, Авирона и двухсот пятидесяти старейшин синагоги, ясно и недвусмысленно подтверждает, что ни отдельные люди, ни их сборище не должны претендовать на то, что Бог говорил их устами и что, следовательно, они обладают правом толковать Слово Божие. Ведь когда они стали утверждать, что Господь говорил их устами точно так же, как и устами Моисея, им сказали: Довольно будет вам, что все собрание священно, и Господь вместе с ними, почему же возвышаетесь вы над народом Господним? (Чис. 16, 3). А как решил спор этот Господь, можно понять из того, что они (Корей, Дафан и Авирон) живыми снизошли в преисподню, и огонь, посланный Господом, поразил двести пятьдесят мужей (Чис. 16, 33, 35). Во-вторых, то, что эта власть не принадлежала первосвященнику Аарону, ясно из аналогичного спора между ним и его сестрой Марией, с одной стороны, и Моисеем -с другой. Вопрос шел о том, говорит ли Бог только устами Моисея или также и их устами, то есть только ли один Моисей является толкователем Слова Божия или и они также. Ведь они сказали так: Разве Господь говорил устами Моисея? Разве не говорил он также и нам? (Чис. 12, 2). Бог же осудил их и сказал, что Моисей отличается от других пророков: Если кто-нибудь среди вас пророк, я откроюсь ему в видении либо во сне буду говорить с ним. Но не таков раб мой Моисей и т. д. Ибо я лицом к лицу разговариваю с ним, и он наяву видит Господа, а не в гаданиях. Почему же вы не убоялись? и т. д. Наконец, то, что толкование Слова Божия при жизни Моисея не принадлежало каким-нибудь другим пророкам, можно заключить из приведенных нами выше слов о его превосходстве над всеми остальными, а также на основании доводов естественного разума, поскольку этот пророк и возвещал и толковал веления Божий, и не было в ту пору иного Слова Божия, кроме того, которое возвещалось устами Моисея; а кроме того, и не было в то время никакого другого пророка, который бы обращался к народу, кроме семидесяти старцев, вдохновленных в своих пророчествах Моисеем. Но и это считал неправильным Иисус Навин, в то время прислужник, а потом преемник Моисея, пока не узнал, что это происходит с ведома Моисея; последнее ясно из самого текста Писания: Спустился Господь на облаке и т. д. и взял от духа Моисеева и отдал семидесяти мужам (Чис. 11, 25). После же того, как возвещено было об их пророчестве, Иисус сказал Моисею: Господин мой, помешай им (Чис. 11, 28). Моисей же ответил: Что ты ревнуешь за меня? и т. д. Следовательно, если Моисей был единственным вестником Слова Божия, то право толковать Слово Божие не принадлежало ни частным лицам, ни священнику, ни другим пророкам; остается, что только один Моисей был истолкователем Слова Божия и он же обладал верховной властью в делах гражданских. Борьба же Корея и других заговорщиков против Моисея и Аарона и Аарона с сестрой против Моисея началась не из-за спасения их души, а из честолюбия и желания получить власть над народом. 14. Во времена Иисуса Навина толкование законов и Слова Божия принадлежало первосвященнику и абсолютному царю, поставленному Богом, Елеазару. Это следует прежде всего из самого соглашения, в котором государство Израильское называется священническим царством, или, как говорится в другом месте (1 Пет. 2, 9), царственным священством, что могло быть сказано только в том случае, если царская власть предполагалась принадлежащей первосвященнику в силу народного постановления и соглашения. И это не противоречит вышесказанному, где говорилось, что не Аарон, а Моисей получил царскую власть от Бога, потому что там, где один человек устанавливает форму будущего государства, он неизбежно один осуществляет для своего времени и управление государством, которое он создал, будь то монархия, аристократия или демократия, обладая в настоящем всей властью, которую он передаст другим на будущее. То, что Елеазар имел не только священнический сан, но и верховную власть, ясно из самого призвания Иисуса Навина к управлению государством. Ведь написано (Чис. 27, 18, 21): Возьми Иисуса, сына Навина и т. д., который предстанет перед священником Елеазаром и всем народом, и дашь ему наставление на глазах у всех и часть славы твоей, дабы слушало его все собрание сыновей Израиля. И если что нужно делать, священник Елеазар пусть спрашивает у Господа. По слову его да выходит и входит он сам и вместе с ним все сыны Израиля. Здесь обращаться к Богу о том, что следует делать, то есть толковать Слово Божие и во имя Божие повелевать всеми, является прерогативой Елеазара; выходить же и входить по слову его, то есть повиноваться ему, это уже относится к Иисусу и всему народу. Следует также отметить и следующее выражение: часть своей славы, открыто говорящее, что Иисус не обладал властью, равной той, которой обладал Моисей. А между тем также очевидно, что и во времена Иисуса Навина верховная гражданская власть и право толковать Слово Божие сосредоточивались в руках одного и того же лица. 15. После смерти Иисуса Навина следуют времена Судей – вплоть до царя Саула. Вполне очевидно, что в это время право царской власти, установленной Богом, остается в руках священника. Ведь это по соглашению было священническим царством, то есть царской властью Бога, осуществляемой первосвященником, и оно должно было оставаться таковым, пока сам народ не изменит его форму с согласия Бога, что и случилось, лишь когда Бог, уступая их просьбам дать им царя, сказал Саулу: слушай народ во всем, что говорят они тебе, ибо не тебя, а Меня отвергли они, дабы не царствовал над ними (1 Цар. 8, 7). Таким образом, по божественному установлению верховная гражданская власть юридически принадлежала первосвященнику, фактически же эта власть была в руках пророков, вдохновляемых Богом, под защиту и на суд которых отдавали себя израильтяне из почтения к пророчествам, к которым они были неравнодушны. Это происходило потому, что хотя с установлением священнического Царства Божия были установлены наказания и должностные лица, чтобы творить суд, однако же, право наказания зависело от частного суждения, и беспорядочная толпа и любой человек решали наказывать в зависимости от собственного настроения. Поэтому Моисей никого не подверг смертной казни собственной властью, но, когда нужно было казнить кого-то одного или нескольких, он возбуждал против них толпу, ссылаясь на власть Божию и говоря: Господь говорит так. И это отвечало природе такого Царства Божия. Ибо воистину Господь царит там, где законам повинуются из страха не перед людьми, а перед Богом. И если бы люди были такими, какими они должны быть, такое устройство государства было бы наилучшим. Но для того, чтобы править людьми, какими они являются в действительности, необходима сила принуждения, в которую я включаю и право и насилие. И поэтому уже в самом начале Бог через Моисея дал законы будущим царям (Втор. 17, 14), и сам Моисей перед смертью так говорил народу: Я знаю, что после смерти моей вы развратитесь и скоро уклонитесь от пути, который я указал вам (Втор. 31, 29). И когда, согласно этому предсказанию, возникло новое поколение, которое не знало Господа и дел Его, которые сотворил Он (делал Израилю), тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Валааму (Суд. 2, 10, 11). Значит, они отказались от правления Божия, то есть от власти священника, через которого ими правил Бог. Позднее, когда они были побеждены врагами и попали в рабство, они ждали объявления воли Божией теперь уже не от священника, а от пророков. Значит, именно последние фактически судили Израиль, юридически же должны были повиноваться не им, а первосвященнику. Таким образом, хотя после смерти Моисея и Иисуса Навина священническое царство потеряло силу, оно все же сохраняло свою правовую основу. То, что толкование Слова Божия оставалось за тем же священником, видно из того, что после освящения кущи (престола) и Ковчега завета Бог не говорил больше на горе Синай, но только в куще завета и святилище, охраняемом херувимами, куда не дозволялось входить никому, кроме священника. Таким образом, с правовой точки зрения в этом царстве и верховная гражданская власть, и право толкования Слова Божия находились в руках священника, фактически же и то и другое принадлежало пророкам, судившим израильтян. Ведь в качестве судей они обладали гражданской властью, а в качестве пророков они толковали Слово Божие. В результате в любом случае обе эти власти существовали нераздельно. 16. С установлением царского правления вся гражданская власть, несомненно, стала принадлежать царям, ведь царская власть Божия, осуществляемая через священника, закончилась по просьбе израильтян и с согласия самого Бога, что отмечает еще Иероним, говоря о книгах Самуила: Самуил,- говорит он,- заявляет, что со смертью Илии и убийством Саула старый закон не существует. Далее, клятва, приносимая Садоку и Давиду во имя нового первосвященства и новой власти, свидетельствует, что право, по которому управляли цари, было основано на согласии самого народа. Священник имел право совершать лишь то, что Бог приказывал ему. Царь же имел право делать все, что имел право по отношению к себе совершать каждый. Ведь израильтяне предоставили ему право судить по всем делам и вести войну за всех, а только в этих двух пунктах заключается все то право, которое человек может передать другому человеку. Будет судить нас царь наш и пойдет впереди нас и будет сражаться за нас (1 Цар. 8, 20). Следовательно, судебная власть принадлежала царям, а судить есть не что иное, как применять к поступкам законы, толкуя их; значит, им же принадлежало и толкование законов. А так как вплоть до пленения они не знали никакого иного писаного Слова Божия, кроме закона Моисеева, царям принадлежало также и право толкования Слова Божия. Более того, поскольку Слово Божие следует рассматривать как закон, а толкование законов принадлежало царям, то им же должно было принадлежать и толкование всякого писаного Слова Божия, а не только закона Моисеева. Когда вновь было найдено Второзаконие, долгое время считавшееся потерянным, в котором содержался закон Моисея, священники спросили у Господа об этой книге, но не своей властью обратились к нему, а по указанию Иосии, и не прямо обратились к нему, а через пророчицу Голду. Из этого ясно, что власть признавать книги за Слово Божие не принадлежала священникам. Но отсюда не следует, что эта власть принадлежала пророчице, ибо судили о том, должны или нет другие признать пророка истинным. Ведь зачем же тогда всему народу указал Бог признаки, по которым можно отличить истинного пророка от ложного, а именно результаты пророчеств и согласие с религией, установленные Моисеем, если не было бы позволено пользоваться ими? Следовательно, власть признать книги за Слово Божие принадлежала царю, и поэтому книга эта была одобрена и признана властью царя Иосии, как это явствует из второй книги Царств (22, 23), где рассказывается, что собрал он сословия государства – старцев, священников, пророков и весь народ, прочел перед ними книгу и напомнил о словах завета, то есть заставил израильтян признать этот завет Моисея за Слово Божие и вновь принять и подтвердить его своею волей. Следовательно, во времена царей гражданская власть и право распознавания и отделения Слова Божия от слов человеческих, а также право толкования Слова Божия принадлежало самим царям. Пророков Бог посылал не как властителей, но как глашатаев и проповедников, о которых судили сами слушатели, и, если даже несли наказание те, кто не слушал их ясных и простых наставлений, из этого не следует, что цари обязаны были следовать всему, чему они требовали следовать именем Бога. Ведь хотя и был убит достойный царь иудейский Иосия за то, что не подчинился речам Господа, произнесенным устами Нехо, царя египетского, то есть отверг добрый совет, хотя и исходивший, как это оказалось, от врага, однако никто не скажет, что Иосия был какими-либо законами, божественными или человеческими, обязан верить фараону Нехо, царю египетскому, утверждавшему, что его речи внушены ему Богом. Кто-нибудь, пожалуй, мог бы возразить, что цари из-за недостаточной учености редко оказываются вполне подходящими лицами, чтобы толковать древние книги, в которых заключено Слово Божие, и что несправедливо поэтому, если эта обязанность будет зависеть от их власти. Но то же самое можно сказать и о священниках, и обо всех вообще людях: и они могут заблуждаться, и, если священники и природой и наукой лучше всех остальных людей подготовлены к этому, цари, однако, тоже достаточно разумно могут своею властью назначить такого рода толкователей. При этом, хотя сами цари не толкуют Слова Божия, это толкование может зависеть от их власти. Те же, кто хочет лишить их этой власти на том основании, что они не способны сами осуществлять это толкование, похожи на тех, кто стал бы говорить, что право преподавать геометрию не должно зависеть от царей, если они сами не являются геометрами. Мы читаем, что цари молились за народ, благословляли народ, освящали храм, наставляли священников, отстраняли священников от их обязанностей, назначали других. Но они не приносили жертв, ибо это было наследственным правом Аарона и его сыновей. Очевидно, таким образом, что как при жизни Моисея, так и во все времена, начиная от Саула и до вавилонского пленения, священники были не наставниками, а служителями. 17. После возвращения из вавилонского пленения, когда был возобновлен и закреплен договор, было восстановлено священническое царство в том виде, в каком существовало оно со смерти Иисуса Навина до начала власти царей, хотя и не было отчетливо сказано, что иудеи передают право власти Ездре, под руководством которого они. вернувшись из изгнания, создавали свое государство, или кому-нибудь другому, кроме самого Бога. Это преобразование представляется скорее всего лишь пожеланиями и простыми обещаниями отдельных лиц соблюдать то, что записано в книге законов. Однако же на основании соглашения, которое они тогда, кстати не по воле народа, возобновляли (ведь это соглашение полностью совпадало с тем, что было заключено на горе Синай), это государство было священническим царством, то есть верховная гражданская и духовная власть были объединены в руках священников. И хотя честолюбие, соперничающее в борьбе за первосвященнический сан, и вторжения чужеземных царей, продолжавшиеся вплоть до времени Спасителя нашего Иисуса Христа, до такой степени расшатали этот порядок, что уже невозможно было из истории этих времен понять, где же была сосредоточена эта власть, однако известно, что в те времена право истолкования Слова Божия не было отделено от верховной гражданской власти. 18. Из этого легко понять, как должны были иудеи во все времена от Авраама до Христа относиться к приказаниям своих правителей. Ведь подобно тому, как в царствах, в которых правят люди, подданный должен во всем повиноваться правителю, за исключением тех приказаний, которые содержат в себе оскорбление величия, так и в Царстве Божием нужно было во всем повиноваться владыкам Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею, первосвященнику и каждому царю во время его царствования, за исключением тех приказаний, которые содержали в себе оскорбление божественного величия. Преступление же оскорбления божественного величия состояло прежде всего в отрицании божественного провидения, ибо это означало отрицание того, что Бог является царем по природе; во-вторых, в идолопоклонстве, или в культе богов, не скажу, других (ведь Бог един), но чужеземных, то есть в культе хотя и единого Бога, но чтимого не под теми именами, не с теми атрибутами, не в тех обрядах, которые были установлены Авраамом и Моисеем. Ибо это означало отрицание того, что Бог Авраама является царем их по договору, заключенному с Авраамом и ими самими. Во всем же остальном они должны были повиноваться, и если царь или священник, обладающий верховной властью, приказал бы им что-то, что противоречило законам, то это была бы вина того, кто обладает верховной властью, а не подданного, чей долг состоит в том, чтобы исполнять приказы начальника, а не обсуждать их.ГЛАВА XVII О НОВОЗАВЕТНОМ ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ
1. Пророчества о величии Христа. 2. Пророчества о смирении и страдании Христа. 3. Иисус и есть сей Христос. 4. Царство Божие новозаветное есть царство не Христа как Христа, но Христа как Бога. 5. Царство Божие новозаветное есть Царство Небесное и начинается со Страшного суда. 6. Правление Христа в этом мире было не властью, но увещанием, то есть правлением, состоящим в поучении и убеждении. 7. Каковы были обещания с обеих сторон при заключении Нового завета. 8. Христос не дал ни одного нового закона, кроме установления таинства. 9. Покайтесь, креститесь, соблюдайте то, что приказано, и тому подобное не суть законы. 10. Право определять, в чем состоит грех несправедливости, принадлежит гражданской власти. 11. Право определять, что способствует миру и безопасности государства, принадлежит гражданской власти. 12. Право судить, когда это нужно, какие определения и предложения являются правильными, принадлежит государству. 13. Христос видел долг свой в том, чтобы учить нравственности не с помощью рассуждений, а как законам, отпускать грехи и учить всему, что не является, собственно говоря, наукой. 14. Различие дел светских и духовных. 15. Как можно толковать Слово Божие. 16. Не все, что содержится в Священном писании, имеет отношение к канону христианской веры. 17. Слово истинного толкователя Священного писания есть Слово Божие. 18. Власть толковать Писание совпадает с властью решать споры о вере. 19. Различные значения слова «церковь». 20. Что такое церковь, которой приписывают права, действия и другие свойства личности. 21. Христианское государство и есть христианская церковь. 22. Множество государств не образуют единую церковь. 23. Кто такие церковники (духовные лица). 24. Избрание духовных лиц является прерогативой церкви, посвящение же их – прерогативой пастырей. 25. Власть отпущения грехов покаявшимся, неотпущения их нераскаявшимся принадлежит пастырям, власть же судить о том, раскаялся ли человек, принадлежит церкви. 26. Что такое отлучение и на кого оно может распространяться. 27. Толкование Писания зависит от государственной власти. 28. Христианское государство должно толковать Писание через духовных пастырей. 1. В Ветхом завете есть немало совершенно ясных пророчеств о Спасителе нашем Иисусе Христе, который восстановит Царство Божие через Новый завет, и эти пророчества частично предвещают и Его царское величие, и Его унижение и страдания. Что касается Его величия, то среди прочих можно привести следующие: Бог, благословляя Авраама, обещает ему сына Исаака и говорит при этом: и цари народов произойдут от нее, Сарры (Быт. 17, 16). Иаков, благословляя сына своего Иуду, говорит: Не отойдет скипетр от Иуды (Быт. 49, 10). Бог говорит Моисею: Я воздвигну им пророка из среды братьев их такого, как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему. А кто не слушает слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу (Втор. 18, 18, 19). А теперь опять Исайя (7, 14): Итак, сам Господь даст вам знамение: се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя ему: Еммануил. И он же (Ис. 9, 6): Младенец родился нам, Сын дан нам; владычество на раменах Его и нарекут Ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (Ис. 11, 15). И опять: И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума и т. д. Я будет судить не по взгляду очей Своих, и не по слуху ушей Своих решать дела, но будет судить бедных по правде и т. д., и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. Кроме ????,? 51, 52, 53; 55, 56; 60, 61, 62-й главах того же Исайи нет почти ничего, кроме описания пришествия и деяний будущего Христа. А теперь снова Иеремия: Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет (Иер. 31, 31). Варух-пророк говорит: Сей есть Бог нам и т. д. (Вар. 3, 36, 38). Иезекиль: И поставлю над ними одного Пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. И заключу с ними завет мира (Иез. 34, 23, 25). Даниил: Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын человеческий и дошел он до Ветхого дня, подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; и владычество Его – владычество вечное... (Дан. 7, 13, 14). Аггей: ...Я потрясу небо и землю, море и сушу и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами (Агг. 2, 6, 7). Захария при видении Иисуса-первосвященника: Я привожу раба Моего, Отрасль (Зах. 3, 8) и т. д. Вот Муж, имя Ему Отрасль (Зах. 6, 12), и еще: Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, сей Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий (Зах. 9, 9). Побуждаемые этими и другими пророчествами, иудеи ожидали Христа, царя, который будет послан им Богом, дабы искупить их, а потом править всеми народами. Более того, по всей Римской империи распространилось это пророчество (из Иудеи придет тот, кто овладеет властью), которое даже император Веспасиан истолковал, хотя и ложно, как будто бы предвещающее успех его замыслам. 2. А теперь укажем пророчества об унижении и страданиях Христа, среди которых можно назвать слова Исайи: Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и унижен Богом (Ис. 53, 4), и еще: Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих, как овца, веден был Он на заклание и как агнец перед стригущим его безгласен и т. д. (Ис. 53, 7). И еще: Он отторгнут от земли живых, за преступления народа Моего претерпел казнь (Ис. 53, 8). И еще: Посему Я дам Ему часть между великими и с сильными будет делить добычу за то, что предал он душу Свою на Смерть, к злодеям причтен был, тогда как он понес на Себе грехи многих, за преступников сделался ходатаем (Ис. 53, 12). И Захария: И кроткий, сидящий на ослице, и на молодом осле, сыне подъяремной (Зах. 9, 9). 3. При правлении Цезаря-императора начал проповедовать наш Спаситель Иисус из Галилеи, почитаемый как сын Иосифа, возвещая народу иудейскому, что приблизилось Царствие Божие, которого ждут они, и что Он -Царь, то есть тот самый Христос. Он учил закону, и было при нем двенадцать апостолов и семьдесят учеников, по числу вождей колен израильских и семидесяти старейшин, как у Моисея, которые вслед за Ним указывали путь к спасению. Он очистил храм, и совершил великие знамения, и исполнил все, что пророки предвещали о деяниях будущего Христа. Его ненавидели фарисеи, ложное учение которых и притворную святость Он обличал, и вслед за ними – и народ, Его обвинили в стремлении к царской власти, и Он был распят. Рассказав о Его предках, рождении, жизни, смерти и воскресении, сравнив Его деяния с тем, что было предсказано о Нем, евангелисты показали, что это был истинный Христос и Царь, предвещан-ный Богом, посланный Богом-Отцом, чтобы установить Новый завет между людьми и Богом, и все христиане принимают Его. 4. Из того, что Христос был послан Богом-Отцом заключить новый договор между ним и народом, ясно, что даже если Христос был равен Отцу своему по природе, Он был, однако, ниже Его по праву царской власти. Ведь, собственно говоря, это была не царская власть, а лишь ее исполнение, каким было и правление Моисея. Ибо царская власть принадлежала не Ему, а Отцу его, на что указал и сам Христос, когда крестился как подданный, и прямо заявил об этом, когда учил молиться: Отче наш и т. д. да приидет Царствие Твое (Матф. 6, 9) и когда он сказал: Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когду буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего (Матф. 26, 29). И св. Павел говорит: Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А затем конец, когда Он передаст Царство Богу и Отцу (1 Коринф. 15, 22-24). Оно же называется и Царством Христовым. Ведь и мать сыновей Заведеевых просила Христа, говоря: Скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем (Матф. 20, 21). И разбойник на кресте: Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое (Лук. 23, 42). А апостол Павел: Ибо знайте, что никакой блудник не имеет наследия в Царстве Христа и Бога (Ефес. 5, 5). И в другом месте: Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его (2 Тим. 4, 1), и: И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего Небесного Царства (2 Тим. 4, 18). Не следует удивляться тому, что это Царство отдается и приписывается тому и другому, ибо и тот и другой, Отец и Сын,- это Бог, и Новый завет о Царствии Божием дан во имя Отца, Сына и Святого Духа. 5. Царствие же Божие, ради восстановления которого Христос послан был Богом-Отцом, начнется только со второго пришествия Его, то есть судного дня, когда придет он во славе, сопровождаемый ангелами. Ибо обещано апостолам, что в Царствии Божием будут они судить двенадцать колен Израиля: Вы, последовавшие за Мною -в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядите и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых (Матф. 19, 28). А это должно было случиться только в судный день, следовательно, Христос еще не воссел на престоле Своего величия. Не царством называется время, когда Христос находился на земле, но возрождением (то естьобновлением) или восстановлением Царствия Божия и призванием тех, кто будет принят в будущее Царство. И когда говорится: Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов (Матф. 25, 31, 32), из этого с очевидностью следует, что не должно было в будущем произойти никакого разделения на подданных Бога и врагов Его, но все они должны были жить вместе вплоть до будущего пришествия Христа. Это подтверждает и сравнение Царства Небесного с пшеницей, смешанной с плевелами, а также с сетью, в которую попадается всякого рода рыба. Но толпу людей, образованную из подданных и врагов, живущих вместе, собственно, нельзя назвать Царством. Кроме того, апостолы, спрашивая нашего Спасителя, восстановит ли он царство Израиля тогда, когда он поднимется на небо, ясно заявляют тем самым, что, по их мнению, в то время, когда Христос возносился на небо, Царство Божие еще не пришло. Далее, о том же свидетельствуют слова Христа: Царство Мое не от мира сего (Иоан. 18, 36), и: Не буду пить и т. д., доколе не придет Царство Божие (Лук. 22, 18). И: Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него (Иоан. 3, 17), и: Если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир (Иоан. 12, 47), и: Кто поставил Меня судить или делить вас? (Лук. 12, 14), да и сами слова: Царствие Небесное. То же можно заключить и из слов пророка Иеремии, говорящего о Царствии Божием Нового завета: И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня от самого малого до большого, говорит Господь (Иер. 31, 34), что можно понимать как сказанное о царствовании над этим миром. Следовательно, Царство Божие, ради утверждения которого пришел в этот мир Христос, о котором вещали пророки, о котором мы сами просим в наших молитвах: Да приидет Царствие Твое, если в нем должны быть отделены друг от друга подданные и враги, если должны в нем быть судилища и величие, как это было предсказано, начнется только с того времени, когда отделит Бог овец от козлов, когда апостолы станут судить двенадцать колен Израилевых, когда Христос придет в величии и славе, когда, наконец, все познают Бога, так что не будет больше необходимости учить их, то есть в день последнего суда. Потому что если бы Царство Божие уже было восстановлено, то не было бы никакого основания Христу вновь приходить, если дело, ради которого он был ранее послан на землю, уже было бы выполнено, и нам незачем было бы молиться: да придет Царствие Твое. 6. Но хотя Царство Божие, которое Христос должен установить по Новому завету, было Царствием Небесным, это, однако, не дает основания полагать, что те, кто с верою в Христа приняли этот завет, не должны и на земле иметь правителя, дабы могли они являть ему свою верность и повиновение в исполнении обещанного по договору. Напрасным было бы Царствие Небесное и Земля Обетованная, если бы не нужно было привести нас туда. А привести можно только тех, кому показывают путь. Моисей, установив священническое Царство, в течение всего пути, вплоть до вступления в Землю Обетованную, хотя и не был священником, однако сам вел и направлял народ. Точно так же и Спаситель наш, которого Господь пожелал в этом отношении уподобить Моисею, поскольку оба они посланы были Отцом так править в сей жизни будущими гражданами небесного государства, чтобы они могли обрести его и вступить в него, хотя, собственно, Царство это принадлежит не ему, но Отцу его. Власть же, благодаря которой Христос правит верующими в него, не есть собственно царская власть, но обязанность пастыря или право учить, то есть Бог-Отец не дал ему ни права судить о твоем и моем, какое он дал царям земным, ни права принуждать угрозою наказания, ни права устанавливать законы. Но он дал ему право указывать путь и учить науке спасения, то есть -проповедовать и объяснять, что следует делать тем, кто хочет войти в Царство Небесное. А то, что Христос не получил от Отца власти судить среди тех, кто не верит, о том, что есть твое и мое, то есть во всех вопросах права, достаточно ясно свидетельствуют приведенные выше слова: Кто поставил Меня судить и делить вас? Это подтверждается и разумом: ведь если Христос был послан, чтобы установить соглашение между Богом и людьми, и если никто не обязан повиноваться до того, как заключено соглашение, то никто не был бы обязан повиноваться его приговору, если бы стал он судить по вопросам права. А то, что Христу не было дано право суда ни над верующими, ни над неверующими, ясно уже из того, что право это бесспорно принадлежало государям, коль скоро Бог не изъял из их прерогатив этого права. А он не лишил их этого права до судного дня, как это явствует из слов апостола Павла, говорящего о судном дне: А затем конец, когда он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу (1 Коринф. 15, 24). Во-вторых, о том, что ему не было дано какой-либо власти осуждать или карать, свидетельствуют слова нашего Спасителя, порицавшего Иакова и Иоанна, говоривших (Лук. 9, 54): Господь! Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их (то есть самаритян, которые не пожелали Ему оказать гостеприимство, когда Он шел в Иерусалим). Он так ответил им: Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать (Лук. 9, 56). О том же говорят и слова: Вот я посылаю вас, как овец среди волков, отрясите прах (Матф. 10, 16, 14) и тому подобное, а также и следующие слова: Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него (1 Иоан. 3, 17). Подобно этому следующие: И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир (Иоан. 12, 47). Впрочем, мы читаем: Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну (Иоан. 5, 22); но эти слова, поскольку и могут и должны быть истолкованы как имеющие в виду день будущего суда, не противоречат приведенным выше. Наконец, то, что Он был послан не для создания новых законов и, следовательно, его миссия не была законодательной в собственном смысле, как и миссия Моисея, но заключалась в распространении законов Отца (ибо Бог, а не Моисей и не Христос был царем в силу договора), а это можно заключить из того, что он сказал: не нарушить пришел (имеются в виду законы, данные Богом через Моисея, которые Он толкует), но исполнить (Матф. 5, 17); кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном (Матф. 5, 19). Следовательно, Христос не получил от Отца царской власти повелевать людьми, но лишь власть увещевать и учить людей, о чем он и сам говорит, называя апостолов не охотниками, но ловцами человеков (Матф. 4, 19) или сравнивая Царство Божие с горчичным зерном и закваской для муки (Матф. 13, 31 – 33). 7. Бог обещал Аврааму многочисленное потомство, обладание землей Ханаанской и благословение народов в семени его на том условии, чтобы и сам он, и потомство его служили Богу. Он обещал далее потомству Авраамову священническое царство и полную свободу от подчинения какой-нибудь земной власти на том условии, чтобы поклонялись они Богу Авраама в тех обрядах, каким научил их Моисей. Наконец, он обещал народам Царство Небесное и вечное на том условии, чтобы поклонялись они Богу Авраама в тех обрядах, которым учил Христос. Ибо в Новом, то есть христианском, завете люди дали обещание Богу Авраама в тех обрядах, которым учил Иисус, Бог же обещал отпустить им грехи и принять в Царствие Небесное. Что такое Царствие Небесное, мы сказали выше, в пятом параграфе. Его обычно называют то Царствием Небесным, то Царствием Славы, то Жизнию Вечною. Обязательства, взятые на себя людьми по этому договору, а именно служить Богу согласно с учением Христа, заключают в себе два требования: повиновение Богу (то есть служение Богу) и веру в Иисуса, то есть веру в то, что Иисус и есть тот самый обещанный Богом Христос, ибо только в этом состоит причина, побуждающая нас следовать его учению, а не какому-либо другому. В Священном писании очень часто вместо повиновение говорится покаяние, потому что Христос повсюду учит, что Бог приравнивает намерение к поступку, а покаяние есть неоспоримый знак желания повиноваться. Поняв это, мы совершенно ясно увидим во многих местах Священного писания свидетельства того, что условиями Христианского Завета как раз являются те, о которых мы говорили, а именно со стороны Бога – дарование людям отпущения грехов и жизни вечной, со стороны же людей – вера в Иисуса Христа. Прежде всего следующие слова: Приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие (Марк 1, 15) -заключают в себе весь целиком Завет. Точно так же и следующие слова: Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и пропове-дану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима (Лук. 24, 46-47), и следующие: Покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши, да приидут времена отрады и т. д. (Деян. 3, 19, 20). Иногда же только одно из этих положений отчетливо выражается, другое же – подразумевается, как, например, здесь: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Иоан. 3, 36), где вера указывается прямо, а покаяние молчаливо подразумевается. То же в проповеди Христа: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Матф. 4, 17), где говорится о покаянии, вера же подразумевается. Но особенно ясно и точно излагаются положения Нового Завета там, где некий начальник, как бы желая купить Царство Божие, спрашивает нашего Спасителя: Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? (Лук. 18, 18). А Христос сначала называет одну часть цены: соблюдение заветов, или повиновение', а когда тот ответил, что он уже явил его, называет другую: Еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною (Лук. 18, 22). Это говорилось о вере. А тот, не веря вполне Христу, опечалился и ушел. Этот же Завет содержится и в следующих словах: Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет (Марк 16, 16), где говорится непосредственно о вере, покаяние же мыслится в понятии крещения. А также и в следующих словах: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Иоан. 3, 5), где родиться от воды означает то же, что и возрождение, то есть обращение к Христу. Что же касается того, что в двух цитированных выше, а также и в других местах выдвигается требование крещения, то необходимо понять, что крещение в Новом завете есть то же, что и обрезание в Ветхом завете. Ведь обрезание относилось не к сущности древнего соглашения, а существовало лишь как знак и обряд, напоминающий о нем, и не совершалось во время странствований в пустыне, и точно так же крещение не имеет отношения к сущности нового соглашения, а совершается лишь как знак, напоминающий о нем, и может в действительности и не совершаться в силу необходимости, лишь бы было желание обращения. Покаяние же и вера, выражающие сущность Завета, необходимы всегда. 8. В Царстве Божием, когда кончается жизнь земная, уже не существует более никаких законов: во-первых, потому, что нет места законам там, где нет места греху, а во-вторых, потому, что законы даны Богом не для того, чтобы править нами на небе, но для того, чтобы привести нас на небо. А теперь рассмотрим те законы, которые Христос не создал сам, поскольку (как было сказано выше, в шестом параграфе) Он не пожелал взять на себя власть законодательную, а проповедовал, законы Отца своего. У нас есть место из Писания, где Он сводит все до сих пор существующие божеские законы к двум требованиям: Возлюби Господа Бога своего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Матф. 22, 37-40). Первая из этих заповедей была высказана еще Моисеем (Втор. 6, 5) ив тех же словах, вторая же еще до Моисея, ибо это естественный закон, берущий свое начало в самой разумной природе. Обе эти заповеди вместе представляют сущность всех законов. Ибо все законы, касающиеся естественного культа Бога, содержатся в словах: Возлюби Господа, и все законы, касающиеся культа Бога, должного по Ветхому завету, содержатся в словах: Возлюби Бога твоего, то есть Бога как царя Авраама и семени его; и все законы естественные и гражданские содержатся в словах: Возлюби ближнего твоего как самого себя. Ведь тот, кто любит Бога и ближнего, всегда готов повиноваться и божественным и гражданским законам. А Бог не требует ничего более, кроме готовности повиноваться. Есть у нас и другое место, где Христос толкует законы, а именно пятая, шестая и седьмая главы Евангелия от Матфея. Все законы эти содержатся либо в Десяти заповедях, либо в нравственном законе, либо заключены в вере Авраамовой, как содержится в вере Авраамовой требование не отвергать жены. .Ведь эти слова: Будут двое во плоть едину – сказаны впервые не Христом, не Моисеем, а Авраамом, который первым восславил сотворение мира. Следовательно, законы, которые Христос в одном месте перечисляет, а в другом разъясняет, ничем не отличаются от тех, которых придерживаются все смертные, признающие Бога Авраама. А кроме них, Христос не провозгласил ни одного закона, за исключением установления таинства крещения и причащения. 9. Что же в таком случае сказать о таких заповедях, как покайтесь, креститесь, исполняй веления, верьте Евангелию, придите ко мне, продай все, что имеешь, раздай бедным, следуй за мной, и тому подобных? Нужно сказать, что все это не законы, а призыв к вере, подобно призыву Исайи: Идите покупайте без серебра и без платы вино и молоко (Ис. 55, 1). И если призванные не являются, они не грешат против какого-либо закона, но грешат только против благоразумия, и наказано будет не неверие, а прошлые грехи, поэтому Иоанн говорит о неверующем: Гнев Божий пребывает на нем (Иоан. 3, 36), а не говорит: Гнев Божий падет на него, и еще: неверующий уже осужден, потому что не уверовал; он не говорит: будет осужден, но: уже осужден. Более того, невозможно понять, что отпущение грехов есть благодеяние, исходящее от веры, если не понять и обратного, что наказание за грехи есть несчастье, исходящее от неверия. 10. Ии того, что Спаситель наш не установил никаких дистрибутивных законов подданным и гражданам государств, то есть не дал никаких правил, на основании которых гражданин мог бы знать и различать, что является его собственным, а что – чужим, и не указал, в каких формулах, словах и действиях полагается дарить или передавать вещь, вступать во владение или владеть ею так, чтобы она по праву считалась принадлежащей получающему, вступающему во владение или владеющему ею, то по необходимости приходится сделать вывод, что не только у неверных, для которых сам Христос отказался быть судьей, решающим их судьбы, но и у христиан отдельные граждане должны получать эти правила от государства, то есть от того человека или от того совета, который обладает верховной властью в Государстве. Следовательно, такие законы, как не убий, не прелюбодействуй, не укради, почитай родителей, не требуют ничего иного, кроме абсолютного подчинения граждан и подданных своим государям и верховным правителям во всех вопросах, касающихся моего, твоего, своего и чужого. Ведь и требование не убий запрещает не всякое убийство. Ибо тот, кто сказал: не убий, сказал также: всякий, кто будет делать дело в субботу, будет предан смерти (Исх. 35, 2). И не запрещено также всякое убийство без суда; ибо сказано: и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего (Исх. 32, 27); и было убита двадцать три тысячи человек. И не запрещено всякое убийство невиновного, ибо Иефай дал обет: Что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение (Суд. 11, 31), и обет его был принят Богом. Так что же запрещено? Только одно: убивать кого бы то ни было, кого он не имеет права убивать, то есть никто не может убить другого, если у него нет на то права. Значит, закон Христа повелевает повиноваться только государству, когда речь идет об убийстве или вообще обо всяком нанесении вреда человеку и о наказании. Точно так же заповедь не прелюбодействуй запрещает не всякое сожительство, а лишь сожительство с чужой женщиной, а судить о том, кто является чужой, может только государство, устанавливающее соответствующие правила, по которым это следует решать. Итак, эта заповедь повелевает мужчине и женщине сохранять верность тому обязательству, которое они взаимно дали друг другу по требованию государства. Аналогично заповедь не укради запрещает завладение не всякой вещью или попытку тайно унести ее, но лишь только чужой. Гражданин обязан лишь не захватывать и не похищать того, захват или похищение чего запрещены государством. И вообще, человекоубийством, прелюбодеянием ж воровством может быть названо только то, что совершается вопреки законам государства. Наконец, поскольку Христос повелел почитать родителей, но не указал ни обрядов, ни специальных обращений, которыми должно было бы выражаться это повиновение и почтение, то очевидно, что это почтение должно быть внутренним в заключаться в уважении, проявляемом сыновьями к родителям, как к своим царям и господам, что же касается внешнего его выражения, то оно tie должно превосходить той меры, которую установило государство, каждому определившее полагающуюся ему часть (как, впрочем, к остальное). А так как сущность справедливости состоит в том, чтобы воздавать каждому свое, то очевидно, что определять, что есть справедливость и что – несправедливость, то есть проступок против справедливости, является прерогативой государства, в том числе и христианского. А принадлежащее государству должно считаться принадлежащим тому или тем, кто обладает верховной властью в государстве. 11. Далее, поскольку наш Спаситель не указал гражданам никаких законов относительно гражданского правления, за исключением законов природы, то есть за исключением требования гражданского повиновения, ни один гражданин не может но собственному усмотрению определять, кто друг, а кто враг государству, когда следует начинать войну, когда – заключать договор, когда – мир, когда – перемирие или – какой гражданин, какое и чье влияние, какие учения, какие обычаи, какие речи, какие объединения и каких именно люден служат интересу и благу государства или враждебны им. Следовательно, все это и тому подобное должно определяться в случае надобности государством, то есть верховными правителями. 12. Далее. Строительство оборонительных сооружений, домов, храмов, передвижение и поднятие огромных тяжестей, благополучное плавание по морю, создание машин различного назначения, открытие земель, движения светил, познание времен года, исчисления времени и вообще природы вещей, владение правом естественных и гражданским и все науки, которые охватываются одним именем – философии, необходимы как вообще для жизни, так и для счастливой жизни. Значение всего этого, поскольку Христос не дал нам его, должно приобретаться посредством рассуждения, то есть в последовательном ряду рассуждений, отправляющихся от данных опыта. Но рассуждения людей иногда верны, но иногда и ошибочны, а поэтому и выводы, принимаемые за истинные, иногда представляют собой истину, а иногда – заблуждение. Заблуждения же в философских вопросах иногда оказываются общественно опасными и могут привести к серьезным потрясениям и беспорядкам. Следовательно, нужно, чтобы всякий раз, как начинается спор о подобных вещах, который может нанести вред общественному благу и общему миру, был бы кто-нибудь, кто мог бы высказать свое мнение об этом рассуждении, то есть сказать, правильны ли его посылки иди нет, с тем чтобы положить конец спору. Но об этом предмете Христос не дал никаких правил, ибо он пришел в этот мир яе для того, чтобы учить логике. Следовательно, остается, чтобы судьями в подобных спорах были те же, кого Бог по природе сделал судьями раньше, то есть те, кого назначил в каждом государстве его верховный властитель. Далее, если возникнет спор о точном и адекватном значении имен, или названий общеупотребительных вещей, то есть об их дефинициях, которые окажутся необходимыми для сохранении гражданского мира и осуществления справедливости, то право такого определения должно принадлежать государству. Ибо подобного рода дефиниции люди выводят путем логических рассуждений из наблюдения над различными понятиями, для обозначения которых в различные времена и по разным причинам применялись эти наименования. Решение же вопроса, правильно ли то или иное рассуждение, принадлежит государству. Например, если женщина родит какого-то уродца, а закон запрещает убивать человека, то возникает вопрос, является ли этот новорожденный человеком. Отсюда возникает вопрос, что такое человек? Никто не сомневается, что решать будет государство, при этом отнюдь не принимая во внимание аристотелевскую дефиницию, что человек – это животное, наделенное разумом. И все это, а именно право, политика и естественные науки являются предметами, давать наставления в которых и учить чему-то, кроме одного-единственного – чтобы все отдельные граждане государства во всех подобного рода спорах подчинялись законам своего государства, Христос не признавал своим долгом. Нужно, однако, помнить одно, что тот же Христос, будучи Богом, не только обладал правом учить, но повелевать все, что ему будет угодно. 13. Главной же задачей нашего Спасителя было научить людей пути и всем средствам, ведущим к спасению и к жизни вечной. А одно из средств к спасению – это справедливость, гражданское повиновение и соблюдение всех естественных законов. Научить им можно двумя путями: либо естественным разумом, как теоремам, выводя право и естественные законы из принципов, лежащих в основе человеческих соглашений, и это учение, изложенное именно таким способом, подлежит рассмотрению гражданских властей; либо – как законам, утвержденным божественной властью, укалывай, что такова воля Божия; учить, таким образом, дано только тому, кому сверхъестественным образом известна воля Бога, то есть Христу. Во-вторых, миссией Христа является прощение грехов кающимся, ибо это необходимо для спасения людей, которые уже согрешили, и это не может совершить никто другой. Ведь отпущение грехов не следует естественным образом, как должное, за покаянием, но зависит, как милость, от воли Бога, проявляющейся в сверхъестественном откровении. В-третьих, долгом Христа было учить всем тем повелениям Божьим, относящимся и к культу, и к догматам веры, которые не могут быть познаны естественным разумом, но только путем откровения; таковыми являются истины, что он сам есть Христос, что Царство его не земное, а Небесное, что ждут нас награды и кары после всей жизни, что душа бессмертна, что молитв столько-то и таких то и тому подобное. 14. Ил сказанного в предыдущих параграфах нетрудно установить различие между духовным (spiritualia) и преходящим (temporalia). Ведь поскольку мы понимаем под духовным то, что основывается на власти и миссии Христа и что невозможно было бы знать, если бы Христос не учил этому, и поскольку все остальное преходяще, то, следовательно, определение и вынесение решения о том, что является справедливым и несправедливым, рассмотрение всех споров относительно средств обеспечения мира и общестонной безопасности, оценка учений и книг во всех областих рационального знания являются принадлежностью прива преходящего (светского). Суждения же о таинствах веры, зависящих только от слова и власти Христовой, принадлежат области духовного права. Но определение того, что является духовным, а что – преходящим, поскольку наш Спаситель не оставил нам такого различия, принадлежит разуму и относится к области права прехо-дящегоо (светского). Иедь апостол Навел в ряде мест проводит различие между духовным и плотским (Рим. 8, 5, 1. 1 Коринф. 12, 8-10) и называет духовным то, что исходит от духа, в частности мудрость, слово знания, веру, дар исцелений, чудотворства, пророчества, различие духов, знание разных языков, истолкование высказанного, то есть все сверхъестественным образом вдохновленное Снятым Духом и что не способен понять человек животный, но только тот, кто познал мысль Христа (2 Коринф. 2, 14 – 16). Блага же судьбы называет он телесными (Рим. 15, 27), а людей – плотскими (1 Коринф. 3, 1-3); он, однако, не определяет и не устанавливает правил, по которым мы могли бы познать, что исходит от естественного разума, а что – от сверхъестественного вдохновения. 15. Итак, поскольку мы знаем, что верховное право решать и разбирать все споры о вещах преходящих наш Спаситель передал государям и тем, кто в каждом государстве обладает верховной властью, или скорее не лишил их этого права, теперь необходимо рассмотреть, кому передал он аналогичное право относительно вещей духовных, а так как узнать это можно только из Слова Божия и учения церкви, сначала следует выяснить, что такое Слово Божие, что значит толковать его, что такое церковь, что такое воля и приказание церкви. Если не говорить о том, что иногда в Священном писании Слово Божие употребляется в смысле Сын Божий, то это выражение имеет троякое значение. Первое и самое точное и собственное его значение – то, что сказал Бог, и, таким образом, Слово Божие есть то, что говорил Бог Аврааму, патриархам, Моисею и пророкам, или то, что сказал наш Спаситель ученикам и всем другим. Второе его значение: то, что люди говорили по приказанию или по внушению Святого Духа; в этом смысле мы признаем, что Священное писание есть Слово Божие. В третьем же смысле, особенно часто в Новом завете, Слово Божие чаще всего означает евангельское учение, то есть Слово о Боге, то есть Слово о Царствии Божием Христовом. В этом смысле, например, (Матф. 4, 23), где говорится, что Христос проповедовал Евангелие Царствия. Также в Деяниях апостолов (13, 46) говорится, что апостолы проповедуют Слово Божие. Там же (Деян. 5, 20) Слово Божие называется Словом Жизни и там же (Деян. 15, 7) Словом Евангелия и (Рим. 10, 8) Словом Веры или (Ефес. 1, 13) Словом Истины, которое толкуется как Евангелие спасения; и где называется Словом апостольским, ибо Павел говорит: Если же кто не послушает слова нашего и т. д. (2 Фес. 3,14). Все эти места могут быть истолкованы только в смысле евангельского учения. То же самое в Деяниях апостолов (12, 24; 13, 49), где говорится, что Слово Божие распространяется, растет и множится. Трудно решить, говорится ли это о слове самого Бога или о словах апостолов, но, если речь идет об учении, тогда все становится легкопонятным. И в этом третьем значении Слово Божие есть все учение о христианской вере, излагаемое ныне с кафедр и в книгах богословов. 16. Итак, Священное писание в той мере, в какой мы признаем его боговдохновенным, целиком есть Слово Божие во втором его значении, а кроме того, в нем бесчисленное множество мест, где Слово Божие употреблено в первом его значении. И поскольку большая его часть касается предсказания, или изображения Царства Божия до воплощения Христа либо Благовещения и толкования его после воплощения Христа, то Священное писание есть Слово Божие и в третьем значении, когда Слово Божие понимается как Слово о Боге, то есть как Евангелие, а потому представляет собой также канон и основу всего евангельского учения. Поскольку же в Писании упоминаются и многие вопросы политические, исторические, нравственные, физические и другие, не имеющие вообще никакого отношения к таинствам веры, то эти места, хотя и содержащие истинное учение и являющиеся каноном для этих наук, не могут, однако, рассматриваться как канон таинства христианской религии. 17. Но не форма и не буква Слова Божия являются каноном христианского учения, а его истинный и внутренний смысл, ибо Писание может направлять душу лишь тогда, когда оно понятно. Значит, для того, чтобы Писание стало каноном, необходимо его толковать. Отсюда следует одно из двух. Либо слова толкователя есть Слова Бога, либо Слово Божие не есть канон христианского учения. Последнее необходимо оказывается ложным, потому что основа (regula) учения, которое не может быть познано никаким человеческим разумом, но становится известным лишь через божественное откровение, не может не быть божественной. Ибо невозможно принимать за определяющее мнение того, кто, как мы признаем, не может знать, истинно ли какое-то учение или нет. Следовательно, правильно первое: слово толкователя Писания есть Слово Божие. 18. Но этим толкователем, мнению которого воздается такая честь, что оно считается Словом Божиим, не будет любой, переводящий с еврейского и греческого языков Писание для своих латинских слушателей на латинский, на французский и для других – на их родной язык, ибо это не есть толкование. Ведь природа всякой речи вообще состоит в том, что хотя она и занимает первое место среди всех тех знаков, с помощью которых мы открываем другим наши мысли, однако одна речь без помощи многих дополнительных средств не может выполнить этой задачи. Ведь живое слово имеет при себе своего рода толкователей, а именно – время, место, выражение лица, жестикуляцию, цель говорящего и даже самого говорящего, раскрывающего свою мысль, если это необходимо, другими словами. Использовать все эти средства истолкования, отсутствующие в древних текстах, недоступно обыкновенному уму, да и вообще всякому уму без помощи эрудиции и глубочайшего знания древности. Значит, для того, чтобы толковать Писание, недостаточно знания языка, на котором оно написано. Не является и каноническим толкователем Писания каждый, кто пишет к нему комментарии, ибо люди могут заблуждаться, а могут даже искажать его, побуждаемые собственным тщеславием, или отдаваться в рабство собственным предрассудкам, несмотря на то что оно противоречит им, из чего следует, что за Слово Божие придется принимать ошибочное мнение. И даже если бы этого не случилось, все равно, как только возникают разногласия между комментаторами, их комментарии будут нуждаться в объяснениях, а со временем эти объяснения – в толкованиях, толкования – в новых комментариях, и так без конца. Поэтому канон, то есть основание христианского учения, на котором должны решаться все религиозные споры, никоим образом не может выражаться в каком-либо писаном толковании. Остается, что каноническим истолкователем должен быть некто, чьей законной обязанностью является решение возникающих споров путем истолкования Слова Божия во время самого суда и чьей власти поэтому должно покоряться, как и авторитету тех, кто первыми объявили самоё Писание каноном веры для нас, и что толкователем Писания и верховным судьей всех учений должен быть один и тот же человек. 19. Что касается названия церкви (ecclesia), то первоначально оно имеет то жо значение, что и латинское concio – сходка, или собрание, граждан, так же как и духовное лицо (ecclisiastes – клирик) – то же, что concio-nator – оратор, то есть тот, кто обращается к собранию. В этом смысле в Деяниях апостолов (19, 32, 39) мы читаем о беспорядочном собрании и законном собрании, в последнем случае речь идет о созванном собрании, в первом – о сбежавшейся в беспорядке толпе народа. Впрочем, под христианской церковью в Священном писании понимается иногда некое собрание, иногда же – сами христиане, хотя в действительности и не собравшиеся вместе, поскольку допускается, что они могут принять участие в собрании и вступить в общение друг с другом. Например, скажи церкви (Матф. 18, 17) понимается как сказанное о собрании, ибо иначе было бы невозможно «говорить церкви». Но выражение терзал церковь (Денп. 8, 3) имеет в виду самих христиан, а не их собрание. Иногда слово церковь обозначает крещеных, то есть принявших христианскую веру, независимо от того, являются ли они искренними христианами или нет, так что когда мы читаем, что нечто сказанное или написанное для церкви или сказанное, решенное, совершенное церковью, то иногда это говорится только об избранных, как в Послании к Ефесянам (Ефес. 5, 27), где говорится о славной церкви, не имеющей пятна или порока. Но избранные, до тех пор пока они сражаются, собственно говоря, не являются церковью, ибо они не могут соединиться, они суть Церковь Грядущая, которая возникает в тот день, когда они, отделенные от дурных, восторжествуют. Наоборот, иногда церковь понимается как общее обозначение всех христиан одновременно, как в Послании к Ефесянам, где Христос называется Главой церкви (Ефес. 5, 23), и в Послании к Колоссянам, где он называется Главой тела церкви (Колос. 1, 18). Иногда же церковь понимается как части ее, например церковь Ефеса, церковь, сущая в дому сем, семь церквей и т. д. Наконец, церковь, рассматриваемая как действительное собрание, в зависимости от различных целей этого собрания иногда обозначает тех, кто собирается для обсуждения каких-то дел и для суда, и в этом смысле она называется собрание или синод, иногда же она обозначает тех, кто собирается в молитвенный дом для почитания Бога, и в этом смысле она употребляется в первом Послании к Коринфянам (1 Коринф. 14, 4, 5, 23, 28 и др.). 20. Церковь же, которой приписывают собственные права и действия как определенному лицу и которая, бесспорно, имеется в виду, когда говорят: скажи церкви, и кто не повинуется церкви, и все тому подобные выражения, должна быть определена так, что это слово понимается как множество людей, вступивших в новый договор с Богом благодаря Христу, то есть тех, кто принял таинство крещения и которые могут быть по праву созваны кем-то в одно место, где все обязаны присутствовать по его призыву либо лично, либо через других. Ибо, если множество людей не может, когда это необходимо, сойтись на общее собрание, оно не может называться единым лицом. Ведь церковь может говорить, решать, выслушивать только в качестве единого собрания. Сказанное же отдельными людьми, когда, сколько голов, столько умов, является высказыванием одного человека, а не церкви. Более того, если это собрание окажется незаконным, то его вообще не следует принимать во внимание. А поэтому никто из участвующих в таком незаконном собрании не будет связан решением остальных, тем более если он с ним не согласен. И такая церковь не может вынести какого-либо решения: ведь можно говорить о том, что масса решает что-то, лишь в том случае, когда каждый обязан подчиняться решению большинства. Следовательно, к определению церкви, которую мы рассматриваем как лицо, нужно присоединить еще и указание не только на возможность собираться, но и на то, что это должно происходить по праву. Кроме того, даже если существует кто-то, кто обладает правом собирать других, а те, кого призывают, могут, однако, не являться (а это может произойти среди людей, из которых никто не подчинен друг другу), то такая церковь не является единым лицом. Ибо по тому же праву, по которому собравшиеся в определенное время и в определенном месте, куда они были призваны, являются единой церковью, другие, собирающиеся в другом установленном ими месте, образуют иную церковь. И любое число единоверцев есть церковь, и соответственно будет столько церквей, сколько существует различных представлений, то есть одна и та же масса людей будет одновременно и одной и многими церквами. Таким образом, не является единой церковь, если она не обладает определенной и всем известной, то есть законной, властью, в силу которой отдельные люди обязаны присутствовать на собраниях лично или через других. Единой же и способной к исполнению функцией лица она становится в силу единства законной власти, имеющей право собирать синоды и собрания христиан, а не и силу единства вероучения, в противном же случае это лишь множество людей и множество лиц, в той или иной мере согласных между собой в убеждениях. 21. К тому, что уже было сказано, с необходимостью примыкает тот факт, что христианское государство и церковь, образуемые одними и теми же людьми, есть совершенно одно и то же, называемое двумя именами в силу двух образующих причин. Ведь и у государства, и у церкви одна и та же материя, именно – те же христиане. Точно так же у них одна и та же форма, состоящая в законной власти собирать их, ибо известно, что и отдельные граждане обязаны приходить туда, куда ях призывает государство. И коль скоро речь идет о людях, мы называем их объединение государством, если же речь идет о христианах, то это же объединение называется церковью. 22. С этим же согласуется и следующее положение: если христианских государств много, то все они вместе не образуют церкви как единого лица. Они, конечно, могут по взаимному согласию стать единой церковью, но только в том случае, если они станут единым государством. Ведь они могут собираться только в определенное время и в установленном месте. Но все, что касается лиц, места и времени собрания, их определение находится в компетенции гражданского права, и ни один гражданин, и ни один иностранец не имеют права вступить в какое-либо место без позволения государства, являющегося хозяином этого места. То же, что не может происходить с полным правом иначе как с позволения государства, совершается его властями, если совершается по праву. Конечно, вселенская церковь есть единое мистическое тело, главой которого является Христос, но на том же основании, на каком все люди вместе, признающие Бога правителем мира, являются единым царством и одним государством. Однако оно не является единым лицом, не осуществляет единого действия и не имеет общего мнения. Кроме того, когда говорят, что Христос является Главой Тела Церкви, то совершенно очевидно, что это сказано апостолом об избранных, которые, пребывая в этом мире, только потенциально являются церковью, которая осуществится только тогда, когда они будут отделены от порочных и объединятся друг с другом в судный день. Некогда римская церковь была огромной, но никогда не переступала границ империи, следовательно, она была вселенской только в том смысле, в каком говорилось о римском государстве: всем уже кругом земель победитель римский владеет, хотя он не владел и двадцатой его частью. А после того, как гражданская империя распалась на части, отдельные, возникшие из нее государства образовали такое же число церквей; и власть, которой обладала по отношению к ним римская церковь, могла целиком зависеть от власти этих государств, которые, освободившись от императоров, согласились, однако, сохранить римских пастырей (doctores). 23. Духовными лицами могут быть названы те, кто исполняют в церкви общественные обязанности. Это были обязанности услужения и обязанности научения. Обязанностью служителей было прислуживать при трапезе, заботиться о светских благах церкви и распределять между отдельными ее членами причитающуюся им долю, ибо в то время они, уничтожив всякую частную собственность на имущество, жили и кормились сообща. Учители же по чину одни назывались апостолами, другие – епископами, третьи – пресвитерами, то есть старшими по возрасту, старейшинами; при этом, однако, слово пресвитер указывало не на возраст, а на исполняемую обязанность. Ведь Тимофей был пресвитером, хотя он и был совсем юн, но, поскольку все же в большинстве случаев к обязанностям правления привлекались люди более пожилые, слово, обозначающее возраст, стало обозначать и исполняемую должность. Те же старшие в зависимости от различия исполняемых ими обязанностей одни назывались апостолами, другие – пророками, третьи – евангелистами, четвертые – пастырями или учителями. Апостольские обязанности охватывали всё, пророки же должны были лишь рассказывать в церкви о своих откровениях, евангелисты должны были проповедовать Евангелие, то есть быть его провозвестниками перед неверующими, обязанностью же пастырей было поучать, укреплять и направлять души тех, кто уже уверовал. 24. При избрании духовных лиц необходимо принимать во внимание два обстоятельства, а именно избрание тех или иных лиц и посвящение, или назначение их, которое называется также постановлением. Первых двенадцать апостолов избрал и поставил сам Христос. После вознесения Христа на место предателя Иуды был поставлен Матфей, хотя церковь, насчитывающая тогда около ста двадцати человек, избрала двоих, ибо они назвали двух: Иосифа и Матфея, но жребий показал, что Бог одобрил одного Матфея. И этих двенадцать апостолов Павел называет великими и первыми, а также апостолами обрезания. Потом появилось еще два апостола, Павел и Варнава; поставлены же они были путем рукоположения учениками и пророками актиохийекой цоркви, которая была особой церковью, избраны же они были по велению Святого Духа. А то, что они оба были апостолами, известно из четырнадцатой главы Деяний (Деян. 14, 13). Что они удостоились апостольского сана за то, что по велению Святого Духа были избраны для служения Богу пророками и учителями антиохийской церкви, указывает сам апостол Павел, называющий себя, чтобы отличить от других апостолов, призванным апостолом, избранным к Благовестию Божию (Рим. 1, 1). Но если возникнет далее вопрос, чьею властью слова пророков и учителей, утверждавших, что таково веление Святого Духа, были приняты как веление Святого Духа, необходимо будет ответить – властью антиохийской церкви. Ибо пророки и учителя перед тем, как быть допущенными к служению, должны подвергаться испытанию со стороны церкни. Ведь Иоанн говорит: Не всякому духу верьте, по испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире (1 Иоан. 4, 1). Со стороны какой же церкви, если не той, к которой обращено послание? Точно так же Павел упрекает церковь галатов за то, что они уподобляются иудеям (Гал. 2, 14), хотя они, по-видимому, делали это под влиянием Петра. Сказав, что он упрекнул и самого Петра следующими словами: Если ты, будучи иудеем, жи'вешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждать жить по-иудейски, он немного позже спрашивает их самих: Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа или через наставления в вере? (Гал. 3, 2). Отсюда становится ясным, что то, в чем он упрекает галатов, есть иудаизм, хотя апостол Петр и побуждал их к этому. Таким образом, поскольку ни Петру, следовательно, ни одному человеку не было дано определять, каким учителям должна следовать церковь, избрание собственных учителей и пророков опиралось на авторитет антиохийской церкви; а так как Святой Дух путем рукоположения избранных таким образом учителей взял себе апостолами Павла и Варнаву, то очевидно, что посвящение и рукоположение высших учителей в любой церкви принадлежит учителям той же церкви. Епископов же, которые назывались также и пресвитеры, хотя не все пресвитеры были епископами, поставили как апостолы (Павел и Варнава, проповедовавшие в Листре, Иконии и Антиохии, поставили там в каждой церкви пресвитера(Деян. 14, 21)), так и другие епископы. Так, на Крите Павел поставил Тита (Тит 1, 5), чтобы тот поставил в каждом городе пресвитеров. И Тимофею сказано было: Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства (1 Тим. 4, 14). Ему же были даны правила избрания пресвитеров. А это можно понять только как относящееся к тем, кто избран церковью. Ибо никто не мог брать церкви учителя без разрешения самой церкви. Ведь и самим апостолам положено было не повелевать, а учить. И хотя те, кого предлагали апостолы и пресвитеры, из уважения к последним не отвергались, но, поскольку они не могли быть избраны без соизволения на то церкви, они считались избранными властью церкви. Точно так же и служители, которые назывались диаконами, были поставлены апостолами, избраны же церковью. Ведь когда нужно было избрать и поставить семь диаконов, то их апостолы не избирали, а сказали: Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных и т. д. (Деян. 6, 3), и те избрали Стефана (5) и т. д., и их поставили перед Апостолами (6) и т. д. Итак, из обычая апостольской церкви ясно, что поставление всех духовных лиц, то есть посвящение, совершаемое через молитву и рукоположение, принадлежало апостолам и учителям, избрание же тех, которые должны быть рукоположены, принадлежало церкви. 25. Нет сомнения в том, что власть разрешать и связывать, то есть отпускать и не отпускать грехи, дана Христом будущим пастырям так же, как и жившим тогда апостолам. А апостолам была дана вся власть отпущения грехов, которую имел Христос, говоря: Как послал меня Отец, так и Я посылаю вас (Иоан. 20, 21). И сказал при этом: Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся (Иоан. 20, 23). Но сомнения возникают по поводу того, что значит разрешать и связывать, или отпускать и не отпускать грехи. Ибо, во-первых, не отпускать грехи тому, кто был крещен во отпущение грехов и поистине покаялся, представляется противоречащим самому соглашению Нового завета, а потому не может исходить от Христа, а тем более от пастырей. Отпускать же грехи тому, кто не покаялся, представляется противоречащим воле Бога-Отца, которым Христос был послан в мир, дабы обратить его и привести людей к повиновению Богу. Далее, если бы каждому пастырю было предоставлено право отпускать или не отпускать грехи, то исчез бы всякий страх перед государями и гражданскими начальниками, а вместе с ним было бы разрушено и все управление государством. Ведь Христос сказал (да и сама природа требует этого): И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в геенне (Матф. 10, 28). И не найдется такого безумца, который не предпочел бы повиноваться скорее тем, кто может отпускать или не отпускать грехи, чем самым могущественнейшим государям. Однако, с другой стороны, не следует полагать, что отпущение грехов есть не что иное, как освобождение от церковного наказания. Ведь что страшного в отлучении, если бы за ним не следовала кара вечная, и в чем был бы смысл вступления в церковь, если бы спасение было возможно вне ее? Следовательно, нужно помнить, что пастыри обладают властью воистину и безусловно отпускать грехи, но только тем, кто покаялся, и не отпускать грехов, но только тем, кто не желает покаяться. А поскольку люди полагают, что покаяние есть не что иное, как осуждение каждым своих поступков и отказ от тех мыслей, которые представляются ему греховными и заслуживающими осуждения, возникло убеждение, что покаяние возможно и до публичной исповеди в грехах перед людьми и что оно есть не результат, а причина исповеди, а значит, и возражение тех, кто утверждает, что грехи кающихся уже отпущены им при крещении, а грехи непокаявшихся вообще не могут быть отпущены, противоречит Писанию и словам Христа, говорящего: кому простите грехи, тому простятся и т. д. Таким образом, следует знать для разрешения этой трудности, во-первых, что истинное признание греха есть само покаяние. Ибо тот, кто знает, что он согрешил, знает, что он заблуждается, а невозможно желать заблуждения; поэтому тот, кто знает, что он согрешил, сожалеет, что это произошло, а это и есть покаяние. Далее, там, где возникает сомнение, является ли тот или иной поступок грехом или нет, необходимо иметь в виду, что покаяние не предшествует признанию греха, но следует за ним. Ведь покаяться можно только в осознанном грехе. Значит, необходимо, чтобы кающийся и признавал свой поступок, и сознавал, в чем состоит его грех, то есть в чем он нарушил закон. Ведь если кто-то не считает свой поступок противозаконным, то невозможно ожидать от него покаяния в нем. Следовательно, покаянию должно обязательно предшествовать соотнесение совершенного поступка с законом. Но бесполезно пытаться сопоставлять деяния с законом, если нет того, кто может истолковывать этот закон, ибо мерилом действий служат не слова закона, а намерение законодателя. А толкователем закона является во всяком случае человек или люди, ибо никто не может быть судьей собственного деяния и судить, является ли оно грехом или нет. Поэтому необходимо объяснить человеку или людям, является ли грехом или нет поступок, вызывающий сомнение. Но это и есть исповедь. А когда толкователь аакона признает, что данный поступок есть грех, и если совершивший его согласится с этим суждением и решит более никогда не совершать подобного, то это и есть покаяние. Но в таком случае истинное покаяние или вообще не происходит, или оно не предшествует, а следует за признанием. После этих объяснений нетрудно понять, что представляет власть разрешать и связывать. Ведь поскольку акт отпущения складывается из двух частей: суждения и осуждения, в силу которого поступок признается грехом, и отпущения греха, следующего за подчинением осужденного приговору и покаянием, либо, если он не покается, неотпущения греха, то первое, а именно суждение о том, является ли поступок грехом, принадлежит толкователю закона, то есть верховному судье; второе же, то есть отпущение или неотпущени греха, принадлежит пастырю: и в этом как раз и заключается та самая власть разрешать и связывать, о которой идет речь. И что именно так в действительности понимал наш Спаситель установление этой власти, очевидно из следующих его слов, обращенных к ученикам: Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним (Матф. 18, 15). Здесь следует, кстати, заметить, что если согрешит против тебя равнозначно если обидит тебя я что, следовательно, Христос говорит о том, что подлежит компетенции гражданского суда, и прибавляет далее: Если же не послушает тебя, то есть если станет отрицать сам факт, или, признавая сам факт, станет отрицать его несправедливость, возьми с собою еще одного или двух... если же не послушает их, скажи церкви (Матф. 18, 17). Зачем нужно было отсылать его к церкви, если не для того, чтобы она сама судила, является ли действие грехом или нет? А если же и церкви не послушается, то есть если не примет решения церкви, но будет настаивать, что не является грехом то, что она сочла грехом, то есть если он не покается (ибо очевидно, что никто не раскаивается в поступке, который не признает грехом), то он не говорит: скажи Апостолам, дабы мы знали, что окончательное решение в вопросе, является ли нечто грехом или нет, принадлежит не им, а церкви, но да будет он тебе как язычник и мытарь (Матф. 18, 17), то есть как находящийся вне церкви, как некрещеный, или как тот, кому грехи его не отпускаются. Ведь всо христиане принимают крещение во отпущение грехов. А поскольку может возникнуть вопрос, кто обладает столь великой властью, которая позволяет лишать непокаявшихся благодати крещения, Христос говорит, что те же самые, кому он дал власть крещения покаявшихся во отпущение грехов и обращения их из язычников в христиан, обладают также и властью не отпускать грехи тем, кого церковь осудила как непокаявшихся, и обращать их из христиан в язычников, и поэтому здесь же прибавил: Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе, и, что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе (Матф. 18, 18). Из этого можно сделать вывод, что власть разрешать и связывать, то есть отпускать грехи, называемая также властью ключей (potestas clavium), ничем не отличается от власти, данной им в другом месте в следующих словах: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Матф. 28, 19). И точно так же, как пастыри не могут отказать в крещении тем, кого церковь считает достойными этого, так они и не могут отказать в отпущении грехов тому, кого церковь считает необходимым простить, ни отпустить грехи тому, кого церковь провозглашает отступником. И церкви принадлежит право судить о самом грехе, и пастыри должны изгонять из церкви осужденных или принимать в лоно ее достойных. Так, апостол Павел, обращаясь к коринфской церкви, говорит: Не внутренних ли вы судите? (1 Коринф. 5, 12), но он же сам провозгласил, что прелюбодей должен быть отлучен от церкви, а я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом... и т.д. (1 Коринф. 5, 3). 26. Но отпущение грехов есть то, что называется отлучением от церкви, а апостол Павел называет это преданием сатине. Само слово отлучение, означающее изгнание из церкви (синагоги, собрания), по-видимому, заимствовано из закона Моисея, по которому все, кого священник назвал прокаженными, должны были находиться вне селения (Лев. 13, 46), пока они, вновь признанные священником здо^-ровыми, по совершении некоторых обрядов, среди которых было и омовение тела, не будут очищены от скверны. А затем, с течением времени, у иудеев сложился обычай тех, кто переходил из язычества в иудейскую веру, принимать как нечистых, также только после омовения, а несогласных с учением синагоги изгонять из нее. Наподобие этого обряда переходящие в христианство, будь то иудеи или язычники, принимались в церковь только после крещения, а несогласные с церковью отлучались от нее. Преданием сатане это называлось потому, что все за пределами церкви считалось царством сатаны, цель этих действий состояла в том, чтобы научить смирению отлученных на время от милости и духовных благ, даруемых церковью, и тем самым привести их к спасению. Результатом же в области благ светских было то, что отлученного не только лишали права присутствовать на собрании, но и каждый христианин избегал его, как заразного больного, еще более страшного, чем язычник. Ибо апостол, позволяя находиться среди язычников, потребовал с такими даже и не есть вместе (1 Коринф. 5, 10, И). И следовательно, если таковы последствия отлучения, то очевидно прежде всего, что христианское государство не может быть отлучено. Ведь (как было показано выше, в параграфе 21) христианское государство и есть христианская церковь и полностью совпадает с ней. Церковь же не может быть отлучена, ибо в противном случае она либо отлучит самоё себя, что невозможно, либо будет отлучена от другой церкви, вселенской или частной. Поскольку же вселенская церковь, не являясь лицом, как показано в параграфе 22, и, следовательно, будучи недееспособной, не может совершать что-либо, она не может и отлучить кого бы то ни было. Частная же церковь, отлучая другую церковь, собственно, не совершает никакого результативного действия и ничего не меняет. Ведь те, кто не собираются на общие для них собрания, не могут быть и изгнаны с них; и если бы какая-нибудь церковь, например иерусалимская, отлучила бы другую церковь, например римскую, она с тем же успехом отлучила бы и самоё себя, ибо, лишая другую церковь права общения с ней, она тем самым лишала и себя общения с последней. Во-вторых, никто не может отлучить от церкви одновременно всех граждан какого-либо независимого государства либо запретить им посещать храмы и совершать общественные культовые обряды. Ведь невозможно отлучить от церкви тех, кто собственно и образует ее; ведь если бы это сделали, то не было бы не только церкви, но и самого государства, и они бы сами по собственной воле уничтожили свое единство, но это не есть ни отлучение, ни запрет. Если же они будут отлучены от другой церкви, то их придется считать по отношению к этой церкви как бы язычниками. Но по учению Христа никакая христианская церковь не может помешать язычникам собираться и общаться между собой, как это угодно тому или иному их государству, тем более если они собираются ради поклонения Христу, хотя они и совершают его по своим собственным и особым обрядам. Следовательно, это распространяется и на отлученных, которые должны рассматриваться как язычники. В-третьих, невозможно отлучить государя, обладающего верховной властью в государстве. Ведь, согласно учению Христа, ни какой-нибудь отдельный гражданин, ни группа их не может запретить своему государю, даже если он язычник, вступать в общественные и частные владения, или появляться на каком-либо собрании, или помешать ему сделать что-то, что он пожелает, поскольку это находится в его власти. Ибо в любом государстве считается преступлением оскорбление величия, если какой-то гражданин или несколько граждан одновременно станут требовать себе какую-то власть над всем государством. А тот, кто требует себе власти над тем, кто обладает верховной властью в государстве, тот требует тем самым и власти над самим государством. Кроме того, если верховный государь является христианином, то тем более государство, чья воля заключена в его собственной воле, является тем, что мы называем церковью. Стало быть, церковь может отлучить кого-нибудь, только опираясь на власть государя. Но государь не может отлучить самого еебя, а следовательно, не может быть отлучен и своими подданными. Впрочем, может случиться так, что собрание мятежных граждан либо предателей провозгласит отлучение верховного государя, но это не имеет правовой силы. И тем более государь не может быть отлучен другим государем, ибо это было бы не столько отлучение, сколько грубое объявление войны. Ведь коль скоро не является единой церковь, состоящая из граждан двух независимых государств, в силу невозможности собираться, как должно, вместе в едином собрании (как было сказано выше, в параграфе 22), то те, кто принадлежит к одной церкви, не обязаны подчиняться другой и, следовательно, не могут быть отлучены за неповиновение. Ну а если кто-нибудь скажет, что государи, будучи членами вселенской церкви, могут быть отлучены ее властью, то это невозможно, потому что вселенская церковь (как сказано в параграфе 12) не является единым лицом, о котором можно было бы сказать, что оно сделало, решило, отлучило, отпустило грехи и тому подобное, что может быть сказано о лице, и не имеет на земле какого-либо правителя, по приказанию которого можно было бы собраться и обсуждать что-то. Ибо быть правителем вселенской церкви и иметь право собирать ее означает то же самое, что быть правителем и господином всех христиан во всем мире, а это не дано никому, кроме одного только Бога. 27. Было показано выше (в 18-м параграфе), что право толкования Священного писания состоит не в том, что истолкователь может свободно излагать и разъяснять другим устно и письменно выводы, которые он оттуда сделал, но в том, что другие не имеют права действовать или учить тому, что противоречит его точке зрения. Таким образом, толкование, о котором идет речь, по существу есть власть выносить окончательное решение во всех спорах, решаемых на основании Священного писания. Здесь же следует подчеркнуть, что эта власть принадлежит отдельным церквам и зависит от власти того или тех, кто обладает верховной властью в государстве, лишь бы они были христианами. Ведь если бы она не зависела от гражданской власти, то неизбежно зависела бы от частного суждения отдельных граждан либо от внешних сил. Зависимость власти от решения отдельных граждан приводит, между прочим, к несчастьям и нелепостям. Главное из них состоит в том, что не только уничтожается вопреки заветам Христа всякое гражданское повиновение, но и разрушается вопреки естественным законам всякое общество и мир между людьми. Ибо если каждый станет толковать Священное писание по-своему, то есть каждый будет считать себя судьей в том, что угодно, а что неугодно Богу, то они станут повиноваться правителям только в том случае, когда сами решат, согласны ли приказания последних со Священным писанием или нет. И в том случае они или вообще не повинуются их приказаниям, или повинуются, исходя из собственного суждения, то есть повинуются самим себе, а не государству. А значит, исчезает и всякое гражданское повиновение. С другой стороны, если каждый будет руководствоваться собственным мнением, то возникающие споры неизбежно будут бесчисленными и неразрешимыми, а это приведет к тому, что среди людей, которые от природы рассматривают всякое несогласие с собой как оскорбление, сначала возникнет ненависть, а потом и ссоры, и война, и в конце концов исчезнет всякое сообщество и мир. Кроме того, мы можем сослаться как на пример на волю Бога относительно Книги закона, о чем говорится в Ветхом завете. Бог разрешил записать закон, объявить его всем, позволил ему быть каноном божественного учения, но и пожелал, чтобы решение споров на основании этого закона принадлежало не отдельным людям, а только священникам. Есть, наконец, и повеление нашего Спасителя слушаться церкви, если возникнут какие-то взаимные обиды. Поэтому решение споров есть обязанность церкви. Следовательно, церкви, а не отдельным людям принадлежит право толковать Священное писание. А для того, чтобы знать, что власть толковать Слово Божие, то есть решать все вопросы, касающиеся Бога и религии, не принадлежит какому-то лицу, находящемуся вне государства, нужно прежде всего оценить, сколь важную роль играет эта власть в определении настроений граждан и во всей гражданской деятельности. Ведь ни для кого не может быть тайной, что все произвольные действия людей в то же время с естественной необходимостью определяются их представлениями о добре и зле, о наградах и карах. Отсюда неизбежно рождается желание повиноваться тем, от кого, по их убеждению, зависит, обретут ли они навеки счастье или будут вечно несчастными. А люди ожидают вечное спасение или вечную погибель от воли тех же людей, от чьей воли зависит, какие учения и какие действия будут признаны необходимыми для достижения спасения, и, следовательно, повинуются им во всем. Если это так, то совершенно очевидно, что граждане, убежденные в том, что они связаны обязательствами в отношении учений, необходимых для достижения спасения, подчиняются внешней власти и не образуют сами государство, но являются подданными этой власти чужеземцами. И если даже какой-то верховный государь передаст своим рескриптом кому-нибудь другому такого рода власть, сохраняя при этом за собой власть гражданскую, подобный рескрипт не будет иметь силы, и он не передаст другому ничего, что является необходимым для сохранения и соответствующего отправления власти. Ибо (согласно пункту 4 гл. II) ни о ком нельзя сказать, что он передал право, если он не явил достаточно ясно желание его перенести. Тот же, кто достаточно ясно показал свое намерение сохранить за собой власть, не может надлежащим образом заявить о желании передать средства, необходимые для осуществления этой власти. А значит, такого рода рескрипт будет знаком не соответствующего намерения, а неосведомленности договаривающихся сторон. Во-вторых, следует принять во внимание, сколь абсурдно для государства или верховного правителя поручить врагу заботу о совести граждан. Ведь, как было указано выше (параграф 6 гл. V), находятся в состоянии вражды друг к другу все, кто не образует единой личности государства. И не имеет значения, что они не всегда сражаются между собой, ибо и между врагами бывают перемирия; для выражения враждебного отношения достаточно наличия недоверия, вооруженных и укрепленных границ государств, королевств и империй, стоящих друг против друга, подобно готовым к бою гладиаторам и если еще и не наносящим удары, но с ненавистью взирающим друг на друга. Наконец, сколь несправедливо требовать то, что уже самим требованием ты признаешь по праву принадлежащим другому. Допустим, я толкую Священное писание для тебя, гражданина чужого государства. Но на каком основании? Разве есть какие-то соглашения, заключенные между мною и тобой? – По воле Божией.- Но откуда она нам известна? – Из Священного писания, вот тебе книга, читай! – Но что это даст, если я не истолкую его по-своему? Следовательно, такое истолкование оказывается моим правом, равно как и каждого из остальных граждан, а именно это мы с тобой и не признаем. Остается, следовательно, чтобы во всей христианской церкви, то есть в любом христианском государстве, толкование Священного писания, то есть право решать все споры, зависело и проистекало от власти того человека или совета, которому принадлежит верховная власть в государстве. 28. Поэтому вообще можно говорить о двух родах споров. Первый касается вопросов духовных, то есть вопросов веры, каковыми являются вопросы о природе и миссии Христа, о наградах и карах в жизни будущей, о воскресении, о природе и функциях ангелов, о таинствах, о внешнем культе и т. д. Второй касается вопросов человеческого звания, истинность которого устанавливается с помощью естественного разума путем силлогизмов, исходя из соглашений, установленных людьми, и дефиниций, то есть исходя из принятых в практике с общего согласия значений; таковы все вопросы права и философии. Например, когда в области права возникает вопрос, было ли дано обещание и было ли заключено соглашение или нет, то такой вопрос есть не что иное, как вопрос о том, называются ли обещанием и соглашением в общем употреблении и с согласия всех граждан такие-то слова, произнесенные таким-то образом; и если они называются так, то действительно было заключено соглашение, если же нет, то это утверждение ложно: следовательно, эта истина конвенциональна и зависит от людского согласия. Аналогично, когда в философии возникает вопрос, может ли одно и то же оставаться целым, пребывая одновременно во многих местах, решение вопроса зависит от знания нами того, каково, по общему согласию людей, значение слова целый: ведь если люди, говоря, что целое находится где-то, по общему согласию обозначают этим свое понимание того, что ни одна часть этого объекта не находится в другом месте, то утвержде-ние, что одно и то же одновременно находится в нескольких местах, ложно. Следовательно, эта истина зависит от людского согласия, точно так же и во всех остальных вопросах философии и права. И те, кто полагает, что возможно вопреки этому общему согласию людей относительно наименований вещей решить что-то, исходя из темных мест Писания, тем самым неизбежно уничтожают и сам язык, а заодно все вообще человеческое общество: ведь тогда тот, кто, продав все поле, скажет, что целое содержится в одном куске дерна, и остальное поле сохранит за собой, как будто бы он и не продавал его; более того, он уничтожит и сам разум, который есть не что иное, как исследование истины, установленной с помощью этого согласия. Таким образом, нет необходимости, чтобы государство решало подобного рода вопросы с помощью толкования Священного писания. Ведь это не относится к Слову Божию в том смысле, в каком употребляется оно как слово о Боге, то есть евангельское учение, и обладающий властью над церковью не обязан для решения подобных вопросов призывать учителей церкви. В решения вопросов веры, то есть вопросов о Боге, которые превосходят возможности человеческого понимания, необходимо божественное благословение, осуществляемое рукоположением самим Христом, дабы мы не могли ошибиться хотя бы в вещах необходимых. Ведь если для достижения вечного спасения мы обязаны прибегать к учению о сверхъестественном, которое мы не в силах понять, то будет несправедливым, если мы окажемся в таком положении, когда мы можем обмануться. Эту непогрешимость обещал наш Спаситель апостолам в том, что необходимо для нашего спасения вплоть до самого судного дня, то есть апостолам и пастырям, преемственно посвящаемым апостолами рукоположением. Следовательно, тот, кто обладает верховной властью в государстве, поскольку он христианин, обязан поручить толкование Священного писания, когда речь идет о таинствах веры, духовным лицам, поставленным должным образом. И значит, в христианских государствах суждение о духовном и светском принадлежит гражданской власти. И тог человек или то собрание, которые обладают верховной властью в государстве, являются главой и государства и церкви, ибо церковь и христианское государство суть одно и то же.ГЛАВА XVIII О ТОМ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
1. Трудность, возникающая из противоречия между необходимостью повиноваться Богу и людям, должна быть устранена установлением различия между необходимым для спасения души и не являющимся таковым. 2. Все необходимое для спасения заключено в вере и повиновении. 8. В чем состоит это повиновение. 4. Что такое вера (fides), чем она отличается от исповедования (professio), от знания (scientia) и убеждения (opinio). 5. Что означает верить в Христа. 6. То, что для спасения необходима только вера, что Иисус есть Христос, подтверждает цель и евангелистов. 7. Проповедь апостолов. 8. Легкость христианской религии. 9. То, что это основание веры. 10. Ясные слова самого Христа и апостолов. 11. В них заключена вера Ветхого завета. 12. Каким образом вера и смирение способствуют спасению. 13. В христианском государстве не существует никакого противоречия между повелениями Бога и государства. 14. Учения религии, противостоящие друг другу, в основном имеют в виду право власти. 1. Всегда признавалось, что вся власть (auctoritas) в дедах светских проистекает от полномочий того, кто обладает верховной властью, будь то один человек или одно собрание. Точно так же власть в делах духовных зависит от власти церкви, как это явствует из вышеизложенного. Кроме того, ясно, что всякое христианское государство есть церковь, наделенная такого рода властью. Отсюда любой, даже самый несообразительный, может заключить, что в христианском государстве, то есть в государстве, верховная власть в котором принадлежит христианскому правителю или совету, вся власть, как светская, так и духовная, объединена во имя Христа, и поэтому этим властям следует подчиняться во всем. С другой стороны, поскольку следует повиноваться прежде всего Богу, а не людям, возникает трудная проблема: каким образом может быть осуществлено это повиновение, если вдруг власти прикажут сделать нечто такое, что запрещает Христос? Причина этого затруднения состоит в следующем: поскольку Бог уже не обращается к нам с живым словом, вложенным в уста Христа и пророков, но говорит с нами через Священное писание, по-разному толкуемое разными людьми, они, разумеется, знают, что повелевают цари и вселенская церковь, но не знают, противоречат ли их приказания Божию повелению или нет, не зная, чего им страшиться больше в своем повиновении – наказания ли смертью духовной или телесной, и, пытаясь проплыть между Сциллой и Харибдой, они чаще всего оказываются добычей и той и другой. Но те, кто сумел правильно найти различия между тем, что необходимо для спасения, и тем, что не является необходимым, не могут иметь никаких сомнений такого рода. Ведь если приказание государя или государства таково, что ему можно повиноваться, не жертвуя вечным спасением, неповиновение ему будет несправедливым, и здесь уместно вспомнить слова апостола: Дети, будьте послушны родителям вашим во всем... рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти... (Колос. 3, 20, 22) – и повеление Христа: На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи: итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте... (Матф. 23, 2, 3). Напротив, если прикажут они делать то, что будет наказано смертью вечной, будет безумием не предпочесть физическую смерть повиновению, которое повлечет смерть вечную. Здесь уместно вспомнить, что говорит Христос: И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить... (Матф. 10, 28). Поэтому следует рассмотреть, что представляет собой все то, что необходимо для спасения. 2. А все необходимое для спасения заключается в двух добродетелях: вере и смирении. Последнее, если бы могло быть абсолютным, было бы достаточным, чтобы избежать осуждения, но, поскольку все мы и уже давно виновны перед Богом в неповиновении ему в лице Адама, а кроме того, мы и сами грешим в своих поступках, смирения оказывается недостаточно, если нет отпущения грехов. Именно оно, а вместе с ним и доступ в Царствие Небесное есть награда за веру. Ничего другого для спасения не требуется. Ибо Царствие Небесное закрыто лишь для грешников, то есть для тех, кто не явил положенного по законам повиновения Богу, но и они могут войти в него, если поверят в необходимые символы христианской веры. Если же мы будем знать, в чем состоит повиновение и каковы необходимые символы христианской веры, сразу же станет ясным, какие приказания государств и их государей мы должны исполнять, а от каких действий должны воздержаться. 3. Говоря о смирении, мы имеем здесь в виду не поступок, но желание и стремление, в силу которого мы предполагаем попытаться в будущем оказать повиновение, насколько это в наших силах. В этом смысле понятие повиновения эквивалентно понятию покаяния. Ибо смысл покаяния состоит не в страдании, сопровождающем воспоминание о совершенном грехе, но в обращении на путь истинный, в намерении не грешить в дальнейшем, без чего это страдание можно назвать страданием не покаяния, а отчаяния. А поэтому те, кто возлюбил Бога, не могут не стремиться к повиновению божественному закону. И те, кто любит ближнего, не могут не стремиться к подчинению нравственному закону, который состоит, как было показано выше, в третьей главе, в том, чтобы избегать высокомерия, неблагодарности, оскорбления, бесчеловечности, безжалостности, несправедливости и прочих обид, наносимых ближнему. Поэтому понятию смирения эквивалентно также и понятие любви, или милости, точно так же, как эквивалентна ему же и справедливость, которая представляет собой неизменное стремление воздавать каждому свое. То, что для спасения достаточно веры и покаяния, очевидно прежде всего уже из самого договора крещения. Ведь Петр на вопрос тех, кого обратил он в самый день пятидесятницы: что нам делать? – ответил: Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов (Деян. 2, 38). Следовательно, для обретения крещения, то есть для вступления в Царствие Небесное, не требуется ничего, кроме покаяния и веры во имя Иисуса. Ибо на основании соглашения, совершаемого при креще-нии, нам обещают Царствие Небесное. Далее, тот же вывод следует из слов Христа (Лук. 18, 20. Марк 10, 19), отвечающего на вопрос некоего правителя, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную: знаешь заповеди: не убий, не прелюбодействуй и т. д., то есть то, что относится к смирению, и все, что имеешь, продай... приходи, следуй за мною, то есть то, что относится к вере. Это ясно из слов: Праведный (не кто угодно, но праведный!) будет жить по вере, ибо праведность выражает то же устремление воли, что и покаяние и вера. Это очевидно и из слов апостола Марка: Исполнилось время, и приблизилось Царствие Бо-жие: покайтесь и веруйте в Евангелие (Марк 1, 15), которые совершенно ясно указывают, что для того, чтобы войти в Царствие Божие, не нужны никакие иные добродетели, кроме покаяния в веры. Таким образом, смирение, являющееся необходимым условием для спасения, есть не что иное, как намерение или попытка повиноваться, то есть поступать согласно с законами Божьими, то есть согласно с нравственными законами, которые для всех остаются одними и теми же, и согласно с законами гражданскими, то есть согласно повелениям правителей в делах еветских и законам церковным в дедах духовных. Эти два вида законов в различных государствах и церквах различ- ны и могут быть познаны только тогда, когда они опубликованы и о них принято официальное решение. 4. Для того чтобы знать, что такое христианская вера, необходимо дать определение веры вообще, отделив ее от других проявлений духа, с которыми ее обычно смешивают. Предметом веры, рассматриваемой в наиболее общем виде, то, во что верят, всегда является предложение, то есть утвердительное или отрицательное высказывание, которое мы предполагаем истинным. Но поскольку такого рода допущения происходят по различным причинам, они и получают различные наименования. Ведь иногда мы допускаем истинность предложений, в которой мы, однако, не убеждены. Это делается либо на какое-то небольшое время, пока мы не выясним из рассмотрения всех результатов, истинно ли это предложение, что называется предположением; это может делаться и просто из страха веред законами, что и есть исповедание или проявление веры чисто внешним образом; это может происходить и из желания проявить некую непроизвольную уступчивость, что делают люди цивилизованные по отношению к тем, кого они уважают, или же, в других случаях, из желания сохранить мирные отношения, что называется просто уступчивостью. Мы принимаем предложения за истинные, исходя всегда яз собственных наших различных оснований. Эти основания могут либо проистекать из самого предложения, либо определяться личностью говорящего. Они проистекают из самого предложения, когда мы принимаем во внимание, для обозначения каких реальностей берутся по общему согласию имена, из которых складывается предложение; в таком случае выражаемое нами согласие называется знанием. Если же мы не можем вспомнить, что именно выражается этими именами, но нам представляется то одно значение, то иное, в таком случае можно говорить о нашем мнении. Например, если существует предложение два плюс три есть пять, то, вспоминая ряд имен числительных, в котором по общему согласию говорящих на одном и том же языке (как бы на основании некоего договора, необходимого для человеческого сообщества) пятерка есть имя того же числа единиц, какое содержится в двойке и тройке, вместе взятых, и кто-то согласится, что это истинно потому, что два и три вместе образуют пять, такое согласие будет называться знанием. И знать эту истину есть не что иное, как признать, что она установлена нами самими. Ибо тот, кто по своему суждению и по законам своего языка назвал число 2 двойкой, число 3 тройкой, число 5 пятеркой, он же своим суждением сделал истинным предложение: двойка и тройка, вместе взятые, образуют пятерку. Подобным же образом, если мы вспомним, что называется воровством и что называется несправедливостью, мы уже из самих слов узнаем, является ли или нет истинным предложение: воровство есть несправедливость. Истина же есть то же самое, что и истинное предложение, а предложение является истинным, если в ней предыдущее имя, называемое логиками предикатом, содержит в себе предшествующее имя, называемое субъектом, знать же истину есть то же, что помнить о том, что она установлена нами самими уже одним выбором имен. И не случайно Платоном было некогда сказано, что знание есть память [130]. Но случается иногда, что слова, обладая точным и твердо определенным значением, однако же, в повседневном употреблении настолько отрываются от собственного значения, используемые для украшения речи и даже для искажения ее смысла, что очень трудно вспомнить те понятия, ради обозначения которых они были созданы, и нужно приложить немало усилий и глубокой проницательности суждения, чтобы справиться с этой трудностью. А бывает и так, что очень многие слова не имеют никакого собственного, то есть определенного и всегда неизменного, значения и становятся понятными не в силу собственного значения, а благодаря иным знакам, употребляемым вместе с ними. В-третьих, некоторые имена обозначают вещи, недоступные нашему восприятию, то есть они обозначают вещи, с которыми не связаны никакие представления. И поэтому бесполезно искать истину предложений, образованных такого рода именами, исходя из значения самих этих слов. В таких случаях, пытаясь установить истинность какого-нибудь предложения из рассмотрения дефиниций составляющих его слов, мы признаем такое предложение в одном случае истинным, в другом – ложным в зависимости от того, есть ли у нас надежда установить эту истинность. Каждое из них в отдельности может быть названо мнением, или уверенностью (credere), взятые же вместе, они порождают сомнение. Когда же основание, заставляющее нас принять истинность какого-нибудь предложения, проистекает не из самого предложения, а от личности, его высказывающей, то есть от того, кого мы считаем столь знающим, что его ученость исключает возможность заблуждения, и не видим никакого основания, которое могло бы его побудить к добровольной ошибке, наше согласие, поскольку оно основывается на доверии к чужой, а не к нашей собственной мудрости, называется верой. И поэтому говорят, что мы верим тем или в тех, кому мы доверяем. Из сказанного ясна разница между верой и исповеданием; первая всегда связана с внутренним согласием, второе же – не всегда. Первая есть внутреннее убеждение души, второе – внешнее повиновение. Теперь – разница между верой и мнением (opinio): последнее опирается на наш собственный разум, первая же – на уважение к чужому. Наконец, разница между верой и знанием: ведь знание, медленно рассматривая предложение, постепенно усваивает его, как бы перемалывая и разжевывая, вера же – заглатывает целиком. Для познания полезно раскрытие смысла имен, которыми выражается предложение, подлежащее исследованию; более того, единственный путь к знанию – путь через дефиниции, для веры же он даже вреден. Ибо все, что превышает возможности человеческого восприятия и должно быть принято на веру, никогда не становится понятнее от объяснений, наоборот – темнее и еще более трудным для понимания. С человеком, пытающимся с помощью естественного разума доказать таинства веры, случается то же самое, что случается с больным, который хочет сначала разжевать целительные, но горькие пилюли, а уже потом проглотить, в результате он тотчас же выплевывает их, а ведь они вылечили бы его, если бы он сразу проглотил их. 5. Итак, мы знаем, что такое вера. Но что такое верить в Христа? Или – каким предложением выражается вера в Христа? Ведь когда мы говорим: я верую в Христа, мы обозначаем тем самым, кому мы верим, а не во что. А верить в Христа есть не что иное, как верить в то, что Иисус есть Христос, то есть тот, кто, согласно пророчествам Моисея и израильских пророков, должен был прийти в мир, чтобы основать Царствие Божие. И это достаточно ясно из слов самого Христа, обращенных к Марфе: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир (Иоан. 11, 25, 26, 27). Из этих слов мы видим, что верить в Меня объясняется через ибо Ты Христос. Значит, верить в Христа есть не что иное, как верить самому Иисусу, утверждающему, что он Христос. 6. Итак, для спасения необходимы в равной мере вера и повиновение. Что представляет собой это повиновение и кому оно должно оказываться, показано выше, в третьем параграфе. Теперь необходимо рассмотреть, что же требуется для выражения веры [131]. Я заявляю, что для христианина, чтобы обрести спасение, не требуется никакого иного обязательного положения веры, кроме того, что Иисус есть Христос, но следует отличать веру от исповедания (как сказано выше, в параграфе 4). Для исповедания, если этого потребуют, могут быть необходимыми многие догматы, ибо оно составляет часть повиновения, которое должно стать законом. Но мы говорим сейчас не о необходимом для спасения повиновении, но о вере. Это положение подтверждается прежде всего целью евангелистов, состоящей в том, чтобы утвердить повествованием о жизни нашего Спасителя этот единственный путь. А то, что именно таковы были цель и намерения евангелистов, мы узнаем, рассмотрев само их повествование. Матфей, начиная свое повествование о генеалогии Христа (Гл. 1), говорит, что Иисус происходил из рода Давидова, рожден был Девою, волхвы поклонялись Ему как Царю Иудейскому, а Ирод из-за этого же разыскивал Его, чтобы убить (Гл. 2), Царствие Его предсказано было им Самим и Иоанном Крестителем (Гл. 3,4), Он учил законам но как книжники, а как тот, кто обладает властью (Гл. 5, 6). Он исцелял чудесным образом болезни (Гл. 8, 9), разослал по всем частям Иудеи апостолов, чтобы возвестить о пришествия Царства Его (Гл. 10), ответил посланцам Иоанна, спрашивающим, Христос ли Он: пойдите, скажите... что видите (то есть те чудеса, которые мог сотворить лишь Христос) (Гл. 11), перед фарисеями и прочими людьми Он доказал и явил доказательствами, знамениями и притчами, что Ему принадлежит сие Царство (Гл. 12 и ел. до 21-й), Его приветствовали как Царя, когда вступал Он в Иерусалим (Гл. 21), в споре с фарисеями Он доказал, что Он и есть тот самый Христос (прочих же предостерег от лжехристов и в притчах показал, каково Его Царство) (Гл. 22, 23, 24, 25), был схвачен и обвинен в том, что называет себя Царей, а на кресте Его было написано: Се есть Иисус, Царь Иудейский (Гл. 26, 27), наконец (Гл. 28), после Воскресения Он сказал апостолам, что Ему дана вся власть на небе и на земле. Все это заставляет нас поверить, что Иисус и есть Христос. Такова и была цель святого Матфея, когда он писал Евангелие. Такова же была и цель других евангелистов; это Иоанн в конце своего Евангелия говорит совершенно ясно: Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий (Иоан. 20, 31). 7. Это же положение доказывается, во-вторых, и проповедью апостолов, ибо они были глашатаями Царствия Божия, и Христос послал их именно для того, чтобы провозвестить Царствие Божие (Лук. 9,2. Деян. 15,16). А что они делали после Вознесения Христа, можно увидеть из того обвинения, которое им предъявляли: ...повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против велений кесаря, почитая другого царем, Иисуса (Деян. 17, 6, 7). А из следующих слов видно, о чем говорили апостолы на своих собраниях: ...и говорил с ними из Писаний (подразумевается Ветхий завет), открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть ив мертвых и что сей Христос есть Иисус... (Деян. 17, 3). 8. В-третьих, это же положение доказывается и на основании тех мест, которые раскрывают, насколько легко то, что требует Христос для достижения спасения. Ведь если бы для спасения было необходимым внутреннее согласие души с истинностью всех или отдельных положений христианской веры, вокруг которых в наши дни либо ведутся споры, либо они по-разному определяются различными церквами, то не было бы ничего труднее христианской религии. Действительно, каким образом оказалось бы истиннымиго Мое благо, и бремя Мое легко (Матф. 11, 30), и малых сих, верующих в Меня (Матф. 18, 6), и благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих (1 Коринф. 1, 21)? Или каким же образом был уготован к спасению разбойник, висевший на кресте, доказательство веры которого содержалось в следующих словах: Помяни меня, когда приидешь во Царствие Твое. Или сам святой Павел каким образом мог так быстро превратиться из врага христиан в их учителя? 9. В-четвертых, это же положение доказывается и из того, что оно является основанием веры, но само не опирается ни на какое иное основание: Если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там,- не верьте: ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и т. д. (Матф. 24, 23, 24). Отсюда следует, что вера в это положение должна заставить отказаться от веры в знамения и пророчества: Но если бы даже мы или Ангел с неба,- говорит апостол,- стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема (Гал. 1, 8). Следовательно, в силу этого положения нужно отказать в доверии самим апостолам и ангелам, полагаю, что, следовательно, и церкви, если они стали бы утверждать противоположное. Святой Иоанн говорит: Возлюбленный! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия... узнавайте так: всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога (Иоан. 4, 1, 2). Следовательно, это положение есть мерило духа, на основании которого отвергается или принимается авторитет учителей: ведь невозможно отрицать, что все, кто ныне являются христианами, от учителей познали, что был Иисус, сотворивший все то, из-за чего его признают Христом. Но отсюда, однако, не следует, что они в этом пункте верят учителям и церкви, а не самому Иисусу. Ведь это положение существовало раньше, чем появилась христианская церковь, хотя все прочие положения являются более поздними, и церковь основана на Нем (Матф. 16, 18), а не оно на церкви. Кроме того, это положение, Иисус есть Христос, настолько основополагающе, что, как говорит святой Павел, все остальные строятся на нем: Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос; строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы – каждого дело обнаружится... У кого дело, которое он строил, устоит,- тот получит награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется... (1 Коринф. 3, 11, 12 и ел.). Отсюда ясно, что под основанием понимается это положение, что Иисус есть Христос: ведь не над личностью Христа воздвигаются золото, серебро, сено, солома, обозначающие здесь учения: и ложные учения могут строиться на этом основании, но, однако, так, что проповедники их не будут осуждены. 10. Наконец, то, что только это положение необходимо связано с внутренней верой, может быть с полнейшей очевидностью доказано на основании многочисленных мест Священного писания, как бы их ни толковать. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо Мне (Иоан. 5,39). Христос имеет здесь в виду только Ветхий завет, ибо Новый завет не был еще написан. В Ветхом же завете о Христе нет никакого иного свидетельства, кроме того, что явится Царь Вечный, который родится в таком-то месте, от таких-то родителей, который будет учить тому-то и совершит то-то, и какие деяния помогут распознать его. Все это свидетельствует об одном: Иисус, рожденный таким образом, учивший и свершивший это, и есть Христос. Следовательно, никакой другой веры, кроме этого положения, не требовалось для достижения жизни вечной. И всякий живущий и верующий в Меня, не умрет вовек (Иоан. 11, 26). А верить в Христа, как разъясняется там же, есть то же самое, что и верить: Иисус есть Христос, следовательно, тот, кто в это верит, не умрет вовеки, и соответственно только это положение и является необходимым для спасения. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его (Иоан. 20, 31). Поэтому тот, кто верит таким образом, обретет жизнь вечную и, следовательно, не нуждается в другой вере. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога (1 Иоан. 4, 2). И еще: Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден (1 Иоан. 5, 1). И еще: Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? (1 Иоан. 5, 5). Следовательно, если для того, чтобы быть от Бога, быть рожденным Богом, чтобы победить мир, не нужно верить ни во что, кроме того, что Иисус есть Христос, то одного этого положения достаточно для спасения. Вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: Если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий (Деян. 8, 36, 37). Ведь если это положение, воспринятое всем сердцем, то есть с внутренней верой, достаточно для крещения, то оно достаточно и для спасения. Помимо этих мест есть и бесчисленное множество других, ясно и отчетливо утверждающих то же самое. Более того, где бы мы ни читали, что Спаситель наш хвалил чью-то веру, либо сказал: Вера твоя спасет тебя, либо исцелил кого-то благодаря его вере, там речь шла только об этом положении Иисус есть Христос, выраженном либо прямо, либо как следствие опосредованно. 11. А поскольку не может верить, что Иисус есть Христос, никто из тех, кто, зная, что в Христе видят того Даря, о котором Бог устами Моисея и пророков возвестил как о будущем царе и спасителе мира, не верит также и Моисею, и пророкам, да и не мог бы верить в это тот, кто не верит, что Бог существует и управляет миром, то вера в Бога и Ветхий завет по необходимости заключается в вере в это положение Нового завета. И если в естественном Царстве Божьем только атеизм и отрицание божественного провидения являются преступлением, оскорблением божественного величия, а в ветхозаветном Царстве к ним присоединяется идолопоклонство, то в новозаветном Царстве таким преступлением становится еще и отступничество, то есть отказ от этого, уже принятого однажды положения: Иисус есть Христос. И конечно, не следует спорить с остальными учениями, если только они установлены законной церковью, ибо это было бы грехом неповиновения. Смирение же необходимо для спасения. Впрочем, как было подробно показано в только что сказанном выше, нет необходимости во внутренней вере в эти учения. 12. Вера и смирение играют разную роль в достижении спасения христианина. Второе дает только возможность или способность к спасению, первая же осуществляет его в действительности. Но и о том, и о другом можно сказать, что каждое из них так или иначе оправдывают. Ведь Христос отпускает грехи не всем, но лишь кающимся в них, то есть повинующимся, значит, праведным (я не говорю невиновным, но праведным., ибо праведность есть желание повиноваться законам и может быть присуща и грешнику, желание же повиновения для Христа уже является повиновением). Ведь не всякий, а праведный будет жить благодаря вере. Следовательно, смирение оправдывает, потому что делает праведным точно так же, как воздержанность делает воздержанным, мудрость – мудрым, чистота – чистым, то есть сущностным образом делает человека достойным милости. С другой стороны, Христос обещал простить грехи не всем праведникам, а только тем, кто верит, что он Христос. Следовательно, вера оправдывает в том смысле, в каком говорят о судье, что он оправдывает, когда освобождает от наказания, а именно вынося приговор, который (актуально) спасает человека. И в этом понимании оправдание (ведь это слово двусмысленно) оправдывает только вера, а в ней – только смирение; во ни праведность сама по себе, ни одна только вера не спасают, спасают они лишь в том случае, если действуют вместе. 13. Из того, что было сказано до сих пор, будет нетрудно понять, в чем состоит обязанность христианских граждан но отношению к верховным правителям. Коль скоро последние именуют себя христианами, они не могут принудить своих подданных отказаться от Христа, ибо подобным приказанием они бы показали, что они не являются христианами. Уже было доказано и доводами естественного разума, и ссылками на Священное писание, что граждане обязаны во всем повиноваться государям и верховным правителям государств, за исключением того, что противоречит повелениям Бога: повеления же Бога в христианском государстве, касающиеся вещей недуховных, то есть таких, которые доступны пониманию человеческого разума, представляют собой законы и постановления государства, вынесенные теми, кому государством дана власть создавать законы и разрешать споры, повеления же Бога относительно вещей духовных, то есть таких, которые должны решаться исходя из Священного писания, являются законами и постановлениями государства, то есть церкви (ибо христианское государство и церковь, как было показано в двадцатом параграфе предыдущей главы, суть одно и то же), вынесенными пастырями, поставленными должным порядком и получившими на это власть от государства. Отсюда совершенно ясно, что в христианском государстве должно подчиняться верховным правителям во всем, как в духовной области, так и в светской. Несомненно, что во всех делах недуховных гражданин, исповедующий христианство, должен являть такое же повиновение и нехристианским правителям, однако в духовной области, то есть в том, что касается способов почитания Бога, необходимо следовать какой-нибудь христианской церкви. Ведь христианская вера предполагает, что о вещах, превышающих естественное понимание, Бог говорит только через христианских толкователей Священного писания. Ну и что же? Нужно ли сопротивляться государям там, где невозможно повиноваться? Конечно же нет, ибо это противоречит гражданскому договору. Так что же делать? Идти к Христу мученическим путем. А если кому-нибудь это покажется слишком тягостным, то это является очевиднейшим признаком того, что сей человек не верит всем сердцем, что Иисус есть Христос, Сын Бога живого: он должен был бы предпочесть быть растерзанным, но остаться с Христом, он же хочет избежать повиновения, обещанного государству, лишь притворно исповедуя христианскую веру. 14. Может быть, кто-нибудь удивится тому, что, за исключением одного только положения: Иисус есть Христос, являющегося необходимым для спасения и требующего внутренней веры, все прочие касаются только повиновения, которое может быть явлено и в том случае, когда кто-то не верит внутренне тому, что проповедует церковь (ибо достаточно, чтобы он хотел верить и внешним образом исповедовал это всякий раз, когда это требуется); отсюда появилось теперь такое множество догматов, каждый из которых, как утверждают, требует глубокой внутренней веры, без которой никто не может войти в Царствие Небесное. Но если он обратит внимание на то, что в большинстве таких разногласий спор идет о земном царстве, в некоторых случаях – о прибылях, в некоторых же – о честолюбии ученых, он станет удивляться меньше. Вопрос о церковной собственности есть вопрос о праве на власть. Ведь коль скоро известно, что такое церковь, известно, и кому принадлежит власть над христианами. Действительно, если любое христианское государство есть та церковь, повиноваться которой повелел сам Христос каждому христианину, живущему в этом государстве, в таком случае любой гражданин обязан повиноваться своему государству, то есть тому или тем, кому принадлежит верховная власть не только в светских, но и в духовных делах. Если же какое-то христианское государство не является такой церковью, тогда существует какая-то другая, более всеобъемлющая церковь, которой должно повиноваться. Следовательно, все христиане должны повиноваться ей, как они повиновались бы Христу, если бы он явился на земле. Повелевать же она будет либо через монарха, либо через некий совет. Следовательно, это вопрос о праве на власть. Сюда же относится и вопрос о непогрешимости. Ибо всякий, кто по искреннему внутреннему убеждению всего рода человеческого не может ни в чем заблуждаться, наверняка обретет власть над всем родом человеческим во всех делах, как светских, так и духовных, если только сам не пожелает отказаться от нее; ведь, если он скажет, что ему должно повиноваться в делах светских на том основании, что он считается непогрешимым, такое право власти ему будет предоставлено. Сюда же относится и привилегия истолкования Священного писания. Ведь кому принадлежит право решать споры, которые могут возникнуть из различного толкования Священного писания, принадлежит и право безусловно решать и все вообще споры. А кому принадлежит это право, тому принадлежит и власть над всеми, кто признает Священное писание Словом Божиим. Сюда же относится и вопрос о праве отпускать и не отпускать грехи, то есть о праве отлучения. Ведь всякий находящийся в здравом уме будет безусловно повиноваться во всем тому, от кого, по его убеждению, зависит его спасение или осуждение. Сюда же относится и власть учреждать сообщества (монашеские ордена, монастыри) . Ведь они зависят от того, благодаря кому существуют, и он имеет столько же подданных, сколько существует монахов, даже если находятся они во вражеских государствах. Сюда же относится и вопрос, кому принадлежит право судить о законности брака. Ведь тот, кто обладает этим правом, решает и дела о наследстве и преемстве всех имущественных прав 'не только частных лиц, но и верховных государей. Сюда же в известном смысле принадлежит и вопрос о безбрачии духовенства. Ведь не имеющие семьи не столь тесно связаны с остальными гражданами государства. А кроме того, это создает сложности, с которыми приходится считаться, ибо государям становится необходимым либо отказаться от первосвящен-нического сана, немало способствующего укреплению их гражданского повиновения, либо утратить наследственную власть. Сюда же относится и канонизация святых, что язычники называли обожествлением. Ведь тот, кто может привлечь к себе такой наградою чужих подданных, может побудить жаждущих подобной славы к любому сколь угодно дерзкому деянию. Ибо чего иного, кроме славы среди потомков, искали Деции и прочие римляне, обрекавшие себя на смерть, и тысячи других, бросавшихся навстречу невероятным опасностям? Споры же о чистилище и об индульгенциях суть споры о выгоде. Вопросы о свободе выбора, об оправдании, о причастии тела Христова в таинстве причастия являются вопросами философскими. Есть еще вопросы об обрядах, не введенных, а сохранившихся в церкви, еще недостаточно очистившейся от язычества, но нет необходимости перечислять их дальше. Всем известно, что такова уж природа людей, которые, не соглашаясь в вопросах власти, выгоды и интеллектуального превосходства, начинают обличать и проклинать друг друга. А поэтому неудивительно, если чуть ли не все догматы в пылу спора объявляются кем-нибудь необходимыми для вступления в Царство Божне, а те, кто не соглашается с ними, осуждаются не только как ослушники, что после вынесения церковью решения но спорному догмату является справедливым, но и как неверующие, что, как было доказано на множестве очевиднейших свидетельств из Священного писания, является неверным. К этому я добавлю только слова апостола Павла: Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его... Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума (Рим. 14, 3, 5).ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА
Достопочтенному Вильяму графу Нью-Кэстльскому, воспитателю его высочества принца, члену Тайного совета его величества [132] Высокочтимый лорд! Основные элементы нашей природы, разум и страсть, вызвали к жизни два рода познания – математическое и догматическое. Первое свободно от споров и разногласий, ибо сводится к сравнению фигур и движений, а в этих вопросах истина не сталкивается с интересами людей. В области же познания второго рода все вызывает споры, ибо этот род познания занимается сравнением людей, затрагивает их права и выгоды, а в этих вопросах человек будет восставать против разума всякий раз, когда разум выскажется против него. Этим и объясняется то, что люди, писавшие о справедливости и о политике вообще, очень часто впадали в противоречие как с самими собой, так и друг с другом. Свести это учение к безошибочным правилам разума можно лишь одним способом: необходимо прежде всего положить в его основу такие принципы, которые не могли бы пытаться пошатнуть страсть, а затем постепенно возводить на этом прочном фундаменте и делать непоколебимыми почерпнутые из законов природы истины, которые висели до сих пор в воздухе. Это те принципы, милорд, которые я уже излагал Вам в наших частных беседах и, согласно Вашему желанию, изложил здесь в методической последовательности. Вывести из этих принципов практические правила поведения монархов по отношению друг к другу и по отношению к подданным я предоставляю тем, у кого для этого найдутся досуг и охота. Я же ограничусь здесь изложением одних лишь принципов как единственных основ такой науки. Что касается моего стиля, то он страдает от того, что я в своем изложении больше руководствовался логикой, чем риторикой, что же касается самого учения, то оно подкреплено весьма убедительными доказательствами, а выводы, сделанные из него, таковы, что вследствие пренебрежения ими управление и мир основывались доселе лишь на взаимном страхе. И было бы величайшим благодеянием для государства, если бы всякий придерживался изложенных здесь мнений относительно закона и политики. Это, я надеюсь, извинит в Ваших глазах ту смелость, с которой я ставлю свою работу под Ваше покровительство, с тем чтобы она при Вашем содействии могла дойти до людей, больше всего заинтересованных в тех вопросах, которые в ней трактуются. Сверх этого я желал бы лишь продолжать пользоваться той благосклонностью, которой Вы меня удостаивали до сих пор. Все обязывает меня приложить как можно больше усилий к тому, чтобы заслужить оказываемые мне Вами многочисленные благодеяния ревностным исполнением тех приказаний, которые Вам угодно будет мне давать. Ваш, высокочтимый лорд, смиреннейший и благодарнейший слуга Томас Гоббс 9 мая 1640 г.ГЛАВА I
1,2,3. Предисловие. 4. Природа человека. 5. Его способности. 6. Физические способности. 7. Духовные способности. 8. Способность познания, представления и воображения. 1. Для правильного и вразумительного объяснения элементов естественного права и политики необходимо знать, какова человеческая природа, что представляет собой политический организм и что мы понимаем под законом. Все, что было написано до сих пор по этим вопросам начиная с древнейших времен, послужило лишь к умножению сомнений и споров в этой области. Но так как истинное знание должно порождать не сомнения и споры, а уверенность, то факт существования споров с очевидностью доказывает, что те, кто об этом писал, не понимали своего предмета. 2. Я не могу причинить никакого вреда, даже если бы ошибался не меньше, чем мои предшественники. Ибо в худшем случае я бы только оставил людей в том же положении, в каком они находятся, т. е. в состоянии сомнений и споров. Но так как я намерен ничего не принимать на веру и указывать людям лишь на то, что они уже знают или могут знать из собственного опыта, то я надеюсь, что буду очень мало ошибаться. И если бы мне случилось ошибиться, то разве только вследствие того, что я слишком поспешно стал бы делать выводы, но этого я буду стараться всеми силами избегать. 3. Если же, с другой стороны, мои правильные рассуждения, как это легко может случиться, не смогут убедить тех, кто из уверенности в своих собственных знаниях не способен вдумываться в то, что ему говорят, то это будет не моя вина, а их, ибо если я обязан приводить доводы в пользу моих положений, то они обязаны внимательно относиться к ним. 4. Природа человека есть сумма его природных способностей и сил, таких, как способность питаться, двигаться, размножаться, таких, как чувство, разум и т. д. Эти способности мы единодушно называем природными, и они содержатся в определении человека как одаренного разумом животного. 5. Соответственно двум основным частям, из которых состоит человек, я различаю в нем два вида способностей – физические и духовные. 6. Так как задача настоящего труда не предполагает необходимости вдаваться в детальные анатомические исследования физических способностей, то я ограничусь тем, что сведу их к трем следующим: к способности питаться, способности двигаться и способности размножаться. 7. Что касается духовных способностей, то таких существуют две: способность познания, воображения, или представления, и способность к волевым движениям. Начнем со способностей познания. 8. Для уразумения того, что я понимаю под способностью познания, необходимо вспомнить и признать, что в нашем уме всегда имеются известные образы, или идеи, вещей, существующих вне нас, в силу чего, если бы какой-либо человек остался жить, а весь остальной мир был уничтожен, этот человек тем не менее сохранил бы образ мира и всех тех вещей, которые он некогда видел и воспринял в мире. Всякий из собственного опыта знает, что отсутствие или уничтожение вещей, раз воспринятых нами, не влечет за собой отсутствия или уничтожения соответствующих образов. Такие образы, или изображения, качеств вещей, существующих вне нас, составляют то, что мы называем нашим представлением и образом воображения, идеей, понятием или знанием этих вещей. Способность же, или сила, при помощи которой мы приобретаем это знание, есть то, что я здесь называю способностью познания, или представления.ГЛАВА II
1, 2, 3. Определение ощущения. 4. Четыре положения относительно природы представителей. 5. Доказательство первого положения. 6. Доказательство второго положения. 7, 8. Доказательство третьего положения. 9. Доказательство четвертого положения. 10. Главный обман чувств. 1. Объяснив, что понимается мной под словом представление и равнозначащими с ним словами, я перехожу к самим представлениям, чтобы рассмотреть, поскольку это окажется необходимым здесь, их различия, их причины и способ их возникновения. 2. Первоначально все представления возникают благодаря действию самой вещи, которую мы представляем. Когда такое действие еще продолжается, то порожденное им представление называется также ощущением, а вещь, действием которой последнее производится, именуется объектом ощущения. 3. При помощи различных органов мы получаем различные представления о различных качествах объектов. Так, при помощи зрения мы получаем представление, или образ, состоящий из цвета и фигуры. К этому сводится все то знание, которое объект сообщает нам о своей природе при посредстве глаза. При помощи слуха мы получаем представление, называемое звуком, и в нем заключается все то знание, которое мы получаем о качестве объекта посредством уха. Точно так же обстоит дело с другими чувствами, при помощи которых мы получаем представления о различных свойствах, или качествах, объектов. 4. Так как образ, получаемый нами посредством зрения и состоящий из цвета и формы, есть то знание, которое мы имеем о качестве объекта этого чувства, то человек легко может прийти к мысли, что эти самые цвет и форма являются действительными качествами объектов; на таком же основании он может считать звук или шум качествами колокола или ветра. Это мнение являлось общепринятым в течение столь долгого времени, что противоположная точка зрения должна казаться необычайным парадоксом. Однако предположение о чувственно воспринимаемых и умопостигаемых образах, распространяющихся по всем направлениям от объекта, предположение, необходимое в качестве предпосылки указанного мнения, есть нечто худшее, чем парадокс, являясь полнейшей бессмыслицей. Поэтому я пытаюсь доказать следующие четыре положения: 1) предмет, которому присущи цвет и форма, не есть видимый объект, или видимая вещь; 2) в действительности вне нас не существует ничего из того, что мы называем цветом или формой; 3) указанные форма или цвет суть лишь проявления того движения, возбуждения или изменения, которые объект производит в мозгу, в животных духах или во внутреннем веществе головы; 4) как при зрительных представлениях, так и при представлениях, возникающих благодаря другим чувствам, субъектом качеств является не объект, а ощущающее существо. 5. Всякий из нас имел возможность наблюдать отражение солнца и других видимых объектов в воде или в стекле, и одного этого достаточно, чтобы привести нас к тому заключению, что цвет и форма могут быть там, где видимая вещь отсутствует. Но так как на это мне могут возразить, что, хотя изображение, видимое в воде, не находится в самом объекте, а является лишь воображаемой вещью, цвет может реально находиться в самой вещи, то я сошлюсь еще на тот факт, что люди часто видят одну и ту же вещь удвоенной, например одна свеча представляется им в виде двух свечей, это может произойти вследствие расстройства органов зрения или даже без всякого такого расстройства, когда человек этого хочет. Как бы то ни было, имеем ли мы дело с нормально функционирующими органами или нет, цвета и формы таких двух изображений одной и той же вещи не могут быть присущи самой вещи, ибо видимая вещь не может одновременно находиться в двух местах. Одно из таких изображений поэтому не присуще объекту. Но независимо от того, предполагаем ли мы при этом органы зрения правильно или неправильно функционирующими, нам следует признать, что одно из этих изображений присуще объекту не в большей мере, чем другое, и, следовательно, ни одно из них не присуще объекту. Этим доказано первое из сформулированных в предыдущем пункте положений. 6. Во-вторых, всякий человек может убедиться в том, что изображение какой-нибудь вещи, являющейся результатом отражения последней в зеркале, воде или в чем-либо подобном, не представляет собой вещи, находящейся внутри или позади зеркала, в воде или под водой. Этим доказано второе положение. 7. В-третьих, нам следует принять во внимание, что при всяком сильном возбуждении или сотрясении мозга, особенно при таком, которое является следствием сильного удара по глазу, приводящего в расстройство зрительный нерв, мы получаем некоторое впечатление света. Этот свет не есть нечто вне нас существующее; он лишь явление, и единственно реальным является здесь сотрясение, или движение частей, зрительного нерва. Из этого факта можно заключить, что явление света есть не что иное, как движение внутри нас. Если поэтому светящиеся тела могут производить движение, способное сообщить зрительному нерву характерное для него возбуждение, то мы увидим изображение света приблизительно в том направлении, по которому движение в последнем счете дошло до нашего глаза, т. е. увидим этот свет в самом объекте, если смотрим на него прямо, либо в зеркале или воде, если смотрим на объект по линии его отражения. Все это служит подтверждением нашего третьего положения, гласящего, что форма и цвет суть лишь проявления тех движений, возбуждений или изменений, которые объект производит в нашем мозгу, в наших животных духах или в каком-либо веществе, содержащемся внутри нашей головы. 8. Не трудно доказать, что все светящиеся тела производят движение в глазу, а при посредстве глаза – в зрительном нерве, который сообщает это движение мозгу, так что этим движением обусловливаются явления света и цвета. И прежде всего очевидно, что огонь – это единственное светящееся тело на земле – действует, или движется, одинаково по всем направлениям, так что если это движение остановить или преградить ему дальнейший путь, то огонь немедленно гаснет, и его больше не существует. И далее, доказано опытом, что движение, при помощи которого огонь действует, представляет собой попеременное саморасширение и самосокращение, называемое обычно сверканием, или горением. Благодаря своему движению огонь по необходимости отталкивает или отбрасывает ту часть среды, которая соприкасается с ним, а эта часть в свою очередь отбрасывает ближайшую к ней часть, и так одна часть последовательно отбрасывает другую вплоть до самого глаза. Точно таким же образом внешняя часть глаза давит на его внутреннюю часть согласно законам преломления лучей. Но внутренняя оболочка глаза есть не что иное, как часть зрительного нерва, при посредстве которого движение передается мозгу. Последний же своим противодействием, или реакцией, в свою очередь снова приводит в движение зрительный нерв, и поскольку это движение не воспринимается нами как движение изнутри, то мы его представляем себе как движение вне нас и называем светом, как это было доказано опытом с ударом по глазу. Мы не имеем основания сомневаться в том, что источник света – солнце производит свое действие – по крайней мере то действие, о котором здесь идет речь,- не иначе чем огонь. Таким образом, всякий объект зрения имеет своим источником такое движение, какое здесь описано. Ибо там, где нет света, нет никакого объекта зрения, и поэтому цвет, являясь действием светящегося тела, должен представлять собой то же самое, что свет. Единственная разница, существующая между этими двумя объектами зрения, сводится вот к чему: когда свет идет непосредственно от источника к глазу или когда мы воспринимаем его отраженным в чистых и гладких телах или таких телах, которые не обладают собственным внутренним движением, способным изменить движение света,- во всех этих случаях мы называем наш объект зрения светом; когда же мы воспринимаем этот свет отраженным в негладких, шероховатых и грубых телах или таких, которые обладают собственным внутренним движением, способным изменить движение света, мы называем свой объект зрения цветом. Между светом и цветом существует, таким образом, только та разница, что первый представляет собой чистый, а второй – мутный свет. Сказанным не только доказана истинность третьего положения, но также выяснен способ образования света и цвета. 9. Подобно тому как цвет не присущ объекту, а является только результатом его действия на нас, вызванного таким движением в объекте, какое было описано, звук есть не нечто присущее той вещи, которую мы слышим, а нечто присущее нам. Лучшим доказательством этого является то обстоятельство, что, подобно объекту зрения, звук может удваиваться и утраиваться, например при эхо. Все это является такими же звуками, как и основной звук, и так как они исходят но от одного и того же места, то они не могут быть присущи тому объекту, который их производит. Никакой объект не может выявить того, чего нет в нем самом. Язык колокола не имеет в себе звука, а обладает лишь движением и производит движение во внутренних частях колокола. Точно так же и колокол обладает не звуком, а движением и сообщает это движение воздуху. И воздух имеет движение, а не звук и сообщает это движение при посредстве уха и нервов мозгу. И мозг имеет движение, а не звук. От мозга движение путем реакции снова передается исходящим от него нервам, и тут-то и образуется то явление, которое мы называем звуком. Если мы перейдем к остальным чувствам, то легко убедимся, что запах и вкус одной и той же вещи не одинаково ощущаются всеми людьми, из чего следует, что они находятся не в вещах, которые мы обоняем или вкушаем, а в нас; точно так же и жар, который мы испытываем благодаря огню, находится, очевидно, в нас, и он совершенно отличен от жара, который присущ огню, ибо испытываемое нами тепло есть удовольствие или страдание в зависимости от того, интенсивно оно или умеренно; угли же ничего подобного не испытывают. Этим доказано четвертое, и последнее, положение, гласящее, что как зрительные впечатления, так и ощущения, связанные с другими чувствами, находятся не в объекте, а в ощущающем субъекте. 10. И отсюда же следует, что, сколько бы наши органы чувств ни внушали нам, будто в мире существуют акциденции и качества, таковых в действительности не существует: они представляют собой лишь мнения и явления. Единственной реальной вещью, существующей вне нас в мире, является то движение, в силу которого эти ощущения возникают. И это и есть тот великий обман чувств, который должен быть исправлен чувствами же, ибо если чувство говорит нам, когда мы видим предмет непосредственно, что цвет присущ объекту, то это же чувство доказывает нам, когда мы видим отражение предмета, что цвет не находится в объекте.ГЛАВА III
1. Определение воображения. 2. Определение сна и сновидения. 3. Причина сновидений. 4. Определение фикции. 5. Определение фантома. 6. Определение памяти. 7. В чем состоит акт воспоминания? 8. Почему при сновидении человек никогда не думает, что он видит сон? 9. Почему при сновидении очень немногие вещи кажутся странными? 10. О том, что сновидение можно считать реальностью или видимым [объектом]. 1. Подобно тому как стоячая вода, приведенная в движение брошенным в нее камнем или дуновением ветра, не перестает двигаться сейчас же, вслед за тем как ветер перестал дуть или камень упал на дно, действие, оказанное на мозг объектом, не прекращается немедленно, после того как наши органы чувств перестают подвергаться воздействию последнего. Это значит, что обра:», или представление, остается, хотя ощущений больше не существует. Этот образ, или представление, является, однако, менее отчетливым, когда мы бодрствуем, ибо в этом состоянии тот или иной объект непрерывно занимает и возбуждает наши глаза и уши, что производит в нашей душе более сильное движение, мешающее выявиться более слабому. И это неясное представление есть то, что мы называем воображением, или фантазией. Таким образом, воображение может быть определено как представление, оставшееся и постепенно ослабевающее после акта восприятия. 2. Но в тех случаях, когда органы восприятия не функционируют, как, например, во сне, образы, оставшиеся от актов восприятия (если их много, как это бывает в сновидениях), являются не смутными, а такими же яркими, такими же отчетливыми, как в моменты восприятия. Это объясняется устранением тех условий, которые затемняли и ослабляли представления, а именно актов восприятия и актуального воздействия объектов. Ибо сон есть отсутствие актов восприятия (при сохранении способности восприятия), а сновидения суть образы, которые видят спящие. 3. Причиной сновидений (если они естественны) является действие, или давление, внутренних частей человека на его мозг. Благодаря этому давлению органы, которые служат проводниками ощущений и которые были скованы сном, снова получают свое первоначальное движение. Доказательством этой истины служит различие сновидений (старые люди видят чаще и более тяжелые сны, чем моло-дые), проистекающее из различий акциденций человеческого тела. Так, сладострастные сны или сны, в которых мы сердимся, обусловливаются более сильным или более слабым действием сердца или других внутренних частей на мозг при более сильной или более слабой степени теплоты. Точно так же движение внутри нас различных жидкостей порождает сновидения, в которых мы ощущаем вкус разного рода яств и напитков. И я полагаю, что имеет место попеременное движение от мозга к жизненным органам и обратно от последних к мозгу. При этом не только воображение порождает движение в указанных органах, но и такое движение порождает образы, подобные тем, которые его обусловили. Если это верно и если верно, что печальные образы питают хандру, то становится также понятным, почему сильная хандра в свою очередь вызывает странные сны и почему ощущение сладострастия может вызвать во сне образ того лица, которое является причиной этого ощущения. Другим доказательством того, что сны обусловливаются действием внутренних частей организма, является беспорядок в ходе представлений, или образов, и случайная последовательность в их смене. Ибо, когда мы бодрствуем, предшествующее представление, или мысль, влечет за собой, или вызывает, последующие (подобно тому как на сухом и ровном столе вода следует за пальцем). Во сне же между представлениями обыкновенно нет никакой связи, а если таковая и есть, то она случайна. Это, несомненно, объясняется тем, что во сне движение мозга не распространяется одинаково на все его части. Поэтому наши мысли во сне подобны звездам, видимым сквозь быстро мчащиеся облака и показывающимся, следовательно, не в том порядке, в котором мы хотели бы их наблюдать, а так, как это позволяет неопределенное движение разорванных облаков. 4. Подобно тому как вода или другая жидкость при одновременном действии на нее разных сил получает движение, сложенное из всех этих сил, мозг, или духовная способность, заключенная в нем, получив возбуждение от различных объектов, образует сложное представление, для коего различные представления, которыми порознь снабдило нас восприятие, служат элементами. Так, наши органы чувств один раз представляют нам фигуру горы, а другой – цвет золота; воображение соединяет затем эти два представления в одно представление о золотой горе. Так же образуем мы представление о воздушных замках, химерах и других чудовищах, которым ничего не соответствует в природе (in rerum natura), но отдельные элементы которых были в разное время восприняты нашими органами чувств. И эти случайные представления являются тем, что мы обычно называем фикциями ума. 5. Существуют, однако, и другие образы воображения, которые по своей яркости могут конкурировать с восприятиями не меньше, чем сны; я имею в виду те образы, которые остаются в нашем воображении после длительного или сильного акта восприятия. Это чаще всего происходит с нашими зрительными ощущениями. Примером может служить образ, который остается перед нашими глазами, после того как мы посмотрели на солнце. Таким же примером могут служить те искорки, которые появляются перед нашими глазами в темноте и которые, как и полагают, знакомы всем, и особенно трусливым и суеверным людям, на основании собственного опыта. Эти образы воображения в отличие от предыдущих могут быть названы фантомами. 6. При помощи чувств, которых в соответствии с их органами насчитывается пять, мы познаем (как уже было сказано) объекты, существующие вне нас, и этим знанием являются наши представления о них. Но мы познаем также так или иначе и наши представления. Ибо, когда у нас снова возникает представление о вещи, мы знаем, что это происходит снова, т. е. что мы уже имели раньше это представление. Но знать это – значит представить себе вещь, имевшуюся в прошлом, что не может быть сделано при помощи чувств, так как последние дают нам лишь восприятия наличных вещей. Эту способность можно поэтому считать шестым, внутренним (а не внешним, как остальные) чувством, и ее обыкновенно называют памятью. 7. Чтобы понять способ нашего познания прошлого представления, необходимо вспомнить, что мы определили воображение как постепенно ослабляющееся или становящееся все более темным представление. Темное представление есть такое представление, которое дает нам весь предмет в целом, не показывая его более мелких частей, поэтому в зависимости от большего или меньшего количества представляемых нами частей мы называем наше представление более или менее ясным. Замечая далее, что представление, которое было ясным и отчетливо отражало все части предмета в момент восприятия, стало смутным при своем вторичном возникновении, мы находим, что ему недостает чего-то, что мы ожидали, и на основании этого заключаем, что это представление относится к прошлому и что оно ослабло. Так, человек, который находится в чужом городе, не только видит улицы в целом, но может также различить отдельные дома и части домов. Уехав же из этого города, он не может различать их так отчетливо, как во время своего пребывания там, ибо некоторые дома или части домов исчезают из его представления. Однако он еще может вспомнить их. Когда некоторое время спустя еще большее количество подробностей исчезает из его представления, он также еще может вспомнить их, но уже не так хорошо. С течением времени образ города начинает рисоваться его воображению только в виде неясной массы строений, так что почти можно утверждать, что он этот город забыл. Но если воспоминание бывает более или менее ярким в зависимости от того, находим ли мы в нем больше или меньше неясностей, то почему же мы не можем утверждать, что воспоминание есть лишь отсутствие частей, выявления которых каждый ожидает, после того как у него возникло представление о целом. Видеть какой-нибудь предмет на большом расстоянии и вспомнить о нем после большого промежутка времени – значит иметь о нем одинаковые представления, ибо в обоих этих представлениях смутно различаются части, причем слабость одного из них обусловливается том, что воспринимаемый предмет действует на наши органы чувств с далекого расстояния, а слабость другого – постепенным ослаблением под влиянием времени. 8. Из сказанного следует, что человек никогда не может сознавать, что он видит сон. Он может во сне сомневаться, видит ли он сон или нет. Но так как четко действующее воображение рисует ему всякую вещь со столькими же подробностями, как и само восприятие, то он должен принимать все свое сновидение за нечто воспринимаемое наяву. Если бы человек сознавал, что он видит сон, то он должен был бы полагать, что его представления (т. е. сновидения) не отличаются той четкостью, какая свойственна восприятиям. Таким образом, он должен был бы считать свои представления столь же отчетливыми и одновременно не столь же отчетливыми, как восприятия, что невозможно. 9. По этой же причине человек, видящий сон, никогда не удивляется, как это бывает при аналогичных обстоятельствах наяву, ни месту, ни лицам. Ибо наяву человеку показалось бы странным видеть себя в таком месте, где он никогда не был, и притом совершенно не помня, как он туда попал. Но во сне такого рода соображения никогда не приходят на ум. Яркость представления во сне не оставляет места никаким сомнениям, если только странность сновидения не чрезмерна, как это бывает, например, когда человеку снится, что он упал с высокого моста, не причинив себе никакого вреда. 13 таких случаях спящий обыкновенно просыпается. 10. Человек вполне может ошибочно принимать свои прошлые сновидения за реальность. Ибо если человеку снятся такие вещи, которые ничем не отличаются от обычно представляющихся ему вещей, в том порядке, в каком он привык их видеть наяву, и если он, проснувшись, находит себя на том же месте, где лег (а все это ведь вполне может случиться), то я не вижу никакого критерия (?????????), руководствуясь которым такой человек мог бы отличить виденный им сон от действительности. Вот почему меня нисколько не поражает, когда я слышу, что кто-нибудь рассказывает свой сон как нечто имевшее место вдействительности, или вижу, что человек принимает свой сон за реальное явление.ГЛАВА IV
1. О рассуждении. 2. О связи мыслей. 3. О блуждании. 4. О проницательности. 5. О воспоминании. 6. Об опыте. 7. Об ожидании. 8. О догадках. 9. О знаках. 10. О прозорливости. 11. О предостережениях относительно умозаключений из опыта. 1. Последовательность представлений, их порядок или связь могут быть случайными, как это бывает большей частью в сновидениях, или же строго определенными, как это бывает тогда, когда предшествующая мысль необходимо вызывает последующую; во втором случае это – рассуждение. Но так как слово рассуждение (discowice) обыкновенно применяется по отношению к связи и последовательности слов, то во избежание двусмысленности я назову указанную последовательность правильным ходом мыслей (discursion). 2. Причиной связи или последовательности представлений является их первоначальная связь или последовательность в тот момент, когда они были вызваны чувственным восприятием. Например, от св. Андрея мысль обращается к св. Петру, так как их имена мы встречаем в Писании. От св. Петра мысль обращается к камню[133], а от камня к подстенку, потому что мы их видим вместе. По той же причине мы от подстенка мысленно переходим к церкви, от церкви – к толпе, а от толпы – к шуму. Наша мысль, как видно отсюда, может переходить от одной вещи почти к любой другой. Но как в чувственном восприятии за представлением причины может следовать представление следствия, так и по прекращении акта восприятия они могут следовать друг за другом в таком же порядке в воображении. И в большинстве случаев они действительно следуют друг за другом. Причиной этого является желание тех, кто, имея представление о цели, приобретает вслед за этим представление о средствах, способных вести к этой цели. Так, человек от представления о славе, которой он жаждет или к которой стремится, приходит к представлению о мудрости, являющейся средством для достижения славы, а от-сюда – к представлению о научных занятиях, которые являются средством для достижения мудрости, и т. п. 3. Кроме такого вида перехода мыслей, при котором мы переходим от одной вещи к любой другой, могут быть различные другие виды. И прежде всего в чувственном восприятии бывает известная связь представлений, которую можно назвать блужданием. Примером последнего может служить человек, ищущий на земле потерянную им маленькую вещицу, охотничья собака, потерявшая след и бросающаяся но нее стороны, или болонка, без толку перепрыгивающая с места на место. В этих случаях начало всегда произвольно. 4. Другой вид перехода мыслей мы наблюдаем в том случае, когда определенное стремление дает человеку отправную точку, как в приведенном выше примере, где слава, к которой человек стремится, заставляет его думать о ближайших средствах для ее достижения, а последние в свою очередь – о ближайших средствах для достижения этих средств и т. п. Это римляне называли проницательностью (Sagacitas), а мы можем назвать преследованием или выслеживанием по аналогии с тем, как собаки выслеживают зверей при помощи своего обоняния, а люди – по звериным следам, или по аналогии с тем, как люди преследуют определенные цели: приобрести богатство, высокое положение или звание. 5. Кроме того, бывает другого рода переход мыслей, имеющий своим началом желание найти потерянную вещь. При этом переходе мыслей мы от данного момента возвращаемся к предыдущему, т. е. от мысли о месте, где нами замечена потеря, переходим к мысли о месте, откуда мы только что пришли, а от мысли об этом месте – к мысли о месте, где мы были раньше, и так далее, до тех пор пока мысленно не доходим до того места, где потерянная вещь была еще в наших руках. И это есть то, что мы называем воспоминанием. 6. Воспоминание о последовательности вещей, т. е. о том, что было раньше, что позже и что сопутствовало, называется опытом (experiment), причем безразлично, идет ли речь о явлении, произведенном сознательно, как это бывает, например, в том случае, когда человек бросает что-либо в огонь, чтобы видеть, какое действие последний окажет на эту вещь, или же речь идет о явлении, совершающемся помимо нашей воли, как это бывает, например, в том случае, когда мы вспоминаем, что на следующий день после озаренного закатом вечера стоит хорошая погода. Большое количество сделанных нами наблюдений мы называем опытом (experience), который есть не что иное, как воспоминание о следствиях, произведенных предшествовавшими им причинами. 7. Никто не может образовать в своем уме представления о будущем, ибо будущего еще не существует. Наше представление о будущем образуется при помощи нашего представления о прошлом, или, вернее, мы даем прошлому в относительном смысле имя будущего. Привыкнув видеть, что за одинаковыми причинами следуют одинаковые следствия, человек, наблюдая какое-нибудь явление, виденное им раньше, каждый раз ждет повторения и прежнего следствия. Например, если человек, который часто наблюдал, что за преступлением следует наказание, видит совершающееся на его глазах преступление, то он ждет, что преступник будет наказан. Но то, что следует за явлениями, которые происходят в настоящем, люди называют будущим. Таким образом, воспоминание становится предвидением будущего, т. е. вызывает в нас ожидание того, что должно случиться. 8. Точно так же если человек видит в настоящем нечто уже виденное им раньше, то он полагает, что наблюдаемому в данный момент явлению должно было предшествовать явление, однородное с тем, которое предшествовало виденному раньше явлению. Например, если человек видел, что после огня остается пепел, то, увидев пепел снова, он заключает, что здесь был огонь. И это называется догадкой, 9. Когда человек столь часто наблюдал, как за одинаковыми причинами следуют одинаковые действия, что при виде предшествующего явления каждый раз ждет наступления последующего или при виде последующего явления каждый раз полагает, что имело место предшествующее, однородное с тем, которое наблюдалось им раньше, то он называет предшествующее и последующее явления знаками (Sign) друг друга. Так, облака служат знаками будущего дождя, а дождь – знаком прошедших облаков. 10. Это познание знаков, приобретенное путем опыта, есть то, в чем, согласно ходячему представлению, кроется разница между более и менее мудрыми людьми, причем под мудростью обыкновенно подразумевают всю сумму человеческих способностей, или познавательную силу. Но это ходячее представление ошибочно, ибо такие знаки только предположительны и в зависимости от того, часто или редко они нас обманывали, бывают достоверны в большей или меньшей степени, но никогда не обладают несомненностью и очевидностью. Ибо, хотя человек до настоящего времени постоянно наблюдал, что день и ночь чередуются, он, однако, не может заключить отсюда, что они чередовались таким же образом всегда или будут чередоваться таким же образом во веки веков. Из опыта нельзя вывести никакого заключения, которое имело бы характер всеобщности. Если знаки в двадцати случаях оказываются верными и только в одном обманывают, то человек может биться об заклад, ставя двадцать против одного, что предполагаемое явление наступит или что оно имело место, но он не может считать свое заключение безусловной истиной. Отсюда ясно, что те, кто обладает наиболее богатым опытом, могут лучше всего делать догадки, ибо они знают наибольшее количество знаков, на основании которых могут строить предположения. Вот-почему ceteris paribus [при прочих равных условиях] старые люди более прозорливы, чем молодые, ибо первые обладают большим запасом воспоминаний, а опыт есть лишь воспоминание. Равным образом люди с более живым воображением (ceteris paribus) обладают большей прозорливостью, чем люди с вялым воображением, ибо первые делают больше наблюдений в более короткое время. Прозорливость есть не что иное, как способность делать предположения на основании опыта или знаков, почерпнутых из опыта с соблюдением предосторожностей, т. е. таким способом, при котором в памяти воспроизводились бы все конкретные условия опыта, из которого почерпнуты эти знаки, ибо случаи, имеющие сходство, на деле не всегда являются однородными. 11. Если благоразумие требует от нас, чтобы в своих догадках относительно прошлых или будущих явлений мы выводили из опыта заключения насчет того, что должно произойти или что произошло, то было бы ошибочно делать на основании опыта какое-нибудь заключение насчет тех имен, которые должны быть даны вещи. Иначе говоря, мы не можем вывести из опыта заключение, что какая-нибудь вещь должна быть названа справедливой или несправедливой, истинной или ложной, и вообще не можем получить никакого положения, имеющего характер всеобщности, за исключением того случая, когда наше заключение основывается на воспоминании об употреблении имен, произвольно установленных людьми. Например, если мы тысячу раз слышали одно и то же суждение по поводу одинаковых случаев, то это все же не дает нам права умозаключать, что это суждение верно, хотя большинство людей не имеют другой возможности вывести такое заключение. Но, чтобы вывести такое заключение, необходимо установить на основании богатого опыта, что люди разумеют под верным и неверным. Кроме того, при умозаключениях на основании опыта требуется соблюдать осторожность еще в одном отношении, и эта необходимая предосторожность была указана в параграфе 10 главы II, а именно мы должны остерегаться считать существующим вне нас то, что существует внутри нас.ГЛАВА V
1. О метках. 2. Имена, или названия. 3. Положительные и отрицательные имена. 4. Польза имен состоит в том, что они делают нас способными к знанию. 5. Общие и единичные имена, 6. Всеобщее не существует в природе вещей. 7. Двусмысленные имена. 8. Разумение. 9. Утверждение, отрицание, предложение. 10. Истина, ложь. 11. Аргументация, или рассуждение. 12. О том, что согласно с разумом, и о том, что противоречит ему. 13. Имена – средства познания, как и источник заблуждения. 14. Перевод размышления в словесные рассуждения и проистекающие отсюда ошибки. 1. Если, как это было указано выше, последовательность представлений в уме обусловлена тем порядком, в котором они следовали друг за другом в актах восприятия, и если нет ни одного представления, которому не предшествовали бы или за которым не следовали бы многочисленные другие представления, произведенные многочисленными актами восприятия, то отсюда с необходимостью следует, что одно представление сменяет другое не в зависимости от нашего выбора и потребности, а соответственно тому случайному порядку, в котором мы видим или слышим вещи, способные запечатлеть эти представления в нашем уме. Мы можем убедиться в этом на примере тех диких животных, которые из присущей им предусмотрительности прячут остатки или излишки своей пищи, но, не обладая памятью, забывают то место, где они их спрятали, и не извлекают, таким образом, из этих остатков или излишков никакой пользы в момент голода. Человек, который в данном отношении имеет право считать себя выше зверей, заметил причину этого недостатка и придумал средство, чтобы устранить его, решив ставить видимые или воспринимаемые другими органами чувств метки, способные каждый раз, когда он их снова увидит, воспроизводить в его уме те мысли, которые он имел в тот момент, когда их ставил. Метка поэтому есть чувственный объект, добровольно поставленный человеком, с тем чтобы, вновь став предметом восприятия, этот объект мог напомнить ему какое-нибудь явление прошлого. Так, матросы, счастливо избежавшие подводного камня, ставят там какую-нибудь метку, при помощи которой они могли бы в будущем вспомнить опасность, которой они однажды подверглись, и избежать ее. 2. К числу таких меток относятся те производимые человеческим голосом звуки, которые мы воспринимаем ухом и называем именами, или названиями. При помощи этих звуков мы возобновляем в нашей памяти те или другие представления о вещах, которым дали эти имена, или названия. Так, название белый воспроизводит в нашей памяти качество таких объектов, которые вызывают ощущение этого цвета или представление о нем. Имя, или название, поэтому есть звук человеческого голоса, произвольно употребляемый в качестве знака, предназначенного для возобновления в памяти конкретного представления о вещи, которой это имя присвоено. 3. Именами обозначаются или сами вещи, как, например, человек, или представление, которое мы имеем о человеке, как, например, форма и движение, или отсутствие чего-нибудь, констатируемое нами в том случае, когда нам известно, что есть что-то, чего мы не видим в нем. Например, замечая, что человек не обладает справедливостью и что предмет не имеет границ, мы даем человеку и предмету имена несправедливый и безграничный, которые означают отсутствие или недостаток чего-то, а самый недостаток обозначаем именами несправедливость и безграничность. Таким образом, имеется два вида имен: к первому относятся имена вещей, в которых мы что-нибудь замечаем, или имена самих представлений, эти имена называются положительными; ко второму относятся имена вещей, в которых мы замечаем отсутствие или недостаток чего-нибудь, эти имена называются отрицательными. 4. Лишь благодаря именам мы способны к знанию, к которому животные, лишенные преимущества использования имен, не способны. Да и человек, не знающий употребления имен, не способен к познанию. Ибо как животное, в силу того что ему неизвестны имена, обозначающие порядок,- один, два, три и т. д., т. е. те имена, которые мы называем числами, не замечает, когда не хватает одного или двух из его многочисленных детенышей, так и человек, не повторяя устно или мысленно имен чисел, не знал бы, сколько монет или других вещей лежит перед ним. 5. Так как существует много представлений об одной и той же вещи и так как мы даем особое имя каждому представлению, отсюда следует, что для одной и той же вещи мы имеем много имен, или атрибутов. Так, одного и того же человека мы называем справедливый, храбрый и т. п. соответственно различным добродетелям, присущим ему, или же даем ему имена сильный, красивый и т. п. соответственно различным качествам его тела. С другой стороны, так как мы имеем одинаковые представления о разных вещах, то многие вещи по необходимости должны иметь одно и то же название. Так, мы называем видимыми все вещи, которые видим, и называем движущимися все вещи, которые видим в движении. Те имена, которые даются нами многим предметам, мы называем общими им всем. Так, имя человек относится ко всякому отдельному представителю человеческого рода. Имя же, которое мы даем только одной вещи, мы называем индивидуальным, или единичным, как, например, Сократ и другие собственные имена, для обозначения которых мы иногда пользуемся методом косвенного описания. Так, имея в виду Гомера, мы говорим: человек, который написал Илиаду. 6. То обстоятельство, что одно имя может быть общим для многих вещей, привело к тому, что некоторые люди полагают, будто сами вещи универсальны. Эти люди серьезно уверяют, что сверх Петра, Ивана и всех остальных людей, которые существуют, существовали или будут существовать в мире, есть еще нечто другое, что мы называем человек или человек вообще. Ошибка этих людей состоит в том, что они принимают универсальные, или всеобщие, имена за вещи, которые этими именами обозначают. И в самом деле, если кто-либо предлагает художнику нарисовать человека или человека вообще, то он имеет в виду лишь то, что художник волен выбрать того человека, которого он будет рисовать, причем, однако, художник вынужден будет рисовать одного из тех людей, которые существуют, существовали или будут существовать и из которых никто не является человеком вообще. Но если кто-нибудь требует от художника, чтобы тот нарисовал ему портрет короля или какого-нибудь другого определенного лица, то он не предоставляет художнику никакой возможности выбора, последний должен нарисовать именно то лицо, которое выбрал заказчик. Ясно поэтому, что универсальны только имена. Универсальные имена являются также неопределенными, так как мы сами не ограничиваем их и предоставляем тому, кто нас слушает, свободу применять их так или иначе. Единичное же имя ограничено в своем применении одной из многих обозначаемых им вещей. Такое ограничение имеет место, когда мы говорим этот человек, указывая на него пальцем, даем человеку собственное имя и в некоторых других подобных случаях. 7. Названия, которые являются всеобщими и применимыми ко многим вещам, не всегда даются, как это следовало бы, всем соответствующим предметам на основании одинаковых признаков и в одинаковом смысле. Это обстоятельство является причиной того, что многие из таких имен не имеют постоянного значения и вызывают в нашем уме другие мысли, а не те, для обозначения которых они были предназначены. Эти имена мы называем двусмысленными. Так, слово faith значит то же самое, что слово belief, причем, однако, это слово обозначает иногда веру христианина, а иногда – верность данному слову или обещанию. Точно так же все метафоры являются по самой своей сути двусмысленными, да и вряд ли можно найти слово, которое не становилось бы двусмысленным благодаря разному сочетанию слов в речи, особенному произношению или жесту, которым сопровождается его произношение. 8. Эта двусмысленность имен приводит к тому, что становится трудно раскрыть те представления, обозначать которые были предназначены эти имена. И это затруднение мы испытываем не только по отношению к речам других людей, слушая которые нам приходится принимать во внимание намерение, повод и контекст в такой же мере, как и сами слова, но и по отношению к нашей собственной речи, которая, будучи построена на основе установившихся правил и обычного словоупотребления, не передает нам наших собственных представлений. Человеку поэтому требуется большое дарование, для того чтобы при всей запутанности слов, построений и всяких фигур речи он умел выражаться без двусмысленностей и находить истинный смысл того, что сказано. И эту способность мы называем разумением. 9. При помощи вспомогательного глагола есть или какой-нибудь равнозначащей ему связки мы составляем из двух названий утверждение или отрицание, каждое из которых, называемое на школьном языке [134] также предложением, состоит из двух названий, соединенных при помощи указанного глагола. Например, человек есть живое существо Или этот человек не прямодушен. Первое из этих двух предложений называется утвердительным, так как имя живое существо является положительным, а второе – отрицательным, так как имя не прямодушен является отрицательным. 10. Во всяком – как утвердительном, так и отрицательном – предложении последнее имя может содержать в себе первое, как в предложении милосердие есть добродетель, где имя добродетель содержит в себе имя милосердие и, сверх того, многие другие добродетели. В этом случае говорят, что предложение истинно, или содержит истину, ибо истина и истинное предложение означают одно и то же. Но последнее имя предложения может и не содержать в себе первого, как, например, в предложении все люди справедливы, где имя справедливы не содержит в себе имени все люди, ибо для огромного большинства людей применимо имя несправедливы. В этом случае говорят, что предложение ложно, или содержит ложь, так как ложь и ложное предложение также означают одно и то же. 11. Я не стану здесь рассматривать, каким образом из двух предложений – будь они оба утвердительными или одно утвердительным, а другое отрицательным – составляется силлогизм. Все то, что было сказано об именах или о предложениях, является, правда, необходимым, но скучным рассуждением. И я не намерен в данном случае писать трактат о логике, который мне пришлось бы довести до конца, если бы я стал вдаваться в дальнейшие подробности, да в этом и нет никакой нужды, ибо найдется очень мало людей, которые не обладали бы природной логикой в той мере, в какой она необходима для основательного рассуждения о том, правильно или неправильно какое-нибудь из тех заключений, к которым я перехожу в дальнейшем ходе моего трактата. Здесь я хочу только сказать, что образование силлогизмов есть то, что мы называем рассуждением. 12. Если человек выводит заключение из принципов, несомненность которых установлена опытом, и ему при этом удается избежать обмана чувств и двусмысленности слов, то мы говорим, что это заключение согласно с разумом. Но если, последовательно рассуждая, человек может на основании своего заключения прийти к выводу, противоречащему какой бы то ни было очевидной истине, то мы говорим, что его заключение противоречит разуму, и называем такого рода заключение абсурдом. 13. Если изобретение имен было необходимо, для того чтобы дать людям выбраться из бездны невежества, беспрестанно вызывая в их памяти необходимую связь, существующую между различными представлениями, то, с другой стороны, оно также явилось для людей источником заблуждений. Таким образом, если благодаря преимуществу применения слов и рассуждений люди превосходят животных своими знаниями и теми удобствами, которые сопровождают обладание знанием, то они превосходят их также своими заблуждениями. Ибо истинное и ложное суть вещи, . не присущие животным, так как последние в отличие от людей не обладают ни языком, ни способностью составлять предложения, ни способностью к умозаключениям, благодаря которым к одному заблуждению прибавляются другие. 14. Природа почти всякой телесной вещи такова, что, часто получая движение одинаковым образом, она постепенно приобретает все большую и большую легкость к восприятию этого движения и все большее и большее предрасположение к нему, в результате чего с течением времени это движение становится настолько обычным для данной вещи, что достаточно малейшего толчка, для того чтобы придать ей указанное движение. Страсти человека, являясь импульсом волевых движений, являются также импульсом человеческой речи, которая есть движение языка. И люди, желая сообщить другим свое знание, свои мнения, представления или страсти и изобретая для этой цели язык, перевели этим путем, а именно при помощи движения языка, все те сочетания мыслей, о которых говорилось в предыдущей главе, в сочетания слов, так что мысль (ratio) теперь большей частью переходит в речь (oratio), причем власть привычки в данном случае так сильна, что разум подсказывает лишь первое слово, остальные же слова следуют машинально и без содействия разума. Примером сказанного могут служить бедняки, читающие свой Pater noster [Отче наш]. В этом случае они лишь сочетают такие слова и в такой последовательности, как их учили этому в детстве няньки, товарищи или учителя, причем в их уме нет никаких образов или представлений, которые соответствовали бы произносимым ими словам. Эти бедняки обучают своих детей тому, чему научились сами. Если мы примем теперь во внимание силу обмана чувств, о котором мы говорили в пункте 10 главы II, и непостоянство смысла, вложенного людьми в слова, благодаря чему последние подвержены двусмысленности; если мы примем в соображение, какой разнообразный смысл придается словам в зависимости от страстей, и учтем, что едва ли можно найти двух лиц, которые были бы согласны между собой насчет того, что следует понимать под добром, злом, щедростью, расточительностью, храбростью и отвагой; если мы, наконец, примем в соображение, насколько люди подвержены паралогизмам, или ложным умозаключениям,- то нам придется сделать заключение, что невозможно исправить то огромное количество заблуждений, которые необходимо вытекают из указанных оснований, если не начать все сначала и не взяться за пересмотр первых оснований наших знаний и восприятий. Вместо книг следует читать наши собственные представления, и в этом именно смысле я считаю знаменитое правило Познай самого себя! заслуживающим той репутации, которую оно себе завоевало.ГЛАВА VI
1. О двух родах знания. 2. Для знания необходимы истина и очевидность. 3. Определение очевидности. 4. Определение знания. 5. Определение предположения. 6. Определение мнения. 7: Определение веры. 8. Определение сознания. 9. Бывают случаи, когда вера не менее свободна от сомнения, чем знание. 1. Где-то рассказывается история об одном человеке, который уверял, будто он только что был чудесным образом излечен от слепоты (он выдавал себя за слепорожденного) св. Альбаном или каким-то другим святым в городе Сент-Альбансе. Присутствовавший здесь же герцог Глостерский, желая удостовериться в истинности чуда, спросил этого человека, какого цвета тот предмет, который он держит перед ним. Тот ответил, что предмет зеленого цвета. Таким ответом этот человек разоблачил себя и был наказан за обман. Ибо, хотя при помощи только что приобретенного зрения он не хуже любого из тех, кто стал бы его спрашивать, мог бы отличать зеленый цвет от красного и от всех других цветов, он никак нe мог бы, однако, видя в первый раз цвета, знать, какой из них называется зеленым, красным или обозначается еще каким-нибудь именем. Это показывает нам, что есть два рода знания, из которых одно – не что иное, как восприятие, или первичное знание, о котором я говорил в начале второй главы, и воспроизведение восприятия в памяти; второе же – наука, или знание об истине представ-' лений и о том, как называются вещи; этот род знания имеет своим источником ум. Оба рода знания являются лишь опытом. Первого рода знание есть опыт относительно того, что запечатляется в нас вещами, действующими на нас извне; второго рода знание есть опыт, которым люди обладают относительно правильного употребления имен в языке. А так как всякий опыт, как мы говорили, есть лишь воспоминание, то и всякое знание есть воспоминание. Результаты первого рода знания, записанные в книгах, называются историей, записи результатов второго рода знания – наукой. 2. Две вещи необходимо содержатся в слове знание: во-первых, истина, во-вторых, очевидность. Ибо то, что не есть истина, никогда не может быть знанием. В самом деле, сколько бы ни уверял нас кто-нибудь, что он великолепно знает что-либо, ему все же придется признать, что это было не знание, а мнение, если то, что он знал, окажется неверным. Точно так же если истина не очевидна, то знание человека, придерживающегося ее, было бы не более достаточно, чем знание тех, кто утверждает противоположное. Ибо если бы было достаточно одной истины, чтобы конституировать знание, то всякая истина была бы познана, что не соответствует, однако, действительности. 3. Что такое истина, мы определили в предыдущей главе. Здесь же я намерен заняться исследованием того, что мы разумеем под очевидностью. Очевидность есть сопутст-вие человеческого представления словам, обозначающим это представление в акте умозаключения. Ибо если человек рассуждает лишь губами, так что разум подсказывает ему лишь начало рассуждения, и если он не сопровождает своих слов соответствующими представлениями в своем уме, комбинируя слова лишь по привычке, то, как бы ни были верны те предложения, из которых он исходит, как бы ни были правильны те силлогизмы, которые он из этих предложений строит, и те заключения, которые он из этих силлогизмов выводит, его умозаключения все же не будут очевидны для него самого, ибо его слова не сопровождаются у него соответствующими представлениями. В самом деле, если бы одних слов было достаточно, то мы могли бы научить попугая познавать истину так же, как мы его обучаем произносить ее. Очевидность для истины имеет то же значение, что сок для растения. До тех пор пока сок циркулирует в стволе и в ветвях, дерево живет; когда же сок исчезает, дерево умирает. Точно так же очевидность, состоящая в сопровождении наших слов соответствующими представлениями, есть жизнь истины. 4. Я определяю то знание, которое мы называем наукой, как очевидность истины, основанную на некоем начале, или принципе, ощущения. Ибо истина предложения никогда не бывает очевидной, пока мы не представляем себе смысла тех слов, или терминов, из которых предложение состоит. Этот смысл всегда составляют умственные представления. Но мы никогда не можем вспомнить эти представления, не вспоминая при этом те вещи, которые при помощи ощущений вызвали соответствующие представления в нашем уме. Первый принцип познания в том, что мы имеем такие-то и такие-то представления; второй – в том, что мы так-то и так-то называем вещи, к которым относятся наши представления; третий – в том, что мы соединяем эти имена таким образом, чтобы образовать из них истинные предложения, и, наконец, четвертый – в том, что мы соединяем эти предложения так, чтобы из них можно было выводить умозаключения и истина этих умозаключений могла быть познана. И из двух родов знания, основанного на опыте в отношении фактов и зиждущегося на очевидности истины, первый называется благоразумием, второй же получил как у древних, так и у современных писателей название мудрости. Второй род знания присущ только человеку, между тем как к знанию первого рода способны и животные. 5. Предположением называется предложение, которое, не будучи очевидным, тем не менее временно допускается нами, с тем чтобы, присоединив к нему другие предложения, мы могли вывести из него какое-либо заключение. Продолжая затем цепь умозаключений, мы проверяем, не приведет ли нас указанное предложение к какому-либо абсурду, или невозможному выводу. В последнем случае мы узнаем, что предложение было неверным. 6. Если же, обозрев длинный ряд заключений, мы не находим среди них ни одного, которое было бы абсурдным, то мы считаем предложение вероятным. Подобным же образом мы считаем вероятным всякое предложение, истинность которого допускаем, потому ли, что неправильно рассуждаем, или потому, что доверяемся другим людям. И все предложения, истинность которых мы допускаем по ошибке или из доверчивости, не познаются нами как истинные; мы только полагаем, что они истинны, и такого рода допущение называется мнением. 7. В частности же, когда какое-нибудь мнение допущено по той причине, что мы доверились другим людям,-говорят, что мы доверяемся этому мнению, и это допущение называется доверием (belief), а иногда верой (faith). 8. Под сознанием чего-либо мы обыкновенно понимаем знание или мнение. Люди говорят, что сознают истинность какой-нибудь вещи, и притом никогда не говорят так, когда считают эту вещь сомнительной. Поэтому в этих случаях они или знают, или допускают, что знают, истинность указанной вещи. Однако когда люди утверждают что-либо, ссылаясь на свое сознание, то из этого вовсе не следует, что они определенно знают истину того, что утверждают. Остается, таким образом, думать, что это слово употребляется теми, кто имеет мнение не только об истинности вещи, но и о своем знании этой истинности, так что истинность предложения является только следствием этого мнения. Я определяю поэтому сознание как мнение об очевидности. 9. Вера, заключающаяся в том, что истинность известных предложений допускается в силу доверия к авторитету других людей, во многих случаях не менее свободна от сомнения, чем совершенное и ясное познание. Так как ничего не бывает без причины, то, сомневаясь в чем-либо, мы должны знать причину нашего сомнения. И вот есть много вещей, которые мы принимаем на веру на основании рассказов других людей и по отношению к которым трудно себе представить какую-нибудь причину для сомнения. В самом деле, что можно возразить против согласия всех людей относительно фактов, которые они могут знать и для извращения которых у них нет никаких мотивов. (Так, например, обстоит дело с большей частью тех фактов, о которых нам сообщает история.) Разве только кто-нибудь скажет, что весь мир сговорился обмануть его. Вот и все, что я могу сказать об ощущении, воображении, рассуждении, умозаключении и знании. Все перечисленные акты относятся к нашей способности познания, или представления. Духовная способность, называемая нами движущей, отличается от движущей способности тела. Ибо последняя есть та, именуемая силой, способность, при помощи которой одно тело приводит в движение другие тела. Первая же есть та способность, при помощи которой дух сообщает животное движение телу, в котором он находится. Актами этой способности являются наши аффекты и страсти, о которых я сейчас расскажу в общих чертах.ГЛАВА VII
1. Об удовольствии, страдании, любви и ненависти. 2. О влечении, отвращении, боязни. 3, 4. О добре и зле, о нравственно красивом и постыдном. 5. О цели, о наслаждении. 6. О полезном, о пользе, о бесполезном. 7. О счастье. 8. О смеси добра и зла. 9. О чувственном наслаждении и чувственном страдании, о радости и горе. 1. В пункте 8 главы II было указано, что представления и явления не реальны сами по себе, а представляют собой лишь движения в каком-то внутреннем веществе головы. Так как это движение не останавливается там, а идет дальше к сердцу, то оно по необходимости помогает или препятствует тому движению, которое мы называем жизненным. Когда оно помогает последнему, его называют удовлетворением, довольством, удовольствием. Все эти чувства в действительности – не что иное, как движение сердца, подобно тому как представления – не что иное, как движение внутри головы. Объекты, возбуждающие В нас эти чувства, мы называем приятными, прелестными или обозначаем другими равнозначащими именами. Римляне образовали слово jucundum от глагола juvare, означающего помогать. Это приятное чувство по отношению к вызываемому объекту называется любовью. Когда же такое движение ослабляет или задерживает движение жизни, оно называется страданием, а по отношению к вызывающему его объекту – ненавистью. Это чувство римляне выражают то словом odium, то словом taedium. 2. Движение, к которому сводится наслаждение или страдание, есть также побуждение, или тяготение, приблизиться к той вещи, которая нравится, или же удалиться от той вещи, которая не нравится. Это побуждение есть усилие, или внутреннее начало, животного движения. Последнее называется влечением, когда объект приятен; когда же объект неприятен, оно называется отвращением по отношению к имеющейся налицо неприятности и боязнью, когда речь идет об ожидаемой неприятности. Таким образом, слова: удовольствие, любовь и влечение, которое называется еще иначе вожделением, суть разные имена, обозначающие одну и ту же вещь, рассматриваемую с различных сторон. 3. Всякий человек называет добром то, что ему нравится или доставляет удовольствие, и злом то, что ему не нравится. Так как каждый человек отличается от другого по складу характера и вкусам, то люди различаются между собой также и в понимании добра и зла. Не существует абсолютного добра (?????? ?????), лишенного всякого отношения к чему-либо или к кому-либо. Ибо даже благость, которую мы приписываем всемогущему Богу, есть благость по отношению к нам. Подобно тому как мы называем добром или злом те вещи, которые нам нравятся или не нравятся, мы называем добрыми или плохими те качества или силы, при помощи которых они производят эти действия. Все формы доброты римляне обозначали одним словом pulchritudo, а все проявления зла – словом turpitudo, по отношению к которым мы не имеем точных эквивалентов. 4. Все представления, которые мы непосредственно получаем с помощью ощущений, вызывают в нас радость или страдание, влечение или болезнь; так же обстоит дело и с теми представлениями, которые возникают в нас после актов ощущения. Но так как этого рода представления более слабы, чем представления первого рода, то они вызывают более слабую радость и более слабое горе. 5. Если влечение есть начало животного движения по направлению к той вещи, которая нам нравится, то достижение последней является целью движения, называемой нами также конечной причиной движения. Когда мы этой цели достигаем, то испытываемое нами при этом удовольствие называется наслаждением (fruition). Итак, благо (bonum) и цель (finis) суть различные имена для обозначения одной и той же вещи, рассматриваемой с разных сторон. 6. Среди целей одни называются propingui [близкими], другие – remoti [отдаленными]. Но когда близкие цели сравниваются с более отдаленными, то первые называются не целями, а средствами, или путями, к достижению последних. Что же касается самой отдаленной цели, с достижением которой древние философы связывали блаженство и о путях к которой они вели долгие диспуты, то такой вещи в мире не существует, и никаких путей к ней нет, как нет путей в Утопию [135]. Ибо пока мы живем, мы имеем желания, а желания предполагают цели. Те вещи, которые нам нравятся как пути и средства, пригодные для достижения дальнейшей цели, мы называем полезными, а обладание ими – пользой. Те же вещи, которые нам невыгодны, мы называем бесполезными. 7. Так как мы видим, что всякое удовольствие есть влечение и предполагает дальнейшую цель, то удовлетворение может заключаться лишь в непрерывном продолжении влечения. Вот почему нечего удивляться тому, что влечения людей усиливаются, по мере того как они достигают все большего богатства, все большей славы или приобретают какие-либо иные преимущества. И когда они достигают обладания каким-нибудь преимуществом во всем его объеме, то начинают добиваться другого преимущества, в отношении которого они, по их мнению, отстали от других. Вот почему среди тех людей, которые достигали величайшего богатства и высших почестей, некоторые домогались славы на поприще какого-нибудь искусства. Так, Нерон пристрастился к музыке и поэзии, а император Коммод стал гладиатором. Те же, кто не домогается подобных вещей, вынуждены искать развлечений и занимать свое воображение игрой или делами. И когда люди не знают, что им делать, они с полным правом чувствуют себя несчастными. Таким образом, счастье, под которым мы понимаем непрерывное удовольствие, состоит не в том, что мы в чем-либо преуспели, а в самом преуспевании. 8. Есть очень мало вещей в этом мире, которые не представляли бы собой или смеси добра и зла, или такой тесно сомкнутой цепи из обоих этих моментов, что один момент не может быть оторван от другого. Так, удовольствие, доставляемое каким-нибудь проступком, связано с горечью наказания; точно так же слава в большинстве случаев связана с трудом на каком-нибудь поприще. Когда большая часть звеньев цепи представляет собой добро, то вся цепь в целом называется добром; если же среди звеньев цепи перевешивает момент зла, то и вся цепь называется злом. 9. Есть два рода удовольствий. Одни удовольствия, по-видимому, оказывают действие на телесные органы чувств, и их я называю чувственными. К такого рода удовольствиям относится большая часть тех удовольствий, которые нас толкают к продолжению рода; сюда относятся, далее, те удовольствия, которые побуждают нас есть для сохранения нашей жизни. Удовольствия другого рода не связаны с какой-либо частью нашего тела и потому называются духовными. Их можно назвать также радостью. Так же обстоит дело и со страданиями. Некоторые из них оказынают действие на тело и называются телесными страданиями, другие же не связаны с телом и называются горем.ГЛАВА VIII
1, 2. В чем состоят чувственные удовольствия. 3, 4. О воображении, или представлении, о силе у человека. 5. Об уважении, о том, что достойно уважения, о заслуге. 6. О знаках уважения. 7. О благоговении. 8. О страстях. 1. Высказав в первом пункте предыдущей главы предположение, что движение, или волнение, мозга, которое мы называем представлением, идет дальше к сердцу и, достигнув его, становится тем, что мы называем страстью, я тем самым обязался исследовать и объяснить, поскольку это в моих силах, из какого представления вытекает каждая из тех страстей, которые, по нашим наблюдениям, являются наиболее обычными. Ибо, принимая во внимание, что вещи, которые нам нравятся или не нравятся, бесчисленны и действуют бесконечно разнообразным образом, мы можем с уверенностью заключить, что люди имели возможность наблюдать только небольшую часть этих страстей, многие из которых даже не имеют имени. 2. И прежде всего мы должны принять во внимание, что есть три рода представлений. Одни из них являются тем, что непосредственно дано, это ощущение. Другие суть представления о прошлом, это воспоминания. Третьи же суть представления о будущем, которые мы называем ожиданием. Все эти различия мы уже изложили в главах II и III. Всякое из этих представлений порождает актуальное удовольствие или актуальное страдание. Сюда относятся прежде всего те физические удовольствия, которые связаны с чувством осязания и вкуса. Так как эти удовольствия являются органическими, то их представлением является ощущение. Таково же и удовольствие, связанное со всякого рода физическими облегчениями. Все эти страсти я называю чувственными удовольствиями, а противоположные им – чувственными страданиями. Сюда можно отнести также приятные и неприятные ощущения, вызываемые в нас различными запахами, поскольку некоторые из этих ощущений являются органическими; впрочем, последние составляют меньшинство. В самом деле, как известно каждому человеку на основании собственного опыта, одни и те же запахи кажутся нам неприятными, когда мы считаем их исходящими от других людей, хотя они фактически могут исходить от нас самих, и, наоборот, не вызывают в нас никакого неприятного ощущения, когда мы считаем их исходящими от нас самих, хотя они фактически могли бы исходить от других людей. Неприятное ощущение, испытываемое нами в этом случае, вызывается представлением, что эти запахи нездоровы и могут причинить нам вред; следовательно, это неприятное ощущение вызывается представлением о будущем, а не о настоящем зле. Что касается удовольствий, связанных со слухом, то они различны; при этом их различия не затрагивают сам орган слуха. Простые звуки, как, например, звуки колокола или лютни, нравятся благодаря своему однообразию; в самом деле, однообразные и продолжительные удары, испытываемые нашим ухом от какого-нибудь объекта, доставляют нам приятное ощущение. Противоположные звуки называются грубыми. Таковы, например, звуки, которые получаются от трения двух предметов, и некоторые другие звуки, которые с перерывами действуют на тело, сообщая ему трепет, начинающийся с зубов. Гармония, или соединение многих согласованных между собой звуков, нравится нам по той же причине, что и унисон, или звук, произведенный равными и одинаково натянутыми струна-ми. Звуки, различающиеся между собой высотой, нравятся нам вследствие правильного чередования равенства и неравенства: более высокая нота производит два колебания, в то время как более низкая – одно колебание, причем колебания,производимые высокой и низкой нотой, совпадают при каждом втором колебании высокой ноты. Это хорошо доказано Галилеем в его первом диалоге о локализованном движении. Там же он доказывает, кроме того, что два звука, различающиеся между собой на одну квинту, нравятся уху в силу того, что производят в нем однородное колебание после двух неоднородных колебаний, ибо в этом случае более высокая нота производит в нашем органе слуха три, а более низкая нота – лишь два колебания. Таким же образом он показывает нам, чем обусловливаются ощущения благозвучия и диссонанса при других различиях звуков. Существует еще другого рода приятное и неприятное сочетание звуков, которое обусловливается последовательностью нот, различающихся между собой по высоте и такту. Те из этих сочетаний звуков, которые нам нравятся, мы называем мелодией. Должен, однако, сознаться, что я не знаю, почему известная последовательность тонов, отличающихся друг от друга по высоте и длительности, производит более приятную мелодию, чем другая. Я могу лишь предположить, что некоторые мелодии имитируют или воскрешают в нас какую-нибудь скрытую от нас самих страсть, между тем как другие такого эффекта не достигают. Ибо всякая мелодия, как и всякое подражание, нравится только в течение известного времени. Точно так же и приятное зрительное ощущение обусловливается известным однообразием цвета. Ибо свет, наиболее красивый из цветов, производится однообразным действием объекта, между тем как цвет вообще представляет собой неровный и мутный свет, как это уже было выяснено в пункте 8 главы II. Вот почему цвета являются тем более яркими, чем больше в них однообразия. И подобно тому как гармония приятна для слуха благодаря различию своих тонов, так, может быть, и некоторые сочетания и комбинации цветов представляют собой гармонию для глаза в большей степени, чем другие. Но есть еще одно приятное ощущение, испытываемое нашим органом слуха, и оно бывает лишь у людей, искусных в музыке. Это приятное ощущение имеет свою особенную природу и в отличие от указанных выше удовольствий не является представлением о чем-то наличном. Оно есть наслаждение своим собственным талантом. Страсти, о которых я сейчас буду говорить, принадлежат к этой категории. 3. Представление о будущем есть лишь предположение, имеющее своим источником воспоминание о прошлом. Мы лишь постольку представляем себе, что в будущем должно произойти какое-либо событие, поскольку знаем, что в настоящем существует нечто способное произвести это событие. А знание того, что какая-нибудь существующая в настоящем вещь способна произвести какую-нибудь другую вещь в будущем, нам может дать лишь воспоминание о том, что эта вещь уже произвела в прошлом нечто подобное тому, что мы от нее ждем в будущем. Всякое представление о будущем есть поэтому представление о силе, способной что-нибудь произвести. Поэтому всякий, кто ожидает обрести в будущем какое-нибудь удовольствие, одновременно с этим воображает некую силу в себе самом, при помощи которой это удовольствие может быть достигнуто. И так как страсти, о которых я скоро буду говорить, являются представлением о будущем, т. е. о силе, испытанной в прошлом, и о будущем ее акте, то, прежде чем продолжить нить моих рассуждений, я должен сказать кое-что относительно этой силы. 4. Под этой силой я подразумеваю телесные способности, обусловливающие питание, размножение и движение, а также и способность разума к знаниям; сверх того, я подразумеваю под этим такие силы, которые приобретаются при помощи вышеуказанных способностей, а именно богатство, высокое положение, дружбу и удачу. Последняя в действительности есть не что иное, как любовь всемогущего Бога. Противоположными свойствами являются немощь, дряхлость или отсутствие указанных выше сил. Так как силы одного человека противостоят, или мешают, усилиям другого, то слово сила без дальнейших оговорок означает не что иное, как избыток сил одного человека по сравнению с силами другого, ибо две равные и противоположно направленные силы взаимно уничтожают друг друга; такое противодействие их друг другу называется соревнованием. 5. Признаками, на основании которых мы познаем нашу силу, являются те действия, которые из нее проистекают. Знаки, на основании которых другие признают нашу силу, суть действия, жесты, выражение лица и речь – обычные внешние выражения этой силы. Признание силы мы называем уважением. Уважать человека – значит сознавать, или признавать, что этот человек имеет излишек, или избыток, силы по сравнению с тем человеком, с которым он состязается или сравнивает себя. Достойными уважения считаются те признаки, на основании которых один человек признает в другом силу или превосходство в силе по сравнению с его конкурентом. Так, красота человека, заключающаяся в жизнерадостном выражении лица, и другие признаки природной страстности пользуются уважением, потому что они указывают на большую способность к размножению и предвещают многочисленное потомство. По той же причине наше уважение вызывает представитель одного пола, пользующийся успехом у представителей другого пола. Действия, обусловленные телесной силой, и явные проявления силы вызывают наше уважение как признаки, указывающие на большую энергию; таковы, например, победа в сражении или дуэли, убийство противника. Точно так же всякие предприятия, сопряженные с опасностью, вызывают у нас уважение как признаки, указывающие на сознание своей силы, которые в свою очередь являются признаком наличия самой силы. Обучение других чему-либо или убеждение их в чем-либо вызывает наше уважение как доказательство познаний. Богатство также вызывает наше уважение как доказательство той силы, при помощи которой оно было приобретено. Щедрость в разделе подарков, жизнь на широкую ногу, великолепие жилищ и платья вызывают наше уважение как признаки богатства. Знатность про-. исхождения вызывает наше уважение и, являясь отражением прошлого, указывает на силу, которой обладали предки. Влиятельное положение вызывает наше уважение, так как свидетельствует о силе, мудрости, любви окружающих или богатстве, благодаря которым оно могло быть достигнуто. Счастье или случайный успех вызывают наше уважение, так как свидетельствуют о благоволении провидения, которому мы обязаны всем тем, что нам досталось как благодаря удаче, так и благодаря нашим собственным усилиям. Наличие противоположных признаков или недостаток перечисленных признаков вызывает у нас презрение, и соответственно признакам, вызывающим наше уважение или презрение, мы определяем и соразмеряем ценность, или стоимость, человека. Ибо всякая вещь стоит столько, сколько человек согласен дать за то употребление, которое из нее можно сделать. 6. Знаками уважения являются те признаки, благодаря которым мы замечаем, что один человек признает силу или ценность другого. Таковыми являются: восхваление и прославление кого-либо; признание кого-либо счастлй1 вым; просьбы и мольбы, обращенные к кому-либо; приношения и подарки, предназначенные для кого-либо; повиновение, оказываемое кому-либо; внимание, с которым один человек прислушивается к словам другого; почтение, с которым один разговаривает с другим; скромная манера, с которой приближается к другому; расстояние, на котором один держится от другого; отступление перед другим, чтобы дать ему дорогу, и т. п. Все это – знаки уважения, которые низший оказывает высшему. Знаки же уважения, которые высший оказывает низшему, заключаются в том, что первый хвалит второго или оказывает ему предпочтение перед его конкурентами, более охотно слушает его, более дружелюбно разговаривает с ним, легче допускает его к себе, чаще пользуется его услугами, охотнее советуется с ним, чаще следует его советам, предпочитает делать ему подарки, чем давать деньги, а если дает деньги, то во всяком случае в количестве, достаточном для того, чтобы не могло возникнуть подозрение, будто получивший их нуждается в малой сумме, ибо нуждаться в малой сумме денег означает большую бедность, чем нуждаться в большой сумме. 7. Благоговение есть наше представление о человеке, во власти которого причинить нам как благо, так и зло, но который не имеет намерения причинить нам зло. 8. В удовольствии или неудовольствии, которые причиняют людям оказываемые им знаки уважения или неуважения, состоит природа страстей, о которых мы будем говорить в ближайшей главе.ГЛАВА IX
1. Стремление к славе, ложная слава, тщеславие. 2. Смирение и малодушие. 3. Стыд. 4. Храбрость. 5. Гнев. 6. Мстительность. 7. Раскаяние. 8. Надежда, отчаяние, неверие в себя. 9. Доверие. 10. Сострадание и бесчувственность. 11. Негодование. 12. Соревнование и зависть. 13. Смех. 14. Плач. 15. Сладострастие. 16. Любовь. 17. Доброжелательность. 18. Изумление и любопытство. 19. О страстях, побуждающих людей толпиться, чтобы видеть, как другие люди подвергаются опасности. 20. О величии души и малодушии. 21. Общий обзор страстей, представленных в виде состязания в беге. 1. Слава, внутреннее чувство самоудовлетворения, или триумф души, есть страсть, имеющая своим источником воображение, или представление, о нашей собственной силе и ее превосходстве над силами того, с кем мы состязаемся. Знаками этой страсти, кроме тех, что отображаются на лице и выражаются разными жестами, недоступными описанию, являются чванство в словах и наг-лость в действиях. Эта страсть именуется гордыней теми, кому она не нравится, а те, кому она нравится, называют ее сознанием собственного достоинства. Лежащее в ее основе представление о нашей силе или ценности может вытекать из опыта, основанного на наших собственных действиях. В таком случае слава является справедливой, хорошо обоснованной и порождает мнение, что ее можно увеличить новыми действиями: она становится источником того влечения, которое мы называем стремлением, развивающимся от одной степени силы к другой. Эта же страсть может быть основана не на осознании наших собственных действий, а на репутации и доверчивом восприятии чужих мнений. В таком случае человек может хорошо думать о себе и все же пребывать в заблуждении. Это – ложная слава, и стремление, порождаемое ею, не может увенчаться успехом. Далее, фиктивное представление (которое является также воображением) о действиях, будто бы совершенных, а фактически никогда не совершавшихся нами, есть чванство. Но так как эта фикция не порождает у нас никакого желания и не внушает нам стремления продвигаться вперед в каком-либо отношении, то она просто бесполезна и суетна. Такая фикция имеет место, например, тогда, когда человек воображает себя героем тех событий, о которых он читает в романе, или воображает себя похожим на героя, который вызывает его восхищение; и это называется тщеславием. Последнее нашло свое отображение в басне о мухе, которая, сидя на оси экипажа, хвастает той тучей пыли, которую она подняла. Выражением тщеславия является то желание, которое школьные ученые ошибочно сочли нужным обозначить словом velleity (бессильное, или слабое, хотение), изобретенным ими для обозначения новой, не существовавшей, по их мнению, Прежде страсти. Тщеславных людей можно узнать по следующим внешним признакам. Они всегда подражают другим. Они подделывают и узурпируют признаки несвойственной им добродетели. Их характеризует аффектация в манерах. Они хвастают своими мечтами, своими приклю- чениями, своей родиной, своим именем и т. д. 2. Страсть, противоположная страсти к славе и проистекающая из сознания наших собственных недостатков, называется смирением теми, кто эту страсть одобряет. Другие же называют ее малодушием и убожеством. Представление о самом себе, служащее основанием этой страсти, может быть хорошо и плохо обосновано. Будучи хорошо обосновано, оно порождает боязнь предпринять что-либо необдуманно. Будучи же плохо обосновано, оно совершенно подавляет человека, так что последний не смеет выступать публично и не ждет ни малейшего успеха от своих начинаний. 3. Иногда может случиться, что человек, имеющий о себе вполне обоснованное хорошее мнение, тем не менее в силу своего рода упрямства, которое порождает в нем вышеуказанная страсть, откроет в себе какую-нибудь слабость или какой-нибудь недостаток, воспоминание о котором будет его угнетать, порождая чувство, именуемое стыдом. Это чувство, охлаждая ого пыл, сделает его более осмотрительным относительно будущего. Эта страсть может быть признаком слабости, будучи в таком случае достойна порицания; но она может быть также признаком знания, и тогда ее следует уважать. Об этой страсти свидетельствует краска на лице, которая бывает выражена слабее у людей, сознающих свои недостатки, ибо такие люди тем менее склонны выдавать свои недостатки, чем больше их сознают. 4. Храбрость в широком смысле слова означает отсутствие страха перед лицом какой-нибудь опасности; в более употребительном и ограниченном смысле она означает презрение к страданиям и смерти, когда последние стоят на пути к достижению намеченной цели. 5. Гнев, или внезапная храбрость, есть не что иное, как вожделение, или желание, преодолеть наличное препятствие, или сопротивление. Обыкновенно гнев определяют как печаль, вызванную презрительным мнением о нас, но это определение опровергается опытом, показывающим, что нас приводят в гнев и предметы неодушевленные, а следовательно, неспособные питать к нам презрение. 6. Мстительность есть страсть, имеющая своим источником ожидание или представление возможности заставить того, кто причинил нам вред, найти собственное действие вредным для себя и признать это. Желание добиться такого признания представляет собой крайнюю степень мстительности, ибо если и нетрудно заставить нашего врага раскаяться в своих действиях, отплатив ему злом аа зло, то очень трудно заставить его сознаться в своем раскаянии, поскольку многие люди согласились бы скорее умереть, чем признать нечто подобное. Целью мщения является не смерть, а плен и порабощение врага, что нашло яркое выражение в восклицании Тиберия по поводу смерти одного из его врагов, покончившего с собой в тюрьме, чтобы избегнуть мести императора. Узнав об этом, Тиберий воскликнул: «Итак, он ускользнул от меня!» Человек, который ненавидит, имеет желание убить врага, чтобы избавиться от страха. Человек же, который мстит, стре-мится восторжествовать над врагом, что невозможно осуществить, если враг мертв. 7. Раскаяние есть страсть, проистекающая из мнения, или сознания, что совершенное нами действие не ведет к цели, которую мы поставили перед собой. Результатом этого чувства является решение не идти дальше тем же путем, а направиться по лучшему, более пригодному для достижения поставленной нами цели. Первое движение атой страсти – чувство горечи, но ожидание возврата, или представление о возможности возврата, на истинный путь дает радость. Следовательно, раскаяние есть сложное чувство, в которое входят оба указанных момента. Но при этом радость преобладает, ибо иначе чувство раскаяния в целом было бы горестным, что невозможно, поскольку тот, кто стремится к цели, признаваемой им благой, испытывает по отношению к этой цели влечение, а влечение, как это было выяснено в пункте 2 главы VII, есть радость. 8. Надежда есть ожидание будущего блага, как опасение есть ожидание беды. Когда же на наш разум попеременно действуют причины, из которых иные заставляют нас ожидать блага, а иные – беды, то в том случае, когда первое сильнее последних, страсть в целом будет надеждой. В противном случае страсть в целом будет представлять собой опасение. Отсутствие какой бы то ни было надежды есть отчаяние, смягченной формой которого является неверие в себя. 9. Доверие есть страсть, имеющая своим источником веру, которую мы испытываем по отношению к тому, от кого ждем, или надеемся, получить какое-нибудь благо. Это ожидание, или эта надежда, в такой мере свободно от всяких сомнений, что мы не считаем нужным предпринимать какие-либо другие шаги для достижения данного блага. Недоверие же есть сомнение, заставляющее нас прибегать к другим средствам. Что смысл слов доверие и недоверие именно таков, явствует из того обстоятельства, что человек никогда не ищет новых средств для достижения какой-нибудь цели, если он не сомневается в том, могут ли привести к ней старые средства. 10. Сострадание есть воображение, или фикция, нашего будущего несчастья, порожденное чувством чужого несчастья. Но если это несчастье обрушивается на такого человека, который, по нашему мнению, его не заслуживает, то наше сострадание возрастает, ибо в этом случае нам представляется более вероятным, что такое же несчастье может приключиться с нами. Ибо бедствие, которое может обрушиться на невинного, может обрушиться и на всякого из нас. Но если мы видим, что человек страдает за совершенные им крупные преступления, на которые мы считаем себя неспособными, то испытываемая нами жалость при этом значительно слабее. Вот почему люди склонны питать сострадание к тем, кого они любят, считая их достойными счастья и, следовательно, не заслуживающими несчастья. Этим объясняется также и то обстоятельство, что мы сразу же сожалеем о пороках людей, внешность которых нам понравилась. Противоположностью сострадания является бесчувственность, имеющая своим источником или вялость воображения, или преувеличенное представление о собственной застрахованности против соответствующих несчастий, или же большую или меньшую степень человеконенавистничества. 11. Негодование есть недовольство, которое причиняет нам представление о счастливом уделе тех, кого мы считаем недостойными такого удела. Считая недостойными всех тех, кого они ненавидят, люди полагают, что те, кто им ненавистен, не заслуживают не только того счастья, которым они наслаждаются, но и тех добродетелей, которыми они обладают. Среди всех страстей нот ни одной, которую можно было бы в большей степени разжечь при помощи красноречия, чем негодование и жалость. Преувеличивая несчастье кого-либо и преуменьшая значение его вины, оратор может усилить нашу жалость к соответствующему лицу. Преуменьшение же ценности лица и преувеличение его успехов способны обратить обе эти страсти в ярость. 12. Соревнование есть недовольство, испытываемое человеком, который видит себя превзойденным своим конку-рентом, и сопровождаемое надеждой сравняться с послед-ним или даже превзойти его в будущем благодаря своим собственным дарованиям. Зависть есть то же неудовольствие, сопровождаемое удовольствием, имеющим своим источником представление о каком-нибудь несчастье, которое может обрушиться на нашего соперника. 13. Существует еще страсть, которая не имеет имени в внешним выражением которой является изменение физиономии, называемое нами смехом и всегда выражающее радость. Но до сих пор никто не мог объяснить нам, каков характер этой радости, что мы думаем и по какому поводу мы торжествуем тогда, когда смеемся. Опыт опровергает мнения тех, кто утверждает, что эту радость возбуждает остроумное слово или шутка, ибо люди смеются по поводу какого-нибудь злоключения, по поводу какой-нибудь глупости и непристойности, в которых нет ни грана шутки, ни грана остроумия. Так как вещь перестает быть смешной, когда она становится обычной, необходимо, чтобы то, что возбуждает смех, было ново и неожиданно. Мы часто видим, что люди (особенно такие, которые жаждут похвал всему, что бы они ни делали) смеются по поводу собствен- ных действий, хотя то, что они говорили или делали, вовсе не было для них неожиданным; мы часто видим также, что люди смеются по поводу собственных шуток. В этом случае очевидно, что страсть смеха имеет своим источником внезапное представление смеющегося о некоторых своих талантах. Люди смеются также над слабостями других, так как воображают, что эти чужие слабости лучше всего могут оттенить и подчеркнуть их собственные преимущества. Они смеются также, слушая шутки, остроумие которых состоит лишь в том, что они в такой форме открывают и сообщают нам некоторые нелепости, совершаемые другими людьми. И в этом случае страсть смеха имеет своим источником внезапное представление о нашем превосходстве и значимости. В самом деле, разве сравнение собственных преимуществ со слабостями и нелепостями других людей не является средством упрочения нашего доброго мнения о нас самих? Ибо мы никогда не смеемся по поводу шутки, затрагивающей нас или наших друзей, бесчестье, которых ложится и на нас. Из всего этого я могу заключить, что страсть смеха есть не что иное, как внезапное чувство тщеславия, возникшее в нас под влиянием неожиданного представления о каких-нибудь наших личных преимуществах и сравнения последних со слабостями, которые мы замечаем в данный момент в других людях или которые нам самим были свойственны в прежнее время. Ибо люди смеются по поводу своих прошлых глупостей, когда последние неожиданно всплывают в памяти, если только эти глупости не имеют своим последствием позора в настоящем. Нет поэтому ничего удивительного в том, что люди чувствуют себя жестоко оскорбленными, когда их высмеивают, т. е. над ними торжествуют. Смех не оскорбляет лишь тогда, когда он относится к нелепостям и слабостям, абстрагированным от лиц, и когда все общество может к нему присоединиться. Ибо если кто-нибудь, находясь в обществе, смеется про себя, то он тем самым возбуждает беспокойство в других и заставляет их насторожиться. Впрочем, торжествовать по поводу ошибок других людей есть признак тщеславия и собственного ничтожества. 14. Противоположная смеху страсть (внешним признаком которой является иное искажение лица, сопровождаемое слезами) называется плачем; это – наша внезапная досада на самих себя или внезапное представление о каком-либо нашем недостатке. Вот почему дети так часто плачут. Так как дети убеждены в том, что всякое их желание должно быть исполнено, то всякий отказ представляется им неожиданным препятствием, показывающим, что они слишком слабы для того, чтобы овладеть той вещью, которую им хотелось бы иметь. По этой же причине и женщины более склонны к плачу, чем мужчины: ведь первые не только менее, чем вторые, привыкли встречать отказ своим желаниям, но и имеют обыкновение мерить свою силу силой и любовью тех, кто им покровительствует. Люди, стремящиеся к отмщению, склонны плакать, когда их мщение встречает препятствие в раскаянии врага; отсюда слезы примирения. Даже мстительные люди оказываются подвластны этой страсти при виде тех, к кому они испытывают сострадание, если при этом им вдруг вспоминается, что со своей стороны они ничего не могут для них сделать. В других случаях мужчины плачут по тем же причинам, что и женщины и дети. 15. Вожделение, которое люди называют сладострастием, как и наслаждение, которое является следствием такого вожделения, не есть лишь чувственное удовольствие, а заключает в себе и удовольствие духовное. В самом деле, это вожделение слагается из двух желаний: желания нравиться и желания получить удовольствие. Желание нравиться есть не чувственное, а духовное удовольствие и состоит в представлении о своей способности доставить удовольствие другим. Но слово сладострастие заключает в себе оттенок осуждения. Обычно эту страсть обозначают словом любовь, подразумевая под ней неопределенное влечение одного пола к другому, столь же естественное, как и голод. 16. Мы уже говорили о любви, если под этим словом подразумевать удовольствие, которое доставляет человеку пользование наличным благом. Такова и любовь, которую люди чувствуют друг к другу, или удовольствие, которое им доставляет общество ближних, в силу чего они получили название общественных животных. Существует еще другой вид любви, который греки называют эросом.' Это тот вид любви, который имеют в виду, когда говорят, что человек влюблен. Так как эта любовь с необходимостью предполагает различие полов, то нельзя не признать, что она является одним из видов того неопределенного влечения, о котором мы говорили в предыдущем пункте. Есть, однако, большая разница между неопределенным влечением человека и тем же влечением, относящимся к определенному объекту. И именно влечение последнего рода есть та любовь, которая представляет собой неисчерпаемую тему для поэтов. Но как бы ни возвеличивали это чувство поэты, оно может быть определено не иначе как словом потребность. Ибо любовь есть представление человека о его потребности в лице, к которому его влечет. Причиной этой страсти не всегда и даже не чаще всего является лишь красота или какое-нибудь другое достоинство другого лица. Необходимо сверх этого, чтобы лицо, которое любит, могло питать надежду на исполнение своего желания. Это подтверждается тем обстоятельством, что при наличности больших социальных различий между людьми мы часто наблюдаем случаи, когда представители высших сословий влюбляются в представителей сословий низших, между тем как обратные случаи если и наблюдаются, то чрезвычайно редко. Из сказанного нами ясно, почему больший успех в любви имеют те, кто основывает надежды на своих личных качествах, чем те, кто основывает их на своем красноречии и своих услугах; по той же причине те, кто дает себе мало труда в этом отношении, больше преуспевают, чем те, кто дает себе много труда. Не зная этого, многие понапрасну тратят свои усилия, пока вместе с надеждой не теряют окончательно и рассудка. 17. Есть еще одна страсть, которую иногда обозначают словом любовь, но которую правильно было бы назвать доброжелательностью. Человек не может иметь лучшего доказательства своей силы, чем тогда, когда он видит себя в состоянии не только осуществить свои собственные желания, но и помочь другим в осуществлении их желаний. Таков характер того представления, которое мы называем доброжелательностью. Сюда относятся прежде всего естественная любовь родителей к детям, которую греки называют ??????, а также чувство, которое заставляет людей оказывать помощь тем, кто к ним привязан. Но чувство, которое нередко понуждает людей расточать свои благодеяния иностранцам, не может быть названо доброжелательностью. Эти благодеяния являются следствием или договора, при помощи которого люди стремятся купить дружбу иностранцев, или страха, заставляющего людей ценой своих благодеяний купить себе мир. Приведем мнение Платона о достойной любви, которое он по своему обыкновению вкладывает в уста Сократа в диалоге, озаглавленном Пир. Платон полагает, что человек, преисполненный мудрости и добродетели, естественно, ищет красивого человека, восприимчивого благодаря своему возрасту и способностям к новым идеям, с тем чтобы в соединении с последним (понимая это соединение исключительно в духовном, а не в чувственном смысле) породить и преумножить мудрость и добродетель. Вот как следует понимать любовь мудрого и строго нравственного Сократа к юному и красивому Алкивиаду, которого этот философ стремился оплодотворить лишь в отношении мудрости и добродетели. Чувство это, таким образом, противоположно обычной любви, при которой хотя и имеет иногда место оплодотворение, но последнее не является целью, ибо целью здесь является доставить другому и испытать самому наслаждение. Следовательно, в случае с Сократом речь идет о той доброжелательности, о которой мы говорили выше, или о желании быть полезным и делать добро людям. Однако почему мудрец должен непременно искать невежду и почему он должен проявлять больше доброжелательности к красивым людям, чем ко всем прочим? Нам кажется, что в этом отношении Сократ несколько приноравливался к вкусам своего времени. И хотя Сократ был человеком строго нравственным и воздержанным, однако воздержанные люди преисполнены страстей, которые они сдерживают, в такой же или даже в большей мере, чем люди, привыкшие давать волю своим вожделениям. . Вот почему я подозреваю, что проповедуемая Платоном любовь была чувственной любовью, искавшей в благородных мотивах предлога, под которым старый человек мог бы часто искать общества красивого юноши. 18. Так как опыт есть основа всякого знания, то новый опыт есть источник новых знаний и накопление опыта ведет к росту знания. Вот почему всякое новое событие в жизни, человека дает последнему основание надеяться, что он узнает нечто, чего он раньше не знал, Эта надежда и это ожидание будущего знания, возбужденные каким-нибудь новым и странным событием, и составляют ту страсть, которую мы обычно называем изумлением. Та же страсть, рассматриваемая как желание, есть любопытство, представляющее собой желание знать. Если в отношении умственных способностей человек возвышается над животными благодаря своей способности давать вещам имена, то среди страстей человека возвышает над животными любопытство. В самом деле, когда какой-нибудь зверь видит новую и непонятную для него вещь, он останавливает на ней свое внимание лишь настолько, чтобы определить, полезна она ему или вредна, в соответственно этому приближается к ней или бежит от нее прочь, между тем как человек, который помнит, чем было вызвано и как началось большинство наблюдаемых им событий, ищет также причину и начало всякого нового и непонятного события. И эта страсть изумления и любопытства привела не только к изобретению имен, но и к предположениям насчет тех причин, которые могли произвести все вещи. В этой страсти мы, следовательно, имеем источник всей философии. Так, астрономия обязана своим происхождением изумлению, которое мы испытываем по поводу небесных тел, физика – странным действиям элементов и т. д. Люди приобретают знания в меру своего любопытства. Человек, всецело занятый накоплением богатства или поглощенный заботой об удовлетворении своего честолюбия (и, следовательно, преследующий чисто чувственные в сравнении со знанием цели), находит мало удовлетворения в знании того, обусловливается ли смена дня и ночи движением Солнца или движением Земли [136]. Такой человек будет интересоваться всяким странным происшествием лишь постольку, поскольку последнее может быть полезно или вредно для него. Так как удовлетворение любопытства доставляет удовольствие, то удовольствие доставляет и всякая новость, особенно такая, из которой можно извлечь правильное или неправильное мнение о способе улучшить свое положение, ибо в этом случае люди преисполняются таких же надежд, как и игроки, которые бьют карту своего партнера. 19. Существует еще много других страстей, но они не имеют имени. Некоторые из них, однако, можно наблюдать у большинства людей. Например, каков источник того удовольствия, которое испытывают люди, следя с берега за опасным положением тех, кто находится в открытом море во время бури, взирая на сражающихся людей или наблюдая из укрепленного замка поле битвы, где две армии нападают друг на друга? Нет никакого сомнения в том, что такого рода зрелище доставляет людям наслаждение, иначе они бы не сбегались толпами, чтобы наблюдать его. Однако к этому удовольствию примешивается и печаль, ибо если, с одной стороны, такое зрелище представляет собой нечто новое и напоминает зрителям об их собственной безопасности, что должно доставлять им удо-вольствие, то это же зрелище заставляет их испытывать и жалость к тем, кто погибает или подвергается опасности, а следовательно, возбуждает в них чувство неудовольствия; но чувство удовольствия настолько преобладает, что люди в подобных случаях не отказываются быть зрителями даже несчастий своих друзей. 20. Величие души есть то же, что и слава, о которой я говорил в первом пункте, но это – слава, основанная на испытанной силе, достаточной для того, чтобы достигнуть своих целей прямыми путями. Малодушие же есть сомнение в возможности достижений своих целей. Таким образом, все то, что является признаком тщеславия, есть признак малодушия, ибо для действительной силы слава – стимул к преследованию своих целей. Радоваться или печалиться по поводу заслуженной или незаслуженной репутации есть также признак малодушия, ибо тот, кто делает ставку на использование своей репутации, не рассчитывает достигнуть своих целей собственными силами. Точно так же признаками малодушия являются хитрость и плутовство, ибо лица, пользующиеся этими средствами, рассчитывают не на свою силу, а на незнание других людей. Признаком малодушия является и склонность к гневу, ибо она свидетельствует о трудностях, встречаемых данным лицом на пути к достижению своих целей. То же приходится сказать и о чванстве, основанном на славе предков, ибо люди более склонны выставлять напоказ собственную силу, если они обладают ею, чем силу других. Признаком слабости какого-нибудь лица является также его вражда и споры с людьми, стоящими ниже его, так как эти споры доказывают, что данное лицо не обладает силой раз и навсегда положить им конец. Точно так же стремление какого-нибудь лица высмеивать других свидетельствует о его слабости, ибо это – стремление основывать свою славу на слабости других, а не на собственных заслугах. Признаком малодушия является также нерешительность, ибо она свидетельствует о том, что у данного лица нет силы, дающей возможность презирать те небольшие трудности, на которые наталкивается принятие решения. 21. Человеческую жизнь можно сравнить с состязанием в беге, и, хотя это сравнение не может считаться правильным во всех отношениях, оно все же достаточно для того, чтобы дать нам наглядное представление почти обо всех страстях, о которых мы говорили. Надо только представить себе, что единственная цель и единственная награда каждого из участников этого состязания – оказаться впереди своих конкурентов. В этом беге:Усиление соответствует желанию, или вожделению. Расслабленность есть сластолюбие, или чувственность. Смотреть на тех, кто находится позади, есть слава. Смотреть на тех, кто находится впереди, есть смирение. Сбиться с пути, оглядываясь назад, есть тщеславие. Быть задержанным есть источник ненависти. Возвращение есть раскаяние. Бодрое настроение есть надежда. Изнуренность есть отчаяние. Попытка догнать того, кто находится впереди, есть соревнование. Стремление сбить с ног и опрокинуть вырвавшегося вперед соперника есть зависть. Решение преодолеть препятствие, которое предвидится в будущем, есть храбрость. Стремление преодолеть неожиданно возникшее препятствие есть гнев. Преодоление препятствий с легкостью есть величие души. Растерянность перед лицом незначительных препятствий есть малодушие. Неожиданное падение располагает к плачу. Зрелище чужого падения располагает к смеху. Видеть, как другие обгоняют того, к кому мы чувствуем расположение, есть жалость. Видеть, как обгоняет других тот, кого мы не любим, есть негодование. Держаться вблизи от кого-нибудь есть любовь. Толкать вперед того, вблизи кого ты держишься, есть доброжелательность. Причинять себе вред благодаря поспешности есть стыд. Быть постоянно опережаемым другими есть несчастье. Постоянно обгонять всех есть счастье. Оставить ристалища – значит умереть.
ГЛАВА X
1. О том, что различие умов не является результатом различия структуры мозга. 2. Это различие состоит в раз-линии жизненной конституции. 3. О тупости. 4. О фантазии, суждении и уме. 5. О легкомыслии. 6. О серьезности. 7. О глупости. 8. О невосприимчивости к учению. 9. О помешательстве. 10. О сумасбродстве, формами проявления которого являются указанные выше страсти. 11. О безумии и его различных видах. 1. В предыдущих главах я показал, что ощущение обусловливается действием внешних объектов на мозг, или некое вещество, заключенное внутри головы, и что страсти являются результатом изменений, произведенных чем-либо в этом веществе и распространившихся до сердца. Однако люди отличаются друг от друга по своим знаниям в такой степени, что это не может быть всецело объяснено различиями в структуре их мозга. Вот почему нам необходимо выяснить, какие еще причины могли породить те различия в способностях и талантах, которые мы ежедневно наблюдаем среди людей. Я заранее исключаю из сферы своего рассмотрения как не относящиеся к предмету исследования те различия, которые проистекают от болезни и случайных недомоганий. Я имею в виду только здоровых людей, или людей, органы которых функционируют нормально. Если представить себе, что различия в способностях коренятся в различном строении мозга . у разных людей, то я не вижу причины, почему бы это различное строение не проявилось прежде всего и сильнее всего в ощущениях. Но последние одинаковы у более и у менее умных людей, и это доказывает, что строение мозга у них одинаково, ибо мозг является общим органом всех ощущений. 2. Однако опыт показывает нам, что чувства удовольствия и неудовольствия не у всех людей вызываются одними и теми же причинами и что люди весьма различаются между собой по жизненной конституции. Вот почему то, что способствует и благоприятствует жизнедеятельности одного человека и, следовательно, доставляет последнему чувство удовольствия, может вредить жизнедеятельности другого человека и, следовательно, доставляет ему чувство неудовольствия. Различия людей по уму обусловливаются поэтому различием присущих им страстей и целей, к которым их влекут вожделения. 3. И прежде всего те люди, которые стремятся к чувственным наслаждениям и главная цель которых вообще состоит в том, чтобы жить в свое удовольствие, наслаждаясь тонкими блюдами, обременяя и облегчая свой желудок, должны по необходимости находить весьма мало удовлетворения в таких представлениях, которые не ведут к указанным целям, каковы, например, представления о чести и славе, имеющие, как было указано раньше, отношение к будущему. В самом деле чувственность состоит в наслаждении, испытываемом органами чувств. Такое наслаждение по самой своей природе может относиться лишь к настоящему времени. Поэтому чувственность парализует склонность людей обращать внимание на те вещи, которые ведут к почестям, и, следовательно, делает их менее любознательными и менее честолюбивыми. В силу этого преданные чувственным наслаждениям люди менее интересуются путями, ведущими к знанию или почестям,- двум преимуществам, которые обеспечивает нам познавательная способность. И это следствие погони за чувствен- ными наслаждениями люди называют тупостью. Можно с полным основанием предположить, что такая страсть имеет своим источником грубость животных духов и затрудненность их движения вокруг сердца. 4. Противоположная склонность обусловливается быстрым движением ума, описанным в пункте 3 главы IV и сопровождающимся стремлением сравнивать между собой представляющиеся нам предметы. При этом сравнении люди любят открывать неожиданное сходство между вещами, на первый взгляд не имеющими друг с другом никакого сходства. В способности к таким открытиям люди видят преимущество фантазии, порождающей те приятные подобия, метафоры и фигуры, которыми пользуются ораторы и поэты, для того чтобы сделать предметы приятными или неприятными, представить нам эти предметы в хорошем или дурном свете, смотря по тому, как им заблагорассудится. И в других случаях они путем сравнения неожиданно открывают иногда различия между вещами, которые на первый взгляд представляются тождественными. При помощи этой способности люди достигают точного и совершенного знания. Наслаждение, которое вытекает отсюда, состоит в непрерывном обогащении ума новыми знаниями и в правильном различии времени, места и лиц, т. е. в тех актах, которые мы называем суждениями. Ибо суждение есть не что иное, как акт различения; под умом же мы подразумеваем сочетание воображения со способностью суждения, причем обе эти способности, по-видимому, обусловливаются подвижностью животных духов в отличие от той медлительности в движении последних, которую мы предполагаем у глупых людей. 5. Существует еще один дефект ума, который люди называют легкомыслием и который также имеет своей основой подвижность животных духов, но подвижность чрезмерную. Он проявляется, например, у тех людей, которые имеют обыкновение в серьезный разговор вставлять разные шуточки и остроумные замечания, что отвлекает их от основной темы к разного рода отступлениям, а от этих отступлений – ко все новым и новым, пока они не теряют нити разговора или не превращают его в какой-то бред или ученую бессмыслицу. Источником этой склонности является любопытство, но любопытство, одинаково распространяющееся на все на свете, ибо когда все вещи производят на нас одинаковое впечатление и одинаково нравятся нам, то они с одинаковой силой навязываются нашему представлению и в разной мере ищут себе выражения. 6. Добродетелью, противоположной этому дефекту, является серьезность, или постоянство. Для людей, наделенных этой добродетелью, определенная цель выступает как основное наслаждение, так что все остальные мысли подчинены этой цели и направлены на ее достижение. 7. Крайняя форма тупости есть та природная слабость ума, которую мы называем глупостью. Но я не знаю, как назвать крайнюю форму легкомыслия, хотя она представляет собой глупость, отличную от всех других и часто наблюдаемую нами. 8. Существует еще один дефект ума, который греки называли ?????? и который состоит в невосприимчивости к учению. Этот недостаток, по-видимому, вытекает из ложного мнения соответствующего лица, будто оно уже знает истину о том объекте, о котором идет речь, ибо нет сомнения, что способности разных людей не столь различны, как различна степень очевидности между тем, чему учат математики, и тем, что мы находим в других книгах. Если бы умы людей представляли собой белый лист бумаги, то почти все люди были бы одинаково склонны признавать все, что им излагается соответственно правильному методу и с применением правильной аргументации. Но если люди уже согласились с ложным мнением и запечатлели его в своем уме в качестве непреложной истины, то их так же невозможно убедить в чем-нибудь расходящемся с этим мнением, как и разборчиво написать что-либо на уже написанной бумаге. Непосредственной причиной невосприимчивости к знанию является, таким образом, предрассудок, а непосредственной причиной предрассудка – ложное мнение о нашем собственном знании. 9. Еще одним, и притом существенным, дефектом ума является тот, который люди называют помешательством. По-видимому, этот дефект – не что иное, как столь исключительное преобладание одного представления над всеми другими, что оно становится источником всех страстей. Это представление обыкновенно имеет свои корни или в чрезмерном тщеславии, или в беспричинном унынии. В этом можно убедиться из следующих примеров, из которых иные явно говорят огордости, а иные – об унынии как об источнике помешательства. Прежде всего мы имеем пример человека, который проповедовал с телеги, служившей ему трибуной (в районе Лондона, называемом Чип-сайд) , утверждая, что он Христос. Это – помешательство, имеющее своим источником гордость. Мы знаем также много случаев ученого бреда, в который впадали люди по какому-нибудь случаю, заставлявшему их вспомнить о собственном даровании. К этим ученым сумасбродам, как я полагаю, можно причислить также тех, кто берется определять срок светопреставления и делать другие подобного рода предсказания. Романтическое сумасбродство Дон-Кихота есть не что иное, как выражение тщеславия, доведенного до такой степени, до которой может довести ограниченного в умственном отношении человека чтение романов. А неистовство и сумасбродство на почве любви есть не что иное, как своего рода негодование влюбленного, вызванное представлением о том, что его возлюбленная полна к нему презрения. Спесь, нашедшая свое выражение во внешнем поведении, сделала многих людей сумасбродными и создала им репутацию фантазеров и чудаков. 10. Приведенные нами выше примеры относятся к крайностям. Кроме них, однако, мы имеем еще примеры различных степеней развития указанных страстей, которые могут считаться формами сумасбродства. Так, к форме сумасбродства, родственной той, которая проявилась в первом из приведенных нами примеров, можно отнести случаи, когда человек, не имея на то никаких оснований, считает еебя боговдохновенным или воображает, что испытывает на себе действие Святого Духа в большей степени, чем все другие благочестивые люди. Сумасбродство, родственное тому, с которым мы познакомились во втором из вышеприведенных примеров, мы наблюдаем в тех людях, которые любят постоянно испещрять свою речь цитатами из латинских и греческих авторов. Волокитство, любовные похождения и дуэли, которые теперь в моде, суть формы сумасбродства, аналогичные той, которая нам знакома из третьего примера. Злость есть известный оттенок бешенства, а притворство – известная степень безумия. 11. Предыдущие примеры иллюстрируют нам безумие и его различные виды, имеющие своим источником преувеличенное самомнение. Но мы имеем также различные формы безумия, имеющие своим источником преувеличенный страх и душевное уныние. Таковыми являются те формы меланхолии, при которых люди воображают себя ломкими, как стекло, или имеют другие подобные представления. Различными степенями этого безумия являются все необычайные и химерические страхи, обыкновенно наблюдаемые нами у меланхолических людей.ГЛАВА XI
1, 2. О том, что по природе человек может прийти к знанию о существовании Бога. 3. О том, что атрибуты Бога обозначают недостатки нашего представления или наше благоговение перед ним. 4. Значение слова дух. 5. О том, что дух и бестелесное являются противоречивыми терминами. 6. Об ошибке, из-за которой язычники предположили существование демонов и призраков. 7. О значении духа и вдохновении, согласно Священному писанию. 8. Почему говорится: мы знаем, что Писание является словом Бога. 9, 10. Каким образом мы обладаем знанием того, как надо истолковывать Писание. 11. Что значит любить Бога и доверять Ему. 12. Что значит чтить Бога и поклоняться Ему. 1. До сих пор мы говорили о естественных предметах и о тех страстях, которые естественным путем порождаются первыми. Но так как мы даем имена не только естественным, но и сверхъестественным объектам и так как со всяким именем нам следует связывать какой-нибудь смысл или какое-нибудь представление, то необходимо первым делом выяснить, какие мысли и представления мы имеем в уме, когда произносим священное имя Бога и имена тех добродетелей, которые приписываются ему нами. Мы исследуем также, какой образ возникает в нашем уме, когда мы слышим имя дух или имена добрых или злых ангелов. 2. Так как всемогущий Бог непостижим, то отсюда следует, что мы не можем иметь никакого представления о нем, или его образа. Следовательно, все атрибуты Бога обозначают нашу неспособность или недостаток нашей способности понимать что-нибудь относящееся к его естеству, о котором мы не имеем никакого представления, за исключением того, что Бог существует. Мы признаем, естественно, что всякое действие предполагает силу, способную произвести это действие и существовавшую до того, как это действие было произведено, а эта сила в свою очередь предполагает нечто существующее, чему эта сила присуща. Если же обладающая указанной силой вещь не является извечной, то она необходимо была произведена чем-то существовавшим до нее, а последнее в свою очередь – чем-то другим, существовавшим еще раньше. Таким образом мы приходим к извечной (т. е. первой) силе всех сил и к первой причине всех причин. И именно это есть то, что люди называют именем Бог, подразумевая вечность, непостижимость и всемогущество. Таким образом, все те, кто размышляет о Боге, могут постигнуть, что Бог существует, но не в состоянии постигнуть, что он представляет собой. Хотя слепорожденный не может составить себе представления об огне, все же, будучи способен чувствовать теплоту, он не может не знать того, что существует какая-то вещь, которую люди называют огнем. 3. Когда мы говорим, что Бог является всемогущим, слышит, видит, говорит, знает, любит и т. д., то эти слова, имеющие определенный смысл, если применять их к людям, теряют всякое содержание, будучи применены к естеству Бога. Можно с полным основанием сказать: может ли Бог, сотворивший глаз, не видеть? Может ли Бог, сотворивший ухо, не слышать? Но с таким же основанием можно сказать: разве Бог, сотворивший глаз, ухо, мозг, сердце, не способен видеть без глаза, слышать без уха, познавать без мозга, любить без сердца? Таким образом, атрибуты, которые мы приписываем божеству, являются лишь обозначениями нашей неспособности постигнуть его или нашего благоговения. Нашу неспособность познать Бога мы выражаем тогда, когда называем его непостижимым и бесконечным. Наше благоговение к Богу мы выражаем, применяя к нему те имена, которые в нашем обиходе являются именами наиболее прославляемых и возвеличиваемых нами вещей, как всемогущий, всеведущий, справедливый, милосердный и т. д. Если же Господь Бог применяет эти имена в Писании сам к себе, то он делает это лишь ????????????, т. е. приспособляясь к нашему способу выражения, без чего мы были бы не в состоянии понимать его. 4. Под словом дух мы понимаем естественное тело, до того тонкое, что оно не действует на наши чувства, но заполняющее пространство, так же как его заполнило бы изображение какого-нибудь видимого тела. Следовательно, представление, которое мы имеем о духе, есть представление о фигуре, лишенной цвета. В фигуре же мы подразумеваем пространственные изменения. Следовательно, представлять себе дух – значит представлять себе нечто обладающее измерениями. Но тот, кто говорит о сверхъестественном духе, имеет в виду субстанцию без измерений, что представляет собой внутреннее противоречие. Вот почему, применяя имя духа к Богу, мы применяем его не как имя вещи, о которой у нас имеется представление. В этом случае мы так же мало представляем себе то, о чем говорим, как и тогда, когда приписываем Богу чувство и разум. Приписывая Богу эти атрибуты, мы выражаем лишь наше благоговение к нему; они означают лишь наше стремление отвлечься от всякой телесной грубости, мысленно представляя его. 5. Что касается других существ, которых люди называют бестелесными духами, то с помощью лишь естественных средств мы не можем даже узнать об их существовании. Мы, христиане, признаем существование добрых и злых ангелов и духов. Мы говорим, что человеческая душа есть дух и что духи бессмертны, но для нас невозможно познание их, т. е. они не могут иметь для нас естественной очевидности. Ибо, как было выяснено в пункте 3 главы VI, всякая очевидность есть представление, а, как было выяснено в пункте 1 главы III, всякое представление есть воображение, имеющее своим источником деятельность органов чувств. Предполагая, что духи являются субстанциями, не оказывающими никакого действия на наши органы чувств, мы признаем, что они непознаваемы. Но хотя в Писании и признается существование духов, в нем, однако, нигде не говорится, что они бестелесны, т. е. лишены протяженности и качества. И я вообще не думаю, чтобы во всей Библии мы могли найти слово бестелесный. Так, говорится только, что дух пребывает в людях, нисходит на них, приходит и уходит и что духи суть ангелы, т. е. вестники. Все эти слова подразумевают место, а место есть протяженность. Но все, что имеет протяженность, есть тело, каким бы тонким мы ни представляли его себе. Поэтому мне представляется, что Писание свидетельствует скорее в пользу тех, кто представляет себе ангелов и духов телесными существами, чем в пользу тех, кто придерживается противоположного мнения. И когда в непринужденном разговоре о человеческой душе говорят, будто она есть tota in toto et tota in qualibet parte corporis [вся в целом и вся в каждой части тела], то это явное противоречие. Такое мнение не основано ни на разуме, ни на откровении: оно вытекает из незнания того, что представляют собой явления, которые называются призраками, а именно видения, которые являются в темноте детям и трусливым людям, а также другие странные видения, о которых я говорил в пункте 3 главы V, назвав их там фантомами. Принимая эти призраки за реальные вещи, существующие, подобно телам, вне нас, и видя, что они появляются и исчезают странным образом – не так, как появляются и исчезают тела, невежественные люди не могли не назвать эти призраки бестелесными духами. Но это не имя, а лишь бессмысленное слово. 6. Верно, что язычники и все народы мира признавали существование духов, в большинстве случаев считая их бестелесными. Казалось бы, отсюда можно было бы заключить, будто человек при помощи одного естественного разума и независимо от Писания может прийти к познанию того, что духи существуют. Но ошибочные заключения язычников о существовании духов могли проистекать, как я уже указывал раньше, из незнания причин таких явлений, как привидения, призраки и т. п. Это незнание и привело греков к признанию многочисленных богов, добрых и злых демонов и гениев, якобы имеющихся у каждого человека. Но это вовсе не является доказательством существования духов. Это лишь ложное мнение, имеющее своим источником силу воображения. 7. Так как знание, которое мы имеем о духах, не является естественным, а проистекает из веры, основанной на сверхъестественном откровении, данном святым автором Писания, то отсюда следует, что и знание, которое мы имеем о вдохновении, т. е. о действии в нас духа, должно основываться на Писании. Приметой, служащей доказательством боговдохновенности человека, по Библии, является совершение последним таких чудес, которые исключают возможность плутовства. Так, боговдохновенность пророка Ильи была доказана огнем, чудесным образом сошедшим с неба и пожравшим то, что было приготовлено для жертвоприношения. Но приметы, при помощи которых мы распознаем, является ли какой-нибудь дух добрым или злым, одинаковы с приметами, при помощи которых мы различаем, является ли человек или дерево хорошим или дурным, а именно такими приметами служат действия и плоды. В самом деле, люди могут иногда вдохновляться духом лжи точно так же, как и духом истины. Писание говорит о том, что мы должны судить о качестве духов на основании качества тех учений, которые они нам внушают, а не судить о качестве учения на основании качества духа. Ибо наш Спаситель Иисус Христос запретил нам основывать нашу веру на чудесах (Матф. 24, 24). А св. Павел в своем Послании к Галатам (1,8) говорит: Если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Из сказанного ясно, что мы не должны судить об истинности или ложности учения на основании нашего представления о духе, а, наоборот, должны учение сделать критерием того, правду или неправду говорит дух. О том же учит и св. Иоанн в своем первом соборном Послании (4, 1): Не всякому духу верьте... потому что много лжепророков появилось в мире. Вслед за тем он пишет в стихе втором: Духа Божия... узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; в стихе третьем: Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, приг шедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста; и дальше, в стихе пятнадцатом: Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он – в Боге. Таким образом, наше знание о добрых и плохих внушениях основывается не на видении ангела, от которого эти внушения исходят, и не на чудесах, которыми они якобы подтверждаются; оно должно быть основано на соответствии этих внушений основным догматам христианской веры. А согласно св. Павлу, единственным основанием этой веры служит Иисус Христос, пришедший во плоти (1 Коринф. 3, 11). 8. Но если следует различать внушения с помощью этого критерия и если этот критерий должен быть принят нами в силу авторитета Писания, то откуда мы знаем (спросит, пожалуй, кто-нибудь), что Писание заслуживает такого огромного авторитета, равного авторитету живого голоса Бога, или, другими словами, откуда мы знаем, что Писание есть действительно Слово Божье? Но прежде всего очевидно, что если под знанием понимать то несомненное и естественное познание, которое было определено в пункте 4 главы II, т. е. познание, имеющее своим источником ощущение, то мы не можем утверждать, что таким путем приходят к познанию божественности Писания, ибо это знание не основано на представлениях, вытекающих из ощущения. Если понимать под знанием сверхъестественное знание, то мы можем иметь его лишь благодаря внушению свыше. Но об этом внушении мы можем судить лишь на основании учения, составляющего содержание этого внушения. Отсюда следует, что по этому вопросу мы не получаем ни естественным, ни сверхъестественным путем знание, которое можно было бы считать несомненным и очевидным. Остается, таким образом, предположить, ; что наше знание о божественном происхождении Писания может быть основано лишь на вере, которую апостол Павел в Послании к Евреям (11, 1) определяет как Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В самом деле, все то, что является очевидным,- будь то в силу естественного разума или в силу сверхъестественного откровения – не называется верой. Иначе вера, подобно милосердию Божьему, не иссякла бы и по ту сторону гроба, что противоречит, однако, учению Писания о вещах, обладающих очевидностью: не говорят, что мы в них верим, а говорят, что мы их знаем. 9. Если, таким образом, признание того, что Писание является Словом Бога, основано не на очевидности, а на вере и если вера, как было указано в пункте 7 главы VI, состоит в доверии, которое мы испытываем к другим лицам, то отсюда следует, что люди, которым мы доверяем, суть святые мужи божественной церкви, следовавшие друг за другом в качестве преемников, начиная с тех, которые были свидетелями чудес воплотившегося Господа Бога. Но это не значит, что Бог не является вдохновителем и действующей причиной веры или что вера порождена в человеке без помощи божественного Духа, ибо, хотя все те истинные мнения, которые мы допускаем и в которые верим, восприняты нами от других людей, внушивших нам их, т. е. возникли в нас естественным путем, они все же являются делом Бога, ибо Бог – творец всех произведений природы и все они приписываются его Духу. Так, в книге Исхода (28, 3) говорится: И скажи ты всем мудрым сердцем, которых Я исполнил Духа премудрости, чтобы они сделали Аарону [священные] одежды для посвящения его, чтобы он был священником Мне. Поэтому испытываемая нами вера есть действие Божьего духа в том смысле, в каком дух Божий дает одному человеку больше мудрости и искусности в ремесле, чем другому, и в каком он проявляет себя в других областях нашей обычной жизни, приводя к тому, что один человек верит во что-либо, во что другой, исходя из тех же оснований, не верит, или что один человек уважает мнения и подчиняется приказаниям вышестоящих, в то время как другой не считается ни с мнением, ни с приказанием последних. 10. Если, таким образом, наша вера в то, что Писание есть Слово Божие, имеет своим источником доверие, которое мы питаем к церкви, то ? случае возникновения сомнения или спора относительно основного догмата о пришествии Христа во плоти всякому человеку, несомненно, надежнее положиться на толкование церкви, чем на собственное рассуждение или собственный разум, т. е. на собственное мнение. 11. Что касается чувств человека по отношению к Богу, то они не совпадают с теми, которые были описаны в главе о страстях. Так, мы сказали, что любить – значит находить удовольствие в лицезрении образа любимого предмета или в представлении о нем. Но о Боге мы не можем иметь никакого представления. Поэтому любить Бога, согласно Писанию,- значит подчиняться его велениям и любить ближнего. Точно так же полагаться на Бога значит не одно и то же, что полагаться на человека. Ибо когда один человек полагается на другого, то первый отказывается при этом от собственных усилий для достижения своей цели. Если же мы поступаем так, доверившись всемогущему Богу, то мы нарушаем этим его волю. И как же можем мы, зная, что нарушаем его волю, возлагать на него наши упования? Довериться всемогущему Богу – значит поэтому приписывать действию его благости все то, что можем совершить при помощи наших собственных усилий. И это равносильно безусловному признанию единого Бога, что является первой заповедью. А довериться Христу значит не что иное, как признать его Богом, что составляет основной догмат нашей христианской веры[137]. Поэтому довериться Христу, положиться на него или, как мы иногда выражаемся, поручить себя воле Христа значит то же, что признать основной догмат веры, а именно что Иисус Христос есть сын Бога живого. 12. Почитание Бога, осуществляемое внутренне, в своем сердце, означает то же самое, что мы обычно имеем в виду, когда говорим о почитании среди людей, ибо это не что иное, как признание силы Бога. Знаки же такого почитания, однородные со знаками почитания, оказываемыми нами вышестоящим лицам, были указаны в пункте 6 главы VIII. А именно наше почитание Бога выражается в том, что мы его славим, возвеличиваем, благословляем, молимся ему, благодарим его, приносим ему жертвы, слушаемся его, благоговейно обращаемся к нему в наших молитвах, смиренно приближаемся к нему и скромно ведем себя в его присутствии, обставляем пышностью и великолепием наше богослужение. Вот каковы естественные знаки нашего внутреннего почитания Бога. Поэтому противоположные действия, а именно пренебрежение к молитве, обращение к Богу в небрежной форме, посещение церкви в грязном виде, меньший интерес к украшению места богослужения, чем к украшению своего собственного жилища, употребление имени Бога во всяком праздном разговоре являются явными знаками презрения к Богу. Существуют и другие знаки почитания, которые имеют, однако, произвольный характер. Таковы, например, обнажение головы (как это принято у нас), снимание обуви (форма, в которой выразил свое благоговение Моисей,. узревший Бога в образе горящего куста) и некоторые другие действия подобного рода. Все эти знаки по своей природе не имеют какого-либо значения и лишь во избежание непристойности и спора были установлены путем общего соглашения.ГЛАВА XII
1. О раздумье. 2. О воле. 3. О произвольных, непроизвольных и смешанных действиях. 4. Действия, проистекающие из внезапного влечения, являются произвольными. 5. Желания и страсти непроизвольны. 6. Мнение о награде и наказании определяет волю и управляет ею. 7. О согласии, конфликте, борьбе и помощи. 8. О союзе. 9. О намерении. 1. Мы уже объяснили, как внешние объекты вызывают представления, а представления возбуждают влечения и страх, являющиеся незаметными источниками всех наших действий. Ибо или наши действия непосредственно следуют за нашими первоначальными влечениями, как бывает, например, в том случае, когда мы внезапно делаем что-нибудь, или же за нашим первоначальным влечением следует некое представление о зле, которое могут причинить нам наши действия, и Это представление, которое есть страх, удерживает нас от совершения предполагаемых действий. За этим страхом может, однако, следовать новое влечение, а за этим влечением – новый страх и т. д. попеременно, пока действие не будет совершено или не случится чего-нибудь, что сделает его невозможным и не положит таким образом конца этой смене страха и влечения. Эта последняя смена влечения и страха в течение того времени, пока от нас еще зависит совершить или не совершить действие, называется раздумьем (Deliberation). Раздумье означает переход от желания совершить действие к опасению, ибо, пока мы свободны совершить или не совершить действие, его совершение или несовершение остается в нашей власти, а приняв решение, мы лишаем себя этой свободы. 2. Итак, обдумывание требует, чтобы действие, над совершением которого мы раздумываем, отвечало двум условиям. Первое из них заключается в том, что это обдумывание должно относиться к будущему действию. Второе – в том, что должна иметься надежда на возможность его совершения нами или должна существовать возможность не совершать его. Ибо влечение и страх представляют собой ожидание будущего, и не может быть ожидания добра без надежды, как не может быть ожидания зла без возможности. Раздумье поэтому не может иметь места в отношении вещей необходимых. Последнее желание или последнее опасение в процессе решения называется волей. Последняя есть воля к деланию или к неделанию. Таким образом, воля и последняя воля – одно и то же. Ибо хотя человек может устно или письменно выразить свою склонность или желание определенным образом распорядиться своим имуществом, однако это не может считаться его волей, ибо он имеет еще свободу распорядиться иначе. Если же смерть лишила его этой свободы, то его последнее распоряжение является его волей. 3. Произвольными действиями или воздержаниями от действия являются такие действия или воздержания, которые имеют своим источником волю. Все другие непроизвольны или смешаны. Непроизвольными являются действия или воздержания, обусловленные естественной необходимостью; таковы движения человека, которого толкнули, таковы действия человека, который падает и при этом причиняет ущерб кому-нибудь или действует на благо кого-то. Смешанными являются действия, в которых налицо как элемент произвольности, так и элемент непроизвольности. Таковы, например, действия человека, которого ведут в тюрьму. Его движения произвольны, но идет он в тюрьму не по своей воле. Действие человека, который с целью спасти себя и свой корабль бросает свои товары в море, произвольно. Непроизвольной в этом действии является лишь тягость выбора, которая обусловливается действием ветра. То, что человек делает в этом случае, в такой же мере противоречит его воле, как бегство от опасности не противоречит воле человека, который не видит другого средства спастись. 4. У людей, способных различать добро и зло, произвольными являются также и действия, совершаемые под влиянием внезапного гнева или какой-нибудь внезапной страсти. Ибо время, предшествовавшее этим действиям, у этих людей можно считать временем обдумывания, предполагая, следовательно, что эти люди достаточно размышляли о том, в каких случаях позволительно ударить или высмеять кого-нибудь либо совершить какое-нибудь другое действие, вызываемое гневом или какой-нибудь другой внезапно вспыхнувшей страстью. 5. Желание, опасение, надежда и другие страсти не называются произвольными, ибо они не порождены волей, а сами составляют эту волю. Воля же не является произвольной. Человек также не может сказать, что он хотел бы хотеть, так как он не может сказать, что он хотел бы хотеть хотеть, повторяя до бесконечности слово хотеть, что нелепо и бессмысленно. 6. Так как воля к совершению какого-либо действия есть желание, а воля к несовершению его – опасение, то причины желания и опасения являются также причинами нашей воли. Но причины наших желаний и опасений – это наши предположения о возможных благодетельных и вредных последствиях, т. е. о наградах и наказаниях, поскольку мы верим, что такого рода награды или наказания нас действительно ждут. Следовательно, наши желания вытекают из наших мнений точно так же, как наши действия – из наших желаний. В этом смысле можно с полным основанием говорить, что мнения управляют миром. 7. Если воля многих людей сходится в одном и том же действии, то мы называем такое совпадение их воли согласием. Под этим словом мы должны понимать не одну волю многих людей (ибо каждый человек имеет свою особую волю), а много воль, направленных к достижению одной цели. Если воля двух различных людей производит действия, враждебные друг другу, то это называется конфликтом. Если же люди непосредственно действуют друг против друга, то это называется борьбой. Действия же, проистекающие от согласия, взаимна помогают друг другу. 8. Когда воля многих содержится, или заключается, в воле одного лица или нескольких находящихся между собой в согласии лиц (мы объясним впоследствии, как это может случиться), то такое заключение воли многих в воле одного или нескольких людей называется союзом. 9. В процессе обдумывания решения, прерванном развлечениями, делами или сном, последнее желание, проявившееся при таком не доведенном до конца обдумывании, называется намерением.ГЛАВА XIII
1, 2. Об обучении, внушении, разногласии, согласии. 3. Различие между обучением и внушением. 4. Споры порождены догматиками. 5. Совет. 6. Обещание, угроза, приказание, закон. 7. Возбуждение и успокоение страстей. 8. Одни лишь слова не являются достаточными знаками ума. 9. При наличии противоречащих суждений непосредственному мнению должно быть отдано предпочтение перед опосредствованным. 10. Слушатель является истолкователем речи, обращенной к нему. 11. Молчание иногда служит знаком согласия. 1. После того как мы рассмотрели способности и духовные акты – как познавательные, так и двигательные -каждого человека, рассматриваемого отдельно, вне всякого отношения к другим людям, в этой главе будет уместно сказать о действиях, к которым приводят эти способности во взаимных отношениях людей. Эти действия являются также знаками, при помощи которых один человек узнает мысли и намерения другого человека. Некоторые из этих знаков таковы, что их нельзя легко подделать. Таковы, например, действия и жесты, особенно если они внезапны. Некоторые из них я перечислил в главе IX, говоря о тех страстях, знаками которых они служат. Другие же таковы, что их можно подделать. Таковы слова и речи, об употреблении и последствиях которых я намерен говорить здесь. 2. Язык употребляется нами прежде всего для того, чтобы при его помощи выражать наши представления, т. е. вызывать в ком-нибудь другом те же представления, которые мы имеем в самих себе. Это и есть то, что мы понимаем под обучением. Если представления того, кто обучает, непрерывно сопровождают его слова и если обучающий исходит при этом из какой-нибудь основанной на опыте истины, то он вызывает то же сознание очевидности в слушателе, который его понимает, и заставляет его познать нечто. Поэтому мы говорим о слушателе, что он чему-то учится. Однако если в обучении нет очевидности, то оно называется внушением и воспроизводит в слушателе лишь то, что является простым мнением говорящего. Знаки двух мнений, противоречащих друг другу, а именно утверждения и отрицания одного и того же, называются разногласием. Если же оба знака подразумевают утверждение или отрицание, то налицо согласие. 3. Точным и безошибочным содержание обучения можно считать в том случае, если ни один человек никогда не обучал чему-нибудь противоположному. Но эта уверенность в безошибочности указанного содержания исчезает, если хоть немногие утверждали противоположное, как бы мало их ни было, ибо истина обычно будет скорее на стороне небольшого числа, чем на стороне массы. Но если мы замечаем, что определенные мнения и вопросы обсуждались многими людьми и при этом не было случая, чтобы из людей, участвовавших в этом обсуждении, кто-нибудь расходился с другими в выводах, то мы можем с полным основанием заключить, что эти люди знают, чему они учат. При отсутствии такого согласия мы можем подозревать, что они не знают того, о чем говорят. Это представляется совершенно ясным тем, кому приходилось думать над разнообразными вопросами, о которых писали указанные выше люди, над путями, которые вели их к успеху, и над их успехами. Ибо тем людям, которые сделали предметом своего исследования исключительно сравнение величин, чисел, времен, движений и их взаимных пропорций, мы обязаны всеми нашими преимуществами перед дикими народами вроде тех, которые населяют теперь различные области Америки и которые первоначально населяли страны, где теперь процветают науки и искусства. В самом деле, именно исследованиям этих людей мы обязаны всем тем приятным и полезным, что извлекается нами из мореплавания, из географии, из разделения, различения и описания поверхности Земли: им мы обязаны нашим умением определять время, предвидеть ход небесных тел, так же как и вашей способностью измерять всякого рода расстояния, площади и тела; им мы обязаны нашей архитектурой, нашим искусством фортификации и нашими защитными сооружениями. Отнимите у нас все это, и мы ничем не будем отличаться от самых диких индейцев. Однако мы до сих пор не слышали, чтобы существовали какие-нибудь разногласия относительно какого-либо следствия, выведенного из этих наук, хотя последние непрерывно обогащались новыми выводами и глубокими рассуждениями. Причина этого единомыслия ясно видна всякому, кто только ознакомился с творениями указанных выше мыслителей. Ибо последние всегда исходят из наиболее простых принципов, очевидность которых бросается в глаза самым обыкновенным умам, и медленно подвигаются вперед в своих рассуждениях, подкрепляя их самыми строгими аргументами. Из совместности имен они заключают об истинности своих первых предложений, из двух первых предложений выводят третье, а из этих трех – четвертое. Так они продолжают шаг за шагом продвигаться в своих рассуждениях в соответствии с методом, изложенным мной в пункте 4 главы VI. С другой стороны, все те, кто писал о способностях, страстях и привычках людей, т. е. о моральной философии, политике, правлении и законах, относительно которых написано огромное множество томов, не только не уменьшили сомнений и споров, касающихся обсуждаемых ими вопросов, но и увеличили их. В настоящее время нет никого, кто бы знал об этих предметах больше того, что написал о них две тысячи лет назад Аристотель, и, однако, всякий воображает, что знает о них не меньше, чем всякий другой. Всякий также убежден, что для приобретения точных знаний в этих областях достаточно природного ума и вовсе не требуется специального изучения, для которого следовало бы прервать свои развлечения или пожертвовать временем, посвященным заботам о приобретении богатства и чинов. Причина малого успеха упомянутых авторов заключается, таким образом, в том, что они в своих трудах и рассуждениях берут в качестве принципов общераспространенные мнения, не исследуя, правильны они или ложны, между тем как эти мнения в большинстве случаев являются ложными. Таким образом, разница между обучением и внушением весьма велика. Признаком последнего является наличие – разногласий, признаком первого – отсутствие их. 4. Есть два вида людей, которых мы обычно называем учеными. Одни – те, например, о которых мы говорили в предыдущем пункте,- исходят из простых и очевидных принципов, и мы их называем математиками (mathemati-ci). Другие же основываются в своих рассуждениях на принципах, привитых им воспитанием и авторитетом других людей или обычаем, и принимают обычные фигуры речи за доказательства. Ученых такого рода мы называем догматиками (dogmatici). Но так как мы видели, что те, кого мы называем математиками, неповинны в умножении споров и так как нельзя обвинять в этом также и тех, кто вообще не претендует на ученость, то наличие споров и разногласий приходится вменить в вину одним лишь догматикам, т. е. людям, которые, не будучи действительными учеными, надменно выдают свои мнения за истины, хотя эти мнения не подкреплены никакими доказательствами, основанными на опыте или цитатах из Писания, не допускающих различного толкования. 5. Выражение тех представлений, которые вызывают в нас ощущение блага в момент обдумывания решения, так же как и тех, которые вызывают в нас ожидание 'зла, есть то, что мы называем советом. Это – внутреннее взвешивание соображений относительно того, что нам следует или не следует делать. Последствия наших действий при их попеременном представлении в нашем уме являются нашими советчиками. Так, когда человек получает совет от других людей, советчики лишь попеременно показывают лицу, требующему их совета, последствия его действия. Никто из советчиков не принимает решения, а все они приводят тому, кто советуется с ними, те доводы, на основании которых мы можем принять то или иное решение. 6. Другой способ употребления речи состоит в том, что при ее помощи выражается желание, намерение и воля. Так, посредством вопроса выражается желание узнать что-нибудь. Просьба выражает желание, чтобы другой что-нибудь сделал. Обещание есть утверждение или отрицание какого-нибудь действия, которое должно совершиться в будущем. Угроза есть обещание какого-нибудь зла. Приказание есть речь, посредством которой мы возвещаем другому наше желание, чтобы что-нибудь было сделано или не было сделано им на основании одной нашей воли. И слова: Sic volo, sic jubeo [Так хочу, так приказываю] – теряют свой специфический смысл, если мы не прибавляем к ним: Stat pro ratione voluntas [Да будет основанием моя воля]. А когда приказание является достаточным основанием, чтобы заставить нас действовать, оно называется законом. 7. Еще одним способом употребления речи являются возбуждение и успокоение, состоящие в том, что мы увеличиваем или уменьшаем одну страсть при помощи другой страсти. И то и другое является своего рода внушением. Ибо внушение мнения и внушение страсти – одно и то же, и между этими двумя родами внушения нет реальной разницы. Но в то время как в акте убеждения убеждающий ставит себе задачей внушить слушателю определенное мнение путем внушения ему определенной страсти, в случае, о котором здесь идет речь, задача состоит в том, чтобы при помощи известного мнения вызвать в слушателе определенную страсть. И подобно тому как убеждающий, желая навязать своему собеседнику известное мнение путем внушения ему известной страсти, не заботится о качестве своих предпосылок, лишь бы привести собеседника к желательному заключению, точно так же и тот, кто стремится внушить своему собеседнику известную страсть при помощи определенного мнения, не заботится о том, правильно или ложно это мнение, соответствует ли действительности или вымышлен рассказ, который ему служит средством. Ибо не истина, а образ вызывает страсть, и хорошо сыгранная трагедия производит не меньшее впечатление, чем убийство. 8. Слова являются для нас знаками мнений и настроений других людей. Однако так как слова часто допускают различное толкование в зависимости от их различного расположения в речи и от характера того общества, в котором они произносятся, и так как, чтобы отгадать истинный смысл слов, необходимо видеть того, кто говорит, быть свидетелем его действий и догадываться о его настроениях,- то отсюда можно видеть, как трудно должно быть раскрытие истинного мнения и истинных мыслей тех, кто жил задолго до нас, оставив нам свои труды, которые мы можем понимать лишь с помощью истории, раскрывающей нам вышеуказанные обстоятельства, и которыми нам следует пользоваться осторожно. 9. Если человек высказал два противоречащих друг другу мнения, из которых одно высказано им ясно и определенно, а другое или выведено из первого путем умозаключения, или присоединено к первому в силу незнания того, что оно ему противоречит, то (в случае отсутствия указанного лица и невозможности узнать от него лично его истинное мнение) мы должны считать его настоящим мнением первое мнение, ибо оно было высказано им ясно и определенно. Что же касается второго мнения, то оно могло быть результатом ошибки при умозаключении или незнания соответствующего лица, не подозревавшего, что его второе мнение противоречит первому. На том же основании следует придерживаться такого метода и в том случае, когда человек выражает свое намерение двумя противоречащими друг другу способами. 10. Всякий обращающийся с речью к другому человеку стремится, чтобы слушатель понимал то, что он ему говорит. Вместе с тем если говорящий обращается к слушающему на языке, которого слушатель не понимает, или употребляет слова не в том смысле, в каком их понимает слушатель, то приходится предполагать, что он вовсе не ставит себе цель быть понятым слушателем, что является внутренним противоречием. Поэтому следует всегда предполагать, что человек, не имеющий намерения обманывать, предоставляет тому, к кому он обращается с речью, возможность дать свое истолкование его словам. 11. Если человек молчит, зная, что его молчание будет принято как знак намерения, то это молчание действительно является таким знаком. Ибо если бы этот человек не желал, чтобы его молчание было истолковано в этом смысле, то при том малом усилии, которое требуется сделать, чтобы ясно выразить свое намерение, указанный человек, надо полагать, дал бы себе труд выразить словами свое истинное намерение.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы проанализировали человеческую природу, поскольку это было необходимо, для того чтобы открыть первичные и наиболее простые элементы, к которым могут быть сведены правила и законы политики. Эту задачу мы и ставили себе в настоящей книге.О СВОБОДЕ И НЕОБХОДИМОСТИ
ТРЕЗВОМУ И БЛАГОРАЗУМНОМУ ЧИТАТЕЛЮ
Святой Златоуст всякий раз приходил в трепет, когда размышлял о том, в каком отношении находятся те люди, которые шли узким путем, к тем, которые шествовали путем пространным, как много званых и как мало избранных, сколь многие были сотворены для вечного блаженства и были способны к нему и сколь немногие его достигли. Эти размышления, конечно, заставляют людей смотреть на Священное писание христиан как на величайшую милость неба, поскольку в нем указаны все пути, ведущие несчастного человека в его трудном путешествии к вечному блаженству или вечным страданиям. Но когда кто-либо рассмотрит более внимательно эти превосходные сочинения, то он обнаружит, что это творения простодушных и невинных людей, малознакомых с мирскими делами и не интересовавшихся поэтому смутами и ссорами, раздиравшими некоторые страны; он увидит, что они написаны скорее случайно, чем по необходимости, или в соответствии с определенным намерением и что, наконец, их главная цель – отвлечь человека от земного мира, убедить его в том, что простая надежда на блага, которые нельзя ни видеть, ни слышать, ни воспринимать, предпочтительнее всех наслаждений этого мира. Это вызвало благоговение и почтение к ним со стороны всех тех, кто пытается спастись, следуя их советам. Но если какой-либо человек будет рассматривать не эти книги сами по себе, а поведение тех, кто считает себя их истолкователями и рекомендует их народу; если, наблюдая поведение таких людей, он заметит, что они не отрекаются от мира, а, напротив, пытаются достигнуть в нем величайших почестей, досуга и роскоши, если он увидит, что они делают эти книги западней для народа, вовлекая его в государственные дела и интриги и заставляя его больше всех других народов стремиться к благам этого мира,- то он будет иметь все основания для того, чтобы заключить, что поведение этих людей является причиной величайших смут, тягостей и огорчений в христианской части мира [138]. Такая жалоба столь же справедлива, как и серьезна. Вместо того чтобы ознакомить легковерную толпу с основным смыслом ее обязанностей и с великой важностью ее миссии (embassy), вместо того чтобы показать ей, сколь огромное блаженство уготовано для нее и как легко она может потерять его, эти люди обременяют ее совесть тысячью ненужных сомнений, сочиняют целые тома по поводу различных изречений или даже точек и ударений[139] и возбуждают бесконечные разногласия по поводу вещей, которые были бы совершенно ясны сами по себе, если бы только люди были свободны от страстей и предрассудков. После того как они нагромоздят столько вопросов, что утомят самих себя, читателей, слушателей – всех, кто имеет с ними дело, каждый из них возвращается в свой угол, сохраняя свои предрассудки. Таким образом, несмотря на все их старания, беспощадную партийную борьбу и союзы, прежние неудобства сохраняются, и мы остаемся столь же далеки от каких-либо прочных убеждений, как и в самом начале. Разногласия между Римом и Реформацией уже давно никого не интересуют. Теперь мы видим на сцене других бойцов. Относительно протестантов и католиков можно сказать, что они успокоились и в известной мере довольны своими нынешними приобретениями, что же касается их убеждений, то, конечно, очень редки случаи, чтобы при обращении кого-либо в другую веру не были замешаны интерес, склонность, неудовольствие и расположение. Но чтобы ближе подойти к делу, рассмотрим наши собственные религиозные фракции, существующие здесь, в Англии. Потомство, быть может, убедится в скверных последствиях нынешнего положения, если только к религии, так же как и к политике, можно применить изречение, что лучше жить в стране, где ничто не дозволено законом, чем в такой, где все дозволено им. Я спрашиваю, каков результат всех этих проповедей, доктрин, поучений, упражнений, раздач, даров, собраний, прений, совещаний, тайных сборищ раскольников и изданных книг, написанных столь запальчиво и самонадеянно по поводу всемогущего Бога, книг, в которых злоупотребляют ссылками на его святое слово? Ну конечно же то, что они выступают в качестве рассадников многочисленных огорчений, бесг конечных и бесплодных споров, влекущих за собой подозрение, зависть и раздражение партий, вводят расколы, раскалывающие нацию, ссоры в вопросах религии и вследствие всего этого приводят к несчастьям войны и разорению. Кроме того, они оказываются неплохими законными развлечениями тех ленивых граждан, которые испытывают неудобства отнедостатка движения; они заменяют строительство пирамид, проводившееся у египтян, отвлекая мысли народа от государственных дел и, следовательно, удерживая его от бунта. Они доставляют работу печатникам и т. д., если заинтересованные партии страдают зудом популярности, от которого избавляются с помощью печатного станка. Они наполняют лавки книгопродавцев; их изучает деревенский священник, который, ознакомившись с настроением своей аудитории, совещается с книгопродавцем относительно того, какую книгу ему лучше приобрести. А тот с важным видом рекомендует ему Коле относительно послания к филиппийцам преимущественно перед превосходным Кэрил относительно книги Иова (в котором, однако, очень много заимствовано). Что же касается убеждений, то, как мы видим, каждый продолжает молча придерживаться собственного мнения и слушает того учителя, который больше всего ему по нраву; побывав в церкви и посидев у ног своего проповедника, он приходит домой и критикует этого проповедника сколько ему угодно. В частности, что следует нам думать об этих обширных и громоздких томах, касающихся предопределения, свободы воли, свободы благодати, избрания, осуждения и т. д., которые наполняют не только наши библиотеки, но и весь мир своим шумом, приводя все в смятение, и от которых мы меньше всего можем ожидать убедительности. Каждая сторона пытается выставить свои собственные доводы в наилучшем виде и машет дубиной так долго, как может. Какие оживленные споры происходят между молинистами и янсенистами [140] относительно благодати и заслуг, и при этом обе стороны ссылаются на св. Августина! Не должны ли мы ожидать, что иезуиты – хотя бы для того, чтобы восстановить свою репутацию ученых мужей, которую они приобрели во всем мире,- попытаются обосновать свои собственные догматы, несмотря на то что другие придерживаются более правильных мнений? Разве истина удалилась на недоступные скалы, к которым нельзя приблизиться? Или мы все превратились в Иксионов, которые, вместо того чтобы наслаждаться Юноной, развлекаются облаками собственных убеждений? [141] И что же иное может получиться в результате этого противоестественного сочетания, кроме кентавров и чудовищных мнений? Не собираясь отвечать на эти вопросы, я лишь повторяю здесь слова того великого писателя [142], который следующим образом отвечает на обвинение в нечестии, брошенное ему в связи с его мнением о необходимости: Если мы подвергнем рассмотрению большую часть людей и притом будем рассматривать их не такими, какими они должны быть, а такими, каковы они на самом деле, то мы убедимся, что эти люди больше всего стремятся сохранить здоровье и приобрести почести, гонятся за чувственными наслаждениями, нетерпеливы при размышлении, опрометчиво воспринимают неправильные принципы и неспособны обсуждать истину вещей, это вынужден признать и я и т. д. Мы ясно имеем некоторые основания ожидать действительного исцеления с помощью этого человека, который так удачно определил болезнь. На немногих страницах он сделал больше, чем все священники и духовные лица в своих объемистых сочинениях, где обсуждаются вопросы, касающиеся участи души и интересов христианства, каковыми являются вопросы о предопределении, свободе воли, благодати, заслугах, избрании, осуждении, необходимости, свободе действий, равно как и ряд других, главным образом относящихся к спасению человека. Я же по своей природе питаю отвращение к подобного рода разногласиям и, серьезно занимаясь математикой, не хотел бы ввязываться в подобные споры. Я считаю, что носители черных мантий, вообще говоря, являются чем-то вроде невежественных лудильщиков, которые, занимаясь своей профессией, состоящей в исправлении и спайке человеческой совести, делают больше дыр, чем находят; но совсем уж непростительно то, что они не обладают благодарностью и чистосердечием, необходимыми, чтобы признать, что указанный выше писатель исправил их заблуждения, утвердил их репутацию и действительно выполнил то, о чем они безуспешно хлопотали. Я знаю, что священнослужители, которые составляют значительную часть нации, мало уважают этого писателя; я знаю, что и кроме них немало невежественных, упрямых, не поддающихся убеждению людей. И тем не менее я осмелюсь выдвинуть следующее положение, сколь бы смелым оно ни представлялось: эта книга, какой бы малой и незначи-тельной она ни казалась, более убедительно и доказательно трактует вопросы, подвергнутые в ней обсуждению, чем все те тома и библиотеки, которыми снабдили нас священники, иезуиты и духовные лица и которые являются нашей обузой, вносят в наши души смятение и заставляют нас терять драгоценное время. Но если дело обстоит так, то я ручаюсь всякому благоразумному человеку, что все труды на свете, касающиеся религиозных разногласий, все полемические трактаты древних и новых писателей не возбудят больше в его мозгу безумных мыслей, сомнений и неудовольствия и не причинят боли глазам и голове от занятий с ними, он не будет больше докучать Всемогущему Богу неуместными вопросами и не станет одним из тех вдохновенных энтузиастов, которые, как говорит ученый мистер Уайт, объясняют Писание, лишая его смысла и разума, и спорить с которыми столь же бесплодно, как писать на песке: они лишь смущают ближних своими видениями, откровениями и духовными причудами. Нет! Здесь он получит солидное убеждение по крайней мере в той степени, насколько это позволяют метафизические таинства нашей религии. Если Бог Всемогущ, то он непреодолим, а значит, он справедлив во всех своих действиях, хотя бы мы и не могли заметить этого, будучи столь же мало способны измерить справедливость божественных действий, как слепорожденный способен судить о цветах. Зачем человеку тревожиться по поводу того, предназначено ли ему быть спасенным или нет? Пусть он живет праведно и честно в соответствии с религией своей страны, полагаясь в остальном на Бога, который может сделать с ним все что угодно, подобно тому как горшечник может сделать все что угодно со своим сосудом. Но я предоставляю читателю возможность найти удовлетворение в самом трактате, ибо иначе рискую повредить последнему, говоря так много о нем. Я не сомневаюсь, что эта книга найдет не худший прием, чем Левиафан, учитывая как ее объем, так и то, что она не наносит таких ударов священникам и католической партии, какие нанес им последний. Но мы должны здесь пожаловаться на недостаток способности или чистосердечия в признании истин и в опровержении заблуждений этой книги, и, пока то и другое не будет сделано надлежащим образом, мы не может считать автора его еретиком. По эту сторону моря, кроме клеветы и грязи, которыми осыпали эту книгу в проповедях и в частных собраниях, никто не напечатал ничего направленного против нее, кроме мистера Росса. Он, можно сказать, единственный, кто обладает такой ученостью, что может беспрерывно облаивать сочи- нения наиболее ученых авторов. Какой прием встретила книга по ту сторону моря, я не знаю, но католиками она, конечно, была принята с горечью, ибо они строят свою церковь на других основаниях, чем Писание, и, претендуя на непогрешимость, несомненность и единство в религии, могут быть лишь весьма недовольны тем, что эти прерогативы отнимают не только у традиции, т. е. у церкви, но и у Писания и передают верховной власти нации, каких бы убеждений она ни придерживалась. Я считал нужным познакомить тебя, о читатель, со всем этим, для того чтобы ты знал, какую жемчужину имеешь в своих руках, и мог оценить ее не по объему, но по достоинству. Ты имеешь здесь на немногих страницах то, что могло бы доставить материал для тысячи проповедей и упражнений; что даст тебе больше, чем катехизисы и исповедания веры тысяч собраний; что покроет вечным позором все шляпы с углами священников и иезуитов и все черные и белые шляпы племени ханжей. Одним словом, ты познакомился теперь с человеком, который в вопросах, имеющих столь большое значение для твоего спасения, снабжает тебя лучшими предписаниями, чем те, что ты имел до сих пор. Какого бы вероисповедания ты ни был, каких бы мнений или убеждений ни придерживался, к какой бы церкви ни принадлежал, постарайся сделать из знакомства с ним и его сочинениями наилучшее употребление, на которое ты способен. Прощай!* * *
Лорду маркизу Нью-Кэстльскому. Достопочтенный господин! Я уже однажды решился ответить в первую очередь на возражения господина епископа по поводу моей книги «О гражданине», поскольку они больше всего меня затрагивают, а затем уже разобрать его трактат «О свободе и необходимости», который касается меня в не меньшей степени, поскольку я ни разу не выразил своего мнения по этому вопросу. Но, принимая во внимание желание Вашего Сиятельства и господина епископа, чтобы я начал с последнего, я должен был так сделать. Здесь я представляю на усмотрение Вашего Сиятельства мой труд. И во-первых, я уверяю Ваше Сиятельство, что мной не было найдено в его трактате новых аргументов, опирающихся на Писание или на Разум, которых я часто не слышал бы раньше; а значит, я не был захвачен врасплох. Предисловие написано красиво, но оно доказывает, что автор не понял вопроса. Ибо я отрицаю, что его утверждение, если я обладаю свободой писать этот трактат, то я достиг цели, истинно. Ведь для того чтобы признать, что он писал этот трактат свободно, достаточно признать, что он не писал бы его, если бы не захотел этого сам. Если он хочет достичь цели, то ему следует доказать, что, перед тем как он написал это, не было необходимости в том, чтобы он доказывал это после. Возможно, что его Сиятельство думает, будто все равно: сказать ли, я обладал свободой писать трактат, или же не было необходимости в том, чтобы я написал его. Но я думаю иначе. Ибо свободой делать что-либо обладает тот, кто может сделать это, когда он желает действовать таким образом, и может воздержаться от этого, когда он желает воздержаться. Но если существует необходимость, чтобы он имел желание делать что-либо, то действие следует с необходимостью; и если существует необходимость, чтобы он желал воздержаться от чего-либо, то воздержание также необходимо. Вопрос, следовательно, не в том, является ли человек свободным деятелем, т. е. может ли он писать или воздержаться от этого, говорить или молчать в согласии с собственной волей, а в том, согласуется ли желание писать или желание воздержаться от этого с его волей или с чем-либо иным, что находится в его власти. Я признаю такую свободу, в соответствии с которой могу делать что-либо, если желаю; но выражение: «Я могу желать, если хочу» – считаю абсурдным. Вот почему я не могу согласиться с тем, что его Сиятельство достиг своей цели в предисловии. Затем он делает некоторые различия относительно свободы. Он говорит, что имеет в виду не свободу от греха, рабства или насилия, но свободу от необходимости, принуждения, неизбежности и определения к чему-либо. Лучше было бы определить свободу, чем делать различения [143]. Ибо я не понимаю, что он подразумевает под свободой. И хотя он говорит, что думает о свободе от принуждения, мне все же непонятно, каким образом может существовать такая свобода; говорить так – значит снимать вопрос, не приводя доказательств. Ибо вопрос, который мы обсуждаем, состоит именно в том, возможна ли такая свобода или нет. Его Сиятельство проводит и некоторые другие различия. Он говорит о свободе только применения, которую называет свободой от противоречия (контрадикции) и которая состоит в том, что человек волен делать не просто добро и зло, а то или другое добро либо то или другое зло по отношению к кому-либо. Затем он говорит о свободе применения, а также спецификации, которую называют свободой от противоположности (контрарности) и которая состоит в том, что человек волен не только делать добро или зло вообще, но и делать либо не делать то или другое добро или зло [144]. Его Сиятельство считает, что с помощью этих различий он очищает берег от неприятеля, в то время как на самой деле он затемняет собственное мнение о проблеме и саму проблему жаргоном, состоящим из таких выражений, как только применять, а также спецификация, противоречие (контрадикция), противоположность (контрарность), равно как и проведением различий там, где на самом деле их нет. Ибо каким образом свобода делать то или другое добро или зло или не делать его может существовать, как он говорит, в Боге, в добрых ангелах без того, чтобы они обладали свободой делать или не делать добро или зло вообще? Очистив берег от неприятеля, его Сиятельство делит свои силы, как он их называет, на два отряда, один из которых опирается на Писание, другой – на разум. Я предполагаю, что он употребляет эту аллегорию потому, что обращается со своим трактатом к Вашему Сиятельству, а Вы человек военный. Все, что я могу сказать по этому вопрocу, сводится к следующему: я замечаю, что значительная часть его сил обращает взоры и марширует в другую сторону, некоторые же из них сражаются друг с другом. Это относится в первую очередь к приводимому им месту Писания, взятому из книги Числ (30, 13), которая имеет иной смысл, чем он полагает. Эти слова следующие: Если жена дала обет, то мужу ее предоставлен выбор утвердить или отвергнуть его. Но ведь оно доказывает только то, что муж является свободным и добровольным деятелем (agent), а не то, что его выбор не вынужден или не определен предшествующими необходимыми причинами. Ибо если муж считает, что утверждение обета принесет большее благо, чем его отмена, то с необходимостью последует утверждение; если же, согласно мнению мужа, связанный с таким обетом ущерб перевесит его благую сторону, то с необходимостью последует отмена; а между :' тем в этом именно чередовании страха и надежды и состоит природа выбора. Таким образом, человек может в одно в то же время выбрать нечто и не иметь возможности выбрать что-либо иное, кроме этого, следовательно, выбор и необходимость соединяются. Второе место из Писания заимствовано из книги Иисуса Навина (24, 15), а третье – из Второй книги Самуила (24, 12); в них недвусмысленно доказано, что человек может выбирать, но не доказано, что подобного роДа выбор не вынужден надеждой и страхом или соображе-ниями относительно блага или зла, которые могут последовать в том или другом случае, соображениями, которые не зависят от желания человека и не являются предметом его выбора. Это же возражение можно применить ко всем подобного рода местам, хотя бы их была тысяча. Но его Сиятельство, по-видимому, предполагая, будто для доказательства того, что необходимость и выбор могут существовать совместно, я могу сослаться, как это уже было сделано мной, на действия детей, глупцов или неразумных животных, чьи прихоти вынуждены и определены, чтобы предупредить это, он говорит перед этими доказательствами из Писания, что действия детей, глупцов, сумасшедших и животных действительно определены, но осуществляются не в результате выбора и представляют собой действия не свободных, а спонтанных агентов. Так, пчела, делающая мед, действует спонтанно, паук, ткущий, свою паутину, также делает это спонтанно, а не в результате выбора. Хотя я никогда не думал основывать мои возражения на опыте детей, глупцов, сумасшедших и животных, но, для того чтобы Ваше Сиятельство могло понять, что подразумевается под спонтанным и чем оно отличается от добровольного (voluntary), я дам ответ по поводу этого различения и покажу, что оно противоречит связанным с ним аргументам. Ваше Сиятельство должно принять в соображение то, что все добровольные действия называются также спонтанными, когда на волю воздействует что-либо отличное от страха; можно сказать, что человек делает такие действия по собственному желанию. Когда кто-либо добровольно дает деньги другому в обмен на товары или вследствие распоряжения, то говорят, что он действует по собственному желанию, и это называется по-латыни sponte; вот почему такое действие именуют спонтанным. Но если кто-либо добровольно дает деньги грабителю, чтобы тот не убил его, или бросает их в море, чтобы не утонуть, то такое действие не называют спонтанным, потому что мотивом его является страх. Однако не всякое спонтанное действие является в силу сказанного добровольным. Ведь добровольность предполагает предшествующее обдумывание, т. е. размышление о том, что последует как в случае действия, так и в случае воздержания от него, и обсуждение этого. Между тем некоторые действия мы совершаем по собственному желанию, и они являются вследствие этого спонтанными, хотя, как думает его Сиятельство, мы никогда не совещались по их поводу и ничего не решали относительно их. Так, не ставя никаких вопросов и ни в малейшей степени не сомневаясь, что то, что мы собираемся делать, хорошо, мы едим и гуляем или в приступе гнева деремся и ругаемся. Его Сиятельство считает эти действия спонтанными, но не добровольными, или происходящими в результате выбора; он говорит, что принуждение может существовать совместно с подобного рода действиями, но не с добровольными, или с теми, которые совершаются в результате выбора или вследствие обдумывания (deliberation). Но я докажу Вашему Сиятельству, что действия, по его мнению происходящие спонтанно и приписываемые им детям, глупцам, сумасшедшим и животным, совершаются в результате выбора и обдуманно и что необдуманные, опрометчивые и спонтанные действия совершают обычно те, кто сами себя считают или слывут мудрыми или более умными, чем другие люди. Но в таком случае из аргумента, приводимого господином епископом, следует, что необходимость и выбор могут существовать совместно; а это противоречит тому, что он намеревался доказать посредством всех остальных своих аргументов. Собственный опыт Вашего Сиятельства предоставляет Вам достаточно убедительных доводов в пользу того, что лошади, собаки и другие неразумные животные часто колеблются по поводу пути, который им надо выбрать; так, лошадь отступает перед странной фигурой, которую она видит, а потом опять идет вперед, чтобы избежать шпор. То же самое делает и человек, когда, обдумывая, он то приступает к действию, то отказывается от действия, по мере того как надежда на большее благо привлекает, а страх перед большим злом отталкивает его. Ребенок может быть столь юн, чтобы делать все без всякого размышления, но это продолжается лишь до тех пор, пока ему не доведется испытать боль в результате какого-либо поступка или же пока он не достигнет того возраста, в котором ознакомится с розгой. И те поступки, которые однажды принесли ему неудачу, он будет совершать вторично лишь после размышления. Глупцы и сумасшедшие явно обдумывают свои поступки не меньше, чем самые умные люди; но совершаемый ими выбор бывает не столь удачным, поскольку образы вещей у них искажены вследствие болезни. Что касается пчел и пауков, то, если у господина епископа столь много досуга, что он мог наблюдать их действия, он должен был бы сознаться, что они обнаруживают не только выбор, но и искусство, благоразумие и ловкость, ненамного уступающие человеческим. Относительно пчел Аристотель говорил, что их жизнь носит гражданский характер [145]. Далее, его Сиятельство ошибается, если думает, что спонтанное действие в каком-либо отношении отличается от добровольного действия, совершаемого в результате выбора, после того как совершивший его претерпевает неудачу. Ибо даже постановка ноги при прогулке и акт обыкновенной еды требуют, чтобы человек хоть однажды . обдумал, каким образом и когда их делать, потом же они совершаются так легко и привычно, что не требуют предварительного обдумывания. Это, однако, не мешает таким актам быть добровольными и совершающимися по выбору. Даже самые опрометчивые действия холерических личностей являются добровольными и совершаются в результате выбора, ибо, за исключением самых маленьких детей, нет никого, кто бы раньше не обдумал, когда и в какой степени он может себе что-либо позволить и может ли он, не подвергаясь опасности, драться и ругаться. Поскольку его Сиятельство соглашается со мной в том, что подобного рода действия вынуждены и прихоть тех, кто их совершает, определяет их, из его собственного учения следует, что свобода выбора не исключает принуждения при выборе той или иной индивидуальной вещи. Таким образом, один из его аргументов противостоит другим. Второй аргумент, почерпнутый из Писания, состоит в историях относительно людей, делавших нечто, в то время как они могли делать другое, если бы захотели. Таких мест приведено два: одно взято из Первой книги царей (3, 10), где рассказывается, что Богу было угодно то, что Соломон просил у него мудрости, в то время как он мог, если бы пожелал, просить богатства или возможности мстить; другое заключается в словах св. Петра к Анании (Деян. 5, 4): Приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? На эти места я могу ответить так же, как и на предыдущие. Они доказывают только то, что налицо был выбор, но не опровергают положения о необходимости выбора, которое я поддерживаю. Четвертый аргумент (ибо на третий и пятый я отвечу одновременно) состоит в следующем: если веления Бога, его предвидение, влияние звезд, связь причин, физическое и моральное воздействие причин, последнее предписание разума или что бы то ни было другое исключают истинную свободу, то Адам не обладал истинной свободой до своего падения. Quicquid ostendes mini sic incredulus odi [Что бы ты мне ни показал, я, оставаясь неверующим, ненавижу]. Для того чтобы его Сиятельство не мог больше сомневаться относительно моего мнения, я утверждаю: то, что неизбежно вызывает и определяет каждое действие, состоит в сумме всех ныне существующих вещей, которые способствуют и содействуют произведению данного действия; если одна из этих вещей ныне отсутствует, го действие не может быть произведено. Это совпадение причин, из которых каждая определена как таковая подобным же совпадением предшествующих причин, вполне может быть названо велением (decree) Бога (учитывая, что все они установлены и упорядочены вечной причиной всех людей – Всемогущим Богом). Но нельзя сказать, что предвидение (foreknowledge) Бога в истинном смысле слова может быть причиной какой-либо вещи, ибо предвидение является знанием, а знание зависит от бытия познанных вещей, в то время как вещи не зависят от знания. Влияние звезд составляет лишь небольшую часть полной причины, состоящей в совпадении всех аргументов. Совпадение всех причин не составляет одну простую цепь, или связь, но бесконечное количество цепей, соединенных Всемогущим Богом не во всех их частях, но в первом звене. Следовательно, полная причина события зависит не от одной, а от нескольких цепей причин. Естественное воздействие предметов определяет добровольно действующих агентов, принуждает к чему-либо их волю, а следовательно, и их действия; что же касается морального воздействия, то я не знаю, что это такое. Последнее предписание рассуждения (judgment), касающееся добра и зла, которые могут произойти от какого-либо действия (action), является не полной причиной, а лишь последней частью ее; про него можно сказать, что оно производит следствие необходимо в том же смысле, в каком можно сказать про последнее из перьев, что оно ломает спину коню, если их раньше было положено столько, что достаточно последнего, дабы произвести указанное действие. Теперь я перехожу к аргументу, согласно которому Адам не обладал истинной свободой, если совпадение всех причин неизбежно вызывает результат. Я отрицаю этот вывод, ибо считаю необходимым не только результат, но и выбор этого частного результата, поскольку сама воля, равно как и каждая наклонность человека, в течение рроизводимого им обдумывания является в такой же степени неизбежно обусловленной и зависящей от достаточной причины, как и любая другая вещь. Так, то, что огонь жжет, является не более необходимым, чем то, что человек или другое существо, меняющее положение своих членов по прихоти, может выбирать, т. е. свободен делать то, что ему угодно, хотя не в его воле, или власти, выбрать свою прихоть, или свой выбор, или желание. Я думаю, что эту доктрину лучше было бы скрыть, так как господин епископ говорит, что он ее ненавидит; я бы так и поступил, если бы вы оба – Ваше Сиятельство и он – не настаивали на том, чтобы я дал ответ. Весьма важными аргументами являются третий и пятый, которые сводятся к одному утверждению, гласящему: если существует необходимость, определяющая все события, то отсюда следует, что как похвала, так и порицание, как награда, так и наказание бесполезны и несправедливы; и, если бы Бог явно запретил, а втайне с неизбежностью обусловил одно и то же действие, наказывая людей за то, чего они не могли избежать, у них не могло бы быть веры в небо или ад. Возражая на это, я заимствую ответ из IX главы послания св. Павла (Рим. 9, 20, 21). В одиннадцатой – восемнадцатой строках этой главы то же самое возражение изложено в следующих словах: Когда они (подразумеваются Исав и Иаков) еще не родились и не сделали ничего благого или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, а от призывающего), сказано было ей (т.е. Ревекке), что больший будет в порабощении у меньшего и т. д. Что же следует нам сказать? Неужели Бог несправедлив? Ни в коем случае. Помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо в Писании Бог говорит Фараону: для того Я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою и чтобы проповедовалось имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, Бог милует и, кого хочет, ожесточает. Таким образом, Вы видите, что дело изложено св. Павлом точно так же, как и господином епископом, и то же самое возражение приведено в следующих словах: Ты скажешь мне: за что же еще Бог обвиняет, ибо кто восстанет против воли его? Апостол отвечает на это следующим образом: он не отрицает, что такова была воля Бога, или что повеление Бога, касающееся Исава, существовало еще до того, как последний согрешил, или что Исав был вынужден делать то, что делал, но говорит: А ты кто, человек, что споришь с Богом? Скажет ли изделие сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной и не волен ли он из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой – для низкого? В соответствии с этим ответом св. Павла я отвечаю на возражение его Сиятельства и говорю, что одного лишь могущества Бога без всякой иной помощи достаточно, для того чтобы оправдать всякое действие, которое он делает. То, что люди совершают по отношению друг к другу, заключая договоры и соглашения и применяя по отношению к последним имя справедливость, в соответствии с чем их правильно считают и называют справедливыми или несправедливыми, не есть то, в соответствии с чем можно измерить действия Всемогущего Бога или определить их справедливость; точно так же и его советы не могут быть измерены человеческой мудростью. То, что он делает, становится справедливым благодаря тому, что это делает он, справедливым, говорю я, по отношению к нему, хотя и не всегда справедливым по отношению к нам. Человека следовало бы назвать несправедливым, если бы он, приказывая явно что-либо и ставя втайне препятствия к выполнению своего приказа, наказывал того, кто не выполнил его повеления. Но советы Бога не становятся тщетными благодаря указанному обстоятельству, потому что это его советы независимо от того, понимаем ли мы их пользу или нет. Когда Бог поразил Иова, он не упрекал его в грехе, а оправдывал себя в страданиях, нанесенных ему, говоря о своем могуществе: Такая ли у тебя мышца, как у Бога? (Иов 11,9); где был ты, когда Я полагал основание земли? (Иов 38, 4) и т. п. Так и наш Спаситель (Иоан. 9, 3) говорил относительно человека, рожденного слепым, что ни он не согрешил, ни родители его, но произошло это, для того чтобы на нем была проявлена сила Божия. Животные подвержены смерти и мучениям, хотя они не могут грешить,- такова была воля Бога относительно них. Непреодолимое могущество оправдывает все действия реально и в собственном смысле слова, кто бы их ни делал; меньшее же могущество не оправдывает их. Поскольку такое могущество принадлежит одному лишь Богу, то все его поступки должны быть справедливыми, и мы, призывая его к ответу, совершаем несправедливость по отношению к нему, ибо не понимаем его намерений. Мне отнюдь не известен обычный ответ на этот вопрос, состоящий в различении, проводимом между волею (will) и позволением (permission), согласно мнению тех, кто дает такой ответ. Всемогущий Бог позволяет иногда грешить и знает наперед, что дозволенный им грех будет совершен, но не желает и не вынуждает совершать его. Я знаю также, что некоторые различают действие от греха, заключающегося в нем. Они говорят, что Всемогущий Бог действительно вызывает действие, каково бы оно ни было, но не является причиной его греховности или неправильности; он, следовательно, не является и причиной разлада между действием и законом. Подобного рода различения помрачают мой разум: я не нахожу различия между желанием делать какую-либо вещь и позволением делать ее, если тот, кто разрешает что-либо, может помешать этому и знает, что это будет сделано, если он не помешает. Я не нахожу также никакого различия между действием и грехом, заключающимся в нем, например между убийством Урии и грехом Давида, заключавшимся в убийстве Урии. И когда один бывает причиной как действия, так и закона, я не понимаю, каким образом кто-либо другой может быть причиной расхождения между этим действием и законом; и это непонятно мне, точно так же как и то, каким образом некто может сделать более короткий и более длинный плащ, а другой – оказаться причиной их несовпадения. Я знаю одно: Бог не может грешить, ибо когда он делает какую-либо вещь, то делает ее справедливо и, следовательно, безгрешно; а тот, кто может грешить, подчинен закону, установленному другим, что не может относиться к Богу. Вот почему утверждать, что Бог может грешить,- богохульство. Я не нахожу ничего позорящего Бога в утверждении, что он мог устроить мир таким образом, что человек по необходимости должен был грешить. Как бы то ни было, я соглашусь с мнением его Сиятельства, как только пойму это или какое-либо другое различие, которое ясно покажет мне, что св. Павел не считал действия Исава или Фараона происходящими согласно воле или промыслу (purpose) Бога или же что действия, происходящие согласно его воле, не могут быть справедливо порицаемы или наказываемы. Ибо мне кажется, что в этом вопросе, разделяющем нас, я придерживаюсь только того, что сказано в указанном месте, и притом не скрыто, а совершенно ясно, св. Павлом. Вот в чем заключается мой ответ на места, приводимые его Сиятельством из Писания.К АРГУМЕНТАМ ИЗ РАЗУМА
Первый из аргументов, основанных на разуме, как говорит его Сиятельство, взят из истории с Зеноном, бившим своего слугу, почему он и называется argumentum baculi-num, т. е. «палочным аргументом». История его такова. Зенон считал, что все действия необходимы. Его слуга, совершивший какой-то проступок, извинял себя тем, что проступок был необходим. В ответ на это его господин сослался на необходимость того, что он должен быть побит. Таким образом, был побит не тот, кто поддерживал необходимость, а тот, кто смеялся над необходимостью, в противоположность тому, что хотел доказать его Сиятельство. И его доводы эта история скорее опровергает, чем подтверждает. Второй аргумент основан на некоторых затруднениях, которые, как полагает его Сиятельство, вытекают из оспариваемого им учения. Верно, что его можно плохо использовать, почему я и просил Ваше Сиятельство и господина епископа сохранить в тайне то, что я говорил. Но эти затруднения ничего не значат; какое бы употребление ни было сделано из истины, она все же остается истиной, а вопрос в данном случае состоит не в том, что удобнее проповедовать, а в том, что истинно. Первое затруднение, по его утверждению, заключается в том, что законы, воспрещающие какое-либо действие, становятся несправедливыми. Что все обогащения оказываются тщетны. 3. Что увещевания, обращенные к разумным людям, становятся не более полезны, чем увещевания, обращенные к детям, глупцам и сумасшедшим. 4. Что хвала и порицание, награда и наказание оказываются тщетны. 5, 6. Что советы, поступки, оружие, книги, орудия, науки, наставники, лекарства становятся бесполезны. Его Сиятельство ожидает, что в ответ на его доводы я скажу, что незнания событий достаточно, для того чтобы мы употребляли средства, и прибавляет в качестве ответа на предвидимое им возражение с моей стороны следующие слова: Увы! Каким образом наше незнание событий может быть достаточным мотивом для того, чтобы мы употребляли средства? Его Сиятельство говорит совершенно справедливо, но мой ответ вовсе не тот, какого он ожидает. Я отвечаю следующим образом. Во-первых, необходимость действия не делает несправедливыми законы, которые воспрещают его. Не будем говорить уже о том, что не необходимость, а воля к тому, чтобы нарушить закон, делает действие несправедливым, потому что закон рассматривает волю, а не другие предшествующие причины действия. И не будем говорить о том, что закон не может быть несправедливым, поскольку каждый человек содействует своим согласием закону, который он обязан соблюдать; следовательно, закон должен быть справедлив, поскольку человек не может быть несправедливым к самому себе. Я утверждаю: какая бы необходимая причина ни предшествовала действию, если действие воспрещено, то добровольно совершивший его может быть справедливо наказан. Предположим, например, что закон воспрещает кражу под угрозой смерти, а человек под влиянием искушения вынужден красть и вследствие этого осуждается на смерть. Не будет ли это наказание отвращать других от краж? Не явится ли оно причиной того, что другие не будут красть? Не приведет ли оно их волю в соответствие со справедливостью? Следовательно, издавать закон – значит создавать причину справедливости и вынуждать к справедливости; а значит, нет никакой несправедливости в издании подобного рода закона. Цель закона состоит не в том, чтобы мучить преступника, ибо то, что сделано, не может стать несовершившимся, а в том, чтобы сделать преступника и других людей справедливыми, дабы в дальнейшем они так не поступали. Закон имеет в виду не прошедшее зло, но будущее добро; таким образом, ни одно прошлое действие преступника не может оправдать его убийство в глазах Господа, если у совершающих это убийство не было доброго намерения, касающегося будущего. Но, скажете Вы, каким образом можно в соответствии со справедливостью убивать человека для исправления других, если то, что было сделано, было необходимо? В ответ на это скажу, что людей убивают в соответствии со справедливостью не потому, что их действия вынуждены, а потому, что они вредны; сохраняют же и щадят тех, действия которых не вредны. Ибо там, где нет закона, не может быть несправедливым ни убийство, ни что-либо иное, и по праву природы мы губим, не будучи несправедливыми, все то, что нам вредит, как животных, так и людей. Что касается животных, то мы убиваем их в соответствии со справедливостью, когда делаем это в целях самосохранения, а между тем его Сиятельство сам признает, что все их действия, будучи спонтанными, а не свободными, вынуждены и определены к тому, чтобы совершать то, что они делают. Что касается людей, то, составляя общество или государство, мы не отказываемся от нашего права на убийство, за исключением некоторых случаев, к каковым относятся противозаконные убийства, воровство и другие агрессивные действия. Таким образом, право государства подвергать человека смерти в наказание за преступление не создано законом, но сохраняется от первого права природы, в соответствии с которым каждый человек добивается самосохранения; закон не отнимает у нас этого права при столкновении с преступниками. Преступников присуждают к смерти или наказывают не за то, что их воровство происходит вследствие выбора, а за то, что оно вредно и противоречит интересам сохранения людей. Наказание их приводит к сохранению остальных, так как наказывать тех, кто добровольно вредит,- значит приспосабливать к определенным условиям волю людей и делать ее такой, какой она должна быть. Отсюда ясно, что из необходимости добровольного действия нельзя заключать о несправедливости закона, воспрещающего его, и судей, наказывающих за преступление. Во-вторых, я отрицаю, что это учение делает обсуждения тщетными. Обсуждения являются причиной действий и вынуждают человека предпочесть одно действие другим; таким образом, поскольку человек не может сказать, что причина, которая вызывает действие, тщетна, он не может заключить о ненужности обсуждений, исходя из необходимости выбора, проистекающего из них. По-видимому, его Сиятельство рассуждает следующим образом: если я должен сделать скорее это, нежели другое, я сделаю это скорее, нежели другое, хотя бы совсем не советовался с кем-либо; но это ложное предложение, которое приводит к ложному следствию. Оно не лучше следующего предложения: «Если я буду жить завтра, то я буду жить завтра, хотя бы сегодня пронзил себя мечом». Если необходимо, чтобы какое-нибудь действие было сделано или какой-нибудь результат проистек, то отсюда вовсе не следует, что нет никаких промежуточных звеньев, необходимых для того, чтобы их вызвать; следовательно, если определено, что какое-либо действие должно быть предпочтено другим, то определена также и причина, вследствие которой оно должно быть предпочтено, каковой по большей части является обдумывание (deliberation). Следовательно, обсуждение не является тщетным, и оно тем менее тщетно, чем более вынужден выбор, если только слова более и менее могут быть применены к необходимости. Тот же ответ я даю и в связи с третьим из предполагаемых затруднений, состоящим в том, что увещевания (admonitions) оказываются тщетными; ведь увещевания – часть обдумываний, и тот, кто увещевает, является советчиком того, кого он увещевает. Четвертое из предполагаемых затруднений состоит в том, что хвала и порицание, награда и наказание оказываются тщетными. На это и отвечаю, что хвала и порицание совершенно не зависят от необходимости действия, которое мы хвалим или порицаем. Ибо хвала есть не что иное, как утверждение о том, что действие хорошо. Хорошо, говорю я, для меня, или для кого-либо иного, или для государства, или для общества. А утверждение о том, что действие хорошо, есть не что иное, как утверждение о том, что оно желательно для меня, или желательно для другого, или соответствует воле государства. А это равнозначно утверждению, что оно соответствует закону. Неужели его Сиятельство думает, что ни одно действие не может нравиться мне, или ему, или обществу, если оно проистекает из необходимости? Следовательно, действия могут быть необходимыми и тем не менее достойными похвалы; точно так же они могут быть необходимыми и достойными порицания; и ни хвала, ни порицание не являются тщетными, равно как и награда и наказание, поскольку они посредством примера формируют волю людей, направляя ее к добру или к злу. По моему мнению, Веллей Патеркул [146] (II, 35) делает величайшую похвалу Катону [147], когда говорит, что тот был добр по природе, et quia aliter esse non potuit [так как не мог быть другим]. В связи с пятым и шестым из затруднений, состоящими в том, что советы, искусства, оружие, орудия, книги, науки, лекарства и т. п. становятся излишними, можно дать такой же ответ, как и тот, что был дан в связи с предшествующим затруднением, а именно положение, согласно которому . результат наступит без соответствующих причин, если он необходимо должен наступить, является ложным, а советы, искусства, орудия и т. д.- причины соответствующих результатов. Третий аргумент его Сиятельства затрагивает другие затруднения, которые, по его словам, вытекают из этого учения, а именно неблагочестие и пренебрежение к таким религиозным обязанностям, как раскаяние, рвение в служении Богу и т. д. По поводу этого я даю такой же ответ, как и по поводу остальных затруднений. А именно это вовсе не вытекает из развитых мной положений. Я должен сознаться, что, рассмотрев большую часть людей, и притом не такими, какими они должны быть, а такими, каковы они на самом деле, мы убедимся, что эти люди стремятся сохранить здоровье, приобрести почести, гоняться за чувственными наслаждениями, проявляют нетерпеливость в размышлениях и опрометчиво придерживаются неправильных мнений, вследствие чего не способны обсуждать логику вещей. Я должен сознаться, что обсуждение этой проблемы будет скорее вредить, чем способствовать их благочестию, вот почему, если бы его Сиятельство не пожелал получить от меня ответ, я бы написал его, да и сейчас пишу ему только в надежде на то, что Ваше и его Сиятельство сохранят его в тайне. Тем не менее на деле необходимость событий вовсе не влечет за собой неблагочестия. Ибо благочестие состоит только в двух вещах: во-первых, в том, что мы почитаем Бога в наших сердцах, т. е. оцениваем его могущество столь высоко, как только можно, ибо почитать что-либо – значит считать это обладающим величайшим могуществом; во-вторых, в том, что мы выражаем наше почтение и уважение словами и поступками, которые называются культом, или почитанием Бога. Поэтому не считает ли Бога всемогущим тот, кто полагает, что все вещи происходят от его вечной воли и являются вследствие этого необходимыми? Не оценивает ли он могущество Бога так высоко, как только возможно? А это и значит чтить Бога в своем сердце так высоко, как это только возможно. Далее, разве тот, кто так думает, менее способен выражать свое признание Бога посредством внешних поступков и слов, чем тот, кто думает иначе? Но именно это внешне выраженное признание и есть то, что мы называем поклонением. Таким образом, указанное мнение утверждает благочестие в обоих смыслах – внешнем и внутреннем; оно, следовательно, ни в коей мере не разрушает благочестия. Что касается раскаяния, то это не что иное, как радостное возвращение на правильный путь после мук, испытанных вследствие пребывания на ложном пути; и, хотя причина, которая заставила человека заблудиться, была необходима, нет основания для того, чтобы он не печалился; и, наоборот, когда причина, которая заставила его вернуться на правильный путь, была необходима, у него остается достаточно оснований для радости. Таким образом, необходимость действий ничего не отнимает у раскаяния – ни огорчения вследствие заблуждения, ни радости вследствие возвращения на правильный путь. Что же касается молитв, то я отрицаю утверждение его Сиятельства, будто необходимостьдействия их разрушает. Ибо хотя молитва не является какой-либо из причин, воздействующих на волю Бога, так как последняя неизменна, но, поскольку мы находим в Писании слова Бога, что он дает свое благословение только тем, кто его просит, мотивы молитв остаются прежними. Молитва в не меньшей степени дар Бога, чем его благословение, и молитвы предписаны тем же повелением, в котором обещано благословение. Ясно, что благодарственный молебен не является причиной прошлого благословения, ибо то, что прошло, обеспечено и необходимо; но даже у людей принято проявлять благодарность как признание прошлого благодеяния, хотя мы и не ожидаем новых благодеяний за нашу благодарность. Молитва Всемогущему Богу есть не что иное, как благодарственный молебен за благословение Бога вообще; и, хотя эта молитва предшествует той частной вещи, которую мы просим, она не является причиной или средством ее достижения; она есть лишь выражение того, что мы ожидаем все от Бога, который даст нам это таким способом, каким угодно ему, а не нам. И сам наш Спаситель велел нам молиться: Да будет воля твоя (а не наша) – и научил нас своим примером тому же самому, ибо он молился: Отче мой, если такова Твоя воля, да минует меня чаша сия и т. д. Цель молитвы, как и благодарственного молебна, состоит не в воздействии на Всемогущего Бога, но в почитании его, т. е. в признании того, что только один он может дать нам то, что мы просим у него. Четвертый аргумент, почерпнутый из разума, состоит в следующем: порядок, красота и совершенство мира требуют, чтобы во Вселенной были деятели различного рода: необходимые, свободные и случайные. Кто считает все вещи необходимыми, свободными или случайными, тот ниспровергает красоту и совершенство мира. Я замечаю, что этот аргумент, во-первых, заключает в себе противоречия. Ибо если тот, кто делает что-либо, делает существование этого необходимым, то тот, кто делает все вещи, делает существование всех вещей необходимым. Так, если мастер делает плащ, плащ должен существовать необходимо, а, если Бог делает каждую вещь, каждая вещь должна существовать необходимо. Может быть, красота мира и требует – хотя мы этого не знаем,- чтобы некоторые деятели действовали без обдумывания (их его Сиятельство называет необходимыми), некоторые – обдуманно (их мы называем свободными), а некоторые – неизвестным для нас образом (производимые ими результаты мы оба называем случайными). Но это не мешает ни тому, чтобы выбор того, кто выбирает, был необходимо определен одной из предшествующих причин, ни тому, чтобы случайное и приписываемое фортуне являлось тем не менее необходимым и зависящим от предшествующих необходимых причин. Ибо люди называют случайным не то, что вообще не имеет причины, а лишь то, что не имеет причины, заметной для нас. Так, когда путешественник попадает под ливень, путешествие имеет причину и дождь имеет достаточную причину; но так как путешествие не является причиной дождя, а дождь – причиной путешествия, то мы говорим, что они случайны по отношению друг к другу. Таким образом, Вы видите, что, хотя имеются три рода событий: необходимые, случайные и свободные, все они могут быть необходимыми без того, чтобы при этом пострадали красота или совершенство Вселенной. Отвечая на первый аргумент, почерпнутый из разума и состоящий в том, что если отвергнуть свободу, то будут отвергнуты природа и формальное основание греха, я отрицаю вышеуказанный вывод, ибо природа греха состоит в том, что выполненное нами действие обусловлено нашей волей и противоречит закону. Когда судья судит противозаконный поступок, определяя, является ли последний грехом или нет, он не восходит к более далеким причинам действия, а рассматривает только волю совершившего его. Утверждая, что действие было необходимым, я говорю не то, что оно было сделано вопреки воле совершившего его, но то, что оно произошло согласно его воле и необходимо, ибо воля человека, т. е. каждое его желание или волевой акт, и намерение имеют достаточную, а значит, и необходимую причину; вследствие этого каждое добровольное действие является вынужденным. Действие, следовательно, может быть добровольным и греховным и тем не менее необходимым. И так как Бог может поражать по праву, основанному на его всемогуществе, хотя бы и не было налицо греха, и пример наказания добровольных грешников является причиной, производящей справедливость и делающей грех менее частым, то наказание Богом подобного рода грешников не может быть несправедливым, как я уже говорил раньше. Вот мой ответ на возражения его Сиятельства, основанные как на Писании, так и на разуме.КАК НЕКОТОРЫЕ РАЗЛИЧИЯ, КОТОРЫЕ, СОГЛАСНО МНЕНИЮ ЕГО СИЯТЕЛЬСТВА, МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ ПРОТИВ ЕГО АРГУМЕНТОВ, УСТРАНЯЮТСЯ ИМ
Он говорит, что я могу отвечать следующим образом: необходимость вещей, существование которой поддерживается мной, не стоическая, а лишь христианская и т. д. Но я не пользовался этим различием, никогда не слышал о нем раньше и не могу думать, чтобы кто-либо считал стоическую и христианскую необходимость двумя видами необходимости, хотя их можно признать двумя различными доктринами. Мой ответ на аргументы его Сиятельства я основывал не на авторитете какой-либо секты, а на природе самих вещей. Но здесь я должен обратить внимание на некоторые слова его Сиятельства, опровергающие его собственное учение. Там,- говорит он,- где все причины, будучи соединены и подчинены друг другу, составляют одну цельную причину, какая-либо причина, а тем более первая во всей серии, или субординации, вещей, будучи необходимой, определяет остальные и, несомненно, делает необходимым результат. Ибо то, что я называю необходимой причиной какого-либо действия, есть соединение всех причин, подчиненных первой, составляющее одну полную причину. Если какая-либо из этих причин,- говорит он,- особенно же первая, производит свое действие необходимо, то и все остальное определено. Но очевидно, что первая причина является необходимой причиной всех действий, ближайшим образом и непосредственно связанных с нею; следовательно, согласно собственному рассуждению его Сиятельства, все действия необходимы. Я не разделяю необходимости на необходимость, обусловленную первой причиной, и необходимость, обусловленную вторыми причинами; такое разделение, как совершенно правильно замечает его Сиятельство, заключает в себе противоречие. Но я признаю деление свободы на свободу от насилия и свободу от принуждения. Ведь быть свободным от насилия – значит делать что-либо при таких обстоятельствах, когда страх не является причиной желания сделать это, ибо человек может быть признан действующим под влиянием насилия только в том случае, если страх заставляет его согласиться на это, как бывает тогда, когда человек по собственному желанию бросает свое добро в море, для того чтобы спастись, или подчиняется неприятелю, боясь быть убитым. Так, все люди, которые делают что-либо под влиянием любви, мести или вожделения, свободны от насилия, хотя их поступки столь же необходимы, как и поступки, которые совершаются под влиянием насилия, ибо другие страсти действуют иногда столь же сильно, как и страх. Но быть свободным от принуждения, говорю я, не может ни один человек, а это именно то, что берется доказать его Сиятельство. Это различие, как утверждает его Сиятельство, подкреплено двумя доводами. Но эти доводы не мои. Первый довод, говорит он, состоит в следующем: все богословы согласны с тем, что гипотетическая, или предполагаемая, необходимость может существовать совместно со свободой. Для того чтобы Вы поняли это, я приведу пример гипотетической необходимости. Если я буду жив, то я буду есть. Это гипотетическая необходимость. В самом деле, это необходимое предложение, т. е. необходимо, чтобы оно было истинным, когда оно выражено; но это не необходимость вещи, ибо отсюда не вытекает необходимость того, чтобы человек жил или ел. Я не пользуюсь подобного рода доводами для подкрепления выдвинутых мной различий; пусть его Сиятельство опровергает их, как ему угодно, – мне это безразлично. Но я хотел бы при этом обратить внимание вашего Сиятельства на то, как легко и просто затемняется сама по себе ясная вещь и создается вид глубокой учености благодаря торжественному употреблению таких терминов, как гипотетическая необходимость, необходимость предполагаемая и тому подобные термины схоластов. Второе основание, подкрепляющее разделение свободы на свободу от насилия и свободу от принуждения, говорит он, состоит в том, что Бог и добрые ангелы делают добро необходимо и все же более свободны, чем мы[148].Я считаю этот довод очень хорошим, хотя и не нуждаюсь в нем, ибо верно, что Бог и добрые ангелы делают добро необходимо и все же свободны. Но ни в догматах нашей веры, ни в постановлениях нашей церкви не изложено, каким образом Бог и добрые ангелы действуют необходимо и в каком смысле они действуют свободно. Поэтому я воздерживаюсь от суждения в этом пункте и удовлетворюсь признанием того, что здесь есть свобода от насилия, но нет свободы от принуждения, как это было доказано по отношению к человеку, который может быть принужден к какому-либо действию, не будучи побуждаем к этому ни угрозами, ни страхом перед опасностью. Но мы должны рассмотреть, каким образом его Сиятельству удается избежать признания совместного существования свободы и необходимости посредством предположения, что Бог и добрые ангелы свободнее, чем люди, и все же необходимо делают добро. Я признаю,- говорит он,- что Бог и добрые ангелы свободнее, чем мы, интенсивно, или по степени свободы, но не экстенсивно, или по объему предметов, и согласно свободе применения, но не согласно свободе спецификации. Мы опять имеем здесь два различения, которые не являются различениями, но кажутся таковыми благодаря терминам, изобретенным неизвестно кем, для того чтобы скрыть свое невежество и затемнить разум читателя; ибо нельзя себе представить большей свободы, чем та, которую имеет человек, когда он делает то, что хочет. Жара в одном случае может быть более интенсивной, чем в другом, но свобода не может быть в одном случае большей, нежели в другом. Тот, кто может делать то, что хочет, обладает всей возможной свободой, а тот, кто не может делать это, вовсе не обладает ею. Таким образом, выдвигаемая схоластами свобода применения, которая, как я сказал раньше, есть свобода делать или не делать что-либо вообще, не может существовать без свободы спецификации, т. е. свободы делать или не делать то или иное в частности. Ибо каким образом можно представить себе, что человек обладает свободой делать что-либо вообще, не обладая в то же время свободой делать то или иное в частности? Если человеку запрещено есть в великий пост тот или этот или какой бы то ни было иной вид мяса, то каким образом про него можно сказать, будто он обладает свободой есть мясо в большей степени, чем тот, кому это запрещено вообще? Вы можете на примере этого еще раз убедиться в тщетности различий, проводимых схоластами, и я не сомневаюсь, что применение этих различий в церковных делах со ссылкой на авторитет докторов было одной из главных причин того, что люди постарались их отвергнуть, хотя бы и прибегая к мятежу и прочим недозволенным средствам. Ибо ничто не способно возбуждать ненависть в большей степени, чем попытки насиловать разум и способность понимания людей, в особенности когда при этом ссылаются не на Писание, но на мнимую ученость и остроту суждения, которой одни якобы обладают в большей степени, чем другие. Затем его Сиятельство приводит два следующих аргумента против различения свободы от насилия и свободы от принуждения. Первый аргумент заключается в том, что выбор противоположен не только притеснению, или насилию, но и принуждению, или определению, к чему-либо. Ему следовало доказать это с самого начала, но он не приводит новых аргументов; а на те аргументы, которые он привел раньше, я уже ответил. Здесь я еще раз отрицаю, что выбор противоположен тому или иному (насилию или принуждению) ; ибо, когда, например, человек вынужден подчиниться неприятелю или умереть, у него все еще остается выбор: он может решить, какой из двух вариантов он предпочитает. И человек, которого насильно ведут в тюрьму, все же имеет выбор: он может решить, предпочесть ли ему, чтобы его волокли и тащили по земле, или же употребить свои собственные ноги. Подобным же образом, когда нет налицо насилия, но сила искушения сделать какое-либо злое дело настолько велика, что превышает мотивы, побуждающие воздержаться от него, она с неизбежностью определяет человека к тому, чтобы поступить соответствующим образом, но при этом он обсуждает как мотивы, побуждающие его к данному поступку, так и мотивы, побуждающие его воздержаться от такого поступка, и, следовательно, выбирает то, что хочет. Но вообще говоря, когда мы видим и познаем силу, которая побуждает нас к чему-либо, мы признаем необходимость; когда же мы не видим или не замечаем, то думаем, что ее вообще не существует и что поступок произведен свободно, а не под влиянием определенных причин. Вот почему люди полагают, что тот, кто выбирает по необходимости, не выбирает, но они могли бы с таким же основанием сказать, что огонь не жжет, поскольку он жжет по необходимости. Второй аргумент является не столько аргументом, сколько различением, имеющим целью показать, в каком смысле добровольные действия могут быть названы вынужденными и в каком смысле их нельзя назвать таковыми. При этом его Сиятельство ссылается на авторитет схоластов; он полагает, что затрагивает само существо проблемы, когда различает два акта воли. Один из них, говорит он, есть действие, вызванное приказом (actus imperatus), осуществленное какой-нибудь низшей способностью души по приказу воли, например, когда кто-нибудь закрывает или открывает глаза. Этот акт может быть назван вынужденным. Другой акт, утверждает он, есть действие, вызванное хитростью (actus elicitus) или обусловленное приманкой, а не волей, как это бывает в том случае, когда человек желает или выбирает что-либо. Этот акт, по его мнению, не может быть вынужденным. Не будем говорить об употреблении метафорического языка, приписывающего пове-левание и повиновение способностям души, как будто последние являются членами республики или семьи, которые могут сговариваться друг с другом; мы считаем, что этот язык не подходит для исследования этой проблемы. Но во-первых, Вы можете заметить, что вынуждать добровольный акт – не что иное, как желать его; ибо сказать: «Моя воля приказывает мне закрыть глаза или сделать что-либо другое» – то же, что и сказать: «Я желаю закрыть глаза». Таким образом, actus imperatus (действие, вызванное приказом) может быть столь же успешно названо по-английски voluntory action (добровольным действием), чего не поняли те, кто изобрел этот термин. Во-вторых, Вы можете заметить, что действие, вызванное хитростью (actus elicitus), иллюстрируется посредством таких слов, как желать или выбирать, которые обозначают одно и то же; таким образом, желание выступает здесь как акт воли. И действительно, поскольку воля есть способность, или сила человеческой души, постольку желание есть акт ее, согласующийся с этой силой. Но точно так же, как нелепо говорить, что танец есть акт, вызванный приманкой, не имеющей отношения к способности танцевать, нелепо говорить, что желание есть акт, вызванный приманкой, не имеющей отношения к силе желания, обычно называемой волей. Как бы то ни было, итог различения, проводимого его Сиятельством, состоит в том, что добровольное действие может быть вызвало насилием, т. е. скверным средством, в то время как желание совершить тот или иной поступок может быть вызвано только приманкой, т. е. средством приятным. Но, принимая во внимание, что приятные средства, приманки и соблазны производят соответствующее действие столь же необходимо, как и скверные средства и угрозы, следует считать, что желание может быть вызвано столь же необходимо, как и что-либо вызванное насилием. Таким образом, различение действия, вызванного приказом, и действия, вызванного хитростью, является чисто словесным и ничуть не способствует ниспровержению необходимости. Его Сиятельство приводит в остальной части своего трактата мнения людей различных профессий относительно причин, обусловливающих, по их мнению, необходимость вещей. Во-первых, говорит он, астролог выводит необходимость, исходя из звезд; во-вторых, врач приписывает ее природе человеческого тела. Что касается меня, то я не придерживаюсь их мнений, потому что одно лишь влияние звезд или один лишь темперамент пациента не способны произвести какое-либо действие без совместной деятельности всех остальных агентов. Ибо вряд ли существует действие, для причинения которого, каким бы случайным оно ни казалось, не нужно было бы содействия чего бы то ни было in reruna natura (в природе вещей); но так как это весьма парадоксальное положение, зависящее от ряда предшествующих рассуждений, то я не буду настаивать на рассмотрении его сейчас. В-третьих, он возражает против мнения тех, кто утверждает, что внешние объекты, воздействующие на людей того или другого темперамента, делают их поступки необходимыми. По его словам, власть, которую имеют над ними подобного рода объекты, зависит от наших собственных недостатков. Но если эти наши недостатки происходят от причин, которые не находятся в нашей власти, то указанное соображение не играет никакой роли. Следовательно, это мнение можно считать истинным, несмотря на возражение его Сиятельства. Далее, он говорит, что молитва, пост и т. д. могут изменить наши привычки; такое утверждение верно; но, делая это, они выступают в качестве причин противоположных привычек и производят последние столь же необходимо, как необходимы были бы предшествующие привычки, если бы не было молитвы, поста и т. д. Далее, нас побуждают и располагают к молитве или другому какому-либо действию только внешние объекты, такие, как благочестивые общества, божественные проповедники или что-либо подобное. В-четвертых, он говорит, что решительный дух не может быть легко захвачен врасплох; таков, например, Улисс, который, в то время как все другие плакали, был единственным, кто не плакал, или философ, который воздержался от удара, хотя и был раздражен, или же человек, который вылил воду, хотя и испытывал жажду, и т. д. Я признаю, что подобного рода вещи произошли или могли произойти, но они доказывают только то, что для Улисса не было тогда необходимости плакать, для философа – ударить, а для указанного человека – выпить воду. Но они не доказывают того, что для Улисса не было необходимости удержаться от плача, как он это и сделал, или для философа – воздержаться от удара, или для указанного человека – воздержаться от питья, а ведь это и есть то, что нужно было доказать его Сиятельству. Наконец, его Сиятельство признает, что предрасположение объектов может быть опасным для свободы, но не может быть губительным для нее. Я отвечаю, что это невозможно, ибо свободе никогда не может угрожать какая-либо другая опасность, кроме опасности ее потери; если же, как признает его Сиятельство, она не может быть потеряна, то я заключаю отсюда, что она вообще не может подвергаться опасности. Четвертое мнение, которое отвергает его Сиятельство, принадлежит тем, кто считает волю необходимо следующей за последним предписанием разума. Но его Сиятельство, кажется, понимает это учение в ином смысле, чем я; потому что, по его мнению, те, кто придерживается его, полагают, что люди должны обсуждать следствия какого-либо поступка, который они совершают, будут ли они большими или в высшей степени малыми. Его Сиятельство вполне справедливо считает это неверным. Но, как я полагаю, это мнение означает то, что воля следует за последним мнением, или суждением, непосредственно предшествующим действию, независимо от того, будет ли оно благим или нет, взвешивали ли мы его заранее или же вовсе не обдумывали его; вот в чем, по-моему, смысл этого мнения. Так, когда человек ударяет другого, его желание ударить с необходимостью следует за мыслью о последствиях такого удара, возникающей непосредственно перед тем, как он поднимает вверх руку. Если понимать указанное мнение в таком смысле, то последнее предписание разума неизбежно вызывает действие, хотя и не как полная, а лишь как последняя причина, подобно тому как последнее перо с необходимостью ломает спину коню, если раньше перьев было положено столько, что достаточно прибавить еще одно, дабы произвести это действие. Его Сиятельство приводит в качестве возражения против этого, во-первых, слова поэта, который в лице Медеи говоритVideo meliora, provoque,
Deteriora sequor
Последние комментарии
4 часов 31 минут назад
4 часов 32 минут назад
11 часов 15 минут назад
11 часов 23 минут назад
17 часов 35 минут назад
17 часов 39 минут назад