
Дмитрий Остров ПЕРЕД ЛИЦОМ ЖИЗНИ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
 Маленькие рассказы о большой войне
Маленькие рассказы о большой войне
 РУБЕЖ
РУБЕЖ
Только на рассвете сержант Костромин передал лейтенанту Шитову свой рубеж длиною в сто пятьдесят шагов.
И когда все уже было закончено, Костромин в последний раз посмотрел на траншею, на поле, изрытое тяжелыми фугасными снарядами, и понял, что ему очень повезло, потому что из его взвода многих уже нет в живых.
— Вот и все, — сказал Костромин, — а теперь можно и попрощаться.
Он постоял еще несколько минут, словно что-то вспоминая, потом взял с бруствера горсть земли и осторожно пересыпал ее в ладонь удивленному Шитову.
— Вот так, — сказал Костромин, — когда-то русские солдаты передавали рубеж своим товарищам. Теперь эта земля ваша, и вы за нее держитесь.
— Хорошо, — сказал Шитов. — Мне нравится этот русский обычай.
— Это не обычай, это вроде клятвы, — сказал Костромин. — Ну, прощайте!
Они попрощались, и вскоре стало уже так светло, что бойцы увидели траншеи, сгоревший одинокий танк, висящий в небе аэростат и проволочные заграждения врага.
— Я думаю, — сказал пулеметчик Сизов, — что до немцев метров двести, пожалуй, будет. Совсем близко…
— Здесь уже, ребята, держите ухо востро, — предупредил Шитов.
— Уж будьте уверены. Маху не дадим, — сказал Сизов. — Я вот с первых дней воюю, и, представьте себе, товарищ лейтенант, пока ни одной царапины. Наверно, ухлопают сразу…
— Ерунда. Об этом не надо думать.
Вскоре, словно пожарные сирены, завыли две мины, потом несколько мин разорвалось рядом с траншеей, и земля, брызнувшая в разные стороны, зашумела кругом, как дождь.
— Ну вот и начинается, — сказал Шитов, — спектакль в четырех частях.
Он внимательно посмотрел на бойцов. Их лица были спокойны, а движения неторопливы и расчетливы: вряд ли хоть один снаряд мог застать их врасплох…
Так прошел первый день. Ночью по всему фронту светили ракеты, и на правом фланге у Шитова неистово били немецкие пулеметы. Гирлянды разноцветных трассирующих пуль путались в небе и гасли, не долетев до полуразрушенных белых строений.
Всю ночь бродил Шитов по своему участку, вслушиваясь в треск пулеметных очередей и в далекий гул артиллерийской канонады. Какой-то шальной осколок пробил дверь в блиндаже Шитова и застрял в вещевом мешке. Потом наступил рассвет, и Шитов лег спать.
Небо было облачное. Туман висел на кустах и проволоке, как мокрое солдатское белье. Где-то запели птицы, и Шитов увидел во сне огромный театр, где он долго искал жену, но жены он не нашел, и тогда кто-то дал Шитову папироску и зажег спичку, до боли опалив ему ресницы. Он открыл глаза. Резкий толчок потряс блиндаж, Шитов увидел бойцов и прислушался к разрывам.
— Стреляют?
— Бьют, заразы, — сказал Сизов. — Вот уже тридцать семь минут долбят наш участок.
— А вы бы завели патефон, — предложил Шитов, — все-таки с музыкой веселей.
— Верно, — сказал кто-то и поставил пластинку «Калифорнийский апельсин». Ее проиграли три раза, но немцы стали бить еще ожесточенней, и тогда патефон перенесли к дверям и поставили самую громкую пластинку.
Волны земли, поднятые разрывами, ударялись в траншею и летели через бруствер в открытые двери землянок и блиндажей.
Вскоре снова стало тихо и буднично, и Шитов начал ждать атаки. Но в этот день ее не было.
Ночью бойцы Шитова услышали, как за проволочными заграждениями в районе кладбища скапливались немецкие танки.
— Ну, ребята, — сказал Шитов, — теперь держись. Назад нам идти некуда.
— Верно, — сказал Сизов, — и черт его знает, товарищ лейтенант, прямо стыд берет, как вспомнишь прошлогоднее паникование.
Вскоре из долины вышли танки, тяжелые, неуклюжие, как слоны, и бросились на траншею Шитова. Они открыли огонь из всех пушек, но их встретили гранатами и бутылками с горючей смесью. Почти у самой траншеи два танка остановились и вспыхнули, а четыре повернули назад и обнажили свою пехоту.
Долго расстреливал Сизов отползающую пехоту врага, а Шитов сидел на корточках около работающего пулемета и писал донесение командиру роты, требуя от него два противотанковых ружья.
«Мне нужны только два ружья, — писал он, — только два, и тогда никакие силы не сдвинут нас с этого места. Рубеж держу».
К вечеру прибыли противотанкисты с трофейной губной гармоникой, на которой пока что никто не умел играть.
Шли дни, и на этом участке все было спокойно. Солдатам не хватало табаку. Они все чаще вели задушевные разговоры, читали друг другу письма и, теперь уже наизусть зная участок врага, помогали нашим снайперам выбирать удобные позиции, а иногда и сами уходили в засады. Но однажды вечером немцы снова бросились в атаку. Шитов при свете ракет видел, как они поднялись с исходных рубежей и пошли по изуродованному полю тремя цепочками.
Они шли прямо на его пулеметы, и Шитов почувствовал, что на этот раз ему будет совсем нелегко сломить немцев.
— Всем хозяйством — огонь! — скомандовал он. — Огонь! Огонь!..
Но немцы шли как заводные, и, когда они были уже совсем близко, прибежавший сержант Маков сказал:
— Надо отходить, товарищ лейтенант, у нас взвод, а у них больше батальона.
— Беги, — сказал Шитов и посмотрел на свой автомат, — ты меня понял, Маков?
— Так точно, товарищ лейтенант, но вы не подумайте чего-нибудь худого… Вы же знаете, я не трус…
— А если не трус, так иди на свое место и передай, что будем драться насмерть.
— Есть! — сказал Маков и увидел, как кровь проступила на гимнастерке Шитова.
— Вы, кажется, ранены, товарищ лейтенант? — сказал Маков.
— Кажется, да, — сказал Шитов, — но от этого и ты не гарантирован. Иди и передай бойцам: будем драться насмерть.
С огромным трудом, но первую цепь врага удалось сломить у самой траншеи; вторая цепь замешкалась и стала растекаться по флангам, а третья попала в полосу артиллерийского обстрела и легла в кусты. Вскоре вражеская атака захлебнулась.
На рассвете пришла смена. Шитов сдал свой рубеж и, когда все уже было закончено, взял с бруствера горсть земли и осторожно пересыпал ее в ладонь новому командиру.
— Вот так, — сказал он, — меня научили передавать рубеж своим товарищам. Теперь эта земля твоя, и ты за нее держись.
Шитов в последний раз посмотрел на траншею. В небе светила ракета, она медленно опускалась между двумя сожженными немецкими танками и выхватывала из темноты полуразрушенный сарай и поле, где, наверно, еще немало прольется человеческой крови.
1942
 БЫЛО УЖЕ УТРО
БЫЛО УЖЕ УТРО
Я сидел в блиндаже, у горящей печки, и, чтобы не заснуть, рассматривал английскую книгу со старинными гравюрами, изображавшими пустынные замки, подвиги храбрых рыцарей и вероломство какой-то маркизы с дьявольски трудным именем.
Но вскоре я ощутил резкие толчки, как при землетрясении, и понял, что где-то поблизости разорвалось несколько снарядов крупного калибра.
Попав под струйки земли, хлынувшей с потолка, я отряхнулся, еще ближе придвинулся к печке и снова раскрыл книгу на той странице, откуда на меня смотрела белокурая чертовка — маркиза с очень трудным именем.
— Послушайте, капитан, — сказал мне комбат Дергачев, — я не понимаю, ну какая вам радость от этого лейтенанта, ложились бы вы спать.
— Не могу. Мне тоже надо поговорить с ним.
— А может быть, они что-нибудь там путают? — желчно сказал майор из штаба армии. — Это ведь бывает. Возьмут какого-нибудь сморкача с нашивками, увидят ясные пуговицы и говорят «лейтенант».
— Мои разведчики ничего не путают, — с достоинством ответил Дергачев. — Еще полчаса терпения, и этот лейтенант будет здесь. Вы слышите, какой немцы дают огонь?
Комбат приоткрыл дверь, поднял с земли еще не остывший осколок и, перекатывая его с ладони на ладонь, положил на стол рядом со стаканом, из которого переводчик пил чай.
Налет длился минут десять, потом гул затих, и связной, потушив лампу, отдернул занавеску и открыл окошко, вырубленное под самым потолком блиндажа.
Было уже утро. Куда-то далеко убегали облака. Туман сползал с Пулковской высоты, обнажая развалины обсерватории и деревья, которые все еще стояли, хотя давно уже были мертвы.
Вскоре в блиндаж ввели немецкого лейтенанта, сильного, красивого парня, успевшего подавить в себе страх и даже смириться с тем, что ожидало его впереди.
Разведчик, который, видимо, «взял» этого офицера, сдержанно и зло улыбаясь, положил перед комбатом кожаный бумажник, часы, письма и фотографии и встал у порога, закрывая ладонью темное пятно на рукаве маскхалата.
Вероятно, разведчик был ранен, но ему очень хотелось присутствовать при допросе, и он нерешительно переминался с ноги на ногу и поглядывал на комбата.
— Ты можешь остаться, — сказал Дергачев разведчику. — А вас, — обратился он к представителям армии, — я попрошу приступить к допросу.
Комбат не сразу придвинул к себе кожаный бумажник, письма и фотографии пленного. Ему было как-то неловко читать и разглядывать все то, к чему он не имел никакого отношения, но долг требовал этого. Когда допрос подходил уже к концу, я заметил, как переменилось лицо Дергачева, как задрожали его губы и как засеребрились его большие серые глаза.
Он долго рассматривал фотографию, потом угрожающе поднялся из-за стола и направился к пленному.
— Что это такое? — спросил комбат и протянул немецкому офицеру фотографию, где была изображена группа женщин в лагерных башмаках, в стареньких платьях и в ситцевых платках, прикрывавших коротко срезанные волосы.
Женщины были сняты на скотном дворе, в ненастный день, и стояли понуро, поглядывая исподлобья в чужую даль, задернутую мутными облаками.
— Я спрашиваю, что это за люди и где они сейчас? Какого черта он молчит?
— Он думает, — сказал переводчик.
— Поздно он начал думать. Поторопите его с ответом. Больше я ждать не могу.
— Хорошо. Я постараюсь как можно точнее перевести ответ. Его родители, — сказал переводчик, кивая на пленного, — занимаются земледелием. Этих женщин они взяли из трудового лагеря, сфотографировали их на своем скотном дворе, а карточку прислали сыну, чтобы он не беспокоился о хозяйстве. Вот и все.
— Нет, не все, — сказал комбат. — Они русские, и среди них есть женщина, похожая на мою жену. Вот она стоит с краю и смотрит на нас.
Комбат сунул фотографию переводчику, резко повернулся и вышел из блиндажа.
Вскоре вышел и я и направился к комбату, держа для него зажженную папиросу в руке.
Я нашел его сразу же за первым поворотом траншеи, около раскрытого ящика с гранатами.
Дергачев сидел на земле, низко опустив непокрытую голову и уткнувшись подбородком в колени. Моросил дождь, и в сыром воздухе за бруствером все реже посвистывали пули, все незаметнее становились всполохи от ракет и артиллерийской стрельбы.
В воюющих армиях наступила пора завтрака.
— Встаньте, Алеша, — тихо сказал я, и комбат открыл глаза. Он уперся руками в грязную землю и, слабо соображая, как раненый, осторожно поднялся на ноги и пошел к блиндажу неторопливым шагом.
— Мерзость-то какая, — сказал он. — Вы видели, за что воюет этот лейтенант?
— Успокойтесь, Алеша.
— Не надо меня успокаивать, — сказал он. — Я не ребенок. Если это даже не моя жена, то все равно я не хочу, чтобы этот лейтенант безнаказанно затерялся среди пленных. Вы видели на фотографии его скотный двор, а меня всю жизнь учили, что человек — это звучит гордо, что человек не может быть ни господином, ни рабом.
— Но теперь-то он только пленный. А лежачего, Алеша, не бьют. Вам это известно с детства.
— Да, это правило мы хорошо усвоили, но скажите мне еще два слова в защиту этого стервеца и мы поссоримся на всю жизнь. Ну, начинайте!
Но я промолчал, понимая, как тяжко сейчас Дергачеву.
Часовой открыл нам дверь, и мы вошли в блиндаж.
Через час, когда допрос был закончен и пленного лейтенанта увезли, комбат сел за стол, положил перед собой бумагу и стал что-то писать, прерывисто дыша и больше ни на что не обращая внимания.
Он писал долго, потом подошел к телефону и попросил, чтобы ему прислали машинистку из штаба полка и чтобы я продиктовал ей все то, что было написано на этих листках.
Вскоре он ушел с ординарцем в третью роту, а я взял со стола его листки и стал просматривать их.
Это было письмо военному прокурору, где Дергачев писал о пленном лейтенанте как о человеке, лишенном нравственных устоев и совершившем такое преступление, которое могло сойти безнаказанно только в очень древние времена.
Каждое слово комбата было справедливо, но, когда я дочитал листки до конца, в моей душе что-то дрогнуло, и я подумал о том, что мне надо еще раз поговорить с Дергачевым и до вечера повременить с его письмом… Но на войне не всякий может дожить до вечера. И я заколебался.
— Слушай, Василий, — сказал я телефонисту. — У твоего комбата большое горе. Жена у него в плену. Ты уж за ним присматривай, чтобы зря не лез под пули. Понял?
— Так точно, товарищ капитан. Себя не пощажу, а смерть отведу от комбата. Сам вижу, как его свернуло. Но ничего. Покипит, покипит, а потом остынет.
— Я тоже так думаю, но, когда остынет твой комбат, ты скажи ему, что корреспондент, мол, решил письмо до вечера не отправлять.
— Это почему же? — спросил Василий и сразу же стал недоступным, как колючая проволока.
— Понимаешь, Василий, я много езжу по фронту и очень отчетливо вижу, как приближается наша победа. Она совсем близко. Еще год — и мы в Берлине. И запомни, Василий, не надо быть мстительным.
— Конечно, не надо, — сказал Василий, — но и играть с фашистами в шашки — это нам тоже ни к чему. Пока мы здесь толкуем о милосердии, они палят. Слышите, как они палят?
— Слышу, — сказал я.
— То-то. А вам трудно отправить письмо комбата. Помните, на прошлой неделе мы взяли пленного. Вот с ним после войны, пожалуйста, можно играть и в шашки, а с этим нет.
— Ты, кажется, обиделся, Василий? Но я не хотел обидеть ни тебя, ни комбата.
— Не хотели, а обижаете. Тоже нашли кого жалеть. Там, в прокуратуре, лучше нашего разберут, чего заслужил пленный.
Увидев у порога машинистку, Василий встал, и, пока он угощал девушку консервами, я сам перепечатал письмо комбата и крупными буквами написал на конверте адрес военного прокурора. Потом я попрощался со всеми и вышел из блиндажа, восстанавливая в памяти наиболее яркие строчки из письма комбата Дергачева. И хотя его слов я не произносил вслух, но они долго звучали в моих ушах, заглушая и разрывы снарядов, и посвистывание пуль на Пулковской высоте.
1942
 КОГДА НАДО МОЛЧАТЬ
КОГДА НАДО МОЛЧАТЬ
Письма родным опустили в ящик, потом разведчики и саперы вычистили автоматы, и, когда наступили сумерки, Катков сказал, что пора уже одеваться.
У разбитого кирпичного здания разведчиков и саперов выстроили в одну шеренгу. Они поняли, что к ним кто-то должен приехать, и вскоре заметили велосипедиста на узкой, извилистой дороге, которая тянулась вдоль заминированных полей. Приехавший начальник штаба прислонил велосипед к стене и поздоровался с бойцами.
— Ребята, — сказал он, — перед вами стоит задача добыть пленного, задача нелегкая, но если вы ее не решите, лучше не показывайтесь мне на глаза. Учтите, прошлый раз вся операция сорвалась оттого, что было много шуму.
Он положил руку на руль и, поправляя педаль, осторожно спросил:
— Может быть, кто-нибудь из вас того… ну, как бы вам это сказать, заболел, что ли? Больного мы можем заменить.
Но больных не оказалось.
Вскоре стало темнеть. Восемь разведчиков и два сапера вышли на дорогу и подозрительно осмотрели небо, затянутое светлыми облаками.
— Ну и ночка, — сказал Катков. — Конечно, в мирное время такие белые ночи, пожалуй, можно было бы к чему-нибудь приспособить, а нынче это ни к чему — это слезы для разведчиков.
Катков оглянулся. Его группа двигалась гуськом по узкой дороге, обсаженной редкими вербными кустами.
В эти минуты никому не хотелось говорить. Передний край тоже молчал, и такая тишина, охватившая высокую гору и небо, казалась совсем неправдоподобной.
Впереди, за скатом этой горы, были фашисты. Там лежала земля, изрытая траншеями, опутанная колючей проволокой, исковерканная рвами, волчьими ямами, завалами. Оттуда через каждые десять минут взвивались в небо ракеты, освещая нейтральную полосу. В эти мгновения разведчики прижимались к земле и ждали, пока не погаснут ракеты.
Так они добрались до проволоки.
Впереди они услышали кашель немецкого часового. Его кашель был настолько заразителен, что у дзота начал простуженно кашлять другой часовой и кто-то еще, уходящий в сторону вторых окопов. Воспользовавшись этим кашлем, саперы торопливо стали резать проволоку, но взлет ракеты заставил их приостановить работу и снова прижаться к мокрой земле.
Через несколько минут разведчики услышали, как во вражеской траншее кто-то заиграл на губной гармошке. Но еще отчетливее донеслись эти звуки до саперов, которые открывали проход в проволочном заграждении и обезвреживали мины.
Наконец все было готово, и разведчики поползли вперед.
Теперь не больше двадцати шагов отделяло их от немецкой траншеи. Это расстояние надо было взять одним броском, но на левом фланге снова засветила ракета и заработал пулемет. Ракета упала к ногам Каткова. Когда она погасла, он приподнялся, и в это мгновение пуля ударила его в живот.
Боль пронзила Каткова, как штык, и опрокинула на землю. Его затылок ударился обо что-то мягкое и липкое, и Каткову захотелось освободиться от невыносимой боли, освободиться как можно быстрее, открыть рот и закричать, закричать сейчас же, иначе он сгорит от боли. Но кричать было нельзя. Три ракеты трепетно распростерлись над ним, и Катков закрыл глаза. Надо было молчать, но боль испепеляла его, распирала стиснутый рот, и Катков, чтобы не вскрикнуть, повернулся лицом вниз и прижал руки к животу. Ему казалось, что теперь уже не будет конца ни этим ракетам, ни этой проклятой тишине, ни боли. Так пролежал он несколько минут, потом к нему подполз сапер Спиридонов и прошептал:
— Молчи, Вася… Ну, потерпи еще немножко… Ну, потерпи… Не губи дела.
Правой рукой Катков молча оттолкнул от себя сапера и заскрипел зубами, напряженно ожидая, когда разведчики ворвутся в немецкую траншею.
Он молчал. Он промолчал и после того, как услышал стрельбу и крики, боясь, что, может быть, это ему так кажется от боли.
Напрягая последние усилия, Катков открыл глаза. Ему казалось, что кругом была тьма, но сквозь эту тьму он увидел лицо Спиридонова. Тот поднял Каткова с земли и, словно ребенка, бережно понес к своим окопам.
Через час все разведчики вернулись благополучно в блиндаж, где помещался штаб полка.
Два пленных испуганно смотрели на начальника штаба, на разведчиков, на умирающего Каткова.
На коленях перед Катковым стоял сапер Спиридонов:
— Вася! Ну, чего же ты… Теперь можно… Ты слышишь? Теперь можно кричать, друг мой… Вася…
Он смотрел умоляюще в открытые глаза Каткова, подернутые предсмертной белизной, но Катков молчал, очевидно никого не узнавая… Так он и умер молча.
На следующий день сапер Спиридонов выстругал дощечку и попросил меня написать несколько слов, посвященных памяти Каткова.
Он любил пошуметь, этот Катков, любил петь песни, любил посмеяться и всегда сторонился молчаливых людей. О нем многое можно было бы рассказать, но дощечка была такой маленькой, а хороших слов у меня было так много, что они, пожалуй, не поместились бы на ней.
1942
 ФРОНТОВАЯ НОЧЬ
ФРОНТОВАЯ НОЧЬ
Снова наступила ночь, длинная, фронтовая, с треском пулеметных очередей, с разноцветными ракетами, медленно опускающимися на землю, с неторопливыми глухими выстрелами тяжелой артиллерии.
Еще одна ночь обороны Ленинграда.
Я иду по железнодорожной насыпи и всматриваюсь в эту ночь. За насыпью, в поле, роятся шальные трассирующие пули. Они блуждают, как светляки, в темных настороженных просторах и гаснут на лету недалеко от командного пункта. Я вижу облака, темные и тяжелые, тусклые огоньки в землянках, белый искристый снег на минированных полях и багровое зарево в городе Пушкине.
Больше года назад в пушкинском сквере, рядом с памятником великому поэту, осколком фашистской бомбы был убит русский мальчик. Он лежал ничком на разворошенной бурой земле, курчавый и темноволосый, такой же, каким был Пушкин в детстве.
Рана этого мальчика была не смертельна, но он потерял много крови и умер в те минуты, когда мы покидали лицейскую площадь.
Мы подняли его с земли, и нас поразили его глаза. Они были открыты, и в них застыла горечь, и боль, и еще такое недоуменное выражение, словно он спрашивал нас о своей матери и удивлялся, почему ее нет здесь.
Бурый лист, набухший от крови, как пластырь прилип к щеке мальчика и обезобразил его лицо.
Мы сняли этот лист и перенесли мальчика в пушкинский лицей, чтобы танки со свастикой на броне не раздавили его.
Тогда мы уходили из Пушкина. Нам было невыразимо тяжело идти по пустынным улицам, по мокрым тротуарам, по битому оконному стеклу, которое, словно лед, хрустело и ломалось под нашими ногами.
Сейчас этот город горит, и пламя освещает его черные, обугленные деревья, на которые давно уже перестали садиться даже самые неприхотливые птицы. Вдали виднеется семафор с простреленным крылом, и семафор открыт.
Я поднял воротник шинели и боком сошел вниз к блиндажу, расположенному в самой насыпи. Вот и знакомая зеленая дверь. Знакомые лица офицеров и солдат, и все тот же простреленный и перевернутый вверх дном котелок, на котором коптит мигалка.
Моему приходу здесь всегда радовались, потому что я работал в газете и узнавал новости раньше других. Были у меня приятные известия и на этот раз.
— Ну, какие дела на фронтах, рассказывайте, не томите.
— Дела неплохие, — сказал я. — Наши зашевелились под Харьковом.
— А мы вот всё еще топчемся на одном месте, — заметил капитан Акимов.
— Ничего. Мы тоже дождемся такого дня. Я думаю, он не за горами.
— Конечно, не за горами… — сказал капитан Акимов, — если у вас никто из родных не остался в плену у немцев. Почти два года разлуки и расстояние всего в километр отделяет меня от города Пушкина. А я ведь там родился и жил. Я ходил по парку, и у меня остался там сын.
Он посмотрел на меня темными глазами и, вынув из кармана кожаный бумажник, спросил:
— Сколько мы уже стоим под Ленинградом?
— Пятьсот пятьдесят семь дней, — сказал я.
— Это значит, — сказал он, — я не видел сына шестьсот двадцать четыре дня. Я вам сейчас покажу его фотографию. Говорят, таким был Пушкин в детстве.
— Нет, не надо, — сказал я. — Никаких карточек показывать не надо. Я уже полтора года боюсь смотреть фотографии детей.
1943
 КОСТЕР ПОД ПСКОВОМ
КОСТЕР ПОД ПСКОВОМ
Мы ехали по шоссе. Наша машина неожиданно сделала несколько бросков вперед, потом закашляла, и по злому, страдальческому лицу шофера я понял, что дальше машина не пойдет.
Я вышел на дорогу и огляделся. Была ночь. От долгой езды перед моими глазами всё еще мелькали какие-то полусожженные деревья, опаленные каменные здания; потом они исчезали, и я снова видел дымящиеся облака и стоящую на шоссе машину с погашенными фарами и пустой кабиной.
По всем признакам поднималась мартовская метель, волны снега захлестывали гудрон, курились между высоких сосен и шумели в минированных кюветах.
Впереди, в распахнутых темных просторах, гремела артиллерийская канонада и частые орудийные вспышки сливались с безмолвным заревом пожарищ, далеким и ярким, как рассвет.
За десять часов езды я совершенно продрог, и всё тело мое окаменело от холода.
…И тут я увидел костер. Он горел в глубине леса, отбрасывая красноватый свет на стволы, и манил к себе.
Чтобы не напороться на мины, я стал искать след к костру. Когда я подошел к огню, сидящие вокруг него потеснились, и мне отчетливо теперь были видны их лица, давно не бритые, разморенные теплом, с запавшими от бессонницы и многоверстных переходов щеками.
У костра сидели два раненых солдата, разведчик в лихо заломленной шапке, шофер, какой-то сержант и танкист в обгоревшей одежде. Потом подошел мотоциклист, молча прикурил от дымящейся головешки и, подержав над огнем свои тяжелые крупные руки, молча пошел обратно на шоссе, к своему мотоциклу.
— Вот и я так думаю, — сказал шофер, — по-моему, с этих мест можно вполне писать картины. Я вот, братцы, до войны тут автобусы водил, сколько здесь красоты было, уму непостижимо. Бывало, приедешь из Пскова в Плюссу и сейчас же автобус в сад поставишь, а кругом яблоки, птицы, цветки разных красок. Эх, да что там говорить! У меня, братцы, автобус в саду жил. Бывало, за километр от него яблоками пахло.
Шофер задумчиво помешал палочкой в котелке, потом вынул из золы две картофелины, очистил их и отдал раненым солдатам.
— Насчет садов — это верно, — сказал сержант, — здесь вся местность была из фруктовых деревьев.
— Только вот жгет он, фашист-то, и сады, и дома, — с горечью сказал раненый.
— Жгет, проклятый, — заметил сержант. — Только не нам, а ему, упырю длинноногому, придется захлебнуться в этих пожарах.
Сержант снял сапог и перемотал портянку, потом он бросил несколько сухих веток в костер и прислушался к ночной канонаде.
Там, под Псковом, в белой метельной мгле били орудия, словно паровые молоты, и где-то далеко впереди работали крупнокалиберные пулеметы и рычали танки.
По шоссе шли колонны, гремели тракторы, и к костру по проложенным тропкам подбегали бойцы, наскоро перематывали портянки, закуривали и исчезали за деревьями.
— Как сапоги-то, не текут? — спросил раненый сержанта.
— Нет, сапоги добрые, мне их, пожалуй, до Берлина хватит. Послушай, звон-то какой…
Сержант постучал гранатой по толстой подметке, погрел над огнем голенище и, просунув пальцы в ушки, одним ловким рывком надел сапог на ногу.
— Ты давно в армии? — спросил сержанта второй раненый, силясь, видимо, разговорами побороть боль в простреленном плече.
— Да вот уже третью пару сапог ношу, — сказал сержант. — Третью пару. Время-то как идет, а давно ли я еще в первой паре топал.
— Ну, это ты врешь, — сказал танкист, молчавший до сих пор. — В тех сапогах ты не топал, а бежал. Бежал, как сукин сын, только версты мелькали. Ты на меня не обижайся. Я тоже старый солдат. Вот уже два танка пережил на своем веку. Как вспомнишь про тогдашний «драп», так плюнуть хочется. Горько нам тогда было, больно и совестно.
— Верно, — согласился сержант, — тот, кто не хлебнул этого горя, разве он может понять, почему это у нас душа сейчас стала такая веселая и злая… Бежишь, бывало, вот по этим местам, а у самого на сердце такая темнота, такая полынь, будто ты весь с похмелья. Вот танкист правильно сказал про совесть. На войне совесть — это важнее смерти. Хоть и попали мы тогда в окружение, но винтовок не бросили. Пробивались к своим с боями. Одной ягодой питались. Как лешие, бороды отрастили, а все-таки вырвались из кольца.
Двадцать дней и двадцать ночей продирались мы сквозь фашистские капканы, а когда нашли свою часть, тут мне старшина и говорит: «Ну, Мальцев, твои сапоги окончательно развалились. Придется тебя обуть в новую пару». И вот в той паре я всю оборону протопал. И снайперил, и в разведку ходил, и в город ездил. Где только я не побывал в этих сапогах, по какому грунту не топал.
Таким манером дожили мы до сорок четвертого года, и тут перед самым наступлением старшина опять обращает внимание на мои сапоги: «Ну, говорит, товарищ сержант, пора тебе и эти сапоги сдавать в историю. Хватит, говорит, мы не медведи, чтобы топтаться на одном месте». И верно, сапоги попались добрые. Я в них двести пятьдесят верст уже отмахал, а на них ни одной морщинки. Мне вот так думается, братцы, — это последние сапоги. В них мне придется войну кончить. А потом надену я, ребята, штиблеты, возьму жену под руку и по гостям пойду.
Сержант поставил ноги ближе к огню, руками обхватил колени и, чуть покачиваясь, долго смотрел на снег, курящийся между высоких сосен.
— Так что представьте себе, — сказал разведчик раненым, — женатые — они думают про штиблеты, а у меня вот, у холостого, этот эсэсовец не выходит из головы. Взять-то я пленного взял, а вот довести его как полагается у меня терпения не хватило. Стал он, зараза, кусаться. Раз он меня тяпнул за палец. Но, думаю, терпи, товарищ Ковальчик, и Красная звездочка будет тебе обеспечена. Иду так по дороге, терплю и переживаю, а сам автоматом спину его пощекочу, чтобы босяк не забывался. Но не тут-то было. Видно, счастье-то не к каждому солдату приходит. Теперь мне до Красной звездочки далеко, как вон до той звезды на небе. Изловчился мой паразит, да как ахнул мне по физии, так у меня всю гуманность из головы и выбил. Взбесился я. Ну, думаю, ладно. Кто же кого должен хлестать по морде: ты меня или я тебя? Схватились мы с ним не на шутку. Я его за грудки трясу, а он все к моему автомату тянется. А потом он успокоился, обмяк весь, и я его волоком доставил в штаб. Ну а там известно — гуманность. Налетел на меня капитан и давай ругать. Кричит: это безобразие — так с пленным обращаться. Докладывайте, почему на нем мундир порван. Капитан-то, видать, из интеллигентных. Выпроводил он меня из штаба и, вместо Красной звездочки, трибуналом пригрозил. Вот я и сижу, и думаю, и переживаю.
— А ты не переживай, — сказал сержант, — до. Берлина еще далеко. Была бы грудь в порядке, а Красная звездочка найдется. Смотри-ка, метель-то никак стихает.
И мы посмотрели на дорогу. Потом прислушались, и нас поразила необычайная тишина.
Что-то детское, сказочное, давно забытое было сейчас и в этом костре, и в тишине, и в снеге, и в стуке дятла, в его спокойных, неторопливых ударах, доносящихся из лесной глубины.
Крупные хлопья снега медленно кружились над костром и, багровея, падали в огонь.
Был глухой, темный предрассветный час. Костер дышал на нас ровным теплом и клонил ко сну раненых солдат и шофера. По натоптанному снегу, по пробитой дорожке, по куче золы было видно, что этот костер горел здесь уже несколько суток, разложенный, может быть, первым телефонистом, может быть, ранеными, идущими в медсанбат, или шофером, потерпевшим аварию на этой дороге.
Он горел как маяк, и на его огонь из леса вышла женщина и, волоча за собой санки, подошла к нам.
— Здравствуйте, — сказала она мягким голосом.
— Здравствуйте, — ответил сержант и потеснил раненых, освободив место женщине.
— Что это вы, мамаша, в такую ночь гуляете по лесу?
— А вот домой иду, — сказала женщина, — пять дней от карателей в окопе пряталась.
— А дом-то твой далеко?
— Нет, — сказала женщина, — наша деревня три версты отсюда.
— Но ведь каратели-то сожгли ее, — сказал раненый и отвел глаза в сторону.
— Куда же ты пойдешь?
— Пойду домой, — глухо ответила женщина, — к пеплу пойду.
Она потянулась к костру, развязала на голове платок, и мы увидели ее молодое лицо и большие глаза, наполненные глубокой горестной голубизной.
— Ну как, страшно при фашистах-то было? — спросил разведчик, одергивая шинель.
Женщина посмотрела прямо ему в глаза, и горькая улыбка тронула ее бескровные губы.
— Ты меня об этом не спрашивай, — сказала она, — про страх мы уже забыли, какой он есть на свете… Ты вот меня спроси лучше про другое: как мы вас ждали. Бывало, ночи не спишь, глаз не смыкаешь, днем как угорелая ходишь и все думаешь… ну когда же наши-то придут, когда?
Тут в сорок втором году русский летчик пролетал, сбросил он в лес прокламации, и мы, бабы, вроде как за грибами пошли, а сами тем временем подобрали их, листовки-то, и спрятали. Я свою спрятала в дупло. Бывало, как только худо станет, выйду я за деревню, подойду к дуплу, выну листовку, почитаю, поплачу — и с души будто камень свалится… Там, в листовке-то, было сказано: ничего, мол, русские люди, крепитесь, мы придем.
— А листовка-то далеко отсюда спрятана? — спросил разведчик, и в его голосе женщина почувствовала недоверие.
— А ты что — следователь? Где спрятана, там и лежит. Выходит, мы не зря надеялись. А насчет жилья как-нибудь устроимся. Выстроим сначала землянки, а там видно будет.
— Вот бы мне к вам в помощники, — сказал разведчик, — топором я владею, да и рубанок у меня в руках горит.
— Нет уж, я и без помощников обойдусь, — ответила женщина. — У меня муж есть в Красной Армии, я его два с половиной года жду.
— А, видать, ты сурьезная?
— Да уж какая есть, только за тебя, маловера, я бы замуж никогда не вышла.
Мы засмеялись. Разведчик отодвинулся от огня, встал, смущенно попрощался с нами и пошел по дороге в сторону Пскова.
— Нового языка пошел добывать, — сказал танкист и покачал головой. — Посмотрю я на них, на разведчиков-то, и вижу… веселые они ребята. Закроют клапан одному пленному — идут добывать другого. А в нашем деле так легко не попрыгаешь, Вот, скажем, сгорела у меня машина, сгорела не на параде, а в бою, так что же вы думаете, я сейчас жизни не рад. Иду я пешком, как сирота… Вижу костер, дай, думаю, зайду… может, на душе полегче станет.
— Вот и мы с Федором таким манером к огоньку пришли, — сказал раненый. — Видим, до санбата еще далеко; давай, говорю, зайдем к костру и перекурим. Огонь-то — он как море. Сядь около него — и душа у тебя станет светлее.
Раненый хотел сказать что-то еще, но, услышав за спиной шаги, круто повернул голову в ту сторону и тихо свистнул от изумления.
Из темноты к костру подошли два немецких солдата в поднятых капюшонах, сутулясь и глубоко держа руки в карманах. За ними появились два русских автоматчика. Они поставили немцев к деревьям, а сами подошли к нам и попросили огоньку.
Какое-то неловкое, угрожающее молчание наступило у костра. Я видел, как дрогнули брови танкиста, как сжались пальцы сержанта, как презрительная и торжествующая улыбка озарила лицо женщины.
— Ну что, «победители», замерзли? — спросила она пленных, поймав их жалкие взгляды, устремленные к огню. — Видно, не нагрелись вы у наших домов? Чего глаза-то в землю уставили? Смотрите вон туда, — крикнула женщина и показала рукой на зарево, просвечивающее сквозь лес. — Не хотите смотреть? Ну и не надо… Тогда смотрите сюда. Вот что вы с Гитлером нам принесли, — она сдернула с головы платок, и немцы увидели ее волосы такой белизны, словно вьюга запорошила их.
— Вы вот чего, ребята, — сурово сказал танкист, обращаясь к автоматчикам. — Может, ваши пленные деревни и не жгли, но я прошу — уводите их отсюда скорее. Там в штабе докурите. Ну, давайте быстрей, не расстраивайте женщину.
Через несколько минут с дороги я услышал голос моего шофера. Он кричал, что машина готова.
— Ну, пора и мне, — сказал сержант. Он встал, встали и раненые. Потом поднялся танкист, женщина поправила свой скарб на саночках, а шофер собрал инструмент и подбросил несколько поленьев в костер.
Мы вышли на дорогу. Там, под Псковом, снова заработала наша артиллерия, озаряя багровыми вспышками запорошенные вершины сосен.
Сырой ветер кидал нам в лицо мокрые хлопья снега, сдувал с дороги фашистские листовки, гнал облака в сторону Пскова.
Сержант вскинул вещевой мешок за плечи.
— Ну, пока, — сказал он. — В Берлине, может, встретимся.
1944
 СПАСИТЕЛЬ
СПАСИТЕЛЬ
Тогда, услышав о маленьком подземном рае, где был построен даже гараж, я свернул к подножию той высоты и без особого труда нашел командный пункт полка.
Здесь действительно было хорошо.
По-видимому, немцы так торопились с эвакуацией, что не успели ни заминировать, ни взорвать этот блиндаж, оклеенный светлыми обоями и освещенный настоящей керосиновой лампой, вставленной в одну из тех люстр, которые когда-то украшали спальни Екатерининского дворца.
В таком подземном раю уставший человек может заснуть в одно мгновение, но здесь пока никто не имел права на сон, и начальник штаба, бодрствуя, колдовал на карте, его помощник что-то писал, а телефонист с остервенением дул в трубку и осипшим голосом попросил принести ему снега, чтобы освежить свое почерневшее от бессонницы лицо.
Я нашел котелок и вышел за дверь, где в ночи, то слева, то справа, то прямо передо мной, вспыхивали и угасали очаги боя так же внезапно, как ракеты и как множество пулевых трасс, несущихся навстречу друг другу. Но все это нисколько не занимало меня. Мои чувства были притуплены усталостью, такой же естественной, какую я испытывал и в мирное время, к концу ночной смены, когда был рабочим на Выборгской стороне.
Сейчас я тоже ждал смены, приезда моего товарища, другого военного корреспондента.
Я оглох от нескольких суток, проведенных без сна, и отголоски этого проигранного немцами боя почти не касались моего сознания, пока я не заметил один обыкновенный огонек, поразивший меня, как чудо.
Он вспыхнул на самой высоте, в только что освобожденной деревне, и засеребрился на ее развалинах, как цветок невиданной красоты.
Он был пока что величиною с гривенник, но его заметил и часовой, который от волнения, так же как и я, не сказал ни единого слова.
Мы стояли молча, потрясенные этим первым мирным огоньком, ощущая те великие опасности, какие угрожают ему. Но огонек все горел, и мы затаив дыхание следили за его мягким светом, не спуская глаз с высоты, где в эти секунды рождался мир.
— Послушайте, товарищ корреспондент, — сказал мне телефонист, когда я вошел в блиндаж. — Вам только что звонил комбат из первого. Он занял высоту, а через десять минут туда явилась местная жительница и бесстрашно зажгла огонь в своей избе. Комбат говорит, что по геройству это просто удивительная баба, и, ежели вы желаете с ней потолковать, идите прямо на огонек.
— Передай комбату, что корреспондент ждет командира полка и прибудет немного позже. Да, вот еще что, — сказал начальник штаба и с притворной суровостью постучал пальцем по кромке стола. — Передай комбату, что Кузнецов, мол, сердится, а за что, комбат сам догадается, но все-таки пускай он не тушит этот огонек. Хотите взглянуть?
— Я уже видел. Он очень и очень маленький.
— Но ведь и все великие реки берут свое начало из ручейков. Кто знает, удастся ли нам потом увидеть эти реки… Пойдемте, посмотрим хоть на ручеек.
Кузнецов снял с вешалки полушубок, и, пока надевал его, за дверью послышался окрик часового, потом ржание лошадей и топот ног, истосковавшихся по теплу.
— Что там за ярмарка? — спросил Кузнецов.
— Я хочу доложиться, а часовой мне стрельбой грозит. Разрешите войти?
— Входи, — сказал Кузнецов и открыл дверь, пропуская солдата, удивившего нас своим далеко не бравым видом.
Он был без шапки, в истерзанной одежде, словно его только что рвали собаки, но наше изумление достигло предела лишь тогда, когда мы увидели немецкие автоматы, которые, как тяжкие вериги, висели на груди солдата.
Мы не выдержали и сдержанно улыбнулись, хотя смех душил нас. Пока мы переглядывались, солдат привыкал к яркому свету в блиндаже, оттаивал, косил глазом на погоны двух майоров, стараясь определить, кто из них старше по должности…
И он угадал.
— Товарищ майор, — сказал он, обращаясь к Кузнецову, — разрешите доложить, как было дело.
— Докладывай, — сказал Кузнецов, — но сначала хоть немножко разоружись. Не пугай ты нас таким ужасно воинственным видом.
Солдат усмехнулся, неторопливыми движениями снял со своей груди немецкие автоматы и, словно охапку дров, презрительно швырнул их в угол, где висели наши полушубки. Затем он выпрямился и приложил руку к виску.
— Послушай, а шапка-то где у тебя, — спросил Кузнецов, — где шапка?
— Не знаю, товарищ майор. В такой схватке можно было вполне потерять и голову. Докладываю обстановку: выскакиваю я на дорогу и вижу обоз. Обоз, товарищ майор, из восьми саней, рядом три закутанных неприятеля, которые бегут, как французы в тысяча восемьсот каком-то году.
— В двенадцатом, — сказал Кузнецов.
— Так точно. Бегут они, значит, гуськом, как французы при Бонапарте, хлещут вожжами лошадей и лопочут на своем языке: «Шнель, шнель, шнель…» Это, думаю, у них паника. Давай пробуй. И тут я их начинаю окружать. Даю очередь одну, другую, третью, а сам кричу пушечным голосом: «Сдавайтесь, мать вашу так!»
— Подожди. Не торопись, — сказал Кузнецов. — Ты докладывай по порядку. Кто ты? Сколько вас было, бойцов? И что там у вас произошло с обозом?
— Да я один был, товарищ майор. Один, как вот этот палец. Фамилия моя Куклин.
— Так вот, товарищ Куклин, ты и расскажи все по порядку.
Кузнецов снял с себя полушубок и, заметив в моих руках блокнот, картинно прошелся по блиндажу, по-видимому втайне гордясь и солдатом, и самим собой, и затихающим боем, который к рассвету окончится победой.
— Ну, что же ты умолк, товарищ Куклин? Продолжай.
— Слушаюсь и поясняю, почему я оказался один. Как только неприятель дрогнул, то меня сразу же наш комбат отправил в штаб полка с донесением. Возвращаюсь в батальон и гляжу, а на нашем месте стоит уже тяжкобойная артиллерия и почти достает небо задранными стволами. «Иди, — говорят мне артиллеристы, — вон через тот лесок. Там своих и догонишь». И я пошел. Тороплюсь. Спрашиваю, где батальон, и сам мало-помалу замечаю, что спрашивать-то скоро мне будет некого. Так оно и получилось. Видно, проскочил я свой передний край и очутился у дороги, где была такая мирная картина, что мурашки забегали по мне. Главное, что меня расстроило, это тишина. Куда же, думаю, черт тебя занес? Неужто ты опередил даже немцев? Но слышу, едут. Спускаются с горки обозом три карателя и шесть тихих фигур в санях неизвестного мне происхождения. Я, конечно, моментально прикидываю цифру в уме, складываю ее и получаю ответ: ни больше ни меньше как девять против одного. Но все равно я сам себе отдаю приказ к наступлению и нахально начинаю их окружать. Для начала бросаю гранату и тут же бью по трем карателям из автомата, пока они мордами не падают в снег. А потом, товарищ майор, я услышал такое, от чего мои волосы дыбом приподнялись.
— Ну и что же ты услышал необыкновенного? — спросил Кузнецов не столько из любопытства, сколько для того,чтобы дать мне возможность записать то, о чем говорил Куклин.
— Я услышал бабский крик. Кони, конечно, тоже мечутся, женщины визжат. Автомат мой на всякий случай посылает упавшим последний привет и на время замолкает, пока я осматриваю местность. И тут, товарищ майор, вижу я, как женщины срываются с саней, бегут ко мне, падают, а руками почему-то не махают. Отчего это, думаю, они не махают руками? Что с ними произошло?
Подбегают они, значит, ко мне и кричат: «Товарищ… мы русские, мы женщины. Спасите нас…» А сами плачут и смеются, дышат на меня будто половодьем, таким чистым, товарищ майор, что душа моя начинает прихорашиваться, а сердце — куда-то плыть. Но тут особенно чувствам предаваться было некогда, тем более когда я вижу, что руки у женщин связаны веревками и что они не стоят, а шатаются от волнения на своих ослабших ногах. Тогда я вынул нож. Освободил женщин от веревок, а осмотреть обоз не сообразил… И вот тут-то я, значит, и дал большого маху.
Куклин вдруг умолк, потрогал порванный рукав маскировочного халата, затем, пошаркав валенками по половику, как-то горестно качнул головой.
Он посмотрел на нас виноватыми уставшими глазами и прислонился к стене.
— А ты сядь, — сказал Кузнецов. — Слушай, Гаврилов, налей-ка товарищу Куклину чарочку трофейного рома.
— Чувствительно благодарен, — сказал Куклин, — но только чарочку мне наливать рановато. Не сумел я, товарищ майор, до конца исполнить свою задачу. Оказывается, в санях спал еще один каратель. Очухался он с перепоя, схватился за автомат, а тут откуда ни возьмись налетает на меня немецкая овчарка… И пошло у нас опять сражение. Я кричу: «Женщины, в снег!» Срезаю овчарку очередью. Выхватываю карателя из саней… и топчу его ногами, топчу сразу за все и со зла ничего не понимаю, пока мне одна из женщин не говорит: «Вот вам веревка, товарищ. Давайте его свяжем, разбойника. Он сжег нашу деревню».
Бросили мы его связанного обратно в сани, повернули обоз в нашу сторону и разговорились по дороге.
Оказывается, женщины-то эти из деревни Аниной. Не хотели уходить с родной земли. Ослушались, значит, немецкого приказа. За это их и связали и везли судить, чтобы, значит, потом повесить по всем правилам закона.
Может быть, я чего-нибудь неточно докладываю, но в таком случае прошу меня простить, — сказал Куклин, косясь на мой блокнот, куда я с лихорадочной поспешностью записывал его рассказ.
— Ничего… ничего, — сказал Кузнецов. — Ты не обращай внимания на блокнот капитана. Он, понимаешь, корреспондент. Он только запишет, но фотографировать тебя в таком виде не будет.
— Правильно, товарищ майор. Нельзя мне сниматься в таком растрепанном виде. Вот кончится война, наденем мы тогда выходные костюмы и начнем фотографироваться. Думаю, что и женщины к тому времени сошьют себе новые платья… Вот и все, товарищ майор, но одного конька я все-таки в горячке пулей царапнул. Сильно он припадает на заднюю ногу.
— Ну, это пустяки, — сказал Кузнецов. — Только ты, Куклин, не в свою часть попал. Ваши уехали отсюда часа полтора назад.
— Понимаю, товарищ майор. Все понимаю, но не могу же я ездить с этими женщинами до утра. Выпишите мне хоть справочку за трофеи.
— Что же, это можно, но сначала мы должны осмотреть твои трофеи. Пошли…
Когда мы вернулись, меня усадили за стол и попросили написать Куклину справку самым высоким слогом на бланке ленинградской большой газеты, в которой я тогда работал. Кузнецов заверил бланк полковой печатью и настоял на том, чтобы все мы подписали эту необыкновенную справку. Потом мы пригласили женщин в блиндаж, и каждая из них на прощание поцеловала Куклина. Он надел на голову подаренную шапку, неловко откозырял, выпил на дорогу стакан рома и исчез в той стороне, где вспыхнул первый мирный огонек в только что освобожденной деревне.
Вскоре на этот огонек пошел и я.
1944
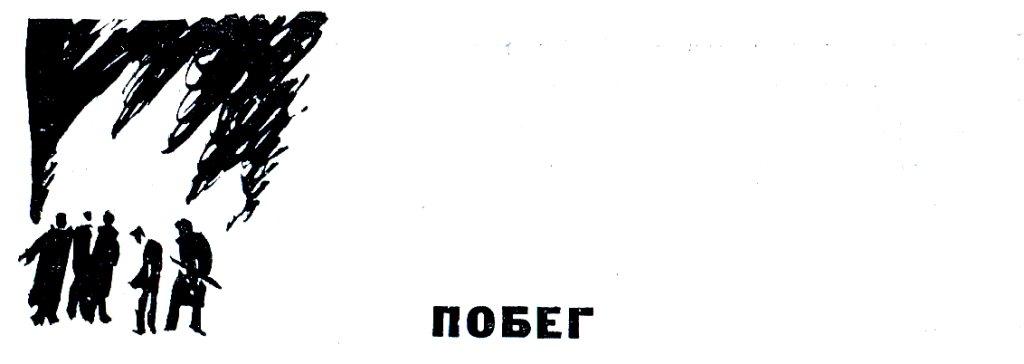 ПОБЕГ
ПОБЕГ
Всякий раз, когда только я встречал своего друга — майора Матюхина, наш разговор неизбежно кончался просьбой этого человека заехать к ним в отдел и познакомиться там с работниками разведки.
Особенно хотелось майору, чтобы я познакомился с полковником Саулиным, о котором я уже слышал много занятных историй.
Однажды командующий армией не то в шутку, не то всерьез сказал о Саулине: «Если вам захочется узнать, о чем думают в эту минуту солдаты любого немецкого полка, так обратитесь, пожалуйста, к Саулину. Он вам все объяснит. Но будьте осторожны с выводами. Саулин всегда мудрит, а когда он перемудрит, я, ей-богу, сниму с него голову».
В то время бои шли под Псковом, и первый эшелон штаба армии размещался в одной маленькой полусгоревшей деревушке, недалеко от Псковского шоссе.
На окраине этой деревушки стоял дом разведотдела, а рядом с ним бревенчатая заколоченная часовенка с темной глубокой нишей, где висела старинная икона, изображающая пресвятую богородицу с голым младенцем Иисусом, у которого живот был вырван осколком. А над нишей, прямо на колокольном карнизе, росла тонкая березка и смотрела вниз, словно она что-то обронила на ступени часовенки. Часовенка была обезглавлена, и ее сбитый купол валялся в снегу у дома разведотдела.
В те дни меня поразило поведение одной немецкой группировки, отсеченной от Пскова и обреченной на гибель в Аулиных горах. Это были остатки шести разбитых полков, которые с какой-то тяжелой бессмысленной свирепостью наваливались на дивизию Денисова и старались прорваться к горящему Пскову в расположение своих частей. Их было там около пяти тысяч, и все они были вдребезги пьяны, но мне не хотелось объяснять их упорство избытком французского вина, и я приехал в разведотдел армии поговорить с Саулиным об этих немцах и выяснить истинную причину, почему они так легко и нагло идут на верную смерть.
Полковника я застал за телефонным разговором.
Он сидел на столе, громадный и седой, и казалось, что стол под ним непременно должен рухнуть, если полковник зашевелится или сделает хотя бы одно резкое движение. Но Саулин сидел спокойно и передавал командирам артиллерийских полков координаты немецких винных складов. При этом он шутил и говорил, что пусть артиллеристы бьют вслепую, потому что если они узнают, по какой цели ведут огонь, то они будут рыдать, как дети, и часто вспоминать о такой стрельбе.
Потом он повесил трубку и подошел ко мне. Мы познакомились. У Саулина был мягкий, приятный голос, немного хрипловатый от телефонных разговоров, бессонных ночей и сырых землянок. Его крупные серые глаза отсвечивали нездоровым блеском, а белые волосы казались совсем чужими и с особой выразительностью оттеняли юношеское лицо полковника и маленькое родимое пятно на лбу. Его волосы были похожи на парик и только подчеркивали тяжелую красоту этого человека, его молодость и силу.
Полковник был очень подвижен, весел, и, несмотря на резкость в словах, с ним можно было легко разговаривать.
— Вот вы, наверно, удивляетесь, — сказал полковник, — почему окруженные немцы не складывают оружия и продолжают хамить. Вы ищете, видимо, какой-то особый смысл в их поведении. Признаться, я тоже долго ломал себе голову, пока не пришел к убеждению… что всё удивительно просто.
— Конечно, — сказал я, — истина всегда поражает нас своей простотой. Мне кажется — страх. Вот единственный источник. Фашисты просто боятся расплаты за Псков.
Полковник украдкой посмотрел мне в глаза, и я заметил, как от беззвучного смеха заколыхались его плечи и как дрогнул его рот и на мгновение застыл в горькой, сожалеющей улыбке.
— Вы знаете что, — сказал Саулин, — давайте говорить откровенно. Ведь страх вещь весьма относительная. Его можно подавить в себе разными способами — идеями, вином, наркотиками и даже любовью. Должен вам сказать, что через мои руки прошли сотни перепуганных пленных, и я, слава тебе господи, насмотрелся на всю эту теневую сторону войны. Ведь если поглубже разобраться в нынешнем гитлеровце, то он, в сущности говоря, держится на воображении, на какой-то искусственной камфаре. Его карманы полны всякой дрянью: порошками, презервативами, шприцами, открытками и еще черт знает чем, а вот в глазах — пустота. Загляните в них, и вы почувствуете, будто бы вы стоите на обрыве, за которым уже ничего нет. Да и душа-то его похожа на ледяной каток. Можно двигаться по ней куда угодно, все равно ни черта, не за что ухватиться.
Вот и сейчас, — продолжал полковник, досмотрев в окно, — там в горах сидят пять тысяч обреченных немцев. Если вы подумаете, что они трясутся от страха, вы глубоко ошибетесь. Им сейчас горы по пояс, а море по колено. Представьте себе, что у этих обреченных три тысячи бочек настоящего выдержанного французского вина. Попробуйте выпить несколько стаканов, и вы запоете песню даже в могиле.
Между прочим, — добавил полковник, — я так и доложил командующему. Я ему сказал: если, говорю, товарищ командующий, вас интересует моя точка зрения, то я бы не пожалел несколько тысяч снарядов на эти три тысячи бочек вина.
Полковник вдруг резко поднялся со стула, вынул из кармана коробку папирос и подошел к окну.
— Вы видите, — сказал он, показывая рукой на багровое за окном пространство, — на улице еще светло. Но от такого ужасного зарева день-то какой неприятно красный.
— Да, — сказал я. — А вы когда-нибудь бывали в Пскове?
— Нет, — ответил полковник. — Не довелось. Я увидел его впервые только теперь, когда он горит. Вон там, левее, горят леса, а еще левее, в единственном светлом квадрате, сидят окруженные немцы и пьют вино. Вряд ли они догадываются, что через два часа наша артиллерия начнет свою работу и будет бить по винным складам до тех пор, пока не разнесет в щепы последнюю бочку. Ночью, мне кажется, они уже будут воевать трезвыми и утром выкинут белый флаг и пошлют к нам своего парламентера.
— Боюсь, что все это затянется, — сказал я.
— А вы не бойтесь, утро вечера мудренее. Не будем предугадывать события, а давайте-ка лучше приготовимся к обеду. Вы пока поставьте на середину стол, а я скоро вернусь.
Полковник торопливо надел шинель и вышел, а я стал думать о нем и вспоминать все то, что мне рассказывали об этом человеке.
Он великолепно знал немецкий язык, но всегда разговаривал с пленными через переводчика и никогда не подсказывал им, какие сведения его больше всего интересуют.
Однажды под Новосельем он добыл для союзников исключительные показания о постройке Атлантического вала.
Пленный немецкий майор был по профессии инженер и незаметно для себя выболтал Саулину несколько таких вещей, о которых еще ничего не знала разведка союзников.
Я сидел один в жарко истопленной горнице и, когда звонил телефон, чувствовал себя как-то неловко и звал дежурного офицера.
Наконец полковник вернулся с большим пакетом и сказал:
— Давайте хотя бы час не говорить о войне. Я вот, например, очень люблю охоту. Вы видели, сколько на улице намело снегу… Деревушка-то наша вся в снегу… Теперь бы встать на лыжи да взять в руки ружье. Вы любите охоту?
— Нет, — сказал я, — но рыбную ловлю люблю. Это осталось во мне с детства.
— Мне кажется, — сказал полковник, — что в человеке остается незыблемым только то, что приходит к нему с детства.
— А что же происходит со всем остальным? — спросил я.
— А всякие изменения. Вы можете разлюбить женщину, переменить образ своей жизни, но попробуйте вы разлюбить мать, город, в котором вы родились, или речку, где вы в детстве ловили рыбу. Вот когда вы проезжали мимо часовенки, вы, наверно, заметили на карнизе березку. Стоит, знаете, как двенадцатилетняя девочка и будто бы собирается прыгнуть прямо в снег.
Полковник хотел продолжать свою мысль, но в это время кто-то тихо постучал в дверь, потом приоткрыл ее, и на пороге показался дежурный офицер в белых бурках, с пятью орденами, светящимися из-под шинели, небрежно наброшенной на плечи.
— Ну, что там у вас?
— Извините, товарищ полковник, — сказал дежурный офицер. — Маленькое происшествие, может быть, доложить потом?
— Да нет уж, давайте сейчас, — сказал полковник. — Зачем же нам откладывать… Садитесь и рассказывайте.
Дежурный офицер вопросительно посмотрел на Саулина, затем на меня, окинул рассеянным взглядом горницу и, все еще медля и что-то обдумывая, попросил разрешения закурить.
Может быть, с минуту мы сидели молча.
— Да ведь тут, собственно говоря, товарищ полковник, — сказал офицер, — и рассказывать-то не о чем… Вы, наверно, помните сегодняшнего пленного Рихарда Таубе. Он был взят в одиннадцать часов утра в горах разведчиками капитана Коваленко. Ну, я не буду вам докладывать, сколько мук приняли с ним разведчики. Он кусался, как гусак, упирался, но его кое-как дотащили. Большие надежды возлагали на него разведчики. Но, — сказал дежурный офицер, — этот голубь оказался с идеей.
— Да ну вас, — засмеялся Саулин. — Какие у него могут быть идеи, что вы выдумываете.
— А вот представьте себе, товарищ полковник, вместо того чтобы вести себя прилично, он стал подбивать остальных пленных на побег. Нас, говорит, здесь сорок шесть человек. Чего мы ждем? Надо, говорит, уничтожить охрану, забрать оружие, вырезать весь разведотдел и бежать. Только трусы, говорит, могут рассчитывать на милость русских. Я полагаю, товарищ полковник, вы прикажете его…
— О нет, — сказал полковник. — Ведите-ка его сейчас сюда, мы на него посмотрим.
— Вы слышали что-нибудь подобное? — обратился ко мне Саулин, и голос его вдруг повеселел, а лицо приняло насмешливое выражение. — Ты его корми, води на прогулку, давай ему, сукину сыну, кипяченую воду, а он вместо благодарности будет придумывать способы, как бы тебя прирезать. Нет, у меня тут особенно не разгуляешься. Попал, так сиди, а не хочешь — пеняй на себя. У меня будет с тобой разговор короткий.
Полковник сел за стол и стал ждать пленного, а я отошел к горящей печке и повернул полено, которое дымило. Затем я с любопытством посмотрел на вошедшего Рихарда Таубе, на его грязный, изодранный мундир и роговые очки, которые выглядели как два колеса на маленьком веснушчатом лице пленного. Я, наверно, рассмеялся бы, но в эту минуту где-то, совсем близко, заработала наша артиллерия, и я повернулся к окну, побагровевшему от орудийных вспышек.
Так простоял я несколько минут, ощущая колебание пола под ногами и вслушиваясь в артиллерийскую канонаду, гудящую, как прибой. Потом, когда я вновь увидел пленного, я весь похолодел от гнева. Таубе стоял посредине горницы и покачивался на своих длинных ногах.
Его руки были глубоко засунуты в карманы, а сухие глаза с неиссякаемым упорством были устремлены на полковника. Даже сквозь стекла очков они блестели вызывающе и нагло. Но Саулин, казалось, не замечал этого и равнодушно рассматривал пленного.
— Послушайте, Алексеев, — сказал полковник, обращаясь к дежурному офицеру, — да ведь этот Таубе до сих пор еще пьян.
— Я, — сказал пленный, — Рихард Таубе. Пить… хочу пить.
— Ладно, — сказал полковник, — завтра будешь опохмеляться шампанским. А сейчас посадите его отдельно от пленных, утром я с ним поговорю.
— Хорошо, — сказал дежурный офицер, — а как с машиной?
— Машину ровно в семь. Мы вот с товарищем корреспондентом поедем в горы, я посмотрю, как немцы будут воевать с похмелья.
Полковник встал. Мы поставили стол на середину горницы, накрыли его клеенкой, порезали хлеб на мелкие ломтики и ели суп из тарелок, принесенных ординарцем.
Около двух часов мы сидели за столом, рассказывая друг другу разные смешные истории, потом я лег спать, а Саулин пошел на доклад к командующему и вернулся оттуда веселым, потирая руки и беспрерывно что-то насвистывая.
Сквозь дремоту я слышал, как Саулин разговаривал с артиллеристами, и понял, что винные склады уже горят.
Я накинул шинель и вышел на улицу.
Прозрачное синее пламя металось в горах, а левее, в темном зареве, я увидел купола псковских церквей и багровую снежную равнину.
С равнины дул ветер прямо мне в лицо, и я чувствовал запах вина и вслушивался в угрюмый шум боя, отодвигающегося от нас в ночную глубину.
Почти до самого рассвета я не мог заснуть.
— Послушайте, Иван Васильевич, — сказал я Саулину, — нет ли у вас чего-нибудь почитать?
— Извините, но ничего такого нет, только одни протоколы.
— Ну дайте хоть протоколы, — сказал я, — мне чего-то не спится…
Саулин порылся в папках, вытащил оттуда с десяток больших листов и, аккуратно сложив все это в одну стопку, протянул мне протоколы допросов пленных немецких солдат.
Тут же, на полу, сев спиной к огню, я стал читать показания пленных, и, когда дошел до протокола Рихарда Таубе, я увидел под фамилией пустой лист бумаги, на котором стояло только: «От показаний отказался».
Был уже рассвет, и я слышал, как полковник мылся в сенях, гремя рукомойником, и как собирался в дорогу, засовывая карты в планшетку и чертыхаясь.
— Вставайте, — сказал он, — скоро поедем…
Через час мы уже были готовы. Мы вышли на крыльцо, и сверканье снега ослепило меня.
Из соседнего дома автоматчик вывел на дорогу Рихарда Таубе и показал ему рукой на наше крыльцо.
Теперь пленный напоминал какую-то жалкую длинноногую рассерженную птицу и шел нахохлившись, засунув руки в широкие рукава шинели. Подойдя к крыльцу, он угрюмо козырнул Саулину, вытянулся и застыл в недоуменном ожидании. Он словно не понимал, почему это полковник нахмурился. На крыльцо вышли еще несколько офицеров.
— Николай Петрович, — сказал полковник, обращаясь к переводчику Панову, — переведите этому сукину сыну, что мне очень не понравилось его вчерашнее поведение. Он, что же, думает, мы с ним будем цацкаться, уговаривать его, ждать, пока он нас перережет? Передайте ему, что бежать от нас совершенно невозможно и напрасно он затеял такую канитель.
Полковник умолк, а Панов перевел пленному слова Саулина, и Рихард Таубе вдруг поднял голову и что-то пробормотал переводчику.
— Он утверждает, — сказал Панов, — что этого не было и что будто бы кто-то из его соотечественников просто по злобе наговорил на него.
— Пусть назовет фамилию того человека.
— Он называет Иоганна Шернера, — сказал Панов.
— Да, — сказал полковник и, словно что-то решая, пристально посмотрел на кустарник, а потом на сверкающую долину.
— Ну, ладно. Раз он задумал бежать, так пусть бежит, мы его удерживать не станем. Ну, иди. Иди вон туда, — сказал полковник и показал на горы, освещенные залпами «катюш». — Почему же он стоит? Переведите ему — пусть убирается ко всем чертям. Мне бегунов не нужно.
Рихард Таубе снова что-то забормотал переводчику, поднял окоченевшие руки и закрыл лицо.
— Не то, — сказал полковник, — передайте ему, что он говорит не то.
Но Рихард Таубе стоял теперь перед Саулиным молча, и плечи его вздрагивали, как в лихорадке.
Пленный медлил с признанием. Тогда полковник сошел с крыльца, повернул Рихарда Таубе к кустарнику и, словно показывая ему дорогу, положил свою руку пленному на плечо.
— Иди, — сказал полковник. — Ты мне больше не нужен. Раз тебе не хочется жить в тепле, так подыхай на морозе.
Он толкнул пленного, и тот пошел к кустарнику мелким шагом, увязая в снегу и, видимо, каждую секунду ожидая выстрела в спину. Он сутулился, нагибая голову, прихрамывая и как-то нелепо выбрасывая вперед босую ногу.
Наконец, совершенно обессилев и запутавшись в полах длинной шинели, он упал, затем поднялся на колени и пополз, корчась и бороздя снег. Он выл, и на нем трещала и ломалась промерзшая одежда, а обледеневшие очки упали, когда он подполз к ногам Саулина.
Саулин отстранил от себя пленного и вошел в дом.
— Там беглец наш вернулся, — сказал он дежурному офицеру, — заберите его побыстрее, а то часовой пристукнет, да, кстати, пошлите к нему врача и покормите, я думаю, он больше никуда не побежит.
Вечером я сказал полковнику, что у него удивительно добрый характер.
— Это для меня новость, — сказал полковник, — откуда вы взяли, что я добрый? Не думайте, пожалуйста, что я был добр к Рихарду Таубе. Вы, наверно, заметили, что кустарник тянется всего на двести метров, а за ним уже идет равнина. Попробовал бы он сунуться куда-нибудь, да его первый встречный пристрелил бы на месте, а вы говорите — добрый. В мои годы седеют люди не от доброты, а от злости… — сказал полковник и раздернул занавеску на стене, где висела штабная карта. Он долго стоял у этой карты, что-то обдумывая и перечеркивая красным карандашом квадрат, в котором еще вчера сидели немцы. Я внимательно следил за выражением его лица и вскоре понял, что передо мной просто сильный человек.
1944
 В ПУТИ
В ПУТИ
Они шли глухой проселочной дорогой, капитан Одинцов и связной Кузьмин. Это были старые знакомые еще с Пулковской горы, где им не раз приходилось петлять по минным полям, в темные ночи искать на ощупь командные пункты рот и коротать время в воронках, прячась от внезапных артиллерийских налетов. Капитан был работником политотдела и шел в батальон Касимова читать лекцию о международном положении. Впереди был слышен автоматный треск, словно там кто-то рвал тугое полотно, но выстрелы не занимали капитана и связного, и они шли молча, щурясь от солнца и чувствуя теплоту на ресницах.
Что-то трогательное, домашнее, бесконечно дорогое было сейчас в весеннем солнечном тепле, в обнаженных полях, пахнущих рекой, в тонких березах, стоящих в воде по обеим сторонам дороги. Только в одном месте еще не растаял снег. Это был маленький бугорок, на котором ничком лежал мертвый немецкий солдат и своим телом закрывал снег от солнца. Его руки словно сжимали этот обледеневший холмик, но живая весенняя вода подбиралась уже к ногам мертвеца и блестела под его животом.
— Вот и еще один «завоеватель», — сказал связной. — Ишь как вцепился, не оторвешь. Он даже мертвый и то душит нашу землю… А ведь, наверное, был вот таким же хлюстом.
Связной порылся в кармане, вытащил из бумаг маленькую фотографию и протянул ее капитану.
— Это я в немецкой землянке для памяти взял, — пояснил связной, — сильно богатая картинка. Конечно, там были и другие, всё больше женщины, которые телешом стоят, но я человек семейный. Нет, думаю, возьму-ка я лучше эсэсовца. Может, она, история-то, подлеца и найдет.
Капитан посмотрел на фотографию с изображением гестаповца, который стоял один в русском поле с хлыстом в руках и всей своей позой выражал презрение к этому огромному пространству, и к земле, и к солнцу, бьющему ему в глаза.
— Слушай, Кузьмин, — сказал Одинцов, — за каким чертом ты носишь эту дрянь в кармане?
— А для агитации, товарищ капитан. Вот когда мы рванули от Пулкова — пожалуй, верст по сорок за сутки отхватывали. Бывало, собьешь его дивизию с рубежа, а он тебе только пятки показывает. Но нет, думаем, ты от нас не уйдешь! Доставал я тогда эту карточку и говорил: «Вы только посмотрите, братцы, какой хлюст гуляет по нашей земле. Неужели мы его не догоним? Он, говорю, стервец, нажрался всякого энергетина и думал с этими порошками победить весь мир…» — И совсем неожиданно Кузьмин спросил: — Товарищ капитан, вы когда-нибудь слышали, как плачут птицы?
— Птицы? Нет, не слышал. А к чему это ты?
— А вот к чему. Весна, она, конечно, спервоначала берется с воды, а потом, значит, со скворцов. Весной, товарищ капитан, каждый человек чувствительней становится и к птицам, и к огню, и к дереву. Возьмем для примера одного нашего солдата. Сто раз смерть ходила вокруг него и ни разу не могла приметить страха в солдатской душе. А тут, когда фашисты подожгли мельницу в его родном селе и когда загорелись крылья, может быть, он, солдат-то, и вспомнил себя мальчишкой, а может быть, взрослым, когда у него первый амур был у этой мельницы. Вспомнил про это солдат и белее снега стал.
Деревню эту, товарищ капитан, Богдановкой зовут. Для солдата она, конечно, деревня как деревня. Вырыли мы окопчики возле нее, сидим, стрельбу ведем. Но, видим, меняется она, деревня-то. Жгут ее чужеземцы налево и направо, по ночам рощу рубят, одним словом, проявляют себя. Вот, думаю, фашисты Россию нашу рубят, над нашей жизнью заносят топор. Подойду я к пулемету, дам им одну очередь, дам другую, они и замолчат.
И вот как-то однажды возвращаются из теплых краев скворцы. Возвращаются они, значит, из теплых краев к себе на родину, веселые такие, как будто бы на них сотни бубенцов навешали. Летят прямо к деревне и начинают постепенно затихать. Что такое? Почему нет ни рощи, ни домов, ни скворечен, ничего?
Полетали они так на малой скорости, покружились над окопами, и когда поняли всё, то подняли такой плач, как будто кругом заплакали дети. Мы всем батальоном слушали. Не знаю, что там творилось в фашистских траншеях, только они не выдержали и открыли пальбу. Одного скворушку они все-таки, заразы, сбили. Упал он к моим ногам, забился весь, а потом раскинул крылья и помер.
Взял я тогда штык и думаю: «Раз ты погиб от пули, значит, я должен тебя похоронить как полагается, положить в сырую землю и закопать». Вот так-то, товарищ капитан, — сказал связной и посмотрел Одинцову в лицо, стараясь, очевидно, понять, дошел ли до капитана весь смысл рассказа.
Несколько минут Одинцов и Кузьмин шли молча. Впереди показались наши траншеи, и за траншеями холмы, покрытые тусклым снегом. Вчерашняя утихшая метель намела на их вершины много пепла. Кое-где из-под снега проступали останки сожженных деревень, откуда дул сырой ветер, донося до сознания Одинцова запах самых бессмысленных, недавно совершенных убийств.
— Вы видите лесок, товарищ капитан?
— Да, — сказал Одинцов, разглядывая из-под ладони темную полосу, похожую на тень.
— Там сейчас немцы, а за леском деревня. Можно сказать, моя родина, где у меня осталась семья из четырех душ. Я думаю, ее непременно угонят в Германию. А мир-то вон какой большой. Попробуй потом найди.
Кузьмин снял шапку, и, пока он смотрел вдаль, где не была протоптана еще ни одна тропа, Одинцов молчал, понимая, что никакие утешения сейчас не помогут Кузьмину. Затем они услышали два пушечных выстрела, и связной сразу же выпрямился, и все его тревожные чувства вдруг стали меркнуть, так же как солнце, которое медленно и неохотно спускалось за холмы.
1944
 НА КРАЮ РОДИНЫ
НА КРАЮ РОДИНЫ
— Хорошо, — сказал Серебряков, — как только управлюсь с делами, непременно к тебе зайду. Ну, пока! — Комбат положил телефонную трубку на стол и вышел из землянки.
Был очень теплый солнечный день, и на участке Серебрякова стояла тишина, и казалось, что война еще со вчерашнего дня покинула этот оцепеневший мир с мокрыми, маслянисто-черными полями и сухими посеченными деревьями.
Утром наблюдатели заметили первых прилетевших скворцов и яркий серебристый блеск воды, переполнившей все воронки.
— Сейчас, — сказал Серебряков своему ординарцу, — мы осмотрим рубеж, а потом пойдем в гости к Агапову. Как ты думаешь, чем он нас будет угощать?
— Да уж чем-нибудь попотчевает. Может — кофеем, может — чаем, — загадочно сказал ординарец и привычным движением вскинул автомат за плечо.
Агапов был соседом Серебрякова. Оба они командовали батальонами и, по удивительно счастливым обстоятельствам, с первых же дней войны были не только друзьями, но и соседями, разделявшими между собой великую опасность и великое напряжение боя.
Война застала Серебрякова в Ленинграде. Он приехал в командировку, но домой уже не вернулся, ушел на фронт добровольцем и оказался в одной части с Агаповым.
На шестой месяц войны оба они были назначены командирами взводов, а еще через три месяца приняли роты и взяли противотанковый ров, который считался неприступным.
За время войны они получили по три ордена, исколесили почти всю Ленинградскую область и знали друг о друге все, что полагается знать мужчине о своем товарище.
Вот уже месяц, как они уславливались по телефону о встрече, но всякий раз что-нибудь мешало ей, и встреча откладывалась до более спокойных и лучших времен.
Но на этот раз Серебряков твердо решил побывать у Агапова. Он шел не торопясь и наслаждался весенним солнцем, запахом прошлогодних трав, тишиной и горячим ветром, дующим ему прямо в лицо. За зиму он чертовски продрог, и теперь его немного познабливало от густого тепла, растворившегося в призрачной дымке полей. Но вдруг комбат услышал глухой пушечный выстрел, как будто где-то впереди ударили в бубен, а затем словно приближающийся гул поезда и внезапное его столкновение, от которого у Серебрякова стало сухо и горько во рту. Волной его сбило с ног, и он упал навзничь, и, когда понял, что ранен, злоба охватила его, и он сказал ординарцу хриплым голосом:
— Испортить такой день… Ах, сволочи! — Он попробовал подняться, но страшный гул разрыва теперь сотрясал его тело изнутри, и у комбата началась рвота; он перевернулся лицом вниз и почувствовал, как что-то надломилось в его мозгу.
Его быстро отправили в госпиталь, и он не успел попрощаться с Агаповым. В течение всего лета писал он своему другу письма и с желчью вспоминал о том единственном снаряде, который в тот день упал на участок его батальона.
Когда начались бои за остров Эзель, Серебряков не выдержал и настоял на выписке из госпиталя и вскоре получил назначение в свою часть.
Перед самым отъездом из Ленинграда он зашел к семье Агапова, захватил какой-то маленький сверточек и письмо и вечером был уже на заставе, а на рассвете проехал Нарву, призрачно мерцавшую разрушенными крепостными стенами. Пять суток Серебряков догонял свой полк. Перед его глазами мелькали деревни, мызы, тихие эстонские городки и острова, которые казались когда-то очень далекими. Наконец Серебрякову удалось разыскать полк в маленьком городке на берегу Балтийского моря и в тот же день увидеть Агапова. Серебряков застал своего друга одного в большой светлой комнате с тремя окнами, из которых открывался вид на пустынное море, тронутое багровым отсветом заката.
Несколько часов назад батальон Агапова вышел из боя и сейчас отдыхал, расположившись в маленьких белых домиках. Отдыхал и комбат.
Серебряков увидел на столе своего друга развернутую карту, испещренную ромбами, квадратами, разноцветными крестиками и глубокими зигзагами, напоминающими траншеи переднего края.
Это была не военная карта, но по вытертым изгибам и по выцветшим квадратам было видно, что она прошла огонь и воду и побывала во многих передрягах.
Серебряков стоял за спиной Агапова, а Агапов наклонился над картой и громко свистел, постукивая карандашом по столу.
— Ну, вот и я, — сказал Серебряков. — Здравствуй, Сережа. — Он крепко поцеловал обрадованного и изумленного Агапова.
— Ого, — сказал Агапов, — как ты здорово похорошел, Ну, сначала рассказывай о Ленинграде. А потом я тебя буду кормить трофейными сардинками.
И Серебряков стал говорить о городе. Он рассказывал о том вечере, когда он вышел из госпиталя и впервые за годы войны увидел в городе огни. Они горели на многих улицах и бросали свой серебристый свет на панели и парадные, на витрины и на огромную карту Европы, вывешенную на Литейном проспекте.
— Да, — сказал Серебряков, — карта Европы, а давно ли немцы стояли под Ленинградом. Вот о чем я думал на Литейном среди зажженных фонарей. Мир стал просторнее и светлее, понимаешь. Теперь в нем можно жить.
Около часа Агапов расспрашивал своего друга о Ленинграде, потом стал бриться, а Серебряков подошел к развернутой карте, и его взгляд остановился на одном населенном пункте, помеченном красным карандашом.
— Помнишь эту деревню? — спросил Серебряков. — Здесь мы взяли сбитого немецкого летчика и пытались его пристыдить. Какими мы были чудаками, помнишь?
— Еще бы, — сказал Агапов. — Я помню и домашний адрес этого летчика. Ты знаешь, перед твоим приходом я вынул из планшетки карту. И вот, представь себе, я развернул эту старую карту, и одно событие, ясное как день, совершенно выбило меня из колеи. Никогда еще в жизни я не испытывал такой радости, как сегодня. Мне кажется, это ощущение радости похоже на твои чувства, когда ты впервые увидел огни в Ленинграде. Вот так же и я, посмотрел на карту и увидел, что ни в одном русском городе больше нет немцев. Ты понимаешь, старина, больше нет немцев! Вот нагнись-ка сюда и посмотри на кромочку, где мы сейчас стоим. Мы стоим на краю нашей Родины! Так сказать, на последнем ее земном километре.
Удивительная это все-таки вещь — ощущение пространства… Ты помнишь, когда мы стояли под Нарвой, то нам казалось, что до Таллина надо будет идти месяц, а то и два, а это расстояние мы покрыли в пять дней. Ну, как ты находишь наше продвижение? — спросил Агапов.
— Продвижение великолепное, — сказал Серебряков, — но меня разбирает зло на тот идиотский снаряд… Жаль, что я не участвовал в такой операции.
— А ты не злись, старина, — битва за Россию еще не кончена. Она продолжается…
Агапов осторожно сложил старую карту и развернул на столике карту Германии.
1944
 МИР
МИР
В тот день кончилась война. К вечеру заморосил дождь и долго шуршал в полях. Дождь неторопливо падал в раскрытые люки танков, смывал грязь и кровь с восковых лиц мертвецов и застревал в проволочных заграждениях. Красные от ржавчины, густые дождевые капли, словно перезревшие ягоды, осыпались в траву с этих колючих зарослей.
Вот он и пришел, этот первый мирный день, и застал Одинцова одного в пути, почти на самом берегу моря, на окраине маленького немецкого городка.
Несколько немок, нагнув головы и пряча глаза, прошли мимо Одинцова. На углу, у пустой аптеки, одноногий инвалид, одетый в драную немецкую шинель, покосился на русского офицера, затем попытался нагнуться, но ему мешали костыли, и он никак не мог дотянуть руку до окурка, лежащего на панели. Холодная, бессильная ненависть светилась на дне его серых, сухих зрачков.
Одинцов молча и сердито протянул папиросу инвалиду и тут только впервые понял, как трудно будет многим немцам после войны.
Он вышел за пределы городка и остановился. Его сердце сильно стучало. Он посмотрел на окраину, где слишком много было пустырей, заваленных изуродованными кроватями, битой посудой и тряпьем, потом его взгляд задержался на море, где все еще горели два немецких корабля, и, когда ему надоело смотреть на эти полыхающие костры, Одинцов сошел с дороги, расстелил плащ-палатку и сел под дерево, прислонившись спиной к стволу. Он не торопился.
До штаба фронта было не так далеко, и Одинцову хотелось все свое свободное время истратить с толком и хоть несколько часов побыть наедине с собой.
Когда-то, давным-давно, в самые невеселые минуты боя, он вдруг почувствовал, что смерть не коснется его и что он непременно доживет до первого мирного дня. И тогда он дал себе слово повнимательнее приглядеться ко всему и запомнить тот кусок земли, на котором Одинцова застанет этот день.
Сейчас перед ним было поле, кювет, опаленный огнем «катюш», а за кюветом стояли разбитые танки и в мокрой траве валялись мертвые немецкие солдаты с тусклыми грошовыми кольцами на пальцах. Около мертвых было много всякой бумаги, и, как только с моря начинал дуть ветер, бумага словно оживала и шелестела, отползая от мертвецов. Среди них Одинцов заметил и двух русских танкистов. Они лежали недалеко друг от друга, в черных кожаных шлемах, в застегнутых комбинезонах, и оттого, что они погибли в последний день войны, они казались еще более одинокими и вызывали в душе капитана горькое чувство утраты.
— Ну чего же вы, ребята, — тихо сказал Одинцов, обращаясь к танкистам, — вставайте, вот и мир. «Да, — подумал Одинцов, — вот и мир».
Но в это время он услышал длинную автоматную очередь.
Кто-то бил по Одинцову с той стороны, где стояли сгоревшие танки, и капитан пригнул голову, затем лег поудобнее и, положив перед собою недоеденный кусок хлеба, тоскливо стал ждать еще одной очереди, стараясь не шевелиться. Он ждал терпеливо, и знакомое чувство, которое давно уже пришло на смену страху, чувство злобного томления, все больше охватывало его. Сейчас дело было не в том, что Одинцова могли убить. На смерть он смотрел просто, но ему было обидно расставаться с жизнью сегодня и умереть на краю этого поля в первый же мирный день. Прищуренными, потемневшими от злобы глазами Одинцов разглядывал танки, опрокинутые повозки, автомобили с порванными брезентовыми тентами, стараясь угадать, где спрятался тот человек.
Только минуты через две кто-то ударил из автомата. Человек этот лежал под танком и стрелял теперь не в Одинцова, а в русского мотоциклиста, появившегося на дороге. Очередь была еще длиннее, и, когда она оборвалась, Одинцов заметил, что с мотоциклистом ничего особенного не случилось.
— Ложись, шляпа! — крикнул ему Одинцов и весело выругался.
Мотоциклист резко затормозил машину, чуть накренил ее набок, уперся ногами в землю, вынул из кобуры пистолет и, только потом уже посмотрев в сторону Одинцова, хмуро улыбаясь, слез с седла. Мотоциклист лег в канаву недалеко от капитана.
— Ну что, — спросил Одинцов, — стреляют?
— Палят, — сказал мотоциклист, — вот по мне уже второй раз лупят. Ведь знает же, зараза, что мир, а все-таки желает ужалить. Это выходит, товарищ капитан, вроде как бы покушение на личность.
— Выходит, что так, — сказал Одинцов, — чуть-чуть он нас с тобой не срезал.
— И главное, в такой день, а? В такой день, — с горечью сказал мотоциклист. Он щелкнул портсигаром, поднял голову и спросил: — Курить хотите?
— Нет, — сказал Одинцов, — не хочу.
— А я вот чего-то разволновался. Представьте себе, товарищ капитан, еду я, значит, вот по этой дороге, а на душе у меня соловьи поют. Вот, думаю, и мир. Смотри, Алеша. А тут вдруг, нате вам, опять пальба. Видали, чем он хочет нас напугать.
Мотоциклист вдруг поднялся в полный рост и, далеко отшвырнув от себя папироску, пошел к Одинцову тяжелым и медленным шагом.
— Вы, товарищ капитан, присмотрите за моей машинкой, — сказал он, — а я сейчас узнаю, в чем там дело.
— Мы вместе узнаем, — сказал Одинцов и не оборачиваясь пошел впереди мотоциклиста, чувствуя, что и на этот раз ему без труда удалось подняться с земли и легко преодолеть эти самые трудные мгновения на войне. Но ноги его словно вязли в грязи, а глаза суживались от ужасного ощущения огня, пока что незримого, но готового в любую секунду вспыхнуть длинной автоматной очередью и ослепить Одинцова. Он слышал, как билось его сердце, и во рту у него вдруг стало горько от близости смерти, притаившейся за разбитыми машинами. Они шли по мокрому полю не торопясь и смотрели на танки сквозь частый мелкий дождик, который был похож на провисшую, плохо натянутую маскировочную сеть.
Пройдя половину пути, они поняли, что тот человек, который в них стрелял несколько минут тому назад, сейчас стрелять не будет, а постарается подпустить их метров на пятьдесят и только тогда ударит наверняка или, может быть, внезапно бросит в них гранату.
Вторую половину пути они ползли. Около часа они шарили по полю, заглядывали в открытые люки танков, переворачивали мертвецов, распахивали дверцы кабин, но найти того человека никак не могли.
Тогда мотоциклист предложил капитану отдохнуть, а сам пошел к дальнему танку, перешагнув через убитого немца. Немец лежал на боку, и его левая рука была поднята так, словно он хотел защитить себя от удара. Открытыми глазами он смотрел в сторону Одинцова, будто следя за ним, и капитан отвернулся.
Потом Одинцов сел на подножку машины и стал ждать мотоциклиста, и вдруг одиночный револьверный выстрел с сырым треском надломил тишину, и капитан услышал голос мотоциклиста:
— Давайте сюда-а-а. Нашел сукина сына.
Когда Одинцов подошел к танку, он увидел мотоциклиста, сидящего на корточках, а напротив него молоденького немецкого лейтенанта в грязном расстегнутом кителе, босого, с рассеченными губами, прислонившегося спиной к гусенице танка.
От офицера пахло сырой землей и кровью, и он валился на бок, но мотоциклист взял его за плечи, усадил прямо перед собой и выстрелил еще раз над самой головой немца. После этого мотоциклист собрал полную горсть стреляных гильз и поднес их к лицу Одинцова.
— Вот, — сказал он, — вещественное доказательство. Понюхайте, какой свежий запах. Зачем ты стрелял в нас, а? — обратился он к офицеру, и на побледневшем лице его заиграла улыбка. — Ведь ты же должен радоваться, — сказал он, — а ты стрелять вздумал.
Мотоциклист отошел на несколько шагов, и когда немецкий офицер понял, что с ним хотят сделать, он вдруг поднялся на ноги и умоляюще посмотрел на Одинцова.
— Подождите, — сказал капитан мотоциклисту, — дайте ему прийти в себя.
— Ладно, — сказал мотоциклист, — я подожду. Но пусть он ответит, зачем стрелял… Что он — не знает, какой нынче день? Ведь меня дома детишки ждут, а он мне в спину по двадцать пуль пускает. Зачем ты стрелял, а, думкопф? Зачем стрелял, а? — еще раз спросил мотоциклист и вплотную подошел к офицеру. — Ведь мир же, понимаешь ты, что такое мир? Тебе надо не стрелять, а приниматься за работу. Посмотри, что ты наделал. Полмира разорил, сукин ты сын.
Мотоциклист поднял руку, в которой был пистолет, но не выстрелил.
— А видать, ты, тойфель, из идейных, — обратился он к лейтенанту. — Мало тебе было чужой крови? Если мало, так отдай свою. Я тоже стрелять умею.
Мотоциклист отступил от лейтенанта, вытянул руку с пистолетом и затем медленно опустил ее.
— Не могу, — сказал он Одинцову. — Вчера я бы и глазом не моргнул. А нынче не могу. Может, пощадим его ради такого дня? Что же вы молчите, товарищ капитан?
Так простояли они с минуту, мысленно произнося одно только слово: «Мир. Мир. Мир».
Потом мотоциклист посмотрел на немца и сказал:
— Если ты еще раз начнешь стрелять, то помни: такого стервеца, как ты, я разыщу даже на том свете. Ну, собирай свое барахлишко — и пошли.
Через полчаса, передав лейтенанта какой-то трофейной команде, Одинцов и мотоциклист остановились у реки. Они сняли сапоги и по колено вошли в воду, чувствуя себя как-то по-детски хорошо в теплой, вечерней реке. Они долго мылись, словно после тяжелой, грязной работы, и не заметили, как перестал дождь, а потом, когда оделись, закурили на берегу, потрясенные тишиной, все еще не веря, что войне пришел конец.
1945
 Стоит гора высокая
ПОВЕСТЬ
Стоит гора высокая
ПОВЕСТЬ
Ровно в десять часов Радыгин вышел из авиационного городка, часто оглядываясь и все еще как-то не веря ни в перемену своей судьбы, ни в опасность, ни в дальний путь. Он останавливался, снимал пилотку, умышленно пропускал машины, которые могли бы его подвезти. Почти беспрерывно курил и никак не мог освоиться с тем, что в кармане его лежали командировочные документы и адрес капитана Ливанова, а в заплечном вещевом мешке были продукты, полученные на неделю вперед. Два чувства боролись в нем — жадность ко всему новому и жалость к обжитой земле. Он то прибавлял, то убавлял шаг, чувствуя всем своим существом какую-то большую радость вдали и в то же время с грустью оставляя знакомые места. Наконец он сел в траву и посмотрел на город. Отсюда не было видно ни моря, ни кораблей, ни доков, ни подъемных кранов. Острые гребни крыш закрывали собой портовую часть города и все те места, на которые когда-то смотрел Радыгин, приближаясь к Ленинграду на эстонском пароходе «Мари». Тогда он был матросом, и из всех портовых городов мира он больше всего любил Ленинград. Сойдя на берег, Радыгин робел и утихал, потом напивался пьяным, плакал и, попадая в милицию, рассказывал дежурному про свою горькую жизнь. — Кто я такой? — спрашивал он самого себя и, как бы отвечая на этот вопрос, разрывал матросскую блузу, показывая татуировку. На груди Радыгина была изображена обнаженная девушка, стоящая на краю обрыва. Крошечная, как поднявшаяся ящерица, она смотрела на море, на уходящую парусную шхуну и на единственную косую и мертвую волну. — Кто я такой? — спрашивал он еще раз, изнемогая от жалости к самому себе. — Я русский человек, но работаю на буржуев, а почему? И он долго объяснял дежурному, почему находится в эстонском торговом флоте, и настаивал, чтобы все его слова были записаны в протокол и отправлены капитану Эйкке на пароход «Мари». Когда наступил сороковой год и Эстония стала Советской Республикой, Радыгин впервые в жизни почувствовал глубокий душевный покой. В нем исчезла ненависть к своему пароходу. Останавливаясь в чужих портах, Радыгин всякий раз замечал в самом себе все новые и новые перемены. До этого его никогда не тянуло на родину, но теперь ему делалось как-то не по себе, если пароход долго стоял в чужом порту. Радыгин стал меньше пить и собирался поступить в мореходное училище, но война по-своему распорядилась Радыгиным, и он оказался в морской бригаде, а затем, после ранения, попал в дивизионную разведку к капитану Демиденко. Два года он прожил вместе со старым солдатом Токмаковым, с Пчелкой и Комаровым, Астаховым и Сашкой Каробцом. И вот сейчас, услышав далекие разрывы снарядов, Радыгин оглянулся в сторону фронта. Там шла привычная, будничная жизнь. Скоро, пожалуй, и обед. Радыгину вдруг захотелось вернуться в землянку, но он только усмехнулся своему желанию, как усмехаются мечте, которая никогда не осуществится… В полдень Радыгин остановился перед большим серым домом на Загородном проспекте, затем не спеша поднялся на пятый этаж и посмотрел вниз, где в глубоких сумеречных пролетах смутно мерцал электрический свет и колыхался, как вода в колодце. На площадке, где он стоял, пахло мокрым камнем, и на лестнице было так тихо, что Радыгин недоуменно пожал плечами и неуверенно постучал в квартиру Ливанова. Ему открыла пожилая женщина. Она встретила его усталой улыбкой и всем своим обликом вдруг напомнила Радыгину, что и у него когда-то была мать, такая же старая, с такими же удивленными и ласковыми глазами. — Здравствуйте, мадам, — почтительно сказал Радыгин. — Здравствуйте, вы, наверно, к Володе? — Я к капитану Ливанову. — Пожалуйста, проходите. Снимайте сумку. Чаю желаете? — Нет, тысячу раз нет, ни кофею, ни чаю. — Тогда хотите, я согрею супу? — Чувствительно вам благодарен. Я еще с утра по высшей категории заправился. Радыгин снял со своих плеч вещевой мешок, положил на круглый столик пилотку и, не зная, что делать дальше, осторожно переступил с ноги на ногу и вынул носовой платок. — Ну, вот вы и разделись. Теперь можно пройти в комнату. Вас как зовут-то? — Пашей. — Ну, а меня называйте Серафимой Ильиничной. Вот комната сына, располагайтесь на диване, отдыхайте. Володя обещал вернуться к обеду. Серафима Ильинична осторожно прикрыла дверь, и, когда ее шаги смолкли, Радыгин огляделся, прошелся по комнате, подавил пальцами диванные подушки и задержался около картины, висящей в самом углу. Он подошел поближе, и чем-то знакомым, давним и грустным вдруг пахнуло на него с полотна, на котором изображалось бушующее море и мертвая шхуна, лежащая на боку. Несколько минут простоял Радыгин, рассматривая картину, и ему все казалось, что шхуна непременно должна выпрямиться под ударами волн, оторваться от скал и уйти в море, к светлому горизонту. Закинув руки за спину, он с не меньшим вниманием осмотрел стенные часы, шторы, и громоздкий письменный стол, заваленный яркими разноцветными камнями, и фотографию какой-то девушки, сидящей в лодке на веслах посреди пустынного озера. «А моя Катя, пожалуй, была красивей», — подумал Радыгин и почувствовал, что в комнате ему не хватает воздуха. Он расстегнул ворот гимнастерки, откинулся на спинку дивана и с любопытством посмотрел на сундук, окованный железом. Такой же сундук когда-то стоял и в доме, где жил Радыгин. Только тот был голубого цвета с ярко начищенными медными угольниками, и вся крышка его была расписана белыми лилиями, птицами и лопухами, а внутренняя сторона пестрела датами, по которым можно было узнать, кто и когда умер и родился в семье Радыгиных. Много лет тому назад он ушел из дому. С тех пор он ни разу не видел сестер, хотя писал им письма, иногда присылал деньги, а раз даже приехал в свой городок. Узнав, что их дом сгорел, Радыгин долго тосковал, вспоминая детство, маленький садик и кладбище, где была похоронена мать. Разве можно забыть, как над его матерью пели «вечную память», как на белых полотенцах медленно опускали гроб в мокрую яму и как он покачивался, словно детская люлька, под церковное пение и горький плач. А кругом были вишни и верба, и кто-то из женщин обронил тогда носовой платок, и он упал к изголовью покойницы. Он лежал в яме, этот белый живой комочек, и Радыгину стало ясно, что его мать умерла и он больше никогда ее не увидит. С затаенной болью Радыгин поднялся с дивана, потрогал пальцем холодные пластины на крышке сундука и, почувствовав приступ печали, вышел на кухню к Серафиме Ильиничне. Когда вернулся Ливанов, Серафима Ильинична успела узнать о Радыгине почти все и даже дважды всплакнула, поражаясь нескладной жизни своего собеседника. Осторожно снимая шелуху с дымящегося картофеля, Радыгин дул на пальцы и в трогательных словах изображал трудную морскую жизнь, тонко обходя и пьянство, и картежную игру, и, наконец, ту удивительную легкость, с которой Радыгин тратил свои заработанные деньги во всех портовых городах. Щеголяя то английскими, то французскими словами, Радыгин наконец заставил Серафиму Ильиничну заплакать и успокоился только тогда, когда увидел, что эта женщина окончательно покорена его рассказами о кораблекрушениях, о бездомных моряках, блуждающих по всему свету в поисках хорошей жизни. С глубокой материнской скорбью смотрела она на него. Заметив Ливанова, Радыгин встал, чувствуя смущение, а Серафима Ильинична подошла к сыну, и он поцеловал ее. — Ну, вы, кажется, успели уже наговориться? — спросил он, дружески пожимая руку Радыгину. — Так точно, товарищ капитан. Ефрейтор Радыгин прибыл в ваше распоряжение. — Ну вот и отлично, — сказал Ливанов, — вы, Паша, будете жить у нас до самого отъезда. — Ты опять куда-то собираешься уезжать? — А ты опять собираешься плакать. Ну что ты, мама. Ведь не впервые же мне уезжать. Авось как-нибудь обойдется. Ливанов положил руки на плечи матери и легонько ее встряхнул. — Обойдется, мама, — мягко сказал он, — нельзя же так в самом деле. — Верно, — растроганно произнес Радыгин. — Ну, стоит ли надрывать свою душу из-за какой-то командировки? После обеда капитан увел Радыгина в свою комнату, и они проговорили до самого вечера, потом вместе с Серафимой Ильиничной были в кино, а утром поехали в штаб фронта к полковнику Костомарову, который очень тепло принял капитана и в разговоре часто вспоминал отца Ливанова. — Ваш батюшка был блестящим ученым, — сказал он, обращаясь к Ливанову, — и я рад познакомиться с вами. — Вас предупредили по поводу нашего разговора? — Да, прошу не беспокоиться, я понимаю — все это между нами. — Видите ли, товарищ полковник, мы пришли за советом. Вы, конечно, узнаёте этот мост? — спросил капитан, протягивая Костомарову большую фотографию с изображением железнодорожного моста. — Конечно, узнаю́ — это мой проект. Сколько бессонных ночей, сколько волнений. Да, ваш покойный батюшка был очень доволен этой моей первой работой. — Ну так вот, мы должны взорвать этот мост. Укажите, где его самое уязвимое место. Полковник прищурился и почему-то недоверчиво качнул головой: — Но, позвольте, ведь это сопряжено с величайшими трудностями. — Неважно. — То есть как это неважно, если мост усиленно охраняется. Кстати, вам известны попытки нашей авиации? — Очень хорошо известны, — сказал капитан, — два раза бомбили, и все без толку. — Итак, значит, вы попытаетесь его взорвать обычными средствами? — Мы его взорвем теми средствами, какие вы посоветуете, — сказал Ливанов. — Главное, чтобы они не были слишком громоздкими. Полковник пристально посмотрел на Ливанова и Радыгина, потом отвел глаза в сторону и так горько улыбнулся, как улыбаются только обреченным людям, зная, что они уходят в такую атаку, из которой невозможно вернуться живыми. Через час, когда они вышли от Костомарова, Радыгин без особых усилий нарисовал в своем воображении мост, его длину, высоту ферм и высокие берега, опутанные колючей проволокой. — Взорвем, — сказал Радыгин, — механика нехитрая. Был солнечный день, и где-то далеко на Васильевском острове рвались снаряды, и легкий ветерок доносил до Лесного эхо артиллерийского обстрела — протяжное и жалостливое, словно кто-то там бил в бубен с тупым ожесточением. — Ишь ты как палит, — с грустью сказал Радыгин и поднял голову, услышав знакомое гудение наших бомбардировщиков. — Бомбить пошли, сейчас их успокоят, — сказал Ливанов. — Кстати, ты можешь сегодня же испытать свои нервы, от тебя обязательно требуется один прыжок с парашютом. — А мне все равно — что один, что десять. Желаете — буду прыгать хоть до вечера. Но Радыгин присмирел после первого же прыжкаи, ощущая свист в ушах, долго тряс головой. На стрельбище он окончательно растерялся и, попав в цель только два раза из сорока, свалил всю вину на пистолет. — Непристрелянный он, — сказал Радыгин, отдавая капитану пистолет. — А потом, что же это за оружие, разве что мух пугать, да и то слабонервных. То ли дело автомат. Вот из него, пожалуйста, могу на двадцать шагов воробья с телеграфных проводов снять. — Врешь ты все, Паша, — сказал капитан и заложил новую обойму в рукоятку пистолета. Спозаранок они уезжали в Лесной, и там Радыгина обучали премудростям, какие должен знать каждый глубинный разведчик, заброшенный в тыл к врагу. Все уроки он воспринимал жадно. А в свободное время придумывал, как взорвать мост, всякий раз поражая Ливанова то нелепостью своего плана, то чрезмерной осторожностью, то такой чудовищной дерзостью, которая в одинаковой степени могла и погубить их и принести им победу. Никогда Радыгин долго не задерживал своих мыслей на каком-нибудь одном предмете, но теперь он даже во сне видел мост и просыпался от сильного сердцебиения, растерянно оглядывая комнату, к которой он никак не мог привыкнуть. Радыгин очень уставал, успевая за день побывать у нескольких инструкторов. Но иногда выпадали и замечательные минуты. Особенно ему нравились вечера, когда Серафима Ильинична и Ливанов усаживали его за стол и они пили чай, как одна семья, спокойно разговаривая. Однажды Ливанов рассказал о золотых приисках, где он перед самой войной проходил практику, и Радыгин удивился, узнав, что там люди живут обыкновенной жизнью: посещают клубы, гуляют на свадьбах у друзей, честно работают и очень редко убивают друг друга за золото. — Вот ты, Паша, удивляешься, как это я рискнул привезти в Якутск восемь килограммов золота, взяв с собой только одного приискового рабочего. Ну, привезли, сдали государству, получили расписку. Что же тут такого особенного? — Как что, а золото? — спросил Радыгин. — Как же это получается? Золото — и вдруг никакой крови. — А очень просто, — сказал Ливанов, — у нас теперь, Паша, каждый человек знает свое будущее. Он не пропадет. Так зачем же ему марать свое имя и искать счастья там, где оно не лежит? Ведь, правда, незачем? — Не знаю, — сказал Радыгин и сел на сундук, а Ливанов прислонился к стене и внимательно посмотрел на своего собеседника. — Как же ты не знаешь? Сколько объездил всяких государств — и говоришь: не знаю. У тебя, что же, были особые планы на жизнь? — Планов-то было много, только они все лопались, вроде дождевых пузырей. Вот некоторые думают, если я простой моряк — значит, мое дело бить в кабаке морду другим матросам, а в рейсе драить палубу и травить якоря. Сначала я и сам так думал, а потом стал я приглядываться к жизни — и вижу, так жить нельзя. Надо или подаваться в Советскую Россию, или добыть свой капитал и плевать на всех. — То есть? — Ага, непонятно. Вы не жили при капитализме, а я жил. Деньги гони на бочку, кроны, — и ты получишь все: и дом, и жену, и ученье. Куда вы сунетесь без капитала в других государствах? Разве что на кладбище. Вот и стал я задумываться, прикидываю в уме цифру, сколько мне нужно денег, и удивляюсь — сто тысяч крон. А это, товарищ капитан, гора. Встала она передо мной, а как на нее взобраться, и сам не знаю. Лед до вершины. Попробуй-ка поднимись босыми ногами. Но я пошел. Начал я копить деньги, скупым стал, скучным. Смотрю, нельзя ли кого-нибудь обмануть, или обыграть в карты, или еще сделать что-нибудь такое, чтобы прибавился мой капитал. И вижу — можно. Три года я находился в таком тумане, пока мы не пришвартовались в Сан-Франциско. Ну и городок! — Радыгин тихо засмеялся и посмотрел на картину с мертвой шхуной. — Да, товарищ капитан, не успел я поставить ногу на берег, а меня уже рвут на части и каждый норовит запустить руку в мой карман. Но ни черта. Держусь, а вечером попадаю в одну морскую лотерею. Вхожу по коврам в зал, где стоит колесо, а под колесом — ящик, и вокруг этого ящика до черта всякой матросни, и каждый пытает счастье. «Какие, — спрашиваю, — предметы здесь можно выиграть?» А мне показывают на берег Тихого океана, а там отдельно от других стоит пароход неописуемой красоты, и называется он «Счастье». А, думаю, не попытать ли мне судьбу? Все равно честным путем парохода не наживешь, а выиграть его безусловно можно. — Ну и что же, выиграл? Радыгин усмехнулся. — А как же, — сказал он, — до самого утра я крутил колесо. Спустил все свое жалованье за три года. Но под конец все-таки выиграл. Знаете что? Куклу. Взял я ее за ноги и как бешеный выскочил из зала. А потом притих. Сел я на скамейку под деревья и вижу: встает солнце, чужое, черное от портовой копоти, и такое холодное, товарищ капитан, что это невозможно передать словами. Нет, думаю, хватит карабкаться к такому солнцу, да еще по такой скользкой горе, — и что же получилось? Вышел я на бульвар разбитым, несчастным стариком, а ушел оттуда веселым и молодым, будто кто-то снял меня с мели и пустил в плавание по новым морям. Вы только на меня не серчайте, товарищ капитан, жадным я никогда не был. Иной раз эстонские моряки пригласят меня на крестины, и я, пожалуйста, кладу десять крон младенцу на пеленки. — Ишь ты какой добрый, — сказал Ливанов и стал раздеваться. Вскоре они легли — Ливанов на кровать, а Радыгин на диван, накрывшись простыней, от которой пахло рекой и холодным лесным покоем. — Ты спишь, Паша? — Нет. — Ну, спокойной ночи, — сказал Ливанов. — Спокойной ночи, товарищ капитан. Радыгин повернулся на бок и вскоре заснул, а Ливанов пролежал с открытыми глазами почти до утра, прислушиваясь к далеким артиллерийским выстрелам.
И капитан и Серафима Ильинична очень нравились Радыгину и восхищали его своей простотой. «Скажи пожалуйста, — думал он. — Вот тебе и ученые люди, а ведь незаметно никакого возвышения над остальными». Он с радостью помогал Серафиме Ильиничне по хозяйству. Переколол ей дрова, а однажды в ее отсутствие вымыл полы во всех трех комнатах. Как-то утром Ливанов встал раньше обычного и, разбудив Радыгина, сказал, чтобы он никуда не уходил. — Положение осложняется, Паша, видно, нам придется еще за одно дело взяться. — Ну и что же, беритесь, — сказал Радыгин, — я с вами на все согласен. — Ладно, если будут особенно нажимать — возьму, только дело-то очень канительное. Как узнаешь, так обязательно расстроишься. — Бросьте, товарищ капитан, ведь не касторку же будем пить, отчего же расстраиваться? — Ну, хорошо, а пока ты потихоньку собирайся. — Неужели пора в дорогу? — Пора, Паша, — тихо сказал капитан. — Где твои документы и аттестат? Давай их сюда. Сегодня же начнем оформляться. Весь этот день Ливанов оформлял документы, получал продовольствие, одежду. Он узнал пароль и адрес радистки, живущей уже шестой месяц на той станции, куда направляли его и Радыгина. В пяти километрах от той станции жил путевой обходчик Пиреянен, который в случае крайней нужды мог спрятать у себя Ливанова и Радыгина. Капитан заручился и этим адресом. Взрывчатка была уже доставлена радистке несколько дней назад, и Ливанову нужно было только зайти за этой взрывчаткой в самые последние часы, когда судьба железнодорожного моста будет окончательно решена. Проделав все, что полагается, Ливанов отправился в кабинет к полковнику Самойлову и доложил, что все готово и он может хоть сегодняшней ночью вылетать к месту действия. — Меня не смущает отсутствие твердого плана, — сказал он, — на месте нам будет видней, какими способами мы взорвем мост. — Послушайте, капитан, с каждым днем по этой магистрали усиливается движение поездов. Вот сводка, извольте посмотреть. Она выглядит угрожающе. Надо оборвать этот поток. Теперь давайте поговорим еще об одном. Я понимаю, вы не желаете связывать себя лишними заботами, но я тоже не хочу рисковать человеком и посылать его в те места, куда вы сегодня же должны вылететь. Вы сами понимаете. Поручение это не такое трудное, и требует оно только физического усилия. — А я думал, товарищ полковник, вы о нем забыли. — Напрасно вы так думаете. Мне опять звонили сверху. Там интересуются этими деньгами. Вот вам, пожалуйста, карта. Здесь помечено место, где эти деньги зарыты. Я уже говорил вам, при каких обстоятельствах все это произошло. — Да. — Ну вот и отлично. Деньги доставьте в Ленинград. Таково распоряжение Военного совета. — Слушаюсь, — сказал капитан. — Да, кстати, прошу не забывать, что для нас значат эти три миллиона. Только в самом крайнем случае вы можете эти деньги сжечь. Полковник подошел к Ливанову и пожал ему руку. — Желаю вам полной удачи, Володя. — Спасибо, Алексей Кузьмич.
— Ну вот, Паша, ночью мы вылетаем, — сказал Ливанов, — у нас есть все: и одежда, и оружие, и продукты. Тебе известна первая задача — взорвать мост. Теперь второе. Только, пожалуйста, будь повнимательней, так как это дело связано с большими деньгами. Ты можешь себе представить, что такое отступление? — спросил капитан. — Это, дорогой Паша, такое время, когда у человека в десять дней седеет душа. Ты когда-нибудь отступал? — Отступал, — сказал Радыгин, — по морю отступать еще хуже, чем по земле. — Возможно. Но мы будем говорить о земле. Давай-ка мы развернем карту и посмотрим на один маленький городок. Вот он, видишь? Это твой родной городок. Вокруг него много лесов, где с августа сорок первого года стали скапливаться партизаны. Отсюда они нападали на комендатуры, совершали диверсии, вели наблюдение за передвижением немецких войск. Как ты сам понимаешь, воевать им было нелегко, потому что на всех наших фронтах дела тогда складывались неважно. И тем удивительней показалась партизанам какая-то особая любовь немцев к нашим обыкновенным бумажным деньгам. Вскоре это обстоятельство разъяснилось. Немцы неспроста охотились за нашими деньгами. Через своих подставных лиц они отправляли эти деньги в частные банки нейтральных государств, и мы должны были оплатить каждый бумажный рубль золотом, которое, как известно, может превратиться во все, что человек пожелает. Когда партизаны сообразили что к чему, они стали принимать меры и организовали тройки почти при каждом отряде. Эти тройки ходили по деревням и разъясняли народу, какой вред могут принести наши деньги, если они окажутся у немцев в руках. И ты понимаешь, Паша, народ это понял. Больше того, он стал жертвовать свои деньги на танки и самолеты, отдавать их на сохранение партизанам без всяких расписок, полагаясь только на их честность. Вот с тех пор в оккупированных районах и идет война за каждый советский рубль. Тебе, конечно, хочется узнать: почему пожертвованные деньги должны привезти мы, а не партизаны, которые занимались этим делом. Хорошо. Я объясню тебе. — Сначала я хочу знать точно, сколько там денег? — спросил Радыгин. — Говорят, больше трех миллионов. Собраны они были в двадцати семи деревнях, в нескольких депо и как будто даже в таких учреждениях, которые довольно тщательно контролируются немцами. — Три миллиона! Так ведь это же целый капитал! — воскликнул Радыгин и оживленно заерзал на диване. — Теперь неплохо бы узнать, где он спрятан. — На кладбище. А произошло это так. Около месяца тому назад район, куда мы отправляемся, был почти целиком очищен от партизан. Случилось все это потому, что сами партизаны не ждали никаких активных действий со стороны немцев. Как партизанам удалось уйти в соседний район, я не знаю. Но мне известна судьба каждого, кто входил в ту тройку, которая прятала эти миллионы. Один из них был убит. Второй попал в гестапо, а третий благополучно добрался в соседний район и сообщил нам обо всем, что случилось с тройкой. — Так, — сказал Радыгин, — теперь, значит, все зависит от человека, который попал в гестапо. Неужели он не выдержит и отдаст народные денежки немцам? — Думаю, что не отдаст. Капитан несколько раз прошелся по комнате. А Радыгин плотнее прижался к спинке дивана и почувствовал сильное сердцебиение. Он сидел не шевелясь, и его побледневшее лицо выражало точно такую же строгость, какая обычно появляется на лицах людей, когда они из своей комнаты смотрят на грозу, бушующую за окном. Затем Радыгин расслабленно улыбнулся, а капитан сказал: — Теперь у нас прибавилась еще одна забота. Только в крайнем случае, Паша, мы можем сжечь эти миллионы. — Как сжечь? — А очень просто. — Нет. Это совсем не просто, — сказал Радыгин. — Я деньги люблю и знаю им цену. Жечь у меня рука не подымется. — Зато у меня не дрогнет. Ну, все тебе ясно? — Как будто, — уклончиво ответил Радыгин и встал с дивана. В сильном волнении он потер мокрые щеки, затем снова сел и тревожно посмотрел на дверь. — Вы что ж в темноте-то сидите? Сейчас обедать будем, — сказала Серафима Ильинична, входя в комнату. Она задержалась около сына, чувствуя что-то неладное, потом торопливо задернула шторы и зажгла свет. — Мама, — сказал Ливанов и застенчиво обнял ее. — Ночью мы с Пашей уезжаем. Вернемся недели через две… Больше об этом ни слова… Хорошо? — Хорошо, я не стану об этом говорить. Но скажи мне, это очень опасно? — По-моему, не очень… Как ты думаешь, Паша? — Горевать нечего, — сказал Радыгин, — вернемся к сроку. За столом, еле сдерживая слезы, Серафима Ильинична украдкой смотрела то на сына, то на Радыгина, который ел суп серебряной ложкой и поэтому очень осторожно подносил ее ко рту. К концу обеда Серафима Ильинична все-таки заплакала. — Дети мои, — сказала она, поднимая глаза, наполненные горечью и слезами, — берегите друг друга. — Что вы, — растроганно промолвил Радыгин, — как можно не беречь друг друга, это даже обидно подумать. После обеда Серафима Ильинична ушла на кухню, а капитан и Радыгин стали переодеваться в гражданскую одежду. Радыгин почти не отходил от зеркала, то застегивая, то вновь расстегивая воротник лионезовой рубашки. Он хотел даже надеть галстук, но Ливанов запротестовал, боясь, что в этом галстуке его спутник будет слишком резко бросаться в глаза. Часам к восьми они совсем преобразились и действительно стали похожи на гатчинских жителей, отправляющихся в Эстонию на работу. Так они числились по документам. Радыгин был теперь слесарем Сердюковым, а Ливанов — механиком Завитковским. Они решили поспать, и Ливанов быстро уснул, а Радыгин, приподняв голову с подушки, беспокойно вздохнул, стараясь сосредоточить свои мысли на трех миллионах. Но эти мысли путались и исчезали, и Радыгин морщился от досады, не понимая, что же на эти миллионы можно сделать, если бы они оказались в руках одного человека. «Но ведь они не мои. Так чего же я ими голову засоряю», — наконец подумал он и почувствовал облегчение, но заснуть все же не смог. Долго смотрел он на зеркало, и в его воображении вставала светлая кухня с большой русской печкой, в которой горели дрова. Он видел сестер, и его старуха мать стояла с закатанными рукавами, а перед ней на столе было белое тесто, покрытое легкими дождевыми пузырями. Это было детство, далекое и печальное, утонувшее, как бумажный кораблик в реке. От этих воспоминаний руки Радыгина похолодели, и он долго томился, ворочался с боку на бок, потом, услышав рев автомобильной сирены, вскочил с постели и разбудил Ливанова. — Поехали, капитан, — обрадованно сказал он и засуетился. Какое-то удивительно светлое чувство охватило его, будто он переживал такую же радость, как однажды в детстве, когда они с матерью уезжали в гости к дяде Федору, у которого был маленький яблоневый садик. Тогда от каждого паровозного свистка у него замирало сердце и он боялся, что поезд может уйти без них. Сейчас Радыгин тоже очень волновался, торопил капитана, слушая, как за окном гудит автомобильная сирена, вызывая их на улицу. Они вышли к машине вместе с Серафимой Ильиничной и увидели пустынный Загородный проспект с поблескивающими трамвайными рельсами, лунный свет на деревьях и деревянные вышки, похожие на грибы, выросшие на крышах многоэтажных глухих домов. Вышки были освещены мертвым заревом ракет, каким-то серебристо-сонным, непрерывно колеблющимся плотным огнем, отделяющим город от линии фронта. Оттуда еле слышно доносились тоскливые удары орудий и разрывы снарядов. Но в городе стояла тягостная тишина, и в этой тишине очень веселым казался только единственный звук трамвайного колокольчика где-то у Витебского вокзала. — Ну, до скорой встречи, — сказал Радыгин, когда Ливанов попрощался с матерью, — спасибо вам за все! Тужить не надо, мы с капитаном не пропадем. Он трижды поцеловал Серафиму Ильиничну и сел в машину рядом с шофером, почувствовав себя очень важным человеком, которому поручено большое дело, не требующее никаких отлагательств. — Жми, механик, — сказал Радыгин и сердито посмотрел на шофера. — Если угробишь, в трибунал попадешь! — Ничего, обойдется, — успокоил шофер, — конь у меня справный, семьдесят миль в час скачет. В нашем деле только ночью и можно разгуляться. — Почему же ночью? — строго спросил Радыгин. — А днем в городе народу много, да и народ какой-то стал задумчивый, идет по дороге и, хоть ты лопни, все равно под машину прет! Гудишь, гудишь, а потом осерчаешь: «Что же ты, сатана эдакий, задумался? Не радиатором же тебя на панель спихивать!» — Тебе бы только спихивать да выражаться, знаю я вашего брата! — А что же, по-твоему, я каменный? Дороги-то не для того строились, чтобы гражданская пехота на них без толку думала. Можешь задумываться дома, а с дороги — брысь! Шофер переключил скорость, и машина понеслась еще быстрее, пересекла Невский на полном ходу и выскочила к Кировскому мосту, под которым сонно ворочалась Нева. Круглая луна, брошенная в воду, как детский мяч, подпрыгивала от ударов волн и вдруг исчезла, когда машина достигла середины моста и пошла под уклон, к прямому темному проспекту. Впереди светился голубой кружочек неба, словно Радыгин смотрел на него из открытого пушечного ствола, а по бокам машины мелькали деревья, фиолетовые огоньки, высокие окна, забитые фанерой, и парадные с расколотыми матовыми фонарями. Был глухой предрассветный час, когда в затемненном городе все кажется огромным. Угловые дома напоминали Радыгину большие океанские корабли, брошенные в доках, а Кировский проспект походил на какой-то длинный туннель, по которому на большой скорости, раскачиваясь и свистя покрышками, летела машина. К аэродрому подъехали в полном молчании. Шофер затормозил машину перед шлагбаумом. Ливанов что-то сказал дежурному офицеру, и через несколько минут их привели в комнату, где в специальных гнездах лежали запломбированные парашюты в чехлах. Вскоре у Радыгина заныли руки и плечи от парашютных ремней, а когда он оказался внутри самолета ТБ-3, он увидел там с десяток веселых пассажиров, успевших уже где-то перехватить по стаканчику на дорогу. Радыгин с укоризной посмотрел на капитана, у которого была фляга, наполненная спиртом, затем показал пальцем на свое горло и присел на корточки рядом с бородатым парашютистом. Разговор шел общий — о Военторге, где ни черта нельзя достать, и, глядя на этих спокойных людей, Радыгину как-то не верилось, что они через час перелетят линию фронта и окажутся у немцев в глубоком тылу. Все были вооружены трофейными пистолетами и финками, одеты солидно, и Радыгин с удовольствием отметил, что и они с капитаном выглядят не хуже других, а такой лионезовой рубахи, как на нем, ни на ком из присутствующих не было. Радыгин многозначительно кашлянул и еще раз пальцем показал Ливанову на свое горло, но в это время загудели моторы и ТБ-3 тяжело сдвинулся с места, подруливая к взлетной площадке. Перед самым вылетом к Радыгину подошел инструктор и посоветовал ему использовать полуавтомат, или, попросту говоря, взять в рот соску, которая сама при падении парашютиста открывает в воздухе парашют. Но Радыгин твердо помнил наказ капитана не срамиться и отрицательно покачал головой. Он зарядил парашют, вынул нож на случай, если парашют за что-нибудь зацепится, и почувствовал теплую, восковую мягкость во всем теле, какое-то сладостное покалывание в ослабевших пальцах. Радыгин горько усмехнулся, понимая, что он трусит сейчас значительно больше, чем перед своим первым прыжком. У капитана среди пассажиров оказалось много знакомых, и, рассказывая что-то смешное двум молоденьким радисткам, он не обращал внимания на Радыгина. Гул моторов заглушал слова капитана и сотрясал машину, готовую к полету. Ливанов и Радыгин должны были первыми покинуть самолет, и от этого на душе у Радыгина было совсем погано, хотя он крепился, ежился будто бы от холода, а на самом деле ему хотелось выпить для храбрости, и он неоднократно проводил пальцем по своему горлу. Но капитан оставался глух к просьбам Радыгина. Он попрощался с девушками, пожимая руку одной из них значительно дольше, чем это полагается при обыкновенном прощании, и подошел к Радыгину, подбадривая его насмешливым взглядом. В следующую минуту самолет грузно качнулся, медленно прополз несколько метров, словно стряхивая с себя какую-то огромную тяжесть, и, наконец освободившись от нее, ринулся вперед и легко оторвался от земли.
Было двадцать минут пятого, когда Ливанов и Радыгин одновременно вывалились из люка. В клокотавшей темноте Радыгин увидел белый купол ливановского парашюта и на мгновение задохнулся от стремительного падения. В полуобморочном состоянии он проделал все, что полагается, с кольцом и очнулся от сильного толчка, будто его кто-то схватил за плечи и удержал на месте. Туго натянутые стропы раскачивали Радыгина, как пьяного, из стороны в сторону. Он прислушался и удивился. Великий покой царил в воздухе, но вскоре это ощущение исчезло, и он заметил землю, которая все быстрей и быстрей неслась ему навстречу. Сильный удар свалил Радыгина с ног, а ослабевшие стропы вдруг опять натянулись и поволокли его по ржи. Неловкими ноющими руками он загасил парашют, закопал его, затем поднялся и услышал, как где-то в сонной дали запел петух. «Ну, вот мы и прибыли», — подумал Радыгин и тихо засмеялся, нащупав за пазухой пистолет. Он посмотрел во все стороны и, нигде не обнаружив парашюта Ливанова, вынул из кармана свисток, и странный звук, похожий на крик дергача, нарушил предутреннюю тишину; ответа Радыгин не услышал. Он стоял по пояс во ржи, рассматривая местность и недоумевая, что же могло случиться с капитаном. «Неужели разбился?» — подумал Радыгин, и отчаяние охватило его. Он сел на землю, вынул карту и компас и, когда рассвело, понял, что находится километрах в десяти от условленного места встречи. Вон и тот лес, и чуть виднеющаяся деревенька, через которую проходит шоссейная дорога, и высота, где, наверное, много будет пролито крови, когда начнется наступление. Беспокойным взглядом он еще раз оглядел синеющий лес, невысокие холмы с березовыми рощами, темно красные трещины зари, и его сердце тяжело забилось, словно стоял он сейчас перед калиткой родительского дома, о котором много лет ничего не знал. Серебристые от росы поля все отчетливее проступали сквозь утренний сумрак и тянулись до самой деревни, дымя волнистым, светлым туманом. Горькое это было чувство — стоять на своей земле и опасаться каждого шороха. Тяжело было смотреть на высоту, за которой лежал родной городок, набитый немцами, на далекую шоссейную дорогу, пыльную от проходящих автомобилей, и на багровый солнечный шар, поднимающийся оттуда, куда Радыгин держал свой путь. Сейчас весь этот распахнутый мир был занят пришельцами, пока незримыми, затаившимися где-то за холмами, но Радыгин чувствовал их присутствие повсюду и знал, какой ужасный конец они приготовят ему, если он попадет им в руки. «Шалите, бродяги», — с ожесточением подумал Радыгин и увидел птицу, парящую в вышине. Птица делала широкие круги, то опускаясь, то круто набирая высоту. Ее распластанные крылья были неподвижны, но она все заметнее приближалась к Радыгину, и оттого, что она летела в его сторону, он почувствовал себя спокойнее, наблюдая за ее свободным, легким полетом. «Нет, брешете, — подумал Радыгин о немцах, — не достать вам этой птицы, не будет она называться фогелем». С беспокойством озираясь по сторонам, он вышел на узкую проселочную дорогу и направился в сторону леса. Но чем дальше он шел, тем увереннее становились его шаги, а когда он поравнялся с телегой, на которой сидела старуха, то понял, что это русская беженка, батрачка, и почтительно снял фуражку. — Доброе утро, маманя. Скажи-ка, пожалуйста, это случайно не Шрейдовский лес? — Он самый и есть, — ответила старуха. — Иди, сынок, смелей, там чужих нету. — Благодарю вас, маманя. Мне этот лес и не так уж нужен. Это я от скуки в разговор с тобой пустился. Старуха радостно и понимающе посмотрела на него и вдруг так сильно дернула вожжами, что задремавшая лошадь качнулась в оглоблях, сердито оглянулась и быстро засеменила ногами по мягкой, разбитой дороге. До самой лощины Радыгин слышал тарахтенье колес, затем он вспомнил наказ капитана держаться как можно осторожнее, несмотря на то, что все эти места контролировались партизанами. Перед тем как спуститься на дно лощины, он поправил спутавшиеся лямки заплечного мешка и глубоко вздохнул, ощущая родниковую свежесть этого безветренного августовского утра. Еще час тому назад, радуясь рассвету, Радыгин видел пустые поля, но теперь там работали женщины в вылинявших косынках, молчаливо убирающие озимые хлеба. Что-то горькое, приниженное и непривычное было в этом молчании, в унылом мелькании их спин, в тупом блеске серпов и в отчаянном крике ребенка, брошенного где-то во ржи. Впереди, на косогоре, виднелось несколько эстонских хуторов с сиротливыми дымками, бредущее стадо, а на одном из холмов стоял обезглавленный монастырь, и около его белых разрушенных стен паслись лошади, нелепо переступая стреноженными ногами. Торопливые удары цепов доносились с какого-то гумна. «Видать, хреново здесь протекает жизнь», — с грустью подумал Радыгин и боком сошел в лощину. Судьба капитана тревожила Радыгина все больше и больше. Он замедлял шаги, словно к чему-то прислушиваясь, часто пожимал плечами и курил одну сигарету за другой, стараясь понять, почему они разминулись, когда ничего особенного не произошло. Правда, они еще в Ленинграде предвидели всякие случайности и условились встретиться в Шрейдовском лесу, на большой поляне. Но Радыгину было от этого не легче, и он продирался сквозь кустарники с тяжелым чувством. Набухшее от росы пальто затрудняло движения. В лощине было сумрачно, тихо и сыро. Густой застойный запах гниющих трав не выдувался отсюда никакими ветрами и преследовал Радыгина до тех пор, пока тот не вошел в лес, под нагретые солнцем вершины деревьев. Попадая то в болото, то в чащи осин, погружаясь по колено в мокрые мхи и вновь выходя на знойные прогалины, Радыгин только к полудню добрался до поляны, где он должен был встретиться с капитаном, и легонько подул в свисток. Из кустарника послышался точно такой же звук, и через несколько мгновений Радыгин сидел уже рядом с капитаном, радостно обнимая его и вздрагивая от тихого смеха. — Ну и карусель, как же это тебя угораздило зацепиться за дерево? — спросил Радыгин, переходя на «ты». — Значит, как повис на нем, так и ни с места? — Понимаешь, ни туда ни сюда. Согнул вершину в дугу, а ногами никак не могу поймать ни ветки, ни ствола. Болтаюсь как на вешалке, но стропы резать боюсь. Плюнул я на землю и вижу — высоко, метров пятнадцать будет, а потом все-таки сообразил, раскачался, вершина-то хрустнула и упала, ну и я за ней. Видел, какая у меня на голове шишка? — Да, полет интересный, с пересадкой, — сказал Радыгин, осторожно нащупывая бугорок в волосах капитана. — Надо спиртиком помочить, да и нам не грешно тяпнуть по маленькой за благополучное прибытие. — Это можно, — сказал капитан, — самое легкое у нас уже позади. Давай закусим, затем немножко отдохнем — и за работу. Я хочу начать с миллионов, дело это нехитрое, и мы шутя свернем его в одни сутки. — А по-моему, — заметил Радыгин, — самое плевое — это мост. — Нет, ты ошибаешься, — сказал капитан, — с мостом мы еще, Паша, наплачемся. Ты больше думай о нем, а не о каких-то бумажках. Радыгин расстелил плащ-палатку, вынул из сумки кусок шпику, открыл банку с консервами, нарезал хлеб, а капитан налил из фляги чистого спирта в маленькие железные стаканчики и поежился, чокаясь со своим спутником. Они выпили по два стаканчика, и Радыгин немного захмелел, ощущая во всем теле приятную теплоту. Он лег на живот, подперев подбородок ладонью, и его посветлевшие глаза сузились, а тонкие губы сделались шероховатыми и раскрылись от горячего дыхания. — Скажи-ка, Паша, ты не очень жадный? — Нет, я нормальный, а что? — Да уж слишком ты сильно о миллионах думаешь. — А как же не думать! Вот ты относишься к ним с прохладцей, а почему? Да потому, что не видел нужды в своей жизни. Ты их даже сжечь собираешься. А ведь это святые деньги, и мне интересно взглянуть на них. Тут дело не в жадности, товарищ капитан. Это ты брось. Если надо, я с себя рубашку сниму для хорошего человека. Радыгин взял кусочек соленого сала, повертел его перед глазами и положил обратно, морщась и вытирая пальцы о штаны. — У меня бывает жадность только к шпику. Ем, ем, а как наемся, так у меня изо рта завсегда дождевой водой пахнет, удивительно! Он шумно выдохнул воздух, и до капитана действительно донесся запах дождевой воды. Затем Радыгин раскинул руки и закрыл глаза. Стояла жара, и своим сухим, тлеющим зноем она совершенно разморила Радыгина. Он лежал без движения, хотя по его босым ногам прыгали кузнечики и щекотали пятки, а над ухом тонко ныл комар, словно жалуясь на свою никчемную жизнь. «Отцепись же ты, малярик», — сердито подумал Радыгин, чувствуя, как это жалостное комариное пение нарушает приятный ход его мыслей. Вскоре Радыгин заснул, тяжело дыша, а Ливанов подошел к нему и долго смотрел на русый стриженый затылок, на тонкие, восковые от зноя уши и на сильную спину с выпирающими лопатками. Часа через три Ливанов разбудил Радыгина. — Пошли, Паша, пора, — сказал он, собирая вещи. Они решили идти налегке и перенести деньги сюда же, на эту поляну, на которую дней через десять должен был прилететь самолет, чтобы забрать в Ленинград капитана и Радыгина с тремя миллионами. Пока они собирались и прятали лишние продукты, Радыгин украдкой поглядывал на капитана, удивляясь его спокойствию и как-то невольно поддаваясь такому же настроению. — Ничего подозрительного в мешок не клади, — сказал капитан, — мы можем напороться на заставу. Вообще, Паша, давай еще раз уговоримся вести себя как можно осторожнее. Они вышли из леса на большую шоссейную дорогу, похожую на огромный коридор. Двигаясь с величайшими предосторожностями, они часто сходили с дороги, пропуская колонны грузовиков, прятались от мотоциклистов, но, дойдя до поворота, вдруг увидели машину с двумя гестаповскими офицерами, и Радыгин похолодел от ненависти, а капитан с притворной почтительностью снял кепку и остановился, изображая полную покорность господам офицерам. — Вот так, — сказал он, — скоро и им придется стоять на своих дорогах руки по швам. — Он посмотрел на Радыгина, который все еще находился в каком-то столбняке, потому что машина прошла так близко, что можно было расстрелять этих офицеров в упор. Все было так неожиданно просто, что Радыгин даже горько усмехнулся, вспомнив, какой большой крови стоит разведчикам каждый пленный, вырванный из вражеских траншей. Капитан и Радыгин решили сойти с дороги, где по направлению к Ленинграду двигался какой-то обоз. Вскоре на дороге стало тихо. Они снова вышли из леса, и Радыгин, догнав Ливанова, пошел с ним рядом, чувствуя себя от этого более спокойным, поглядывая то на холмы, то на узкие куски земли с поникшей желтой рожью, то на запущенные поля, простирающиеся до самого горизонта. Вдоль дороги стояли редкие деревья, отбрасывая от себя длинные тени, а за поворотом в кювете лежал подбитый танк с покоробленной башней, на которой росла трава. Отсюда открывалась низина, освещенная заходящим солнцем, яркая от цветов, почти безлюдная, покрытая то кустарником, то некошеными хлебами, то сизым туманом, поднимающимся из оврагов, будто бы там ребятишки разложили костры. Из низины дул сладковатый легкий ветер. Все заметнее спадала жара и тревожнее кричали птицы в полях. Наступал вечер. В потемневшем небе появились первые звезды с колючим блеском, а на дороге отчетливее забелел булыжник, тронутый лунным светом. Как-то внезапно с наступлением темноты движение автомобилей прекратилось, и совсем неожиданно впереди показались соломенные крыши, маленькие огоньки, посеребренный купол церквушки и смутные контуры пожарной каланчи. Они решили обойти деревню, но из маленькой рощицы им навстречу выехали три всадника, и Радыгин на мгновение даже остановился, а Ливанов замедлил шаг и тихо сказал своему спутнику: — Спокойно, Паша. Это патруль… В крайнем случае будем стрелять. Проверив документы, один из всадников спешился и стал рыться в вещевых мешках. Радыгину спокойствие давалось с большим трудом, но Ливанов, казалось, был даже доволен внезапным обыском и охотно помогал немецкому солдату рыться в своем мешке. Но вот солдат приблизился к Радыгину с явным желанием проверить, что у того за пазухой. В это время Ливанов загородил собой Радыгина и попросил спичку, назвав солдата господином начальником. Ливанов протянул всадникам пачку дешевых немецких сигарет, и все закурили, а Радыгин, свернув документы, сунул их за пазуху и вскинул на плечи свой вещевой мешок. Через несколько минут капитан и Радыгин, ни разу не оглянувшись, оказались на краю большой деревни. Миновавшая опасность развеселила капитана, и он стал подтрунивать над Радыгиным, утверждая, что его спутник перепугался насмерть, когда вынимал документы из кармана. — Это с непривычки, — сказал Радыгин. — Мне легче было гранату в них запустить, чем документ вынуть. Но ничего, привыкну. — Да, Паша, это верно. Можно привыкнуть ко всему. Когда я в первый раз попал в эти места, я ужаснулся, а потом привык. Это не значит, что я ничего не замечаю. Я все вижу, все чувствую, но научился все это прятать в самом себе до поры до времени. Так-то вот, Паша, а ты сейчас вроде как бы в обкатке. Ливанов посмотрел назад и увидел всадников, все еще стоявших на дороге. А впереди в сумерках дрожали ранние огоньки. Над деревней висела луна, и плетневые изгороди были подернуты красноватой мглой, а пустая улица — легким туманом. Еще ни разу в жизни Радыгин не видел молчащих по вечерам деревень и поселков, пригородных слободок и даже самых глухих эстонских хуторов. И вот теперь перед ними стояла деревня, погруженная в молчание, не нарушаемое ни скрипом колес, ни звуками аккордеона, ни девичьими голосами. Эта горестная тишина так сильно поразила Радыгина, что он даже остановился и взял Ливанова за руку. — Послушай, капитан, — сказал он, — ты знаешь, я никогда не сидел в тюрьме, но думаю, что там бывает куда веселей, чем здесь. Почему они молчат? Умерли они, что ли? — Нет, — сказал капитан, — они только стиснули зубы, а потом — кому жаловаться? Придется, Паша, немножечко подождать. — А чего ждать-то? Так, товарищ капитан, совсем прокиснуть можно. — Ничего, за три года не скисли, потерпим еще. — А я вот что скажу. Пусть эта деревня будет свидетелем: я терпеть согласен, но как только начнется наступление, всем карателям конец, — с отчаянием прошептал Радыгин и высоко занес нож над головой. Капитан сморщился от угрюмого блеска стали, потом тихо засмеялся и обнял своего спутника. — Ну-ну… не дури, Паша. Не будем без толку горячиться. Деревню обходить поздно, да и опасно, поэтому держись как можно тише. Вот так… Правильно… Теперь пошли. Неторопливой походкой прошли они длинную деревенскую улицу, не встретив ни одного человека, и, когда оказались за околицей, Радыгин покачал головой, чувствуя острые приступы тоски, навеянные опасностью, этой молчащей деревней, ее тусклыми огоньками, затаившимися в ночной тишине. — Притихли мои родные края, — сказал Радыгин. — Оцепенели, что же с ними будет, товарищ капитан? — Видишь ли, Паша, был я как-то на Ангаре, и должен заметить, что лучше сибирских рек нет ничего на свете. Сила в них такая, что посмотришь на пороги — и душа твоя покорена навеки. Шел я тогда зимой и сквозь морозную дымку увидел такую картину: водопад — застыл он на лету от стужи, а под ним, словно под увеличительным стеклом, просвечиваются разные почвы. Остолбенел я и думаю: «Боже мой, какая сила закоченела на скале». Так вот и с этими местами. Но наступят теплые дни, придет сюда наша армия — и ты увидишь, с какой силой тут зашумит жизнь. Не хуже того сибирского водопада. — Конечно, зашумит. Но мы-то вряд ли услышим это, — сказал Радыгин. — В нашей смертной службе что ни день, то убыток. Радыгин тревожно посмотрел на капитана, надеясь услышать в ответ какие-то светлые слова, но Ливанов молчал и только презрительно щурился, словно кого-то разглядывал в темноте.
Дорога круто сворачивала направо, но от поворота, где они стояли, была протоптана широкая тропа к решетчатым воротам, выкрашенным в белый цвет. Радыгин пристально посмотрел на купол часовенки, на каменную невысокую стенку и понял, что перед ним было деревенское кладбище, заросшее дикой вишней и старыми понурыми ветлами, на которые давно уже перестали садиться птицы. — Ну, вот мы и пришли, — сказал Ливанов. С большими предосторожностями они перелезли через кладбищенскую стену и оказались среди крестов, продолговатых холмиков и деревянных оград, густо заросших травой. Разговаривая шепотом, капитан провел Радыгина на восточную сторону кладбища и, отсчитав от угловой стены три шага, остановился на том месте, где были зарыты деньги. — Эй вы, голубчики, ну, как вы там, живы? — еле слышно спросил Радыгин, постучав каблуком в землю. Потом он принялся за работу. С каждой минутой он все острее чувствовал близость миллионов и с исступлением выбрасывал землю наверх, а когда лопата уперлась во что-то твердое, Радыгин даже охнул и руками нащупал крышку сундука. — Капитан, — тихо сказал он, — давай фонарик. Откопав сундук до половины, Радыгин вынул финский нож и долго не мог попасть концом лезвия в замочную скважину. Наконец сундук открылся. Обернутые в слинявшие полоски, десятитысячные пачки выглядели очень буднично, как старые детские книжки, сваленные в сундук. — Ну, как там дела, Паша? — нетерпеливо спросил капитан. — Открыл, — сказал Радыгин и вылез из ямы. Он приготовил два пустых мешка, передал их Ливанову и устало опустился на траву. Пока капитан складывал деньги в мешки, Радыгин молча смотрел на небо, ни о чем не думая и ощущая только единственное желание — как можно дольше пролежать на земле. Но вскоре это оцепенение прошло. Теперь он уже без малейшего удивления принял от капитана мешки с деньгами и подумал о том, что эти миллионы непременно надо просушить на солнце, чтобы убить в них неприятный запах тлеющего кизяка. Взвалив мешок на плечо, он услышал капустный хруст отсыревших пачек и тихий смешок капитана, который шел с таким же мешком и еле поспевал за Радыгиным. Они обогнули деревню и оказались опять на дороге, среди полей, залитых лунным светом. Был час ночи, дул легкий холодный ветерок и осторожно перебирал рожь, трогая каждый колосок отдельно. Радыгин шел теперь рядом с капитаном, не замечая ничего вокруг. Его осунувшееся лицо приняло надменное выражение, и он ясно понимал только одно — что в его мешке шевелятся деньги. Вспомнив свои мечты о жалких кронах, Радыгин фыркнул и с остервенением перебросил мешок на другое плечо. Ему было приятно нести такую тяжесть, ощущать ее теплоту, вслушиваться в капустное похрустывание пачек и твердо сознавать, что это не какая-то тысяча крон, а полтора миллиона прижимались к его плечу. До рассвета они должны были пройти двенадцать километров и свернуть с большой дороги на старую, заброшенную тропу, ведущую к Шрейдовскому лесу. Капитан торопил Радыгина, боясь, что утро застанет их на открытом месте, но опасения были напрасны, они благополучно добрались до тропы к самому началу рассвета. Потом они пошли лесом, и только когда совсем стало светло, они забрались в глухой кустарник и с величайшим облегчением сбросили с плеч мешки. Как ни сильна была усталость, долго не удавалось заснуть. Что-то необыкновенно приятное было в прохладном утре, в пробуждении леса, словно весь этот распрямляющийся мир только что промыли ключевой водой. Неторопливо с веток осыпалась роса, а где-то на вершинах сосен еще сонными голосами пели птицы. — Как хорошо, — сказал Радыгин. — Отчего это так получается: когда сладким даже и не пахнет, а вся душа у тебя в меду? Почему мне так хорошо, товарищ капитан? Ливанов приподнялся и внимательно посмотрел в повлажневшие глаза своего спутника. — Послушай, Паша, — мягко сказал он, — счастье настоящего человека всегда измеряется его делами. Чем больше он сделает нужных дел, тем легче будет жить. Вот сейчас одно наше дело подходит к концу, может быть, поэтому тебе и хорошо. — Может быть, и от этого, — согласился Радыгин. — Вот люди тыркаются из угла в угол. Носятся по всей земле и всё счастья ищут. Одни думают, что счастье в деньгах… другие ищут в женщинах, а третьи — в пенсионном покое на старости лет. Ну, а вот по-твоему — в чем же заключается счастье?.. — По-моему, в молодости, — сказал капитан. — В движении к какой-то большой цели. Все эти люди, которые думают только о себе, вряд ли могут быть счастливыми. А впрочем, я не знаю. Я никогда не думал, что истинное счастье может заключаться в деньгах или в женщине, как бы она хороша собой ни была. — Но ведь есть же такие барышни, товарищ капитан. Поглядишь на нее — и конец. Про все забудешь. — Наверно, есть и такие. Только нам сейчас не до барышень. — Но ведь я не про себя… Я говорю, как в книгах пишут. Читал я в одном рейсе такую книжку. Будто бы он и она накопили капитал, а потом уехали на необитаемый остров. Ну и, конечно, жили счастливо. — Вранье, — сказал капитан. — Как же они могли жить там без людей и чувствовать себя счастливыми? Да они от одной скуки через три года перегрызли бы друг другу горло. — Может быть, и перегрызли бы… Не знаю. Темный я, товарищ капитан. — А по-моему, ты хитришь, — заметил Ливанов и сел против Радыгина. — Темный? Был бы темным, черта с два ты бы так хорошо воевал. Не ради себя же ты оказался здесь. Тебе больно видеть родимый край, потому что в нем живут хуже, чем в тюрьме. Ты не хочешь этого? — Не желаю, — сказал Радыгин. — Ну вот и борись. А когда нам удастся взорвать мост, ты узнаешь, что такое настоящее счастье. А теперь давай тянуть жребий, кому спать, а кому сторожить. — Я и без жребия буду держать вахту, товарищ капитан. — Ну ладно, держи, я сплю до двенадцати, а ты с двенадцати до шести. Капитан растянулся в траве и сразу же уснул, а Радыгин вынул из кармана кусок шоколада, с величайшей осторожностью положил его в рот и задумчиво оглядел кусты, неподвижные вершины сосен, затем остановил свой взгляд на красивом лице Ливанова и с восхищением подумал, что этого человека не проведешь, не купишь и никому не продашь. Капитан сладко спал. Его легкое дыхание радовало Радыгина, и он разбудил Ливанова на два часа позже, вместе с ним поел и блаженно закрыл глаза.
На поляну они вернулись в полночь, измученные длинным переходом, с натертыми до крови плечами, грязные и потные, а утром Радыгин в груде денег обнаружил полусгнивший акт, затем высыпал из мешков три миллиона, разгреб их по всей плащ-палатке и сел под дерево, затаившись, как птицелов. «Ну, хорошо. Допустим, эти деньги мои, — подумал Радыгин. — Интересно, каким бы я стал человеком. Наверно, сволочью». Он даже пробовал сосчитать пачки, чтобы сверить их с актом, но на третьей сотне сбился и понял, что, сколько бы раз он ни умножал количество пачек на рубли, ему не удастся установить общую сумму. Заинтересовался деньгами и капитан. Он взял наудачу десятитысячную пачку, разорвал упаковку и долго рассматривал знакомое ленинское лицо на сторублевых потертых бумажках. Ливанову почему-то вспомнилась студенческая пора, и как он вместе с другими ребятами толкался у кассы, когда получал стипендию, и заглядывал в окошко, поражаясь количеству денег, привезенных кассиром. Теперь перед Ливановым денег было еще больше. Их было так много, что они потеряли свою магическую силу и вызывали равнодушие, словно это были не миллионы, а упакованные банковские бумаги, которые надо было куда-то перевезти. — Ну, Паша, — сказал Ливанов и усмехнулся, — кажется, мы уже достаточно налюбовались нашим богатством. Пора и честь знать. Ты погляди, какая стоит великолепная погода. Больше с мостом тянуть нельзя. Его надо взрывать, пока не раскисло небо. Ну, что же ты молчишь? Капитан положил ладонь на плечо своего спутника и заглянул ему в глаза. — Я готов, — тихо сказал Радыгин. — Тогда все лишнее прячь. — Значит, пойдем в пиджаках, как истинные мастеровые? — Пойдем в полном согласии с нашими документами. Взрывчатку возьмем на конспиративной квартире. — Значит, я увижу настоящих подпольщиков? — Возможно, но в пути не надо забываться. Мы люди темные, покорно бредем в Эстонию за легким заработком, нас не интересуют ни виселицы, ни комендантские приказы, ни успехи немцев, которые, кстати сказать, напобеждались почти до смерти. Мы только спутники, понимаешь, Паша, которые покорно воспринимают добро и зло. — Страшновато как-то получается, товарищ капитан, — сказал Радыгин, — страшнее, чем в окопах. Там сидишь, ни черта не видишь, а здесь? Сколько их, этих эсэсовцев, расползлось по нашей земле? Откроешь глаза — и пожалуйста, мелькают то туда, то сюда, хоть бы парочку для почина тюкнуть. Мне вот непонятно — третьи сутки мы гостим в тылу у Гитлера, а приключений чего-то не видать. — Это и хорошо: чем меньше у глубинного разведчика приключений, тем лучше его дела. Я бы хотел взорвать мост без приключений. Тихо снять часовых, тихо положить под каток взрывчатку и через десять минут увидеть ферму в воде. Только черта с два так получится. Ты занялся миллионами, а я еще до сих пор не могу принять решение, как будем взрывать мост. — А на месте разберемся. — Вообще, Паша, в этом деле, — заметил капитан, — существует более ста способов. Но, во-первых, все они пригодны только в принципе; во-вторых, нужно правильно выбрать один из этих способов и учесть, как ты говоришь, всякие печальные стечения обстоятельств. Ну а в-третьих, мне кажется, что в данном случае мы должны сами пошевелить мозгами и придумать что-то новое, так как все известные способы нападения на часовых очень хорошо известны и самой охране. Ты понимаешь, часовым говорят: «Учтите, ваши враги — это люди редкой воли, и вы глядите в оба, малейшая оплошность — ваша смерть». Ночью капитан с Радыгиным вышли на проселочную дорогу, а перед самым рассветом оказались недалеко от узловой станции, над которой все небо было задернуто белесоватой электрической дымкой. С полотна дул свежий ветерок, и там, за мягкими контурами станционных зданий, казалось, наступал рассвет, предвещая чистый солнечный день. На самой станции они увидели несколько тяжело дышащих паровозов, кочегаров с дымными факелами и главный незанятый путь, так ярко освещенный луной, что даже за выходными стрелками можно было различить каждую шпалу и каждый стык. Станция была забита длинными товарными поездами, какими-то военными грузами, сложенными в огромные штабеля и наглухо задернутыми брезентом. У пакгаузов все пути тоже были заняты какой-то артиллерийской частью. Угрюмые орудия в промасленных намордниках, как громадные псы, сидели на платформах и равнодушно глядели в небо своими тяжелыми стволами. — Ты видишь, Паша, сколько здесь застряло эшелонов? Ты только вообрази. Мост взорван. Десятки поездов с полного хода влетают на станцию — и стоп, дальше хода нет. Загорают, нервничают, ждут, пока восстановят мост, сзади их подпирают все новые составы, и вот тут-то начинает свою песню наша авиация. — Да, — сказал Радыгин, воодушевляясь картиной, которую нарисовал перед ним Ливанов, — здесь может образоваться большая свалка. Мне рассказывали такой случай: будто бы фашистский летчик как-то налетел на одну нашу станцию и давай ее крестить. Конечно, бомбежка была обыкновенная, но, что за черт, пахнет кругом палеными птицами, за версту этот запах слышен. Оказывается, под составом-то были индюшки. Забились, понимаешь, под вагоны, притихли, жмутся друг к дружке, а из огня выходить не желают. Сколько с ними народ ни бился, но спасти не мог. Так и сожглась эта птичья секта. С той поры мой знакомый никому из ученых проходу не давал, все разъяснения требовал, по каким это таким законам индюки не захотели выходить из огня. — Я не понимаю, Паша, ну зачем ты такой ерундой загромождаешь мозги? Нам нужно думать не про индюшек, а про мост и сегодня к вечеру все решить. На рассвете они вышли к реке и остановились на берегу в мелком кустарнике, очень удобном для наблюдений. Впереди, в полкилометре от них, из утреннего мрака виднелись фермы моста и казались удивительно легкими на сером фоне неба. Фермы напоминали красивую кружевную занавеску, неподвижно висящую над рекой. Капитан огляделся. На реке он заметил несколько лодок с рыбаками, которые держались на почтительном расстоянии от моста, замаскированного зеленой сеткой. Затем разглядел двух часовых у полосатых будок и высокое железнодорожное полотно, огороженное колючей проволокой и, наверное, заминированное так густо, что вряд ли кто-нибудь из посторонних мог безнаказанно прорваться к мосту. Дело усложнялось еще и тем, что мост стоял на открытом месте, метрах в ста от леса, и его охраняли не австрийцы, а немцы, которые жили тут же под насыпью в пяти или шести блиндажах. Таким образом, не только для Ливанова, но и для Радыгина стало ясно, что ни о каком открытом нападении на часовых нечего и думать. Они были слишком хорошо защищены пустым пространством, минами, лунной ночью, колючей проволокой и рекой. Чем светлее становилось вокруг, тем безнадежнее казался взрыв моста, но капитан не терял надежды и пристально следил за поведением часовых, стараясь найти наименее защищенный путь, ведущий к мосту. Это было только железнодорожное полотно. По нему можно было подойти к мосту, но как к нему пробраться, чтобы не заметили часовые, — этого капитан не знал и хмурился от бессилия, понимая, что все его первоначальные планы теперь никуда не годятся. На реке было мирно: лучистая вода что-то бормотала под корягами, в куге озоровала щука, и с одного берега на другой перелетали птицы так низко, что казалось, стоит им только чуть накрениться, и они заденут воду крылом. Несколько часов капитан и Радыгин проторчали в кустах, затем вышли на песчаный берег и умылись, все еще не принимая никаких решений. — Загораем, товарищ капитан, — сказал Радыгин и усмехнулся, — ты знаешь такую пословицу: видит око, да зуб неймет. — Но есть, Паша, и другая пословица: взялся за гуж, не говори, что не дюж. — А я и не говорю. Вот ты, товарищ капитан, научно хочешь перехитрить смерть. Тебе жалко, если я погибну, от этого ты и мудришь. Один план тебе нехорош, другой не подходит, третий чересчур для меня тяжел, а по четвертому получается моя гибель — и ты его не хочешь исполнить, а я тебе говорю: в таких делах жалости не нужно. Четвертый план самый верный — ну, решай! — Нет, — сказал капитан, — у нас есть еще время подумать. Итак, мы пришли к выводу, что никакое перевоплощение в немцев нам не поможет. С дрезиной тоже отпадает, это старый фокус. Остаются поезда. — Стой, — сказал Радыгин, — стой, товарищ капитан, я нашел. Он сел на песок и нервно засмеялся, вздрагивая плечами и закрывая ладонью мгновенно пересохший рот. Радыгин подул в ладонь, затем отнял ее от губ и поднял на капитана глаза, наполненные жесткой решимостью. — Хватит, — сказал он, — опостылел мне этот поганый мост хуже горькой редьки. Ты, товарищ капитан, смотри на состав, а я пока обдумаю свой план. Видишь, идет поезд, — ну так вот, у моста машинист завсегда дает тормоз. Указательным пальцем Радыгин нарисовал крест на песке, а капитан посмотрел на длинный товарный состав, приближающийся к мосту. И вдруг капитан понял, почему Радыгин побледнел, — он оглядел своего спутника, и сердце его сжалось от восторга. Да, он не ошибся в нем. Перед ним на песке сидел человек, забывший все свои слабости и готовый к смерти, твердо зная, что ее ничем уже нельзя предотвратить. — Нужно еще подумать, Паша, — сказал Ливанов, — нам торопиться некуда. — Как ты там ни думай, товарищ капитан, а погибать придется, — тихо сказал Радыгин. — У нас теперь получается как в пехоте. Когда там бывает плохо, бросаются же пехотинцы с гранатами под танки. Так отчего же мне не выброситься на мост? Когда я был мальчишкой, я лучше всех спрыгивал с тормозных площадок. Можешь не сомневаться, я заложу взрывчатку куда надо, подожгу шнур, а там видно будет, что мне делать дальше. Мне нужно продержаться пять минут, пока шнур не сгорит до конца. Решай, товарищ капитан, — еще тише проговорил Радыгин и опустил глаза. — Не забывай про Серафиму Ильиничну, она тебе мать. Не жалей меня. Я один. Капитан резко повернулся и в упор посмотрел на Радыгина. — Спасибо, — сказал он, — но я не могу согласиться на такой поступок. — Почему, когда это дело верное? — Это самое безошибочное, что мы можем сделать, но так поступать нельзя. — Совести своей боитесь? — спросил Радыгин, вдруг переходя на «вы». — Перед кем же вам отчитываться? Ведь на том свете, говорят, бога нет. — Послушай, Паша, то, что ты придумал, — это можно себе позволить в самом крайнем случае, но почему же должен погибать ты? Мы можем бросить жребий, если ничего лучшего нам не подвернется под руку, а пока забудем об этом. — Зачем же жребий! Это мой родимый край, и погибать за него я должен в первую очередь. Капитан сел рядом с Радыгиным и покачал головой. — Да, — сказал он, — это тебе, Паша, не миллионы. Правда, красивый мост. — Мост как мост, — ответил Радыгин, — ведь я около него всегда купался. Бывало, приду на речку, а у самого такая фантазия — удивить всех, забраться на ферму, перекреститься и бух головой в воду. Не думал я, товарищ капитан, что мне доведется взрывать его. — Мне нравится твоя идея с тормозом, — сказал капитан, стараясь втянуть Радыгина в деловой разговор. — Отсюда мы и начнем. Главное — нам надо незаметно пробраться к мосту и одновременно с двух концов снять часовых. — А может, попробовать с крыши вагона? — То есть ты хочешь ухватиться руками за ферму, как только состав окажется на мосту? Но я боюсь, Паша, что из этого ничего не выйдет, тормоз — вот это возможность, даже два тормоза, понимаешь? Ты послушай, нам хорошо известна длина моста. Мы приходим на станцию и высматриваем такой товарный состав, у которого были бы две тормозные площадки, расположенные недалеко друг от друга. С этих площадок мы внезапно снимаем часовых, не понимаешь? — Пока нет, — сказал Радыгин. — А по-моему, все очень просто, я сажусь на хвостовую площадку, ты устраиваешься в середине состава — мы едем. Нас разделяет точно такое же расстояние, какое и часовых, находящихся на разных концах моста. — Но ведь хвост-то состава охраняется. — Ну и что ж, покажи охраннику бутылку водки и поезжай хоть до Берлина. На твоей площадке, по-видимому, будет кондуктор, но ты его тоже можешь купить за десять марок, а когда мы тронемся, то увидишь, что с ним делать. Будет вести себя прилично — свяжешь, не будет — пусть пеняет на себя. — Теперь я все понял, — сказал Радыгин и засмеялся, — мы вроде контролеров, подъезжаем к часовым, и — здравствуйте — прошу предъявить билеты. — Вот именно, но без стрельбы и шума; ты прыгнешь вон на того часового, когда твоя тормозная площадка поравняется с ним, а я вон на этого. Главное, мы можем это сделать одновременно, если нам удастся найти такой поезд. — Найдем, ночь велика. Видал, как они прут, состав за составом. Радыгин обрадованно потер руки, а капитан повеселел и долго смотрел на мост прищуренными, посветлевшими глазами. В полдень было решено и последнее — кому взорвать мост. Радыгин настаивал, чтобы бросить жребий, но капитан не согласился. — Твое дело снять часового и ждать меня метрах в семидесяти от моста, а я в это время тоже разделаюсь с часовым, положу под каток взрывчатку, зажгу шнур и выйду на твою сторону, потому что она более пустынна. Я думаю, что мы можем вполне рассчитывать на удачу. — Дай боже, — со смехом заметил Радыгин и перекрестил мост. После купания они поели и двинулись к станции, твердо веря в счастливый исход предстоящей операции. Надо было засветло найти такой состав, где бы расстояние, отделяющее одну тормозную площадку от другой, совпало с длиной моста; надо было сходить за взрывчаткой, потолкаться на вокзале, оглядеться и немного поспать. Увидев свой родной городок, Радыгин снял фуражку и вдруг вспомнил деда, маленького седенького старичка, с которым он часто ходил за рыбой вот этой песчаной просекой. Это был самый короткий путь от реки к городу, и вскоре Радыгин вывел капитана на окраину. Затем показал ему заросший лебедой фундамент, на котором когда-то возвышался дом Радыгина. С раннего детства Радыгин любил изюм, и в праздничные дни с кульком в руках он уходил в луга за поселок и садился в тени единственной старой ветлы. Но как-то однажды ночью кто-то срубил эту ветлу, и мир тогда показался чужим и страшным, и Радыгин долго стоял на ограбленном лугу, чувствуя себя осиротевшим. И вот теперь это чувство вновь охватило Радыгина, и он горько улыбнулся и беззвучно заплакал, задыхаясь от острой душевной боли. — Посидим, Паша, — сказал Ливанов и показал Радыгину на скамейку. Радыгин сел и подумал о том, что его сестра Ольга даже не подозревает, где он сейчас находится. И хорошо бы ей написать письмо. Вот к ней стучатся в дверь, и почтальон приносит ей письмо. «От кого же это письмо?» — спрашивает сестра у почтальона. «А это от вашего брата», — говорит почтальон и уходит. Радыгин закрыл глаза, чтобы еще отчетливее представить сестру в своем воображении. «Это я пишу, Оля», — сказал ей Радыгин, и она вдруг засмеялась где-то здесь, совсем близко, и Радыгин с облегчением вздохнул, чувствуя, как ему стало немножко веселее. Он встал и, ежась, сказал Ливанову: — Вот здесь мы и жили… пошли, товарищ капитан. По дороге они встретили ребятишек с длинными удилищами и пустыми котелками. А на товарном дворе увидели огромную толпу, оцепленную автоматчиками. Здесь были латыши, эстонцы, русские, так называемый «бездокументный народ», задержанный патрулями на дорогах странствий. Одетые в рубище люди метались с деревянными сундучками, роняли узлы, рыдали, сбивались в кучи, затем, обессилев от горя, опускались на землю и словно вслушивались в звонкий, отчаянный голос какой-то русской девушки, которая пела навзрыд:
Снеги пали, снеги пали,
Падали да таяли,
Мать родную — нашу землю
Мы с тобой оставили.
А в это время Радыгин задремал, но вскоре очнулся, судорожно зевнул, внимательно оглядел садик, унылых беженцев, полураздетых ребятишек, давно не стриженных и не мытых, и пыльный репродуктор, который покачивался на столбе и дребезжал от густого дикторского баса. Передача велась сначала на эстонском, затем переводилась другим диктором на русский язык: «Когда развеялся пороховой дым, часть полковника Рейхенау вошла в город. Трудно описать ликование русских жителей. Они буквально забросали цветами немецких солдат и вышли к полковнику навстречу с хлебом-солью. Это был старинный русский обычай». Радыгин оживился. В садике вдруг стало тихо, и несколько женщин повернулись к репродуктору, а одна из них поднялась со своего узла, подбоченилась и вызывающе сказала: «Ишь как забрехался, типун тебе на язык!» Но Радыгин прослушал рассказ до конца, затем лег поудобнее и вскоре заметил полицая, вошедшего в садик. Это был угрюмый молодой парень, одетый в военную гимнастерку и вооруженный револьвером. На его рукаве ярко выделялась повязка, он лениво подходил только к мужчинам, забирал у них документы и внимательно читал, хмуря лоб и шевеля пухлыми губами. Радыгин хотел выйти из садика, но было уже поздно, и он встал, протягивая полицаю документы. — Гатчинский? — спросил полицай, и Радыгин утвердительно кивнул головой. — Ну, как там положение? Я ведь тоже гатчинский. — Обыкновенное, — сказал Радыгин, выдержав тяжелый, пытливый взгляд полицая. — Значит, Сердюков из Гатчины. — Он самый… Петр Афанасьевич. — И давно ты там проживаешь? — Да как вам сказать, время-то, оно летит, лет пять уже проживаю. — Ой, крутишь чего-то ты, непохож на Сердюковых. Будто не от ихней мамки. — Полно вам, земляк, придираться, — невесело сказал Радыгин, застегивая ворот рубахи. — Мать у нас у всех одна — земля наша. А вот сыны у нее бывают разные. Мыкаются насчет работы, вроде меня грешного. Зря вы сомневаетесь. Документ у меня в полном порядке. — А это я и сам вижу, — сказал полицай, — но личность у тебя неважная. Наверное, у большевиков служил. Пошли! — Куда? — К коменданту. — Брось, земляк, мне ехать надо, пошутил — и хватит. Понимая, что больше медлить нельзя ни одной секунды, Радыгин протянул руку за документами и застыл в напряженном ожидании, чувствуя катастрофу, но не зная еще ни ее размеров, ни конца, ни последствий. Он еле стоял на ногах и растерянно смотрел на полицая, боясь шевельнуться, но когда полицай положил его документы в карман, к Радыгину вдруг пришло спокойствие, и он притворно развел руками, словно укоряя полицая за такой нехороший поступок. — А знаешь что, — прошептал Радыгин и огляделся, — возьми десять марок — и катись! — За такого, как ты, мне дадут больше, — тихо ответил полицай. — Возьми с меня больше. — Зачем? Мне дадут там еще больше. — Не дадут, у меня все в порядке. Полицай насмешливым взглядом окинул Радыгина с головы до ног, затем носком сапога пошевелил почти пустой мешок и глухо засмеялся, вынимая из кармана зажигалку и немецкий портсигар из пластмассы. — Десять марок! Ну и Сердюков. Везет же тебе, как жиду. Тоже мне земляк нашелся. Да я в Гатчине каждого младенца знаю, а ты себя за Сердюкова выдаешь. Какую ты за себя цену предлагаешь? А мне за одну твою протокольную морду тыщу марок отвалят. — Ладно, держи карман шире, там тебе отвалят, — сказал Радыгин. — Пошли! — И вскинул вещевой мешок на левое плечо. Они поднялись по ступеням на перрон и свернули направо, где в конце деревянной платформы виднелась уборная, а за ней возвышался каменный трехэтажный дом, обнесенный забором и колючей проволокой. Радыгин был весь в поту и шел медленно, все еще не понимая, что ему надо делать, и с отчаянием ища глазами Ливанова. Для него было ясно одно: он будет стрелять, как только исчезнет последняя надежда на спасение. Но от этого твердого решения у Радыгина вдруг все заныло внутри, и он с ужасом ощутил на своей спине взгляд полицая и наклонил голову, подсчитывая шаги. Еще пятьдесят шагов — и это конец платформы, а значит, и его конец. Он выстрелит полицаю в живот — пусть перед смертью помучается, — а сам спрыгнет с платформы на полотно, где его сразу же расстреляют часовые. Он привалился спиной к станционной ограде и рассеянно посмотрел на полицая. — Ну, чего встал? — Что ты нукаешь, не запряг, а уже погоняешь. — А чего же мне не погонять, когда ты в оглоблях. Давай! Пошел! А то я так могу затянуть хомут, что и пикнуть не успеешь. — Смотри, супонь не оборви, — сказал Радыгин, и его лицо приняло страдальческое выражение, а глаза заблестели, когда он осмотрел почти пустой перрон и деревянную уборную, перегороженную на две половины. — Ну, земляк, напугал ты меня насмерть, — сказал он, — понимаешь, даже живот заболел. Ты уж разреши, я заскочу на минутку, а то до коменданта не дойду! Не дожидаясь ответа, Радыгин направился к уборной и с радостью услышал за собой шаги полицая. «Интересно, вынет он пистолет или нет?» Эта мысль так сильно занимала Радыгина, что он хотел обернуться, но вовремя сдержался и вошел в уборную, увидев перед собой две пустые кабины с распахнутыми дверями. Неторопливо сняв мешок с плеча, Радыгин положил его на цементный пол, забрызганный известкой, и, расстегивая пиджачные пуговицы, направился к кабине, ощущая на своей спине пристальный взгляд полицая. Незаметным движением он вынул нож и переложил его в карман пиджака. — Дверь не закрывать, — сказал полицай, приближаясь к Радыгину. «Ага, боишься», — подумал Радыгин и хотел броситься на полицая, но за тонкой дощатой перегородкой он услышал шуршание юбок и многозначительно закашлял, словно собираясь сказать женщине гадость, если она сейчас не уйдет. И женщина ушла. В уборной стало тихо. — Удивляюсь я, — сказал Радыгин, — сколько у вас тут на станции развелось собак. Не успеешь положить мешок с продуктами, а они тут как тут! Пошел, Полкан, — закричал Радыгин, и в ту секунду, когда полицай обернулся, Радыгин с ожесточением ударил его ножом в спину. — Ну что, достукался, барбос, — прошептал Радыгин, вынимая свои документы из кармана полицая. Вскоре Радыгин услышал шаги. Он втащил полицая в кабину и закрыл за собой дверь, крепко держась за скобу и наступая мертвецу на ноги. — Занято, — хрипло сказал Радыгин, когда кто-то торопливо дернул дверь. — Эй, земляк! — Ну, что тебе? — спросил вошедший. — Ты, смотри, мой мешок не возьми по ошибке, — попросил Радыгин и осторожно приоткрыл дверь. — Зачем мне твой мешок, — ответил старик. — Я со своим узлом не знаю куда деться. Бросил бы все к бесу, да старуха не велит. Беспокойным взглядом Радыгин проводил старика до самого выхода, затем поднял с пола кусок известки и написал на двери крупное слово, резко бросающееся в глаза: «Ремонт». Поставив точку, Радыгин облегченно вздохнул, чувствуя, что опасность миновала, и наглухо прикрыл кабину, в которой лежал полицай. — Ремонт, — прошептал Радыгин и, как бы проверяя силу этого слова, еще раз посмотрел на дверь. Через несколько минут он сидел уже в садике среди переселенцев, и его осунувшееся лицо ничего не выражало — ни радости, ни возбуждения, ни покоя. Ни по каким признакам нельзя было выделить Радыгина из этой толпы, и он дремал, как многие беженцы, затерявшись среди узлов, пожелтевших плетеных корзин и деревянных сундучков. Только мухи ползали по его пиджаку более беспокойно и назойливо, чем по одежде других людей. Как ни старался Радыгин подавить в себе тревогу, это ему не удалось. Она разрасталась с каждой минутой и, наверное, заставила бы его уйти из садика, если бы он вскоре не увидел Ливанова, уверенно шагавшего к вокзалу с каким-то пакетом под мышкой. Еще издали Ливанов улыбнулся, и оттого, что он шел так весело и легко, сердце у Радыгина застучало ровнее и он почувствовал себя спокойнее, хотя ни единым движением не выдал своей радости. «Ну, значит, все благополучно», — подумал он и шепотом рассказал капитану, что произошло здесь. Затем спросил, где же взрывчатка. И Ливанов ответил, что взрывчатка есть, и показал глазами на свои карманы, где в двух плоских жестяных банках было взрывчатое вещество. Они выбрались из садика. Впереди над длинными составами клубились паровозные дымки, а по обеим сторонам путей с ослепительным блеском горели оконные стекла, подожженные заходящим солнцем. Выйдя на шоссейную дорогу, Ливанов повел Радыгина вдоль железнодорожного полотна к березовой роще, в которую упирался последний станционный тупик. В тупике стоял балластный состав без паровоза, и по платформам прыгали воробьи и перелетали с одной тормозной площадки на другую. — Вот видишь, Паша, это наш состав. Часов через пять мы будем уже в пути. Охрана — один человек, да и тот выписан раньше срока из госпиталя. — Ну, а как с площадками? — Почти сошлись. Я подсчитал, разница только в четыре метра. Мост оказался все-таки длиннее. — Ну и черт с ним, все равно часовых снимем. Главное, товарищ капитан, чтобы эти часовые первым делом не схватились за автоматы. Значит, нужно взять горсть песку и бросить им в глаза; пока они очухаются — будет уже поздно. — Верно, — сказал Ливанов, — на твоей площадке, по-видимому, никого не будет, а я поеду с охранником. Но ты постарайся сесть перед самым отходом, а то могут согнать. — А тебя не сгонят? — Нет, я уже договорился, придется на этого охранника истратить двадцать марок. До самой темноты они просидели в роще, обсуждая план нападения на часовых, потом выпили, закусывая пирожками Ингрид, а когда на путях вспыхнули первые синие огоньки, Ливанов встал и крепко поцеловал Радыгина. — Ну, мне пора, — сказал он, — а ты придешь попозже. Радыгин поправил кепку на голове у капитана, и Ливанов, выйдя из рощи, направился в самый конец балластного состава, к хвостовой площадке, освещенной сигнальным фонарем. Он шел спокойно и еще издали заметил охранника, который сидел на ступеньках последней платформы и курил, что-то напевая и отмахиваясь от комаров. Ливанов достал из кармана фляжку со спиртом и показал ее солдату, который тотчас же спрыгнул на насыпь и замахал руками, приглашая Ливанова к себе. — Ну как, не раздумал? — спросил Ливанов. — Мне только до Зяблова, два перегона. Охранник торопливо качнул головой, подавил пальцем полупустой мешок за плечами Ливанова и долго подбирал слова, выражающие согласие. Он был согласен довезти Ливанова до Зяблова, но за это он хотел бы получить несколько марок и выпить, потому что ему скучно смотреть на унылые станции, где нет ни хорошего вина, ни веселых женщин. — Если хотите, мы можем говорить по-немецки, — сказал Ливанов, — я три года преподавал в Гатчине немецкий язык. Они расстелили на камнях газету, и охранник достал из своего мешка кусок сыру и краюху деревенского хлеба, а Ливанов вынул из пакета два пирожка и железные стаканчики, потер руки и, крякая, чокнулся с солдатом. После третьего стаканчика на темном худощавом лице охранника появилось задумчивое выражение, и его тонкие пальцы с длинными ногтями вдруг сжались в кулак от какого-то глубокого душевного волнения. Нет, его явно обманули. После госпиталя он не попал ни в гестапо, ни в полевую комендатуру, ни в войска специального назначения, где можно было разбогатеть. Вот уже три месяца он охраняет хвосты эшелонов, и только изредка ему удается заработать несколько марок на каком-нибудь случайном пассажире, а время не ждет. Война может так же внезапно кончиться, как и началась, и тогда снова безработица, и снова тарелка супу на два дня — с грустью жаловался он Ливанову. А между тем наступил звездный августовский вечер, давно уже улеглась пыль на улицах маленького городка, давно обезлюдела базарная площадь, оцепенел сквер, затаился рабочий поселок, и только на самой станции по-прежнему царила суета — оттуда доносилось прерывистое дыхание паровозов, стук колес и протяжное пение рожков. На платформах желтел песок в лунном свете. Вскоре к балластному составу подошел паровоз, а через несколько минут Ливанов увидел Радыгина, нырнувшего под платформу, и главного кондуктора с зажженными фонарями в руках. Фонари он вешал на тормозные площадки и переругивался со смазчиком, который сердито стучал молотком по колесам и часто останавливался, размахивая горящим факелом. Прислушиваясь к перебранке, охранник неодобрительно покачал головой и опять заговорил по-немецки о том, что даже эстонцы-железнодорожники очень плохо работают. Они устраивают крушения, засыпают буксы песком, рвут на подъемах составы и вообще ведут себя черт знает как, несмотря на крутые меры. Охранник выругался по-русски и засуетился, услышав свисток главного кондуктора. Ухватившись одной рукой за поручни, он пропустил своего спутника на площадку, и его чуть запрокинутое лицо поразило Ливанова своей затаенной угодливостью. Тревожно и брезгливо смотрел он на охранника, пока не промелькнули последние станционные огоньки, а когда поезд вышел на главный путь, Ливанов выпрямился, чувствуя легкую дрожь в руках, и, глубоко вздохнув, повалил охранника на спину. Он не сопротивлялся, и это спасло ему жизнь. Ливанов связал охранника, затолкал в рот тряпку и осторожно спустил его под откос. Состав взбирался на подъем, он словно прихрамывал и разминался, потом глуше застучал на стыках, и Ливанов увидел за насыпью лес, а впереди — Радыгина, который сидел на ступеньках площадки и курил. «Нервничает», — подумал Ливанов, и его самого тоже охватило волнение. Так было с ним всегда. Еще задолго до решительной минуты он чувствовал волнение, называя это состояние страхом перед опасностью, но потом, когда наступало время действовать, то спокойствие вновь возвращалось к нему и не покидало его до тех пор, пока все дело не бывало окончено. Крепко сжимая поручни, Ливанов поставил одну ногу на подножку, пробуя ее устойчивость. Подножка шаталась и затрудняла прыжок, который надо было рассчитать с абсолютной точностью. И вдруг протяжный паровозный свисток огласил темнеющий лес, и состав еще глуше зазвучал на стыках. Впереди блеснула река, а затем показались и фермы моста, тускло освещенные синими фонарями. Переложив в карманы пальто тяжелые жестянки с взрывчаткой, Ливанов прищурился, приготовляясь к прыжку. Мост становился все заметнее, он вырастал, ширился, пугал своим гигантским пустым нутром, и только часовой, прислонившийся к будке, да две полосатые бочки казались детскими игрушками, забытыми на полотне. Состав дернулся и пошел тише. Зашипели тормоза. Окутывая фермы дымом, паровоз гулко застучал по мостовым перекрытиям. Все пока шло так, как предполагал Ливанов, и, когда платформа с Радыгиным оказалась на другом конце моста, капитан спрыгнул на насыпь и, в одно мгновение очутившись рядом с часовым, засыпал ему глаза песком. Часовой вскрикнул и закрыл лицо ладонями. В следующую секунду он упал от внезапного удара, а Ливанов услышал резкий звонок и испуганно посмотрел на будку, где висел телефон. На другом конце моста он увидел Радыгина, который поднимался с земли с видом человека, окончившего трудное дело. Но в ту же минуту из щели выскочила огромная овчарка и, рыча, опрокинула Радыгина. Капитан задержал дыхание. Наконец собака отскочила от человека и, прижимаясь распоротым животом к настилу, вползла на мост и легла поперек рельса. Телефон продолжал звонить. Капитан вошел в будку и решительно поднес телефонную трубку к уху. Шла проверка сети, и Ливанов по-немецки сказал, что телефон работает отлично. — Послушай, Курт, это говорит Шейнкопф, проверь свои часы, сейчас двадцать один час восемнадцать минут. — Ливанов торопливо повесил трубку и машинально посмотрел на свои ручные часы. Он снова вышел на мост, обтянутый колоссальной сеткой, и странное чувство зашевелилось в душе капитана. Это чувство нельзя было назвать ни страхом, ни восторгом, ни робостью. Слишком много было радости в этом чувстве, которое напрягало сейчас всю волю капитана и толкало его вперед. Не оглядываясь, он двигался большими шагами к издыхающей овчарке, держа в правой руке пистолет, а левой нащупывая шнур в кармане. Мост все еще гудел, и сквозь его замысловатые узоры в настил бил лунный свет. У Ливанова зарябило в глазах от мерцания шестидесяти тысяч заклепок. Мост был застегнут на все эти красные круглые пуговицы, и под его высокими фермами Ливанов ощутил жажду и посмотрел вниз, где тихо плескалась река. А жажда все усиливалась, вот уже совсем стало сухо во рту, и капитан кончиком языка нащупал на губах соленую каплю пота — и вдруг пригнулся, чувствуя, что сейчас его срежут автоматной очередью. Он обернулся, но насыпь по-прежнему была пуста. Откуда-то издалека, видимо из открытого блиндажа, доносилась мягкая музыка, и Ливанов нервно улыбнулся и, задыхаясь от сильного сердцебиения, остановился на том месте, где мост не был закреплен на камни быков. Несколько минут возился Ливанов с взрывчаткой и, когда затолкал ее под каток, заметил на насыпи человеческую фигуру. Человек шел к мосту, и, чем ближе он подходил, тем ярче блестели его пуговицы и начищенные сапоги. Дальше медлить было нельзя, и капитан, обрезав до половины шнур, поджег его конец и выбрался на настил. «Только не оглядываться», — подумал Ливанов, все ускоряя шаг. Он перепрыгнул через мертвую овчарку и выскочил на насыпь, залитую лунным светом. Впереди виднелся лес, где можно было спастись, но Ливанов отчетливо сознавал, как длинен был путь к спасению и как короток был шнур, горящий сейчас под катком. Он посмотрел на часы и побежал. До взрыва оставалось не больше двух минут, и Ливанов решил не бежать дальше белого верстового столбика, а переждать там взрыв и затем спуститься вниз, минуя минированную зону. Но до столбика капитан не успел добежать. Он услышал за спиной окрик и сразу же почувствовал сильный толчок под ногами, затем грохочущая жесткая волна повалила его на насыпь и придавила своей обжигающей тяжестью. Протяжный гул бушевал вокруг капитана и долго не умолкал, словно Ливанов лежал между рельсов, а над ним бесконечно гремел состав, груженный листовым железом. В полном сознании Ливанов протянул руку подбежавшему Радыгину, и тот быстро рванул капитана с земли и поволок его вниз по узкой тропинке. Радыгин хотел бежать берегом реки, но из кустарника вспыхнул прожектор, и его ослепительный луч уперся в ферму, лежащую в воде. Весь мост дымился, и облака песка и пыли, как водопадные струи, с шумом оседали в реку. На насыпи по ту сторону моста раздалось несколько автоматных очередей, а когда Ливанов и Радыгин стремительно ворвались в лес, по стволам ударил луч прожектора и осветил высокие пни, напоминавшие издали людей. Сгоряча они чуть не выскочили на поляну, в расположение зенитной батареи, а перебегая дорогу, почти столкнулись с телефонистом, который стоял к ним спиной и шестом набрасывал провод на дерево. Перейдя вброд реку, Ливанов вдруг ткнулся в кусты, и у него началась рвота. Радыгин понял, что его спутник контужен, и удивился, как он мог столько времени продержаться на ногах. Капитан тяжело дышал, и ему казалось, что лес все еще содрогается от взрыва и шумит на много верст вокруг. Но кругом было тихо. Только в эфире шла оживленная перекличка радиостанций. Перекрывая властные выкрики немецких радистов, звуки органа и одинокую рыдающую скрипку, в эфире вдруг появился ликующий женский голос: — «Аргамак», «Аргамак», говорит «Луна», говорит «Луна» — мост взорван, мост взорван, судьба «Сто двадцатого» неизвестна, ты меня понимаешь, «Аргамак»? Мост взорван, повтори — перехожу на прием.
Ливанова охватывало то жаром, то ледяным холодом и трясло так сильно, что он расплескал много спирту, подносяфлягу к своим губам. — Плохие наши дела, Паша, — сказал он, пытаясь приободриться. — Ничего, товарищ капитан, вырвемся. Давай взбирайся мне на плечи — и пошли. Радыгин шел всю ночь, и тело капитана к рассвету стало таким мучительно тяжелым, что Радыгин с величайшим трудом удерживал Ливанова на своих плечах и двигался как во сне, ничего не ощущая, кроме смертельной усталости. Его бросало из стороны в сторону, но он упорно продолжал свой путь, уходя все дальше от моста, не замечая ни мелькания деревьев, ни угасания звезд, ни тумана, который колыхался между деревьями. Хотелось пить и спать, но Радыгину казалось, что если он остановится, то весь лес сразу же рухнет и задавит их своими тяжелыми красноватыми стволами. Было уже светло, когда Радыгин вышел с капитаном к магистрали. Ему казалось, что впереди шумит море, но потом он понял, что там никакого моря нет, а что это только от усталости так шумит у него в ушах. Радыгин оглянулся и увидел безлюдный полустанок, а напротив полустанка — пакгауз, испачканный нефтью. На крыше пакгауза валялся худой, стоптанный валенок, а у подъезда в тени лежали остатки разбомбленного состава, заросшие густой, высокой травой. За полотном, километрах в двух от них, на желтом холме горел хутор. У его околицы, на дороге, они увидели несколько пустых машин и легкий танк, стоящий в дымном отсвете пожара. — Дальше не пойду, — сказал Радыгин и лег на землю рядом с капитаном. — Видишь, как лихо воюют каратели? — спросил капитан. — Вижу, — сказал Радыгин, — ведь за это их, стервецов, самих надо бросать в огонь. Радыгин хотел выругаться, но вдали послышалось мерное стрекотание мотора, и вскоре на полотне показалась дрезина, набитая солдатами и овчарками. — Началось, — сказал Ливанов, когда дрезина скрылась, — ведь это нас ищут, Паша. Теперь они дня три будут прочесывать эти места. Ты что это приуныл? Испугался? — Я? Ты думаешь, я их пугаюсь? Я ихних собак боюсь. Смотри, что со мной овчарка сделала, — сокрушенно заметил Радыгин, показывая капитану разорванные брюки и пиджак. — Ну что, поплывем дальше? — Нет, дальше мы не пойдем. Слушай, Паша. Им никогда не придет в голову, что мы прячемся на этом полустанке. Видишь разбомбленный пакгауз? Давай заберемся туда и будем ждать вечера. Это очень удобное место для укрытия. Но к вечеру произошло совсем непредвиденное событие. Проходивший через полустанок состав был настигнут двумя русскими самолетами и у выходного семафора подвергнут сначала пулеметному обстрелу, а затем и бомбардировке. Первая же пулеметная очередь прошила стену пакгауза, а бомба, которая была сброшена с головного самолета, разорвалась так близко, что воздушной волной сорвало даже пакгаузную крышу. Ливанов и Радыгин подняли головы и увидели над собой небо и два самолета, которые круто разворачивались для нового бомбового удара. — Ну, прощай, капитан. Сейчас они нас накроют. Ты посмотри, что они, стервецы, делают. Ну куда вы прете, куда? Окосели, что ли? Радыгин заслонил собой капитана, но на этот раз бомбы попали в цель. Грохот сброшенного под откос состава докатился до пакгауза, и Ливанов, с облегчением вздохнув, встал, опираясь на плечо Радыгина. — Фу, кажется, пронесло, — сказал капитан. — Но это только начало. Если мы до рассвета не смоемся отсюда, нам будет конец. — Почему? — А потому, что я совершил ошибку. За каким чертом мы спрятались в этом пакгаузе? Ведь его завтра наши самолеты сравняют с землей. Ты понимаешь, там, в Ленинграде, уже наверняка знают про мост. Это я сразу понял, когда увидел два наших самолета. — Зато они нас не заметили. — И завтра тоже не заметят. Учти это, Паша. Надо скорей выбираться отсюда. — А может, рискнем? Посмотрим, как наши бомбить будут. За такую радостную картину и на риск пойти можно. — Но я боюсь, Паша, что такого удовольствия они нам не доставят. Может случиться так, что после первого же захода от нас ничего не останется. В полночь, когда на полустанок прибыл ремонтный поезд, Ливанов и Радыгин покинули пакгауз и снова оказались в лесу, держа путь к Йыхвинскому болоту, чтобы переждать там, пока каратели не прочешут самые подозрительные места. Головные боли и тошнота то усиливались, то ослабевали, а приступы дурноты заставляли капитана часто останавливаться, и он, привалившись к дереву, давился от рвоты, кашлял и, немного отдохнув, двигался дальше, опираясь на палку. Его лицо было теперь искажено болью, и Радыгин с молчаливым восхищением следил за капитаном, стараясь смягчить его мучения то улыбкой, то сострадательным взглядом, то собранной дикой ягодой, которая утоляла жажду, но всякий раз вызывала рвоту у Ливанова. В лесу было тихо, но вскоре они услышали далекое повизгивание собаки и увидели стреноженную лошадь, пасущуюся на поляне. Лошадь крутила мордой и позвякивала бубенцом. Близость жилья так встревожила капитана, что они без отдыха прошли еще много верст, пока, изнемогая от жажды, не наткнулись на ручей, заросший папоротником, напились воды, растянулись на земле и уснули мертвым сном. Была уже ночь, когда Радыгин открыл глаза. Он снял с себя пиджак и, набросив его на капитана, с тоской посмотрел на самую крупную, колючую, одинокую звезду. Она горела ярче всех и, казалось, тоже приглядывалась к Ливанову и Радыгину, как бы удивляясь этим двум путникам, попавшим в такую непролазную глушь. Радыгину даже показалось, что она больше всех звезд излучает холод на землю и больше всех злорадствует над ним и капитаном. Он погрозил ей пальцем и, почувствовав голод, долго шевелил губами, глотая слюну и хмуря лоб. — Ты что же это не спишь? — спросил капитан. — Звезды считаю, — сказал Радыгин. — В этом месяце их трудно считать, они слишком часто падают. — Ага, значит, и они не вечные. — Ну конечно, — сказал капитан, — в августе бывает самый сильный звездопад. Все-таки очень смешные вещи люди придумывают про звезды. Вот стоит только упасть одной из них, как люди уже говорят: «Смотрите, в эту минуту человек умер». Но тебе, Паша, беспокоиться нечего, твоя звезда пока горит вовсю. — Ну, а твоя? Тебе-то как, легче? — Ничего, знобит только. Ты бы костер развел, что ли. С огнем сидеть куда приятнее. — Это я мигом, — сказал Радыгин и ножом вырыл неглубокую яму. Он разжег в этой яме костер, и они придвинулись к огню. Разделили поровну последний пирожок, оказавшийся в кармане капитана, и почувствовали себя веселей. Ливанов прикурил от уголька и задумчиво посмотрел на огонь. — А знаешь, Паша, ночь-то только что началась. Она будет длинной-предлинной. Давай-ка расскажи что-нибудь. — А что рассказывать-то. Плохое вспоминать не хочется. Лучше говори ты, но только про хорошую жизнь. Ты небось до войны-то на диване спал и книжки изучал, а теперь у нас постель одна: одна ночка темная да сырая земля. Вот ты и воскреси эту хорошую жизнь. — Видишь ли, Паша, моя жизнь, видимо, рисуется тебе как ровная длинная дорога: ни пыли, ни рытвин, ни волчьих ям. Пожалуй, это в какой-то степени и так. Действительно, я спал на диване, учился, но как-то не замечал того, что у нас в доме все жили очень хорошо, а сейчас вот почему-то заметил. Поглядел я на костер и вспомнил и мать, и отца, и няньку. Ты знаешь, в семье меня все баловали, но нянька меня часто порола. Ничего не прощала, и мне кажется, потому что очень сильно меня любила, да и я тоже никогда на нее не жаловался. Бывало, разорву брюки или рубашку, а она дает иголку и говорит: «Садись и чини сам». Потом, конечно, все эти вещи выбрасывались, но в доме все было так, как хотела нянька. Ее даже отец и тот побаивался. А студенческие годы… Я ведь, Паша, еще совсем мальчишка. Ну, много ли это — двадцать пять лет? — Много, немного, товарищ капитан, а вот полоска-то у тебя в волосах седая. Почему же это так получилось? С виду будто ты и спокойный, а что делается у тебя внутри — не пойму. — А что же там может делаться, ничего особенного. Может быть, и не надо рассказывать, отчего это у меня появилась седая полоса на голове. — Ну что ты, товарищ капитан, — обиделся Радыгин, — действительно, столько сделали дел, а все чего-то в прятки играем. Ты вот ходишь по немецким тылам, будто по своей квартире, а у меня душа замирает без привычки. Хотя я и нахожусь в своих краях. — И все-таки, Паша, ну ее к черту, эту привычку. Было бы куда спокойнее сидеть сейчас где-нибудь у костра в якутской тайге, а тебе бы плыть морем, чтобы кругом был мир, а наши мысли были заняты совсем другим. Ливанов подбросил несколько сухих веток в костер и посмотрел на огромную елку, шевелящуюся в темноте. — По всей вероятности, — тихо сказал Ливанов, — ты на меня сердишься за скрытность. Я не первый раз попадаю в эти места, и, возможно, поэтому я и кажусь тебе таким бесчувственным человеком. В декабре сорок первого года в Пскове, по-видимому из трусости, меня провалил мой же напарник, но, к счастью, он почти ничего не знал обо мне и так запутал дело, что гестаповцы направили меня в концентрационный лагерь особого назначения. Должен тебе сказать, Паша, что привезли меня туда чуть живого, обрядили в арестантскую одежду и затолкали в барак, который назывался блоком номер семь. На моей одежде тоже был номер, пятьсот тридцать восьмой. В этот лагерь я попал под Новый год. На дворе, помимо виселиц и ледяных глыб, куда, как в карцер, вталкивали провинившихся арестантов, я увидел еще огромную елку, украшенную красными кругами сыра, конфетными коробками, тремя окороками и так ярко залитую электрическим светом, что эту елку я до сих пор не могу забыть. Да, она была хороша, ничего не скажешь. Она стояла на плацу, огороженная колючей проволокой, и особенно была страшна по ночам, потому что рядом с ней в снежном дыму мы видели босых мертвецов, которых раскачивал ветер на виселицах. От елки к одной из виселиц был прикреплен световой плакат: «Бог любит честность». Как видишь, зрелище было не из веселых, да и сама жизнь в этом лагере напоминала страшный сон. Люди там быстро слабели от голода и пыток, от бесконечных проверок и перекличек, от бесполезной работы и муштры. С самого начала я понял, что есть только два выхода отсюда — это восстание или одиночный побег. Но, понимаешь, Паша, большинство заключенных были настолько уже бессильны, что не могли даже подняться с нар. Значит, у меня оставалась только надежда на побег — и я бежал. Радыгин приподнял голову, а Ливанов протянул руку к огню и закашлялся, морщась от дыма. — Ну, а как же ты все-таки бежал? — спросил Радыгин и придвинулся к капитану. — Давай рассказывай, если это не секрет. — Бежал, Паша, я один. И вот как все это произошло. Не помню, то ли на пятые, то ли на шестые сутки подходит ко мне один из заключенных, по фамилии Макаров, и говорит: «Послушай, товарищ. Я не буду расспрашивать, кто ты, но я догадываюсь, что у тебя есть много причин скрывать свое настоящее имя. Тебе надо бежать. Торопись, иначе ты станешь таким же слабым, как все мы». Тогда я подумал нехорошее об этом человеке. Мне казалось, что он провокатор и заводит со мной эти разговоры только для того, чтобы узнать, кто я. Почти целый месяц я присматривался к нему. Я молчал, а он рассказывал мне про свою жизнь, откуда он родом, как попал в плен и что он видел в этом лагере. Говорит и кашляет. Прижмет тряпку ко рту, и через минуту она становится черной от крови. Чем чаще он говорил со мной, тем я все больше убеждался в несправедливости своих подозрений. Однажды он опять завел речь о моем побеге. «Послушай, товарищ, — сказал он, — мое последнее слово. Ты видишь, я отдаю концы. Но я не могу смириться с такой бессмысленной смертью. Я понимаю, что и тебя ожидает не лучшая участь, если ты вовремя не уйдешь отсюда. Слушай, друг. Ты не верь в немецкую аккуратность. Они настолько запутались, что только по спискам и номеркам могут определить, кто из нас Сидоров, а кто Петров. Ты думаешь, случайно я тебе рассказал все о своей жизни? Нет. В списке перед моей фамилией поставлена черточка. Это значит: я больной и скоро подохну своей смертью. А тебя они боятся. Ты для них вопросительный знак, и ты можешь ждать расстрела в любой день, кроме воскресенья». Конечно, я понимал, что он говорит правду, но что мне нужно было делать — не знал. «Ты постарайся продержаться хотя бы неделю, — сказал Макаров, — пока один человек не поможет тебе выбраться отсюда. Ты должен сделать только одно: поменяться со мной номерками. Ты будешь Макаровым, а я завтра же после обеда подойду близко к проволоке, и меня убьет часовой. Не бойся. Здесь тебя никто не выдаст. Я хочу, чтобы бежал именно ты, потому что знаю, ты многое можешь сделать. А я уже ничего не могу. Номерок и фамилия — это единственное мое оружие. Бери его, товарищ. Это твое счастье». И понимаешь, Паша, он заплакал и так хорошо улыбнулся, что у меня все перевернулось в душе. Вот, наверно, с того дня и появились у меня седые волосы. Я не мог согласиться. Тогда Макаров мне сказал: «Ты просто трусливая дрянь. Вот из-за таких слюнтяев мы можем проиграть войну. А ты понимаешь, что это значит — проиграть такую войну. Сейчас же переодевайся». И мы переоделись. Помню, была суббота. Утром он меня свел со стариком, который возил воду в наш барак. А ночью Макарова расстреляли. Шлепнули вместо меня, и за все время, пока я не совершил побега, им ни разу не пришло в голову, что я совсем не тот человек, за кого я себя выдавал. Ты знаешь, Паша, мне всегда бывает трудно и страшно, когда я начинаю вспоминать об этом. Ведь я живу уже не своей жизнью, а его. — Ну и живи на здоровье, — вдруг жестко сказал Радыгин. — Чего же тут страшного? Когда из двоих один может стрелять, то другой обязан отдать ему все свои патроны. Давай рассказывай дальше. До света-то еще часа три осталось, а я пока ничего не знаю ни про Макарова, ни про старика. Не хочу забегать вперед, но мне думается, что этот старик вывез тебя из лагеря в пустой водовозной бочке. Неужели угадал? — Почти, — неохотно сказал Ливанов и кулаком потер глаза, чувствуя какое-то пощипывание, словно в них попала вода.
Когда наступило утро, Ливанов и Радыгин услышали высоко над лесом гудение самолетов. Самолеты летали весь день, то группами, то в одиночку, и, по предположению Ливанова, бомбили те станции, где скапливались составы с боеприпасами и воинскими подразделениями. Только к вечеру Ливанов и Радыгин добрались до Йыхвинского болота, а ночью они опять разожгли костер и из консервной банки пили кипяток, заправленный дикой ягодой. После этого они соорудили постели из веток и сухого мха, и капитан вскоре задремал, а Радыгин долго вздыхал, чувствуя какое-то томление, навеянное тишиной и теплым дыханием потухающего костра. — Я, товарищ капитан, весь день думал про твою жизнь, — признался Радыгин. — Послушал тебя — и как будто в чистой реке искупался. Ничего, завидная была у тебя судьба: и ученый отец, и нянька, и Серафима Ильинична, как видно, люди были первого класса. А что я? Прожил бы я как бродяга, если бы в сороковом году не встал под советское знамя. В день присоединения стояли мы в Сан-Франциско. Ну конечно, команда раскололась надвое. Одни хотят на родину, а другие ждут распоряжения хозяина и не поднимают советского флага. Но мы не желали ждать — кого связали, кого отпустили на берег, а капитана Эйкке посадили в трюм и ночью вышли в рейс под советским флагом. Прибываем в Таллин на ремонт, а нам вручают путевки — и мы садимся в поезд, а через четыре дня оказываемся на отдыхе в крымском санатории. Все это было как во сне: и море, и огни на воде. И тут я познакомился с одной блондинкой, стал каждый день бриться. Так она меня закрутила, эта блондинка, так закрутила — ну, просто страх на меня напал. Хрупкая она была и до того красивая, товарищ капитан, что я иногда сижу с ней на берегу, а сердце у меня так бьется, будто я зажженный маяк в бурю увидел. «Марго, говорю — это я ее так, для красоты, «Марго» звал, — почему, спрашиваю, Марго, ты такая печальная?» А она мне в ответ: «Уберите ваши руки. Вот, говорит, вы мне все про свои путешествия рассказываете и почему-то величаете меня Маргой, а я не Марго, а Катя Синельникова. И если, говорит, вы сию же минуту не уберете руки, мы с вами поссоримся на всю жизнь». Но я, конечно, не внял. Видно, черт меня попутал. И стал я предлагать ей заграничные чулки, а она трах меня по лицу. Ах, товарищ капитан, какая это была рука, — мечтательно сказал Радыгин, — легкая, добрая. Стал я у Кати прощения просить, а она вся трясется и молчит. А дня через три она уехала. И тут я, товарищ капитан, пошел на скалу, сел там в задумчивости и понял, что такое настоящая любовь. Радыгин лег поудобнее и замер, а капитан поднял голову и повернулся лицом к своему спутнику. — Ну так вот, — сказал Радыгин, словно пробуждаясь, — ты думаешь, я эту Катю забыл? Я ей письмо написал. Дескать, прошу прощения и имею смелость описать вам свое положение на войне. Воюю. Имею ордена и после войны могу приплыть к вашей сердечной пристани. Ну как, по-твоему, может она мне ответить? — По-моему, должна ответить, — сказал капитан. Радыгин глубоко и облегченно вздохнул, а Ливанов подобрал под себя ноги и закрыл глаза. Весь следующий день Радыгин чинил пиджак и брюки, а Ливанов сверял карту и разрабатывал маршрут, по которому они должны были пробираться к поляне. Ночью они двинулись в путь и только на вторые сутки, заметав за собою все следы, вышли на ту поляну, где были спрятаны продукты, вещи и деньги. В кустарнике Радыгин соорудил шалаш, обтянул его плащ-палаткой, постелил травы и уложил измученного капитана в этом новом жилище, завесив вход своей нижней рубашкой. — Теперь, товарищ капитан, ты будешь вроде как на курорте, — сказал Радыгин, — отдыхай, пока не прилетит самолет. До самого вечера Радыгин находился в непрерывных хлопотах. Он отыскал родник, проверил запасы продовольствия, вычистил пистолеты и с грустью заметил, что делать больше ему нечего и что он может спать, но спать ни Ливанову, ни Радыгину не хотелось, и они проговорили всю ночь, не разжигая костра. Не разжигали костра они и в следующие три ночи, боясь, что их могут обнаружить. С вечера Радыгин выходил на поляну с заряженной ракетницей, ожидая самолета, но самолета не было. На четвертые сутки кончились продукты, и Радыгин всю ночь протосковал на поляне, а когда стало светло, он вошел в шалаш и с затаенной нежностью посмотрел на больного капитана. — Ну, как там? — спросил капитан, приподнимаясь и кулаками протирая глаза. — Светает, — сказал Радыгин, — кругом тихо, хоть садись и вспоминай про детство. Радыгин криво усмехнулся и прижал ладони к животу. — Подвело с сухарей-то, даже в задумчивость бросило! Сижу это я у шалаша и думаю: «Смешно, миллионеры, а жрать нечего». Смеюсь потихоньку и разными мыслями забавляю себя. Ведь если разобраться в смысле жизни, то каждый человек до самой смерти поднимается на гору. Одну гору одолел, а на пути стоит другая, другую перевалил, смотришь — выросла третья. Так вот и идет хороший человек от одной горы к другой горе. — Ну, а как же ходит плохой человек? — спросил Ливанов. — А никак, в его жизни, товарищ капитан, нету больших вершин. Нету и большого воображения. — С чего это, Паша, ты таким задумчивым стал? — А вот от всего, что вокруг меня. Тут вся моя родня жила, а теперь от ихнего жилья только одни фундаменты и остались. — Ну, а кого же ты из них больше всех уважал? — Деда. Ты знаешь, какой он у нас был справедливый человек! И Радыгин стал рассказывать, сначала про отца, который хотел, чтобы его дети стали телеграфистами, но ничего для этого не сделал, а затем и про деда-извозчика, который запивал в те дни все сильнее и сильнее, потому что в городе появились первые такси. Однажды он пропил все — и лошадь, и сбрую, и пролетку, и даже ременный кнут. Дед пришел домой в опорках, без картуза и верхней рубахи и, переступив порог, сказал: «Шабаш! Одолели проклятые таксомоторы» — и повалился на пол. Но дня через три сноха достала ему где-то денег, и он выкупил все, что пропил, и снова выехал на биржу, а потом, гуляя как-то в трактире, он совсем захмелел и бросил бутылку в портрет эстонского президента. Из участка Радыгин привез деда со сломанными ребрами и впервые увидел, как умирает человек. Дед умирал тихо в красном углу под зажженной лампадой, и только один раз, когда старику сказали, что священник не хочет его соборовать, дед вдруг поднялся на локти и гневно проговорил: «Читайте молитву, пусть видит бог — я помираю за правду». И я, товарищ капитан, стал читать молитву: «Отче наш, иже еси на небеси». Радыгин грустно улыбнулся, а Ливанов разломал сухарь пополам и предложил своему спутнику закрыть глаза. — Кому? — спросил он, показывая пальцем на кусок сухаря. — Тебе, товарищ капитан, и второй — тоже тебе, я как-нибудь обойдусь. Ты понимаешь, вздремнул я с голодухи и вижу во сне деда. Приехал он будто бы с биржи и полную пролетку гостинцев привез. Ты будешь смеяться, товарищ капитан, но мой дед был в душе революционером. — Ну, а отец? — Что отец, не желаю я на рассвете про него рассказывать, не заслужил! Радыгин пошевелил плечами, затем густо сплюнул и крепче прижал ладони к животу. — Да, товарищ капитан, выходит, что и мы в голодной блокаде. Но не сдадимся, снаружи уже светает, авось отогреемся. Хочешь, давай посмотрим, как солнце будет всходить над жизнью. — Хорошо, — сказал капитан, — только ты мне помоги выбраться, очень голова кружится. Они выползли из шалаша, и Радыгин, выбрав место посуше, расстелил плащ-палатку, потом снял с себя пальто и укрыл капитана, положив его на правый бок, лицом к востоку. Кругом стояла тишина, и в этом величественном лесном безмолвии было слышно только одно: как с веток на поваленный ствол березы срывалась роса. Она стучала глухо, отягощала листья, разбивалась на раскрытых ладонях папоротника и мутно поблескивала в траве. От травы тянуло колючим холодком, и Радыгин ежился, поглядывая то на светлеющие вершины деревьев, то на луну, заваленную белыми облаками. Он вышел на край поляны и остановился. Вся поляна была подернута туманом, и за этой низкой пеленой виднелись неподвижные березы, будто погруженные до колен в тихое весеннее половодье. А за березовыми кронами начинался горизонт. Он все ярче набухал краснотой на востоке, и вскоре с той стороны послышалось мерное шмелиное гудение, и небо вдруг ожило, задребезжало, покрылось пятнами и сразу же забурлило от разрывов зенитных снарядов. «Что это?» — подумал Радыгин и обернулся, услышав торопливые шаги капитана. Ливанов шел к Радыгину без пальто, с непокрытой головой, и его заострившееся лицо болезненно улыбалось, а глаза светились радостью и были устремлены в небо. Капитан обнял Радыгина. — Паша, — сказал он, — ты понимаешь, что происходит? — Догадываюсь — это наши, товарищ капитан. — Конечно, наши, но это значит, что до сих пор мост не восстановлен. Это значит, что восстановительные работы там происходят только по ночам, а днем им не дают даже поднять головы. Теперь-то ты понимаешь, какие мы с тобой молодцы? Они сели рядом, и Радыгин, придерживая капитана за плечи, стал напряженно вслушиваться в нарастающий гул моторов. — Вот теперь, — сказал Ливанов, — и я чувствую себя неплохо. То, что сейчас происходит, — это дело наших рук. Неважно, что в этом лесу затерялись два маленьких голодных человечка. Все это, Паша, чепуха по сравнению с тем, что мы уже сделали. Ты только пойми: мы взорвали мост, десятки воинских эшелонов мы сбили в кучу, и сейчас эти составы начнут бомбить. Ты слышишь, как густо идут машины? Теперь не так уж важно, что с нами произойдет, главное сделано — и я счастлив. — А ты думаешь, мне плохо? — спросил Радыгин. — Да от этого гуда у меня вся душа захорошела, товарищ капитан. Разрешите поздравить с праздничком! — А знаешь что, Паша, давай побреемся, а то скоро совсем в леших превратимся. — Давай. Во время бритья Радыгин затеял интересный разговор о подвигах и попросил капитана дать точное определение — что такое подвиг и в каких поступках можно увидеть его проявление. Но ответ Ливанова не поправился Радыгину. Капитан привел несколько примеров из авиации, на которую Радыгин был сердит уже четвертые сутки. — Опять летчики, — сказал Радыгин, — будто бы они одни только и воюют. А мне нужны примеры из пехотной жизни. Вот был у нас такой разведчик, по фамилии Сазонов. Интересно, что он совершил — подвиг или пшик? И Радыгин взволнованным голосом стал рассказывать, как однажды во время боя этот разведчик был ослеплен разрывом снаряда и как он двое суток блуждал по нейтральной полосе. Он ослеп, но все-таки прорвался к своим сквозь минированное поле, умирающий от голода, с шестью нулевыми ранениями и перебитой рукой. В здоровой руке он принес две пуговицы, срезанные с мундира пленного, которого так и не довел до своих траншей. — Или вот тебе еще один пример, — сказал Радыгин. — С разведчиком это было, с Панкратовым. Пробрался он как-то в занятую немцами деревню. Сделал там свое дело, хотел уже домой подаваться, только видит — стоит в саду ведро, а в ведре соты, полные меду. Ну, мед, сам понимаешь, продукт очень даже притягивающий, особенно если у тебя в роте, прямо скажем, жрать нечего. Обрадовался наш разведчик. Взял это ведро, пробился с ним в свою роту, честно порезал соты на куски и поделил между товарищами. Сели они, значит, чай пить. Панкратов открывает рот, тихонько кладет туда кусочек меду и уже собирается запить все это дело чайком, как вдруг слышит удар в язык. Выплюнул он мед изо рта и видит, там шевелится пчела. Вот с этого момента, товарищ капитан, он и принял страдания. Трое суток он не мог ни есть, ни пить, ни пошевелить языком. А ты мне тут про летчиков толкуешь. Насчет героизма можешь не сомневаться. Его хватает и в пехоте. — Послушай, Паша, кто же с тобой собирается спорить? То, о чем ты сейчас рассказал, — это действительно подвиги. С такими солдатами можно выиграть войну и пострашнее этой. — А таких солдат много. Их на тыщи и то не пересчитаешь. Полой рубахи Радыгин вытер бритву, обернул ее в тряпку и бросил в вещевой мешок. — Мне кажется, Паша, ты должен нынче же совершить путешествие к большой дороге: кушать-то нам нечего, а самолет сегодня — ни черта не прилетит. — Вот она, твоя хваленая авиация, — сказал Радыгин, — она нас тут с голоду уморит. Надейся на нее! — Ну ничего, сейчас я надеюсь больше на тебя. Постарайся достать еды, только в деревни не заходи. Возьми пару гранат и действуй. Вернуться должен к вечеру. Главное, чтобы все было без озорства, — и боже тебя упаси брать за горло мирных жителей. — Я не маленький, товарищ капитан, понимаю. И через несколько минут его высокая сутулая фигура замелькала между деревьев и исчезла в лесу. Проводив Радыгина, капитан осмотрел свой пистолет. Стараясь согреться, Ливанов переворачивался то на бок, то на спину, но дрожь все чаще пробегала по всему его телу, мутила рассудок и мешала ровно дышать. Боли в затылке и приступы тошноты давно уже согнали насмешливую улыбку с лица капитана, и он стучал зубами, корчился, глубже засовывал потные руки в карманы и сдувал горькую зеленоватую пену с губ. Потом он затихал, чувствуя, как все его тело освобождается от боли, и прислушивался к заунывным посвистываниям какой-то птицы, которая перепрыгивала с ветки на ветку, но не улетала от шалаша. Что-то знакомое и давно пережитое чудилось в посвисте этой птицы, в запахе трав и в, поваленной мертвой березе, которую со всех сторон окружали живые деревья. Он редко думал о прошлом, но сейчас этот лес, пение птицы, яркий папоротник у шалаша напоминали ему о том трудном времени, когда он прямо из Горного института ушел на войну и отступал вместе со всеми по этим болотистым местам. С жалкими остатками полка они прижимались к большим дорогам, перерезанным немецкими подвижными частями, и вели неравные бои, ожесточаясь и погибая. Он забыл название станции, где в разбомбленном зале увидел на буфетной стойке высокую вазу с дамским каблучком, но хорошо запомнил дом одного из русских декабристов, разрушенный бомбой, и какую-то женщину, стоящую на коленях перед кандалами Никиты Муравьева. А как же называлась деревня, где горела церковь и где в подвале сидели дети, женщины и старики, спрятавшиеся от бомбежки? Да, много всяких вещей и пострашнее горящей церкви промелькнуло в тот месяц. Вот в такое-то время он встретил в лесу Инну, голодную, с потертыми ногами, и шесть суток метался с ней вдоль дорог, стараясь прорваться к Вырице. Они обходили горящие деревни, кружили около станционных разъездов, попадали в болота, а на седьмой день окончательно заблудились и оказались в окружении. Грустная была эта ночь. Он расстелил плащ-палатку, и девушка легла рядом с ним и долго не могла заснуть. — Послушайте, — тихо сказала она, — вы помните наш уговор. Плена не будет, пройдет еще день или два, и мы погибнем. И вы знаете, Володя, сколько у меня в жизни останется неиспытанного. Меня учили, как надо умирать на сцене, и я много раз умирала, не понимая, почему люди так мучительно расстаются с этим миром. Смешно, правда? — спросила она и заплакала. Только на десятые сутки они прорвались к своим, и, когда Инна увидела ополченцев, она растерянно засуетилась, поправляя волосы, стыдливо прихорашиваясь, и впервые за всю дорогу вынула из кармана зеркальце и посмотрелась в него. Потом она работала сестрой в пехотном полку, и однажды Ливанову позвонили оттуда и сказали, что она убита, но тогда это известие почти не удивило его, и он отыскал Инну на Колпинском кладбище, около большой братской могилы, среди мертвых солдат, одетых в новое обмундирование. В левом кармане ее гимнастерки он нашел неоконченное письмо, аккуратно пробитое пулей. Сложенный вчетверо, этот листок был адресован ему, и речь там шла об одном очень хорошем сне, который увидела Инна накануне боя. Будто бы они сидят в мирный солнечный день в сквере на Петроградской стороне в тени большого дерева и никак не могут унять свою расшалившуюся дочку. Так вот и кончилась вся эта история. Ливанов дожевал последний кусок сухаря и перешел на другое место. Он лег около поваленной березы, лицом к небу, ощущая приятный озноб в теле и теплое дыхание леса, нагретого солнцем. Изредка по лесной поляне прокатывалась волнами знойная зыбь, оставляя тонкий запах то полыни, то папоротника, то сырого мха. Был полдень, слабый ветер лениво шевелил листву, еле колыхал зной над кустарником, и от этого колыханья еще неподвижнее казался весь остальной мир с белым солнцем в зените, с безоблачным небом и банной духотой. Тяжелой тишиной раскинулся мир сейчас перед Ливановым, наполнился величием и каким-то тревожным, но непонятным значением. Голод теперь уже причинял Ливанову острую физическую боль, и оттого, что он с каждым часом терял силы, мысли его путались, и ему даже послышалось гудение самолета. «Наверное, это за нами, — подумал он. — Надо улетать сию же минуту из этого проклятого места». Он привалился спиной к пню и положил около себя ракетницу. «Но где же Паша? А впрочем, без него я все равно не полечу. Не улетел бы без меня и Паша. Да, что там ни говори, а вера в людей — прекрасная вещь. Ты, Паша, однажды хорошо сказал: «В нашей смертной службе что ни день, то убыток». И это верно. Пожалуй, и меня война свалит, как вот эту березу», — подумал капитан, и от такой внезапной мысли у него защемило сердце и в то же время вспыхнуло огромное желание жить. Он потрогал почерневший ствол березы, прислушался к пению птиц и скупо улыбнулся, видя, что лес не стал беднее и реже от одного упавшего дерева. Затем он закрыл глаза, и ему померещилась поляна и на ней человек в рваной куртке, с ярким номером на груди. — Это мой номер, пятьсот тридцать восьмой, — сказал капитан. — Значит, ты жив, Макаров? Как я рад, что тебя не расстреляли. — Молчи. Слышишь? Про меня ни звука. Это тебя расстреляли, а я живу. Вот поговорю с тобой немножко — и двинусь дальше. Только ты, будь другом, укажи мне дорогу к станции. Макаров сел рядом с Ливановым, и, когда заметней спала жара и сильней подул ветерок, капитан очнулся и вместо Макарова увидел Радыгина, который широко улыбался и на ходу вынимал что-то из-за пазухи. — Как здоровье, товарищ капитан? — Пока ничего. Ну, а у тебя как? — Вот курочку принес. — Но я же тебя просил в деревни не заходить! — А я и не заходил. Радыгин извлек из кармана с десяток морковок, краюшку черствого хлеба, соль, луковицы и, разложив все это перед капитаном, почмокал губами, затем решительно вынул из ножен финку и стал потрошить курицу. Чувствуя голод, капитан отвернулся от Радыгина, а тот сходил к ручью, потом воткнул в землю две рогатки, положил между ними перекладину и, повесив на нее котелок, долго возился с сырыми ветками, разжигая костер. А когда вспыхнул огонь, Радыгин, отдуваясь и кряхтя, сладко потянулся, словно после тяжелой работы, и грязной полой рубахи вытер вспотевшее лицо. — Ну и банька, парит, хоть ложись под веник! — заметил он и сел рядом с капитаном. — Тебя бы надо было положить не под веник, а под палку, — вяло сказал капитан, — всыпать бы тебе штук двадцать, тогда бы ты узнал, чем пахнут чужие куры! — А они пахнут одинаково, и свои и чужие, — сказал Радыгин. — Пожалуйста, я могу лечь и под палку, но только после войны. Вздыхая от неблагодарности Ливанова, Радыгин свернул цигарку, отдал ее капитану и начал рассказывать про свой поход, сначала сухо и равнодушно, но затем все больше оживляясь и меняя интонации, а иногда переходя даже на шепот. — Встал это я на бугор, приложил руку ко лбу и вижу такую картину: за деревней выгон, а за выгоном речка, а на берегу, понимаешь, сидит под ветлой подпасок, а старый пастух его по носу щелчками хлещет. «Здравствуй, говорю, старый человек. За что это ты так на мальчишку навалился?» — «А вот, — отвечает он мне по-эстонски, — казню за карты русскую сироту. Проиграл он мне сто щелчков, за это и наказываю». Ну, пустились, конечно, в разговор. Хлеба в деревне нет, одежи не предвидится, а насчет духовности и не спрашивай — полное затемнение! Прихлопнули фашисты школу, а ребятишки по глупости обрадовались, а потом как узнали, что учительницу-то увезли в гестапо, такая на них тоска напала, что ударились они кто в карты, кто в орлянку, ну, просто затмение ума-разума — и все! А тут смотрю: бежит какая-то девчонка и кричит: «Анскуль, Анскуль, иди к Калле, там бугая привели», и пошел старик посмотреть, какой он из себя будет, этот бугай, а я подался в лес, но только чую — кто-то сзади шуршит легкими ногами. Оглянулся — подпасок. Подскочил он ко мне и цап меня за штаны. Я его отдираю от себя, а он никак, горит весь, заходится. «Лушку, говорит, угнали вместе с мамкой, отца замучили, у меня отец партизаном был!» — «Так чего же тебе нужно, спрашиваю, чертенок»? А он мне предъявляет ультиматум: «Дай, говорит, гранату, и все! Тут, версты за три, на дороге, крутой поворот есть. До леса можно рукой достать. Как только ночью пройдет машина с карателями, так я и запущу в них гранату». — «Вот что, говорю, ты как хочешь, но задаром я тебя вооружать не буду. Мне требуется живность. Если достанешь тихо и благородно, так, чтобы все концы в воду, значит — получишь гранату, а не достанешь — прощай». И представь себе, товарищ капитан, обернулся он в семнадцать минут с курочкой в живом виде. Он мне и хлеба принес, и морковки, и все прочее. Думаю, что эта сирота еще покажет свой характер.
Через час, сытно пообедав, они решили отдохнуть в шалаше на плащ-палатке и легли рядом, но капитану спать не хотелось, хотя боли прошли, а Радыгину было просто скучно, и он томился после обильной еды и рассеянно покачивал одной ногой, а другой упирался в землю. — Да, — задумчиво промолвил Радыгин, — неинтересный я человек… понимаешь, с малолетства подбили мне ноги. У других русских детей и родина была как родина, и отцы были как отцы, а мой старик был таким, что ставь меня хоть под пулю, а ничего хорошего я о нем не скажу. Как-то на пасху, понимаешь, когда меня не было еще на свете, услышал этот старый дурак перезвон колоколов и задумался над жизнью. Вечерний звон… вечерний звон… а говорят, сочинитель-то был слепой, ничего он не видел, а только ходил около жизни да постукивал палкой. А надо сказать, мой отец был человеком возвышенным, и, вместо того чтобы приглядеться к земле, он подымал свои маяки к небу и читал книжки о приключениях разных святых угодников и тому подобных элементов — ну и дочитался! Ты чего это — никак спишь? — внезапно спросил Радыгин. — Нет, что ты, я слушаю, — сказал Ливанов. — Ну так вот — и решил мой отец спасаться. Стал он откладывать половину жалованья в банк, чтобы, значит, ровно через двадцать пять лет купить колокол и подарить эту медную бандуру нашей приходской церкви. Вот тут и стало всю нашу семью продувать сквозняком. Мать, конечно, в слезы. Что там ни говори, а настоящая мать разве может променять своих детей на какой-то колокол. И, понимаешь, была она для нас как костер в темноте! Нет у меня слов, товарищ капитан, больше ничего не скажу про эту светлую женщину, а про отца могу хоть до утра рассказывать. Он хотел пролезть в святые, но не вышло! — сказал Радыгин и умолк. Трясущимися пальцами он свернул две папиросы, потолще — для капитана, другую — для себя, и, прикурив, услышал мышиный шорох за спиной Ливанова. Это шуршали миллионы, на которых лежал капитан. Стараясь еще больше огорчить и разжечь себя. Радыгин вспомнил скупость отца, его жестокость к родным и нахмурился. — Мой отец, — сказал он, — на этом колоколе хотел приплыть в рай. Двадцать пять лет он относил половину получки в банк, а я в это время ударился в озорство, сестры — в слезы, а мать от горя повалилась на кровать и перед смертью плюнула батьке в лицо. «Это тебе, говорит, за детей, а это — за колокол!» И действительно, разве могла она, старая, слушать, как в этом колоколе звенят наши слезы! Таким манером провоевал он с семьей двадцать да плюс еще пять — значит, четверть века, сбил всех с истинного пути и в семнадцатом году привез отлитый колокол. Отправился он в приходскую церковь, а там — паника, и староста плечами пожимает, но дарственную бумагу не берет. И пошел тогда старик по монастырям. Бросил семью, и службу, и дом, чтобы, значит, подарить монахам свой колокол, а там пожары на полнеба, именья немецких баронов горят, шум и гам, и все из-за этой вот штуки, — сказал Радыгин и ткнул пальцем в землю. Одним словом, много выбили пыли из старика. А тут братья мои вернулись с германского фронта. Открыли они сарай, поглядели на колокол, пошептались, а дня через два погрузили эту музыку на телегу и отвезли в железнодорожные мастерские. Там бронепоезд делали для питерских рабочих, а меди на подшипники не хватало… Так за разговорами просидели они до сумерек. На поляне, как озерная вода, колыхался туман. Синий сумрак заслонил все пространство между деревьями, и лес постепенно замолкал. Наступила ночь, и нарастающий ветер сдул туман с поляны, распрямил унылые ветви берез, наполнил лес запахом мокрой полыни, стуком падающих шишек и шорохом трав, прижатых к самой земле. А Радыгин все рассказывал о своей семье, но говорил он больше для того, чтобы заглушить в себе одну нехорошую мысль, которая все чаще стала беспокоить его. Днем он еще верил в спасение и надеялся, что за ними пришлют самолет, но, когда наступала тоскливая, голодная ночь, сомнения начинали одолевать Радыгина. Вот и теперь, кончив рассказывать, он с еще большей уверенностью, чем вчера, подумал о том, что никакого самолета за ними не пошлют, и пристально посмотрел в ту сторону, где лежал капитан. — Ты, кажется, что-то хочешь спросить? — Нет, — сказал Радыгин. — Мне и так все ясно. Забыли про нас, товарищ капитан. — То есть как это забыли? Кто забыл? Ливанов приподнял голову и, нащупав руку Радыгина, притянул его к себе. — Послушай, Паша, что с тобой? А ну-ка, выкладывай, кого ты имеешь в виду. — Я про начальство говорю, товарищ капитан. Ведь что такое начальство? — Вот ты и объясни мне, что такое начальство. — Это я могу. Я так думаю: люди мы маленькие. Правильно? — Не совсем. — А я знаю — маленькие. Поэтому какой же расчет начальству посылать за нами самолет. Ведь его сбить могут? — Конечно. — Вот видишь? Это с одной стороны, а теперь посмотрим и с другой. За две недели, пока мы здесь, много воды утекло, а что ж тут удивительного, если начальство могло про нас забыть, тем более когда мы свое дело сделали. — Однако у тебя довольно своеобразный взгляд на начальство, но в этом виноват твой политрук. Занимался он, как видно, с тобой плохо, а жаль. На войне, Паша, нет маленьких людей. Зря ты думаешь, что про нас забыли. Самолет должен прилететь. Ну, а если он по каким-то причинам не прилетит, тогда будем воевать здесь. — Вдвоем? — Не хочешь вдвоем, буду воевать один. — Откуда ты взял, что я не хочу. Я только насчет самолета сомневаюсь — не прилетит он, понимаешь, а здесь плохо, и голодно, и сыро, и ты больной. Ты думаешь, мне легко смотреть, как ты мучаешься? — А ты не смотри и про самолет не думай. Не прилетит, и черт с ним. Но постой. Что это? Ты слышишь? Это они с ответным визитом идут. Отвечают на наш удар, — прошептал капитан и сбросил с себя пальто. На коленях он выполз из шалаша и на огромной высоте увидел опознавательные сигналы головных бомбардировщиков. Самолеты шли к Ленинграду на разной высоте, верхние — с комариным стоном, нижние — с тоскливым подвыванием, как стая голодных псов. Тяжело урча и захлебываясь, они вырывались в синие пространства, не загроможденные облаками, и, блеснув своим темным брюхом, скрывались в белесоватом дыму, курящемся по всему горизонту. — Бензин у них плоховат, — сказал Радыгин, — ишь как скулят! Скоро совсем на одних вздохах летать будут! Он засмеялся, а капитан поднялся на ноги и, прижавшись к дереву, с затаенным дыханием прислушивался к гулу машин. Его лицо, освещенное луной, казалось еще более похудевшим. Радыгин вдруг вспомнил плачущую Серафиму Ильиничну и подумал о городе, погруженном во мрак, где теперь по всем улицам слышатся четкие удары метронома и голос диктора, провозглашающий с горькой торжественностью воздушную тревогу. От возбуждения Радыгин даже приподнялся на цыпочки, словно стараясь за этими деревьями разглядеть город, который сейчас начнут бомбить. — Хорошо, стервецы, идут, — невесело сказал капитан, но Радыгин ничего не ответил, и они простояли так с полчаса, прислушиваясь к отголоскам далекоговоздушного боя, пока в небе вновь не показались самолеты, несущиеся на предельных скоростях. Врассыпную, оглашая лес ревом, они стремительно врывались в облака, и над ними висели русские истребители, и трассы зажигательных пуль, как пучки молний, раскалывали небо и на секунду озаряли вершины деревьев густым грозовым светом. — Давай жми их, — ликующим голосом зашептал Радыгин, — это им не сорок первый год! Фашистский бомбардировщик круто свернул с курса, как бы боясь разбиться о лунный шар, затем скользнул в штопор и понесся, стряхивая огонь и дым со своих окровавленных крыльев. Проводив насмешливым взглядом горящую машину до горизонта, Радыгин пожелал спокойной ночи ее экипажу и направился к тому месту, где были приготовлены сухие ветки для костра. Вскоре и Радыгин и капитан забыли про ночной налет. Они лежали в мокрой траве, прижавшись спиной друг к другу, и косились на тихое небо — капитан с нескрываемым бешенством, а Радыгин равнодушно, как будто бы заранее зная, что ничего хорошего не надо ждать от этой глубокой звездной высоты. — Ну что, тлеешь? — Томлюсь, — сказал капитан, — ломает всего насмерть! — Это и понятно, ведь от контузии человек чумеет хуже, чем от стреляной раны. Тут всё дело в системе нервов, но у тебя, я думаю, и без докторов обойдется. Ты человек здоровый, отлежишься, а маленько попозже приедешь к этим местам на дачу, пойдешь за грибами, ан и вспомнишь, как мы с тобой куковали. — Ну, это будет не так уж скоро, а пока держи пистолет и гранаты наготове. До рассвета Радыгин последними словами ругал авиацию, а капитан молчал, укутанный с ног до головы, и задыхался под одеждой. Он прислушивался к бормотанию Радыгина и видел, как тот исступленно поднимал кулаки к небу, несколько раз садился на землю, потом внезапно вскакивал, дрожа от холода, и начинал приседать, широко размахивая руками. — Без кофею лететь не можешь! Ну и не надо, обойдемся и без тебя, трепло небесное! Товарищ капитан, а если этот кукурузник не прилетит, сколько же ночей нам еще маяться на этой поляне? — Придется ночки три подождать. — А по-моему, надо заранее на этом деле поставить крест. Вон уже скоро светать станет, а наш архангел сидит себе в столовой и кофей ждет. Без кофея он лететь не может, это я знаю. Но когда на востоке показалась первая полоска зари, они услышали равномерное гудение самолета и зажгли костер. — Идет, идет, голубчик, натощак прет! — восхищенно воскликнул Радыгин. Прищуренными глазами он следил за машиной, а капитан придвинулся к огню, сидя выпустил три ракеты, которые с густым шелестом пронеслись над вершинами деревьев. Заметив правильные сигналы, летчик резко пошел на снижение, а Ливанов и Радыгин стали за деревья и молча наблюдали за посадкой. Примяв траву, машина остановилась. Но винт ее продолжал работать, и от этого она была похожа на огромную, настороженную птицу, прижавшуюся к земле. Из кабины показалась голова пилота. Воровато осмотрев поляну, он высунулся до пояса, держа пистолет в руке, и вдруг зевнул так сладко, что Радыгин рассмеялся, а капитан, еле передвигая ноги, вышел из-за деревьев и закричал: — Здорово, земляк, с приездом! — Здравствуйте, товарищи, — ответил летчик заученными словами пароля и выпрыгнул из машины. Он обнял капитана, но, почувствовав что-то неладное во всем его обмякшем теле, быстро отстранил от себя. — Вы ранены? — Контужен, — сказал капитан и животом привалился к крылу машины. — Поторапливаться бы надо! — заметил Радыгин. — Ты небось кофейком успел побаловаться, а мы тут с голоду пухнем. Чего вчера не прилетал? — Вот именно что прилетал, два раза поднимался, а найти не смог. Вы бы еще в берлогу забились, тоже нашли местечко для посадки, воробей я, что ли! — А нам какое дело, сожмись хоть в комара, а задание выполни, — важно сказал Радыгин и угрожающе тряхнул головой. Пока он складывал деньги в один мешок и грузил весь свой скарб, летчик заправил бак бензином, отдал капитану меховую куртку, устроил его поудобнее в багажнике и отошел от машины, тревожно поглядывая в небо. — Ну как ты, долго еще будешь канителиться? — спросил он Радыгина. — Сам же торопил… — А вот сейчас, сыщу камень — и поехали. — Какой камень? — Да обыкновенный, — сказал Радыгин, — хочу пробомбить. Как подлетим к Пулкову, так я их и поздравлю с добрым утром. — Шикарная будет бомбежка, — насмешливо заметил летчик. — А с такой машины иначе и бомбить нельзя, — ответил Радыгин, снисходительно осматривая пилота. — Мне бы интересно задать один вопрос: не летал ли на ней Иван Грозный, больно лютая машина! — А ты, парень, видно, жох, — сказал летчик, — за таким надо бы торпедоносец прислать, но ты извини, не сообразили. Летчик добродушно хлопнул Радыгина по спине, затем усадил его за пулемет и, забравшись в кабину, круто повернул голову, как это делал всегда перед взлетом, словно спрашивая своих спутников, готовы ли они в дальний путь. — Ну, отчаливай, — попросил Радыгин пилота и картинно откинулся на спинку сиденья. Он не заметил, как машина оторвалась от земли, но сразу же почувствовал ее неустойчивость в воздухе и втиснулся поглубже в кабину, ухватившись руками за ремень. Машина карабкалась вверх, напрягалась, дрожала всем телом, оступалась, как лошадь на скользком подъеме, и, фыркая, упорно дергалась вперед. «Ну, давай плыви, старушка», — думал Радыгин, посматривая вниз, где гремел сырой ветер, словно вешний поток воды. Пока машина выравнивалась, Радыгин чувствовал себя очень одиноким и затерянным, но всем своим существом отвечающим за жизнь капитана и за эти миллионы, с которыми он блуждал по звездному пространству. В небе горело еще несколько утренних звезд, и от этого оно казалось куда веселее земли, но вскоре Радыгин стал различать лесные массивы, желтые испарения, поднимающиеся из болот, и лучистые скученные огоньки, которые светились, как ночные порты на черноморских берегах. «Ну, не кряхти же, ведьма, — думал он, прислушиваясь к потрескиванию крыльев, — эка расхворалась как!» Он хмурился, томился, ерзал по кабине, подбородком упирался в козырек машины и подталкивал ее во время оседания, а когда под крылом вспыхнуло огромное озеро, Радыгин взялся даже за сердце и с тревогой посмотрел вниз. Там, за бортом машины, темной величавой синевой блестела вода. Она казалась одноцветной и твердой, как лед, и только на горизонте была тронута красным отсветом зари и задымлена далеким пароходом. Летчик повернулся и кивком головы показал Радыгину на истребителей, которые внезапно вывалились из облаков и понеслись навстречу самолету, легко покачиваясь и скользя. Радыгин понял, что это свои, и замахал руками, приглашая головную машину подойти поближе, словно старого приятеля. Почти до самого аэродрома четыре истребителя конвоировали У-2. По мере приближения к городу лицо Радыгина принимало все более заносчивое выражение, а душа наполнялась гордостью за все, что они пережили с капитаном, и, главное, за то дело, которое благополучно завершалось в эти утренние минуты. Он чувствовал себя так хорошо, словно вез счастье для всего города, но люди еще не знали, что оно у него в руках. — Ну как, бомбардир, живой? — закричал летчик Радыгину, когда машина остановилась около деревянного барака. — Целый, — сказал Радыгин и подошел к багажнику. Он помог капитану выбраться из самолета, затем оттащил его метров на десять от машины и уложил на траву. Ливанова сильно знобило. Он тяжело дышал, и от всего его тела веяло жаром и мягким дрожжевым запахом, словно он пролежал несколько часов на солнцепеке. — Товарищ капитан, товарищ капитан, — сказал Радыгин, опускаясь перед ним на колени, — очнитесь, мы прилетели. — Кто это? — спросил Ливанов, и на его потемневшем лице появилась слабая улыбка. — Это я, Радыгин, не бойтесь. — Я не боюсь. Где мы, Паша? — Дома! Ну откройте глаза, видите — аэродром. Вон наш архангел ходит, вот мешок с деньгами. Вы пока покараульте, а я сбегаю в штаб насчет машины. Вас домой или в госпиталь? — В госпиталь, на Суворовский. Пусть туда позвонят из штаба. Через несколько минут они на полуторке выехали с аэродрома, и Радыгин всю дорогу придерживал мешок с деньгами, то прижимая его к кабине, то садясь на него верхом. Он смотрел на мелькающие дома, на женщин, стоящих в очередях, загадочно подмигивал постовым милиционерам, а когда машина проскочила госпитальные ворота и, визжа тормозами, резко остановилась у подъезда, Радыгин вдруг почувствовал щемящую боль в душе и тяжело выпрыгнул из кузова. — Прощайте, товарищ капитан, — глухо сказал он, когда санитары положили Ливанова на носилки, — спасибо вам за все. — Что ты, Паша, это тебе спасибо. Приходи проведать. — Обязательно приду, а теперь какие будут приказания? — Сдай деньги в разведотдел полковнику Термигорову. Вот ему записка. Ну, до свиданья. Радыгин нагнулся и осторожно пожал руку капитана. Он нагнулся еще ниже и увидел большие, влажные глаза капитана, белую нитку, прилипшую к его мокрому лбу, и впалые щеки, которые были покрыты такой болезненной серостью, словно он много суток пробыл в пути. Радыгин проводил взглядом носилки с капитаном, затем сел в кузов машины и хмуро сказал шоферу: — Видал, с каким человеком приходится расставаться. Ну чего же ты, заводи, поехали! — Куда? — В Благодатный переулок. — У меня бензину не хватит, — отчужденно сказал шофер. — Если не хватит, повезешь на своих слезах, понял? И чтобы мне без лишних разговоров. — То есть, позвольте, я приказ имею по поводу раненого, и вы, гражданин, на меня не орите. Я военнослужащий. — А я кто, баптист, по-твоему? — сказал Радыгин. — Не знаю, в таком мундире я вас могу довезти только до трамвая. — Ну, черт с тобой, нажрал в тылу пузо и лишний вершок проехать не хочешь. Вези хоть до трамвая, — с раздражением сказал Радыгин и уничтожающим взглядом окинул тощую фигуру шофера. Вспомнив про свои фальшивые документы, Радыгин притих и после долгих, заискивающих просьб уговорил наконец дежурного, который стоял в воротах госпиталя, принять на хранение вещевые мешки. — Ведь мне же до Благодатного, товарищ дежурный, посудите сами — ишак и тот бы рассыпался под такой нагрузкой. Разрешите еще узелочек сунуть в вашу будку. Сдав вещи в надежные руки, Радыгин повеселел и вскоре оказался на передней площадке трамвая, загораживая мешок с миллионами и держа под мышкой сверток, в котором были разные мелкие хозяйственные вещи. На Сенной площади сошло много народу, и площадка опустела. Радыгин с облегчением вздохнул и вдруг тихо засмеялся, подпирая деньги коленями. — Молодой человек, а молодой человек, платить надо! — язвительно сказала кондукторша, приоткрыв вагонную дверь. — Ах, барышня, извините, но я могу ездить бесплатно. — Сначала заработай орден да побрейся. На нашем маршруте, молодой человек, люди ездят с винтовками, а не с мешками. — Послушайте, гражданочка, вы мой мешок не трогайте, а насчет платы — это правильно, платить надо. Вот сейчас достану деньги, и пожалуйста! Пройдите пока в вагон. Радыгин решительно запустил руки в карманы, но там, кроме записки, немецких марок, фальшивых документов и пистолета, ничего другого не оказалось. — Представьте себе, какое печальное стечение обстоятельств, — сказал Радыгин и с изумлением протянул ладони кондукторше. — Пусто! Деньги забыл в шкафу. — Вот сдам постовому, тогда будешь помнить. Люди воюют, а он с мешками разъезжает. Платите, гражданин, за багаж! — Ну, нету, понимаете, нету. Такая интересная женщина — и портит свои нервы из-за рубля. Отвернитесь, я посмотрю еще в одном месте. Радыгин расстегнул пиджак, наскреб в карманах остатки махорки и шире приоткрыл вагонную дверь. — Граждане великого города, — сказал он, обращаясь к пассажирам. — Извините за беспокойство, но мне нужен рубль, хотя бы в обмен вот на этот табачок. — Ну что ж, давай меняться, — сказал пожилой мужчина, протягивая Радыгину рубль. — Благодарю. Получите, товарищ кондуктор. — Я тебе не товарищ! — крикнула кондукторша. — Правильно. Не бери у него деньги. — Гони его, спекулянта, с площадки. — Я не понимаю, чего она с ним церемонится. — Мужчины, выбросьте его к чертовой матери из вагона! — И это будет совершенно справедливо, — заметил один из пассажиров, поправляя на носу пенсне. — Видали, граждане, товарища нашел! — снова закричала кондукторша, воодушевляясь поддержкой пассажиров. — Да я бы таких мешочников к стенке ставила. — И это было бы тоже справедливо, — опять согласился человек в пенсне. — Тетеньки, тетеньки, — вдруг громко сказала девочка лет девяти. — Зачем же его ставить к стенке? Пусть лучше вот этот военный дяденька проверит у гражданина документы. — А позвольте вас спросить, граждане, на каком это основании вы желаете выбросить меня из трамвая? — Радыгин просунул голову в вагон и улыбнулся пассажирам. — Воевать надо, понял? — Как будто понял, и даже раньше вас. Вот вы меня оскорбляете, а все без толку. Документы у меня есть. Ордена тоже имеются. Может быть, я исполняю службу поважней вашей. Может, я контуженный? — Не пугай, не страшно. Ишь как спалил харю-то, будто на курорте был, контуженный! — взвизгнула кондукторша и с треском задвинула дверь. На кольце Радыгин сошел с трамвая, дружелюбно попрощался с кондукторшей и, взвалив мешок на плечо, направился к виадуку по теневой стороне Международного проспекта. Где-то под Пулковом с лихорадочной поспешностью били пушки: они били залпами, и огонь этих орудий корректировался с аэростата, который высоко покачивался в волнистом небе и был густо обложен разрывами шрапнельных немецких снарядов. Редкие прохожие с любопытством смотрели на Радыгина, на его помятое пальто и грязные брюки, а он, охваченный беспокойством, все чаще перекладывал мешок с одного плеча на другое и все больше сгибался под ношей, обливаясь потом и ругая шоферов. Наконец, миновав завод «Электросила», Радыгин подошел к зданию штаба и, увидев часовых, остановился перед входом и потребовал дежурного офицера. В коридоре разведотдела все было по-прежнему, мелькали те же лица офицеров, стоял тот же папиросный запах, что и две недели тому назад, такой же бледный свет падал на пол от электрической лампочки, и такие же звездные тени от нее неподвижно лежали на потолке. Здесь у Радыгина не было ни друзей, ни знакомых, но в гудящих голосах телефонистов, в суете связных, в щеголеватости разведчиков он сразу почувствовал что-то родное и вспомнил своих товарищей, оставшихся в Авиационном городке. «Живы ли они там?» — с тревогой подумал он, но в это время его позвали к полковнику, и Радыгин, волоча за собой мешок, остановился посредине кабинета, затем выпрямился и увидел Термигорова, торопливо поднимающегося с кресла. — Ну-ка, моряк, покажись, сейчас мы тебя разглядим получше, каков ты есть в штатском? Хорош, молодец, — сказал полковник, с удовольствием потирая руки. — Ишь как ты раздобрел на чужих харчах. — Разрешите доложить, товарищ полковник. Черта с два у них там раздобреешь! Вам имеется записка от капитана Ливанова. Полковник развернул записку, и лицо его как-то сразу потеплело и показалось Радыгину не таким уж строгим. — Так-то вот, Паша… А ведь вы могли и не вернуться. Задание-то какое, а? И справились и оба живы, несмотря, как ты говоришь, на печальное стечение обстоятельств. Ну, рассказывай. И Радыгин торопливо и невнятно стал рассказывать о контузии капитана, о взрыве моста, и о миллионах, и что он, Радыгин, сделал все, чтобы Ливанову было легче. — Мост вы взорвали отлично. Еще раз большое вам спасибо. Придется доложить члену Военного совета. — Да уж я извиняюсь, но капитану приходится большая награда, — мягко сказал Радыгин и сощурил глаза. — Ну, а тебе разве не причитается? — спросил полковник, по-отечески кладя свои тяжелые руки на плечи Радыгина. — А мне бы расписочку — дескать, так и так, но все три миллиона сданы полностью государству. — Расписку ты безусловно получишь, так же как орден и отпуск. — Отпуска мне не надо, — сказал Радыгин. — Я решил соблюдать себя для семейной жизни. А вот по своим ребятам-разведчикам я до того соскучился, что это просто немыслимо, как передать. Может, вы желаете взглянуть на миллионы? — Нет, не хочу, — ответил полковник, — пойдем-ка лучше к начфину. Пусть он с тобой займется, а я прикажу приготовить тебе документы и обмундирование. Есть хочешь? — А как же! Мы там с капитаном чуть с голоду не сдохли, обидно — сидим на миллионах, а кусать нечего. Вскоре, в новом обмундировании, Радыгин оказался в комнате начфина и, прислонившись к стене, с надменным ревизорским спокойствием следил за двумя сотрудниками, которые пересчитывали деньги и складывали их в большой несгораемый шкаф. Деньги были высыпаны прямо на пол, и, по мере того как убывала куча, Радыгин чувствовал себя веселее, и, как только последняя пачка была положена в шкаф, выражение надменности исчезло с его лица. Начфин осторожно свернул полуистлевший акт и, оторвав от блокнота кусочек бумажки, стал писать расписку, изредка поглядывая на Радыгина. — Товарищ майор, а товарищ майор, — сказал Радыгин, подходя к начфину, — чего же вы пишете расписку на такой сиротской бумаге? Может, она у меня под стекло попадет для потомства. Пускай мои дети задумаются, какой у них был отец. — Не привередничай, — ответил майор, — у меня нет хорошей бумаги. — Значит, надо найти. Не скупитесь, майор, — сказал человек, стоящий у порога. Он был одет в плащ без знаков различия, но все встали, услышав его спокойный властный голос. Никто не заметил, как он вошел и долго ли простоял у дверей, но по застывшим фигурам офицеров и по их напряженным улыбкам Радыгин понял, что у дверей стоит генерал, и, почувствовав робость, отступил от стола, вытянув руки по швам. — Оставьте в расписке место и для моей подписи, — сказал член Военного совета и, взяв Радыгина за локоть, увел его в кабинет. Из штаба Радыгин направился в свою часть, потрясенный разговором с генералом. Генерал был прост и по-отцовски приветлив, и никогда бы Радыгин никому не поверил, что в жизни есть такие простые генералы, если бы сам не побывал в кабинете члена Военного совета. Теперь он шел как во сне, и ему казалось, что из каждых ворот, из распахнутых окон, из парадных и амбразур на него смотрят люди и молча благодарят его. «Хорошо», — подумал Радыгин и радостно вздохнул. Впереди из колеблющегося зноя проступала Пулковская высота, и сквозь ее редкие, засохшие деревья были видны развалины обсерватории и черный столб земли, поднятый разрывом тяжелого снаряда. Кругом все было по-старому, и много дней, проведенных Радыгиным в этих местах, спокойно глядели сейчас на него и были удивительно похожи друг на друга. Только ночи здесь были разные. У каждой ночи было свое лицо, освещенное то орудийными вспышками, то трассирующими пулями, то заревом, то мертвым пламенем ракет. И вдруг Радыгин с удивительной четкостью вспомнил одно апрельское утро, когда на вершине растаял снег и обнажил землю, заваленную снарядными осколками. Эти осколки были похожи на ржаные сухари, разбросанные по всем траншеям с необыкновенной щедростью. Голодные солдаты поднимали осколки, поражаясь их удивительному сходству с сухарями, и, озираясь по сторонам, жалко улыбались над своею слабостью. Но все-таки они высоты не сдали, а это было самое главное в сорок втором году. Радыгин остановился и снял пилотку перед этим крошечным кусочком России. Знакомым полынным запахом пахнуло на него с минированных полей, и он услышал знакомый треск пулеметных очередей с Пулковской высоты, будто там кто-то ломал сухие сучья и расчищал рощу от обугленных ветвей. Словно отдохнувший путник, остановился Радыгин перед высотой; он улыбнулся, думая о том, какие удивительные горы перевалил он на своем веку. И вот теперь перед ним стояла еще одна гора, ее вершину круглые сутки враги поливали огнем, но ничто сейчас не пугало Радыгина, и он спокойно смотрел на разрывы снарядов, чувствуя, что и эту гору он перевалит вместе со всеми советскими людьми и побывает в Берлине, а оттуда поедет к Кате и расскажет ей все, что он пережил.
1946
 Ночь большого горя
Ночь большого горя
 НОЧЬ БОЛЬШОГО ГОРЯ
НОЧЬ БОЛЬШОГО ГОРЯ
Пантелей Карпович неохотно возил седоков в Солдатскую слободу. Зимой она была до крыш занесена сугробами, весной и осенью утопала в грязи, а летом пахла слежавшимся тряпьем, и никакие ветры не могли выдуть из слободы этого нищенского запаха.
Красная кирпичная церковь украшала эту окраину, где жили сапожники и печники, чулочницы и мелкие торговки, барышники, разорившиеся в прах, и пивовары, выгнанные за пьянство с Вассермановского пивного завода.
Был в Солдатской слободе и свой юродивый — Антоша Черепок, но, когда он заговорил о скором пришествии антихриста, который мечом и огнем истребит даже младенцев, его затравили собаками, и с тех пор ни один божий человек не осмеливался предсказывать что-то плохое жителям этой слободы.
Первые годы революции почти не изменили мутную слободскую жизнь, и слобода по-прежнему бойко торговала крепким самогоном, славилась своими веселыми вдовушками и изумительными в полете голубями, которых Покупатели увозили иногда за сто верст, а голуби все-таки прилетали обратно, как только у них отрастали подрезанные крылья.
«Получается совсем как в загадке, — думал Пантелей Карпович, — народ здесь живет пустой, можно сказать, даже плевый, а птицы его любят, а за что любят — непонятно».
Он смотрел на маленькие деревянные домишки, занесенные снегом, как вдруг его окликнули, и Пантелей Карпович остановил лошадь и, заметив в калитке милиционера, широко открыл слипающиеся от пороши глаза.
— Значит, Дашку накрыли? — крикнул он и ослабил вожжи.
— Прихлопнули бестию, — сказал милиционер. — Ты, Пантелей Карпыч, подзадержись маленько. Уж такой случай выпал. Придется тебе Дашкин аппарат везти.
— Что ж, ежели нет седоков, можно и аппарат доставить. Только вы платить-то, наверное, по своей расценке будете? А ваша расценка известная. На нее не то что кобылу, а воробья и то не прокормишь.
— Расценка не моя, а государственная, — сказал милиционер, — и ты это понимать должен и сочувствовать. Давай-ка по-хорошему. Сходи со своего трона и жди.
— И сойду без твоего указа. Тоже мне герой объявился.
Извозчик вылез из саней, а милиционер прикрыл калитку и исчез в Дашкином доме, где, по всей вероятности, шел обыск.
Размяв ноги, Пантелей Карпович покрыл лошадь своим зипуном и из любопытства вошел во двор, разглядывая желтое огромное пятно, образовавшееся от только что вылитой браги. Он даже нагнулся, и хмельной запах защекотал ноздри старика.
Он оглядел двор. Здесь снег падал медленнее, чем на улице, падал нехотя на сложенные у забора дрова и на толстую окровавленную колоду, на которой шевелились примерзшие куриные перья.
«А что, ежели я войду в дом да погреюсь. Попрошу с них за доставку пару стаканчиков, вот мы и будем квиты», — решил Пантелей Карпович.
В сенях он столкнулся с бойкой остроглазой девчонкой, которая, приподнявшись На цыпочки, пыталась открыть чулан, но никак не могла дотянуться до задвижки.
— Ты чего здесь шаришь? Брысь отсюда!
Но его слова не подействовали на девчонку.
— Дедушка, дедуся, — зашептала она, — ты не говори никому. Тут в чулане мамка целое ведро первача спрятала. Старший-то из них — колдун. Куда пальцем ни ткнет — все в точку. Он и до чулана доберется.
— А чего же, и доберется, и прикажет в снег вылить. Не свое добро, а чужое. Где она его спрятала?
— Ищи возле кадушки. Да шевелись ты, дедушка. Ищи живей.
В темноте Пантелей Карпович нащупал ведро. Он снял крышку и с благоговением опустился на колени, словно собираясь произнести какую-то возвышенную молитву.
Три раза Пантелей Карпович припадал к ведру, а когда он поднялся на ноги, то почувствовал во всем своем промерзшем теле такую теплоту и такую легкость, что ему захотелось лететь, и он даже взмахнул руками и задел пилу, которая с визгом упала к ногам девчонки.
— У, ведьмедь неуклюжий, — зашептала она. — Ну, чего же ты ждешь? Бери ведро — и пошли.
— А куда?
— В погребе схороним.
— Ишь ты какая прыткая. От них, от чертей, все равно никуда не спрячешь.
Пантелей Карпович тихо засмеялся и вышел во двор, слыша за спиной голос девчонки:
— Обманщик. Надень шапку-то, старый колдун.
Она бросила забытую им шапку, и он поймал ее на лету и до самых ворот никак не мог надеть на голову.
Вскоре Пантелей Карпович оказался на улице, где его встретили женщины в расстегнутых полушубках, прибежавшие сюда с такой поспешностью, словно в Дашкином доме был пожар.
Они окружили Пантелея Карповича.
— Разойдитесь, бабы, — сказал он. — Не приставайте ко мне.
Он сильно пошатнулся, но две женщины вовремя подхватили его под локти и с помощью всей толпы кое-как усадили в санки.
— Но! Но! Трогай! — крикнули они и замахали на лошадь руками.
Пантелей Карпович хотел стегнуть озоровавших баб кнутом, но в это время из калитки вышла Дашка в сопровождении агента уголовного розыска, двух милиционеров и понятых.
Понятые шли впереди и бережно несли разобранные части самогонного аппарата. За ними следовала Дашка в яркой шали. Она насмешливо кривила губы, разглядывая толпу черными, как у цыганки, неунывающими глазами. На ее смуглое лицо падал снег. Было холодно, но Дашка шла довольно бодро, даже играла плечами, внушая окружающим уверенность в том, что она нигде не пропадет.
Пантелей Карпович подобрал вожжи.
— Чего тянешь, старый черт? Поезжай, — сердито сказала Дашка и ткнула извозчика кулаком в спину.
Она села рядом с милиционером, и когда санки тяжело сдвинулись с места, то многие замужние женщины почувствовали облегчение, а сынишка Варвары Яковлевны прищурил левый глаз, нацелился и запустил в Дашку снежком.
— Счастливого тебе пути, сукина ты дочь! — насмешливо крикнула Варвара Яковлевна. — Там тебе, мерзавка, всё припомнят. И ты лучше не надейся на свою бесстыдную красоту.
Услышав эти слова, Дашка усмехнулась и еще ближе придвинула к милиционеру теплые колени. Затем она поправила шаль, накинутую поверх полушубка, и, пока обдумывала ответ, санки уже миновали улицу и оказались около крайнего домика, откуда начинался спуск с горы.
Внизу лежал город, где не дымились только церкви. Он упирался одним концом в городскую бойню, а другим в серебристый лес, и его деревянные слободки сбегали к прогнутому центру, который казался осевшим от тяжести трехэтажных каменных домов.
Город курился, подернутый ненастной зимней дымкой. Над его крышами быстро передвигались облака и плыли в разные стороны так низко, что, казалось, задевали не только купола городских церквей, но и не очень высокую пожарную каланчу.
На земле, как и в небе, тоже рыло сумрачно и неуютно. Так бывает всегда перед большой метелью, когда все вокруг тускнеет и пропитывается запахом давно не топленной бани.
Обычно чуткий к перемене погоды, Пантелей Карпович на этот раз ничего не заметил, хотя снег уже шипел на дороге, а телеграфные Столбы так сильно гудели, что даже лошадь беспокойно косилась на них и поворачивала морду в сторону седоков, удивляясь, почему ее не торопят.
Ее звали Машкой. Она была куплена у цыган еще в старое время, когда Пантелей Карпович сильно запивал. И давно бы он обморозился или утонул в канаве, если бы Машка оказалась глупой лошадью. Но она берегла старика в дни запоя и без его помощи добиралась до дома, стучала передним копытом в ворота, а затем, попав во двор, стояла там как вкопанная, терпеливо ожидая, пока ее хозяина не снимут с пролетки или не выволокут из саней.
— Ну-ну. Я вот тебе поозорую! — крикнул Пантелей Карпович и натянул вожжи, не давая Машке перейти на рысь. — И куда это ты спешишь? — спросил он. — Небось овса хочешь? А из него нынче такой напиток гонят, чтобы, значит, травить пролетариев всех стран. В газете «Голос труженика» так и сказано. Гонят, чтобы пролетария отравить. От этого и цена на овес высокая. А как муку взвинтили? Фунт крупчатки стоит четыреста двадцать рублей. Фунт. Слышишь, Дашка? А все из-за таких подлюг, как ты.
Пантелей Карпович повернул голову, рассчитывая увидеть пристыженную Дашку, но слова старика только рассмешили ее.
— Ты мне своих щучьих зубов не показывай, — сказал Пантелей Карпович. — Ты знаешь, кто я такой? Захочу — и высажу. Иди до острога пешком.
— Это по какому же праву, старый пес, ты меня высадить хочешь? Где это ты нашел такие законы? Арестованные при старом режиме пешком не ходили и при новом не должны ходить.
— Нет, должны.
— А я говорю — не должны.
— Это ты говоришь.
— И еще тыщу раз повторю. Не должны ходить пешком ни при каком режиме.
— Ну и повторяй. А я петь желаю! — вдруг крикнул старик и решительно поднялся с сиденья. Он откашлялся, не обращая внимания на сильный ветер, густо насыщенный снегом.
Шумел, горел пожар московский,
Дым расстилался по реке…—
Очнулся старик от какой-то странной тишины, чувствуя такую тоску, словно он только один и остался на всем свете. Он прислушался и нерешительно открыл глаза, обводя испуганным взглядом сначала стену с решетчатой тенью, а потом потолок, где под проволочным колпаком горела электрическая лампочка. Она слабо освещала помещение и самого Пантелея Карповича, который лежал на нарах, прикрытый зипуном, и осторожно ощупывал ребра, когда-то сильно помятые в полицейском участке. Но ребра его были целы. Тогда Пантелей Карпович встал, надел зипун и шапку и направился к выходу, все же чувствуя что-то недоброе в странной тишине за дверью, где, по-видимому, тоже никого не было. «И чего это они притихли? Может, я спьяна-то человека изуродовал или молодую власть обидел? А они молчат. Чай пьют, что ли?» — подумал он и виновато приоткрыл дверь в пустой коридор. Он знал, что в конце коридора находится комната дежурного, и когда он вошел туда, то не сразу заметил в ней присутствие человека. Раздавленный каким-то большим горем, за барьером сидел дежурный и тихо всхлипывал, обхватив голову руками, испачканными чернилами. Перед ним лежала недоеденная краюха хлеба, а еще чуть подальше была насыпана горка крупной соли, которая, как битое стекло, отражала в себе электричество. Пантелей Карпович приблизился к дежурному, не отрывая взгляда от его стриженой головы, но тот все всхлипывал и не замечал старика. По его глубоко запавшим щекам катились слезы. Плечи его вздрагивали, а губы шевелились беззвучно, как у немого, когда тот что-то говорит. Пантелей Карпович хорошо знал этого дежурного, сильно озоровавшего в детстве, и лет пятнадцать тому назад не раз легонечко стегал его кнутом за то, что тот подкрадывался к лошадям и выдергивал из их хвостов волос на лески. Он знал почти всех в городе, где довольно часто случались несчастья, но никогда не видел, чтобы кто-то из мужчин мог так открыто не стыдиться своих слез. Пантелей Карпович кашлянул, и дежурный поднял глаза. — А, это ты? — спросил он. — Да, Гаврюша, это я, протокольный человек. Каюсь. Опять перехватил лишнего. А вот что делается с тобой, хоть убей — не пойму. Первый раз вижу, чтобы партиец хныкал, как баба. — Слушай, батя. Да разве такая беда будет разбираться: партийный ты или беспартийный! Видишь, кого мы потеряли? — с отчаянием сказал дежурный и повернулся в ту сторону, где между телефоном и шкафом четко вырисовывалось на стене единственное украшение, напоминавшее домашнюю фотографию. Это был портрет Ленина, вырезанный из какой-то газеты и вставленный в деревянную рамку, только что обведенную по краям еще не просохшими чернилами. Как живой сидел Владимир Ильич в кресле около книжной полки и о чем-то думал, подперев голову рукой. В другой руке он держал бумагу, далеко отстранив ее от прищуренных глаз. Он был в расстегнутом пиджаке и в жилетке, где на самой нижней пуговице висел ключик от часов. Пантелей Карпович, как и большинство белогорцев, любил Ленина и твердо верил в его выздоровление, но когда старик увидел черную рамку, то сердце его сжалось, точно от ожога, и он попятился и прислонился спиной к стене. — Неужели помер? — спросил он, все еще не решаясь снять с головы шапку. — Умер, — сказал дежурный. — Я даже газете и то не поверил. Думал, не может этого быть. Да, батя. Надорвался он, понимаешь. И все-таки вытащил Россию из грязи. А как он нас любил! И за эту любовь враги обзывали его немецким шпионом, даже стреляли в него, батя, и все равно ничего не могли сделать. Говорят, что после ранения жена его, Надежда Константиновна, зашила Ильичу пальто, где была дырка от пули, да так аккуратно, что вроде и никакой латочки на одежде нету. Приехал Ленин на митинг, а народ-то собрался глазастый. Он сразу же увидел эту заштопанную дырку и запомнил ее на всю жизнь. И ночь эту тоже народ никогда не забудет. Так-то вот, батя. Ну, говори, как мы теперь жить будем? — Да откуда же я знаю, Гаврюша. — То-то. И я не знаю. Думаю только, что некоторые опять озвереют и начнут стрелять из-за угла. — Не начнут, Гаврюша, ежели новая власть не оробеет. Вот, скажем, к примеру, я провинился. Что ты должен сделать? Ты должен составить протокол и наказанием снять с меня грех. — Нет, батя, ты, наверно, не совсем понимаешь, что произошло. Протокол написать недолго, но я не хочу в такую ночь позорить твою старость. Ты сам себя унизил и с самого себя взыскивай. Вот лет через десять внуки у тебя спросят: «Дедушка, а где ты был в ту ночь, когда умер Ленин?» И что же ты им расскажешь? Пантелей Карпович виновато помялся и ничего не ответил. — Ступай, — сказал дежурный. — Куда? — А куда хочешь. Получив свой пояс, Пантелей Карпович неторопливо затянулся и вышел во двор, где под навесом стояла Машка с торбой на морде и пережевывала милицейский овес. Она вопросительно покосилась на хозяина, и когда он, расстроенный и опечаленный, обнял запорошенную шею лошади, по спине Машки прокатилась зыбь, словно ее ужалил овод, и она мотнула мордой и чуть не сбила старика с ног. — Однако ты у меня большая барыня, — сказал он. — Дыхнуть на твою особу и то нельзя. Он нагнулся и долго жевал снег, чтобы освежить рот. Потом Пантелей Карпович выехал на центральную улицу, скорбно освещенную двумя фонарями кинотеатра «Модерн» и электрическими лампочками, еле заметными в снежной мгле. На улице не было видно даже ночных сторожей. Только одна сорванная афиша, словно прихрамывающая собака, металась по пустой панели. Впереди шевелились сугробы, а около парадных плескалась колючая поземка, смывая чьи-то редкие следы и обрызгивая серебристой пылью приспущенные траурные флаги. Она со всех сторон налетала на Пантелея Карповича, и он сутулился, закрывая рукавицей усы и бороду, и неудобно ворочался в своем зипуне, который стал твердым, как листовое железо. Ослабив вожжи, старик задумался, но не мог сосредоточиться ни на одной мысли, потому что все плохое и хорошее вдруг перепуталось в его памяти и болью отозвалось в сердце. С тех пор как Пантелею Карповичу за его непочтительное отношение к царю сильно помяли ребра в полицейском участке, с того самого времени старик считал себя революционером, но он не раз при людях поругивал и советскую власть. Сейчас эта новая власть, по размышлениям Пантелея Карповича, находилась под большой угрозой. Завтрашний день без Ленина был неясен, как полет подбитой птицы, и, чем больше старик думал об этом, тем тревожнее становилось у него на душе. Как ни тоскливо было в городе, но ехать домой Пантелею Карповичу не хотелось. «Вот некоторые ругают меня по-всякому, а я на своем посту», — подумал он. Он огляделся, не зная, что предпринять, и, никому не нужный, около часа кружил по безлюдным улицам, пока не оказался у здания уездного комитета партии, где во всех окнах горел свет и ободрял редких прохожих. Здесь старик остановился. Он вылез из санок, помог сторожу открыть ворота во двор, где два работника укома суетились вокруг лошади и никак не могли запрячь ее в розвальни. — А ну-ка, молодежь, посторонись, — сказал Пантелей Карпович и, взяв лошадь под уздцы, ввел ее в оглобли и стал запрягать. Потом он вместе со сторожем вышел на улицу, и они закрыли ворота, как только розвальни покинули двор. — И куда это их понесло в такую бурю? — спросил Пантелей Карпович. — По деревням поехали, мужиков утешать, — сказал сторож. — Нынче у нас многие в разгоне. Ты, может, постоишь тут немного, а то у нас с транспортом беда. Не хватает даже для секретаря товарища Самарина, а ему на завод нужно. — Ну, а как он, духом-то не ослаб? — Пока держится. Тяжело им теперь без Ленина будет. — Нам тоже будет не легче, — сказал Пантелей Карпович. — Теперь гляди в оба, как бы капитал опять на нашу спину не прыгнул. — Капитал? — спросил сторож и усмехнулся. — Как же он может прыгнуть, ежели у него когти спилены? Я вот у партийцев второй год нахожусь на службе и вижу — не допустят они его к прыжку. Часто поворачиваясь спиной к свистящему круговому ветру, они поговорили еще минут пять, стараясь скрыть друг от друга всю глубину той тревожной печали, которая охватила их. Они говорили громко, но ни одного их слова не долетело до Самарина, когда он вышел из парадной и удивленно остановился перед разбушевавшейся пургой. «Метет, как в сибирской ссылке», — подумал он, поднимая воротник полушубка. Он глубже нахлобучил шапку и только теперь обратил внимание на извозчика и сторожа, которые осуждающе посматривали на его хромовые сапоги. — Смотри, секретарь, замерзнешь, — сказал извозчик. — Ничего, я к холоду привык. Пробегу пару улиц, жарко станет. — А зачем тебе бегать? Ежели по делу, садись, подвезу. — Спасибо, отец. Но, вы знаете, у меня, кажется, с собой нет ни копейки. Вы минутку подождите, пока я сбегаю наверх за деньгами. — А я их не возьму. — Почему? — У меня свой расчет. Ленин-то для нас даже бревна таскал на субботниках. Так неужели мы в такую ночь будем говорить о плате. Куда ехать-то? — На паровозоремонтный завод. Надо, отец, созвать рабочих и потолковать. Может, тогда каждому полегче станет. Самарин сел в санки и прислушался ко всему с таким вниманием, словно хотел узнать, что же осталось еще в мире кроме этой метели? Где-то далеко-далеко прокричал паровоз. Было слышно, как в той стороне работал двигатель водокачки с такими перебоями, словно это билось сердце города, почти невидимого сквозь пургу. Пантелей Карпович взгромоздился на свое место, и они тронулись к заводу. Редкие фонари, окруженные дрожащими венчиками, слабо освещали путь, но Машка сама находила дорогу и, минуя сугробы, с трудом тащила санки, глубоко оседавшие в снег. В белой мгле эти санки казались неподвижными, так же как и седоки, которых и сверху и снизу хлестала метель. Говорить им было трудно, но молчать еще трудней. Пантелей Карпович очень хотел рассказать о себе что-то удивительно хорошее и стал припоминать такие события, которые рисовали его с самой лучшей стороны. Думал о многом и Самарин. Его глаза были полузакрыты, и он сидел неподвижно, нахлобучив до самых бровей шапку и прикрыв варежкой одеревеневший рот. Он был уже немолод и многое пережил, но ни одно событие не задело его так сильно и так больно, как смерть Ильича. Не первый год Самарии состоял в партии, но он никогда еще так остро не чувствовал ответственности перед народом и ни разу не был так встревожен его будущим, как в эту ночь. «Такое горе, — думал он, — заставит многих по-иному осмотреться вокруг. Сколько людей повзрослеет за эту ночь. Они станут лучше, и самые лучшие из них потянутся в партию». И тут мысль Самарина оборвалась. Он зажмурился, потер варежкой запорошенные глаза и снова открыл их. Темный и густой снег обрушивался на спину извозчика, которая казалась огромной и закрывала собой весь мир. Но эта спина, словно щит, загораживала Самарина от метели, и он продолжал думать, чувствуя между тем, как его все больше тянет к людям и как с каждой минутой становится невыносимо тягостным собственное молчание и молчание старика. — Послушайте, отец, — сказал он. — Ну что мы так далеко сидим друг от друга, будто вы на одном конце света, а я на другом. Перебирайтесь ко мне. — Что, одному-то сидеть скучно? — Просто невозможно. Особенно в такую ночь. — Да, не одни мы нынче тревожимся. Смотри, люди-то тоже не спят, — сказал Пантелей Карпович, усаживаясь рядом с Самариным и кнутом показывая на закрытые ставни, откуда из дырочек и щелей пробивались тонкие струйки света. — Всё думают, — с горечью добавил старик. — Так что и не сразу поймешь, из какого окна тебе рукой помахают, а из какого в тебя пальнут. — А что, разве в городе неспокойно? — спросил Самарин и повернул свое заснеженное лицо к старику. — Я ведь человек тут новый и пока что мало знаю здешних людей. Неужели пошаливают? — Бывает, конечно, и это, но редко. Ты вот хочешь всех подравнять и заставить жить по одной правде. А правда-то — она у каждого своя. Значит, к людям надо относиться с терпением, и тогда они скорее поймут твою правду. — Я не думаю, чтобы у вас тут поступали как-нибудь по-другому. — Эх, милый! Ты только прими во внимание, сколько у нас в городе было разного политического куража. Ведь за это в горячке-то можно было полгорода в стенке поставить. — Но не поставили же, — сказал Самарин. — А может, и поставили бы, да Ильич не велел. Вы, говорит, смотрите за теми, кто против новой власти за пазухой реворверты носит, а к простому народу даже пальцем прикасаться не смейте. Вот он какой был, Ленин-то. Понимал, что из тыщи, которые упираются, только один всурьез не желает правильной жизни. — Послушайте, отец, да разве мы этого не понимаем? — Не спорю, понимаете, но не все. Может быть, после Ильича-то как начнут щипать простого человека, успевай только поворачиваться. — Но кто же его будет щипать, когда сам народ стоит у власти? — Вот ты говоришь — народ. А народ — он разный. Одни за коммунистами с радостью пошли,другие пока упираются. Значит, других-то надо силком тащить или уговаривать. А ведь не у каждого на это хватит терпения. Иному дай только волю, так он и Ленина со счетов сбросит, и рабочую власть ко дну потянет. А это будет как раз капиталу на руку. Ленин-то, он чуть не каждый день то с пролетарием, то с мужиком посоветуется. А вот как вы поведете дело — еще неизвестно. Поэтому нынче народ и не спит и все думает, что будет дальше. — Что бы там ни было, отец, а советская власть останется. Будем строить жизнь так, как в ленинских книгах написано. — Смотри, сынок. Нынче вот такие, как ты, за новую власть в ответе. Это ничего, что от обиды кое-кто подымает руку против. Пусть держит, пока она не онемеет. Подержит годик, другой — и опустит, а там, глядишь, подравняется и не хуже прежнего жить станет. — Все это верно, отец, но ведь иная поднятая рука и ударить может, да так, что и на ногах не устоишь. Как же нам прикажете поступать с этой рукой? — Такую рубить надо, — сказал старик и прищурился, рассматривая сквозь пургу ту сторону улицы, на которую не просачивалась из окон ни одна капля света. Там над крышами шуршал воздух, густо насыщенный снегом, и на какой-то миг из труб вырывался дым и озарялся тревожным светом луны, выпрыгивающей из низко бегущих облаков. Пантелей Карпович толкнул в бок Самарина. — Не замерз? — спросил он. — Пока нет, но продувает чертовски, а главное, мне так залепило глаза, что я еле различаю прохожих. — А зачем тебе прохожие? Ты не сыщик, а так, без интереса, — это скука смотреть на них. — А мне, отец, не скучно. Ведь эти люди тоже сейчас переживают горе. Вот я и смотрю на них и запоминаю. Мне даже хочется угадать, о чем, например, могут думать ну хотя бы вон в том доме, где светится одно окно. — Там проживает мудреный человек, — немного подумав, сказал Пантелей Карпович. — На этой улице я знаю всех, а его натуру не могу постичь. Да и как его определить, ежели он с одинаковым усердием командовал своим оркестрионом и при белых, и когда красные в город входили. Бывало, взмахнет палочкой при белых, и его музыканты «Боже, царя храни» играют. Красные придут — он опять машет палочкой. Иной раз так размахается, что, наверно, сам господь на небе «Интернационал» слышит. А возьми ты, к примеру, его музыку в летнее время. Не успеет солнышко за лес спрятаться, а он уже в городском саду играет, и понимаешь, эта его музыка берет за сердце любого и много выметает мусора из человека. Вот тут ты и попробуй угадай — в какую сторону его больше клонит. Они миновали еще несколько низеньких одноэтажных домишек, где, по словам Пантелея Карповича, жили совершенно ясные люди, глубоко верившие в новую власть. Таких было много, и Самарин это чувствовал, воспринимая каждый горящий огонек как живого человека. У фонаря он заметил два каких-то странных существа, остановившихся, по-видимому, из любопытства, чтобы посмотреть на санки с седоками. Это были дети, закутанные в такое рубище, что Самарину стало жалко их до слез, и у него задрожали губы, когда санки поравнялись с ребятишками. — Тпру… Стой! — крикнул Пантелей Карпович, натягивая вожжи. — Кажись, вавиловские. Это ты, Степка? — Я. — Тебе на печке сидеть надо, а не шататься по улицам. Зачем ты Нюшку на такой буран вытащил? — Мы к дедушке идем. Дома-то у нас скучно. Маменька все молчит, а батя опять запил. — Тоже нашел время для питья, — укоризненно заметил Пантелей Карпович. — Ну да леший с ним. Только вы деду об этом не говорите. Ладно? — Ладно, — согласился Степка и с притворной суровостью дернул сестренку за руку. Он вывел ее на дорогу, где снег был не так глубок, и ветер сразу же подхватил Степку с сестренкой и погнал их по широкому уличному коридору, унося все дальше от фонаря, пока они совсем не исчезли в белой мгле. — Бедные ребята, — сказал Самарин, когда лошадь тронулась с места. — Как мы ни стараемся для них, но ничего им нынче не можем дать, кроме горячего завтрака в школе. А все проклятая разруха. Соли и то не хватает. Послушайте, отец, а кто этот Вавилов и почему он запил в такую ночь? Он что ж — рабочий, мещанин или из дворян? — Он бывший фараон. По-нашему, полицейский. — Бедные ребята, — повторил Самарин. — Сколько они хлебнут горя, пока отыщут свою дорогу. — Ничего. Найдут, — сказал Пантелей Карпович. — У них вся жизнь впереди, и тут говорить не о чем, а вот про Вавилова могу рассказать, как он в полиции служил, на какие денежки дом строил и как в семнадцатом году на коленках ползал, у народа прощение выпрашивал. И что же ты думаешь? Простили, а чтобы детишки с голоду не пухли, так его на спичечную фабрику грузчиком определили. «Живи, говорят, смирно, вози спички, и нам от этого поспокойнее и посветлее будет». — Ну и как же у него пошло дело? — Надо сказать, что этот Вавилов живет теперь аккуратно, только пьет лишнее да зачем-то от людей прячется. А у нас сколько ставнями ни закрывайся, все равно ты у каждого на виду. Любой знает, что у него и мундир и шашка в подполье спрятаны. Пантелей Карпович умолк, соображая, что в эту минуту может делать Вавилов, но чем больше старик размышлял над этим, тем туманнее рисовались ему действия бывшего полицейского. А между тем санки с двумя седоками находились не так далеко от дома Вавилова, на той улице, которая когда-то называлась Большой Дворянской. Теперь она носила имя машиниста Корабельникова, который погиб на сто тринадцатой версте, пустив под откос белогвардейский штабной поезд. Вместе с машинистом сложил свою голову и помощник, младший сын Пантелея Карповича, собиравшийся в ту осень жениться на дочке Корабельникова. Как ни хотелось Пантелею Карповичу поговорить о своем младшем сыне, старик сдержался и только сердито задергал вожжами, когда санки поравнялись с освещенным домом Корабельникова. Самарин и Пантелей Карпович миновали еще несколько таких незаметных деревянных домишек, случайно выстроенных на этой улице. Затем по обеим сторонам ее потянулись каменные двухэтажные здания и богатые особняки, теперь уже реквизированные и заселенные учреждениями и рабочими, у которых были большие семьи. — Не улица, а ноев ковчег, — сказал Пантелей Карпович, но Самарин, по-видимому, не расслышал или не понял старика и еще ближе придвинулся к нему. — Я говорю про улицу. Люди здесь перемешались. Бывшие эксплуататоры теперь под одной крышей с пролетариями живут. — Ну и как же они живут? — Ничего. Подравниваются. Скоро я тебе покажу домище Лексея Петровича Головина. Столбовой дворянин. Барин. Чужешейник. И ведь что придумал, сукин сын: обвенчался со своей кухаркой. Но сколько он ни старался, а хоромы-то у него все равно оттяпали. Оставили ему только три комнаты, шкапы с книжками, чтоб не скучал, и огромадную кровать, куда можно уложить штук пять таких кобыл, как моя Машка. Услышав свое имя, Машка прибавила шаг и, круто наклонив морду, покосилась на Пантелея Карповича, но тот даже не пошевелился и продолжал рассказывать о Головине. А на улице по-прежнему мела метель. Около парадных и палисадников шевелились сугробы снега. Чуть подальше скрипели старые тополя, а еще дальше на дороге дымила поземка и заметала две глубокие полосы, продавленные санками Пантелея Карповича. Недалеко от вокзала Машка вдруг остановилась. Здесь дул такой ветер, что к нему можно было прислониться, как к забору, и не потерять равновесия. — Ну что ж, пускай отдохнет, — сказал Пантелей Карпович, кивая на лошадь. — Ведь ей, бедной, сена — и то не сразу достанешь. От этого у ней и худоба и зависть к казенным лошадям. Чудно придумали про извозчиков, будто они какие-то частные лица и овес им в кооперации продавать не надо. А чем же кормить кобылу? Этот вопрос застиг Самарина врасплох, и он сначала пожал плечами, а когда у него в голове появился ответ, Пантелей Карпович уже снова заговорил, хотя говорить ему было нелегко на таком сильном ветру: — Вот, к примеру, ты попробуй-ка тронь рабочего. Обидел — и с тебя сразу же всякие там учпрофсожи[1] десять шкур спустят, а в нашу защиту никто пальцем не шевельнет. Нет, по нынешним временам жить в одиночку невозможно. — Но ведь к этому же мы и стремимся, — сказал Самарин, — чтобы человек не жил одиноко. Мы, отец, стоим за такую правду, которая могла бы сделать счастливыми даже тех, кто против нее спорит, но для этого нужно много времени, может быть еще не одно десятилетие. — Значит, овса не будет? — Овес будет, а вот чтобы у вас был свой профсоюз, сомневаюсь. Шли бы вы лучше в сторожа, пока не поздно. Все-таки государственная служба. — Да я и сам не против, но что мне делать с кобылой — ума не приложу. Пантелей Карпович смахнул снег с Машкиных боков и, потрепав ее по обледеневшей гриве, задумчиво посмотрел на освещенную больницу, около которой они остановились. — И тут все идет своим чередом, — сказал он. — Одни рождаются, другие помирают. Пантелей Карпович хотел уже сесть в санки, но в это время из больничной калитки вышел доктор Воронцов и остановился, придерживая одной рукой пенсне, а другой поднимая воротник шубы, раздуваемой сильным ветром. — Ну и погодка кипит, — сказал Пантелей Карпович, подходя к доктору. — Мне желательно бы узнать, Викентий Иванович, насчет Глаши: как она, извиняюсь, не рассыпалась? — Мальчишку родила, — сказал Воронцов. — Надо полагать, что Глашин ребенок, наверно, будет счастливее нас, хотя он и родился в такую ужасную ночь… — Ночь пройдет, Викентий Иванович. — Это верно, пройдет, но что будет дальше с Россией после такой ночи? — Воронцов постоял в раздумье, затем прикрыл калитку и зашагал к своему дому, оставляя глубокие следы на панели. — Видно, доктор тоже растревожился, — сказал Пантелей Карпович, садясь рядом с Самариным. — На первый взгляд Викентий Иванович вроде как барин, сердитый, и важный, и с брильянтом на пальце, но это только снаружи, а внутри у него золотое сердце бьется. Вот ежели бы меня спросили: скажи. Пантелей, чего ты хочешь? И я бы ответил: желаю видеть своего внука доктором с таким добрым сердцем, как у Викентия Ивановича. Большие у меня надежды на внука. Может, хоть он один из нашего рода постигнет науку и у него, как у барина, не будет мозолей на руках. Они подъехали к вокзалу в тот момент, когда зазвонил станционный колокол, извещая о скором прибытии пассажирского поезда, вышедшего с соседней станции. Здесь у туннеля, ведущего в завод, Пантелей Карпович расстался с Самариным. Он не стал ждать поезда и отправился домой, с каждой минутой все больше проникаясь жалостью то к измученной лошади, то к самому себе. Наконец им овладела тоска, и теперь уже ничто не могло его отвлечь от этой горькой ночи с ее горящими фонарями, которые и дрожали, и лучились в воздухе, и скорбью обжигали душу старика. Он даже не заметил, как заплакал, а когда понял это, то было уже поздно, и старик дал волю слезам, пока не выплакался и не почувствовал, что ему стало немножко легче. Но все-таки у него был жалкий вид, и Пантелей Карпович стыдился вернуться домой в таком подавленном состоянии. Он остановился около пустого пакгауза, снял рукавицы и долго растирал лицо снегом, черпая его ладонями из придорожного сугроба.
Пантелей Карпович жил в Рабочей слободе на последней улице, где все пристройки выходили прямо в поле и были занесены снегом до самых крыш. Снег подбирался и к домам, и Пантелею Карповичу пришлось немало повозиться с воротами, пока он открыл их. Во дворе старика встретил внук Сашка. — Дедушка, — сказал он, — а нашу школу распустили. Три дня гулять будем. Сначала-то я обрадовался, а как увидел черные флаги в городе да посмотрел на твою карточку, мне страшно стало. Скажи, дедушка, значит и ты помрешь? — Должен помереть. — А я? — Не знаю, — сказал старик и поставил лошадь в конюшню. — Ты все знаешь, а признаваться не хочешь. Ну, ответь, дедушка. Ты опять выпивши? — Нисколько. — Клянись. — Ну что ты, деду не веришь? Когда это я тебя обманывал? — А все время обманывал, когда я маленький был. — Но теперь-то ты не маленький. Зачем же я тебя стану обманывать! Пока бабки нет, проси чего тебе надо! — Мне ничего не надо. Ты только нагнись, нагнись, говорю, и слушай. Дедушка, Ленин помер. У Сашки вдруг задрожали губы, и Пантелей Карпович только теперь заметил, как сильно был взволнован внук. Старик взял мальчика за руку и, стараясь не дышать ему в лицо, вошел в дом, где было очень тихо. В горнице все молчали, невестка шила, жена вязала чулок, а сын о чем-то думал и даже не пошевелился, когда Пантелей Карпович тяжело закашлял на кухне. Он бросил на печку армяк и полушубок, переобулся и приказал подавать на стол. — Наш Сашка-то опять отличился, — сказала бабка, обращаясь к Пантелею Карповичу. — Не знаю, кого и благодарить за такого внука. — Она бросила строгий взгляд на сына и на невестку и поставила перед стариком тарелку с теплыми щами. — Ты только послушай, что он, мошенник, натворил! Расстегни ему ворот и погляди, есть ли у него на шее крест? — Нету у меня креста, — сказал внук. — Ты что ж его, на переменке потерял? — спросил Пантелей Карпович и украдкой кивнул внуку головой. — Он поступил хуже Иуды. В таком возрасте — и уже веру продал. Снял, бессовестный, с себя крест и променял его на перочинный ножик. — Ах ты разбойник, — сказал дед, — ну смотри, утром я до тебя доберусь. Он доел щи и, как всегда, хотел перекреститься, но что-то в нем забунтовало, и старик опустил руку и вышел из-за стола. Он сел рядом со старшим сыном, и в предчувствии тревожного разговора оба закурили из одного кисета, лежавшего между ними на сундуке. Только два часа тому назад сын Пантелея Карповича вернулся из поездки, которая длилась больше суток. От Алексея еще пахло углем, и все тело его ныло от усталости, а голова кружилась так сильно, что он мог бы мгновенно заснуть, но боялся этого и томился, словно у закрытого семафора, и все чего-то ждал, поглядывая на красный огонек лампадки. Где-то глубоко в его сознании все еще шевелилось то, что ему пришлось пережить, когда он въехал на станцию Емельяновку и от дежурного узнал о полученной телеграмме. Он тогда не поверил ни на первой, ни на второй станции, пока не подъехал к депо, где над громадными воротами уже висели траурные флаги, а внизу под ними около высокой лестницы стоял дежурный слесарь с непокрытой головой и мял шапку в руках, а может быть, даже и плакал. В ту минуту, пожалуй, заплакал бы и Алексей, но ему нельзя было распускаться в присутствий помощника и кочегара, и он крепился изо всех сил, пока не покинул депо и не оказался у переезда, где было темно и глухо, как на заброшенном полустанке. Но и здесь душа его не обрела обычного равновесия, и он вошел в свой дом с таким ощущением, словно только что пережил катастрофу и еще не успел осознать ни ее причин, ни ее размеров. Он сидел на сундуке понуро, то покачиваясь из стороны в сторону, то переставая шевелиться, и тогда ему ни на что не хотелось смотреть, но он все-таки смотрел, и его глаза, твердые, как у всех машинистов, поблескивали спокойно и не выражали той подавленности, какую испытывал Алексей. — Батя, — сказал он и немного помолчал. — Вот ты был в городе. Ну, рассказывай, что там происходит? — Этого, Алеша, сразу не определишь. Ведь нынешняя ночь так тряхнула город, что он замер, как испорченные часы. Теперь сколько их ни тряси — они все равно не пойдут, пока их не наладит мастер. А где его искать, такого мастера, как Ленин? Старик сделал глубокую затяжку, и в его цигарке затрещал табак. — Да, Алеша, город притих. На улицах ни души, одни огоньки в окнах. Но все-таки я кое с кем поговорил. Нынче я возил седоков исключительно по казенным надобностям: Дашку-самогонщицу — в острог; ревизора Илью Митрофановича — на склад, а стриженую исполкомовскую Клаву — с депешей-молнией для Москвы. Это потом, к концу, попался мне самый главный партиец, и я его доставил на завод. Ничего. Держится. И про народ толкует с очень высокой буквы. Вроде как: пролетарий не допустит, чтобы новая власть в упадок пришла. — Но ведь для этого, батя, надо что-то делать. — А что мы можем сделать, Алеша? Наше дело — жить, и больше ничего. — Но как жить? — А кто как сумеет. Мы люди маленькие, и ежели после Ильича что-нибудь случится, то и тогда, Алеша, с нас спрос будет не очень велик. — Слушай, батя! Я и сам хорошо понимаю, какое место каждый из нас занимает на земле. Не больше точки. И я это вижу, когда сижу один или когда веду поезд по степи. Ну, что значит моя фигура в таком пространстве? И все-таки я хозяин жизни. И не земля давит меня, а я ее жму так, что она, бедная, дрожит под моими колесами. Значит, я все могу, и, значит, в маленьких людях и есть самая большая сила. А ведь Ленин был первым, кто заметил в нас эту огромадную силу. От народа он ее черпал и народу ее вернул. И между прочим, где-то сказал: «Смотрите, граждане-товарищи, не разъединяйтесь. Ваша сила в Российской Коммунистической партии, а сила партии — в народе». Ты подумай, батя, что будет с такими, как Сашка, если они получат от нас в наследство какого-нибудь нового царя. Нет, надо что-то делать, а не поддаваться беде. — Молиться надо, Алешенька, — сказала мать, — на то тебе бог и руки дал, чтобы ты молился. — Он не с тобой разговаривает. Молчать, богомолка! — крикнул Пантелей Карпович, и, пока он гасил цигарку, за окном вдруг послышался заводской гудок, возвещавший тревогу, и его еще не окрепший голос сразу же подхватили паровозы, как в гражданскую войну, когда над городом нависала великая опасность. — Запели, милые. Давно вас не было слышно, — с горечью сказала старуха и заплакала вместе со своей невесткой Натальей. Они плакали тихо, а Алексей и Пантелей Карпович, поднявшись с сундука, стояли неподвижно и смотрели в пол, пока гудели гудки. Они гудели ровно пять минут, и за это время никто, кроме Сашки, не заметил, как тоскливо в буфете дребезжала посуда и как неожиданно погасла лампадка, начадив в переднем углу. — Это, наверно, скликают на митинг, — сказал старик, после того как затихли последние отголоски маневрового паровоза. — Я пойду, батя. — Ну что ж, иди, да возвращайся скорей. — А нам, значит, опять томиться, — сказала старуха, — опять быть в залоге. Тебе что, схватил ружье да шапку — и марш из дома, а с нас беляки спросят, ежели снова расквартируются в городе, как в девятнадцатом году. — Не спросят, мамаша, ихнее время ушло. Теперь мы будем указывать, где им расквартировываться. Алексей оделся, и мать перекрестила его, а Наталья, как всегда, проводила за ворота, и когда вернулась и кончила шить, то впервые посмотрела на иконы недоуменно, не зная, надо ли у них просить прощения за мужа или нет. Ее взгляд остановился на иконе тусклого серебра, где под стеклом на медном кресте висел распятый Христос с виновато поникшей головой. Глаза его были закрыты, и ничто земное уже не интересовало Христа. — Господи Иисусе, — неохотно шепнула она, но мысль ее оборвалась, а взгляд потянулся к сыну, которого Наталья много раз видела во сне то доктором, то телеграфистом. Вместе со свекровью она верила, что мальчик непременно станет большим человеком. Он будет зарабатывать себе хлеб легко, но эта вера почти ежегодно подвергалась самым тяжелым испытаниям и угасала, когда город занимали белые или когда в нем вспыхивали восстания против новой власти. В такие тяжкие времена мальчик забирался на сундук, на то место, где любил сидеть его отец, и, шмыгая носом, молча наблюдал за матерью и бабкой и улыбался только деду одними уголками губ. Сейчас он тоже сидел на сундуке, в старой, заплатанной рубашке и в бабкиных дырявых шерстяных чулках. Он о чем-то думал, и Наталья, посмотрев на него, тяжело вздохнула, понимая, что ее сын обязательно был бы доктором или телеграфистом, если бы Ленин жил еще долго, долго. «Всемогущий господь, — подумала она, — ну за что, скажи, за что ты осиротил всю Россию? Зачем ты это сделал?» Еще вчера она не посмела бы разговаривать с небом, но сегодня Наталья даже нисколько не испугалась, когда почувствовала, что ее пальцы сжались и что не простертые руки, а кулаки она хотела показать богу. Она не сразу поняла это и даже прислушалась, все еще не веря тому, что произошло с ее душой. Но там что-то произошло, сначала причинив боль, а потом вызвав изумление, словно это был ребенок, который вдруг дал о себе знать. И Наталья прищурилась, почувствовав, что теперь у нее начнется какая-то иная, трудная, но заманчивая жизнь, где с каждым днем будут понятнее для нее и муж, и сын, и люди, которых она раньше побаивалась и сторонилась. Она сидела неподвижно, с побелевшими губами, слыша, как во дворе, подхваченный метелью, гремит сорванный желоб, ударяясь то об стенку сарая, то о завалинку, не засыпанную снегом. Потом желоб затих, словно ветер унес его со двора и покатил по русским губерниям до Москвы, над которой изредка в заметеленном небе появлялась луна и печально смотрела вниз, на осиротевшие города и села. Затем она исчезала, но огоньки все еще светились по всем уездам на тысячи, тысячи верст вокруг. — Наталья, — сказала свекровь, — ты что, не видишь — лампадка потухла. Налей в нее масла и зажги. Иконы без божьего огонька — это все равно что кущи без певчей птицы. Ты слышишь меня? — Слышу, а зажигать не стану. С нынешней ночи для меня эта лампадка погасла навсегда. — Что?! А ну-ка, повтори. Пускай свекор послушает, какая у него невестка. Да ты знаешь, что такое божья воля? Он, господь-то, что захочет, то с тобой и сделает. — Ничего он с ней не сделает, — вдруг сказал Пантелей Карпович, — волей божьей земли не вспашешь, колосок в поле и то не согнешь. Ты знаешь, Наталья, почему у тебя свекровь такая богомольная? Она еще девкой собиралась бежать с дьяконом к святым местам, а оттуда, говорят, женский пол возвращался только порченым. Вот смеху-то было бы! — И старик фыркнул. И пока он препирался со своей старухой, пока пил чай, прошло немало времени, и за окном наступила ночь, самая длинная в жизни России. На площадях больших городов люди зажгли костры. В селах, несмотря на поздний час, все еще дымили трубы, и там в избах было так тревожно, что даже ребятишки никак не могли заснуть. Алексей вернулся с митинга сразу же после полуночи, когда метель уже стихла и небо очистилось от туч. На улице было светло и очень тихо. С громадной высоты светила луна. Алексей с минуту задержался у калитки, чувствуя необычайную торжественность и печаль вокруг. Затем он вошел во двор и посмотрел на маленький садик, где каждое деревцо было посажено в знак памяти, когда в семье кто-то рождался или кто-то умирал. Алексей сосчитал деревья. Их было девять, и, когда он хотел уже подняться на крыльцо, у него мелькнула мысль посадить еще одну яблоню, чтобы она всегда напоминала о добром имени Ильича. — Вы чего же не спите? — спросил он из кухни, снимая полушубок и веником сметая с валенок снег. — Да вот никак не заснуть, — сказал Пантелей Карпович, — сидим, маемся и вроде как поезда ждем. А пойдет ли он дальше, это пока неизвестно. — На полпути не остановится, — сказал Алексей, — недаром же повсюду люди в партию записываются. У нас после митинга тридцать два человека партийцами стали. Не знаю, батя, что ты на это ответишь, но я тоже записался. Алексей взглянул на отца и по его рассерженным глазам понял, что старик недоволен. — Ты что это, батя, никак против? — В таких делах с родителем советоваться надо, — сказал Пантелей Карпович, — может, я и не против, а советоваться надо. — Так. Значит, ты, Алешенька, в коммунисты подался? — спросила мать. — Ну что ж. Только смотри не прогадай с новой верой. У нее ведь подпорки-то не вечные. Лет пять постоит и рухнет. — Нет, маманя, не рухнет, хотя, конечно, вот такие, как ты, будут под эту веру подкапываться день и ночь. А для чего? Ведь ты же сама знаешь, как раньше жил рабочий человек. Он шел на завод чуть свет, кончал работу ночью и только по воскресеньям, один раз в неделю, видел солнце. И за это ты хочешь держаться? — Я держусь за бога, а партийцы его не признают. Вот я и хочу спросить, когда ты начнешь жечь иконы, сейчас или до утра потерпишь? — Иконы твои, — сказал Алексей, — хочешь молиться — молись. Не хочешь — сними, а еще лучше, подожди базара и сменяй их там на крупу. Алексей усмехнулся, а старуха гневно поджала губы и с какой-то исступленной преданностью ощупала взглядом передний угол, сизый от отблесков иконного серебра. — Господи, — тихо прошептала она и опустилась на колени, — будь милостив к рабу твоему Алексею. Не суди строго ни глупой жены его, ни отца его — старого пьяницу Пантелея, ни младенца Александра, внука моего. Прости их, господи! Старуха молилась долго, и ей никто не мешал. Все слушали, как в ее позвоночнике щелкал какой-то сустав, когда она разгибала спину, и всем было грустно и жаль ее. Вскоре в доме совсем стало тихо. Алексей и Наталья ушли в свою комнату, дед забрался на печку, а бабка постелила Сашке на сундуке и убавила в лампе огонь. Потом она унесла самовар на кухню, согнала с лежанки храпевшего кота, и, когда вернулась, Сашка все еще сидел за столом, как-то по-взрослому подперев голову ладонями и далеко устремив глаза. — Ты чего это, внучек, задумался? Спать надо. — Я не хочу спать, бабушка. Я теперь никогда, никогда не засну. — Глупенький, а ты зажмурься покрепче, вот и заснешь. Ну, закрой глазки. — Они не закрываются, бабушка. Ты еще не знаешь, какие они стали большие. Я все равно не засну. — А что же ты будешь делать, полуночник? — Я лучше сяду за уроки. Хочешь, я в один миг все задачки решу? — Ну, решай. Только зря не пали керосина. Расстегивая несколько нижних кнопок на кофте, бабка в последний раз оглядела горницу и ушла за ситцевый полог, где стояла ее кровать, а мальчик порылся в ранце, потом опять сел за стол и раскрыл перед собой чистую тетрадь, сам не понимая, для чего она понадобилась ему в такой поздний, очень трудный час. Еще в школе, когда он увидел плачущую учительницу и узнал о случившемся, Сашка притих, и с этой минуты горе взрослых все сильнее захватывало мальчика и разрасталось в нем. Его слух обострился, а глаза затвердели и словно стали зорче, чем у других людей. Даже в полумраке, наступившем после того, как бабка убавила в лампе огонь, даже теперь Сашка замечал самое неприметное в горнице: то дырку на занавеске, то вату между рам, то воткнутую в обои иголку с живой белой ниткой, которая шевелилась по стене до тех пор, пока в душе мальчика тоже что-то не зашевелилось и не подступило к горлу горьким комком. Это были какие-то слова про дедушку Ленина, теснившие душу мальчика и сливающиеся в певучие строчки, от которых захватывало дыханье и с ресниц осыпались слезы на раскрытую тетрадь. Мальчик всхлипнул, провел языком по горячим, шершавым губам и, склонив голову набок, записал первые строчки, а потом шепотом прочитал их:
Горел он яркою звездою
Во мраке ночи вековой.
1955
 ПИСЬМО МАТЕРИ
ПИСЬМО МАТЕРИ
Так мы с тобой и пойдем от одной версты к другой версте.
Помнишь, в тот день ты говорила мне:
— И ты проси его, падай на коленки и моли: «Дедушка, пойдем домой».
Наверно, ты еще не забыла, как мы шли по станционным путям, миновали станцию и по скрипучим ступеням поднялись в трактир.
Слепой гармонист в канареечной рубахе качнулся на стуле, потрогал зеленые кисти на пояске и задремал опять. Мы осмотрелись. Около буфета, навалившись локтями на мраморный столик, сидел мой дед в желтой заплатанной рубахе. Он бормотал и всхлипывал, и мы никак не могли понять, плачет он или смеется. Над его непокрытой головой горела огромная лампа. Она висела на железных цепях, и черное дно ее было запаяно и помято.
Из угла, из махорочного дыма, вышел кровельщик Пономарев, наш сосед, который в том году выдумал новую обетованную землю «Александрию», куда должны были переселиться бедняки со всего мира.
Ты помнишь, он остановился перед нами и сказал:
— Не трогайте старика. Мы отплываем в «Александрию».
В это время дед тяжело поднялся из-за стола. Волосатое лицо его было в слезах. Теряя равновесие, он прислонился спиной к стене.
— Милый человек, — сказал он, протягивая к гармонисту руки, — ты слеп, Вася, а я стар. Как мы живем, а? Ты не видишь, как мы живем, — так лучше, Вася, и не смотри.
— Я слышу, — пробормотал слепой.
— Ты думаешь, кто я?.. Нет, ты погоди, — сказал дед, обращаясь к полицейскому Вавилову. — Я кузнец золотого калибра, а ты ко мне цепляешься. Мало вас били в Пятом году, крючки паршивые, плевать я хотел на тебя и на твоего эполетного императора.
— Ну-ка попробуй, плюнь! — сказал Вавилов и еще ближе подошел к деду.
— А ты сними его со стенки, тогда и плюну…
— Успокойся, Герасим, — сказал слепой. — Все равно плетью обуха не перешибешь.
— Перешибем, — закричал дед. — В крайнем случае всех их на наковальню. Ты слепой, Вася, и не видишь, до чего они довели народ.
И тут дед вдруг медленно стал опускаться на колени. Он лег на пол, в опилки, около ног Вавилова. Почерневшие пальцы его торчали из рукавов рубахи. Он хотел сжать их в кулаки, но пальцы его не сгибались.
Помню, я подошел тогда к деду и увидел второго полицейского и вожжи в его руках. Он бросил один конец Вавилову, и они стали вязать деда.
Обессиленного, его вынесли из трактира и положили поперек пролетки.
Вавилов отвязал лошадь от столба, ударил извозчика кулаком в спину, и я побежал впереди этой процессии по знакомой дороге к полицейскому участку.
Я помню, ты не пошла туда: у тебя не хватило сил.
На углу какая-то женщина, увидев пролетку с дедом, торопливо перекрестилась и вслух прочитала молитву…
Только на рассвете деда вынесли из полицейского участка. Его спять бросили поперек пролетки, и на прощанье Вавилов сказал: «Вот и отбунтовался, старый хрыч». Дед промолчал, мы тронулись, извозчик посадил меня рядом с собой на козлы, дед стонал, кашлял и выплевывал сгустки крови на край дороги.
Когда солнце поравнялось с верхушками деревьев, неожиданно пошел дождь. Сначала он пробежал по деревьям и крышам, потом застучал по стеклам и палисадникам и на мгновение, как бы прислушиваясь, остановился… Потом пошел снова. Его называли цыганским. Было солнечно, а дождь шел, дул ветер со стороны реки, и в станичной слободе звонили к заутрене.
Дед попросил извозчика остановить лошадь. Морщась от боли, он сошел с пролетки и долго стоил у дороги, уверяя извозчика в целебном могуществе дождя.
— Ежели бы он не хлынул, — говорил дед, — я помер бы в пролетке.
Был уже день, когда мы вернулись домой. Дорогая моя, ты очень долго искала деньги, но денег ты не нашла. Тогда ты достала из сундука свое праздничное платье, снесла его на базар и пришла с городским доктором.
Ты помнишь, как доктор улыбнулся и сказал деду:
— Ну-ка, ниспровергатель, повернись ко мне лицом, мы тебя сейчас послушаем.
А потом он нас отослал на кухню, и они с дедом о чем-то говорили, горячились, и когда доктор уходил, ты протянула ему деньги, а он рассердился, но все-таки приходил к нам еще несколько раз, пока деду не стало лучше…
Мне тогда было десять лет, и ты мне сказала:
— Ну вот… отец твой на войне, а дед без работы, как же мы теперь жить-то будем?
И я ответил:
— Ничего, как-нибудь проживем. Теперь вы с дедом держитесь за меня.
И я с этого дня стал понимать, как трудно достается человеку и хлеб, и соль, и сахар.
 СТАРИКИ
СТАРИКИ
Сухоруков устал. Он прошел по пустому городу, где только что начинало рассветать.
В городе было тихо. В переулках сонные городовые крестили свои волосатые рты. Два согрешивших монаха, путаясь в черных подрясниках, торопились к монастырю.
Теперь Сухоруков отдыхал. Он сидел рядом с деревенской девкой, в длинной рубахе, с потухшим чубуком в руке.
— Прошлым веком, — сказал Иван Сухоруков, — французы подожгли Бастилию.
— Ну и как? — тупо спросила девка.
— А все так же, — укоризненно сказал Сухоруков. — Поджечь-то подожгли, а рабочий класс на престол посадить не сумели.
Сухоруков встал. Он посмотрел на деревенскую девку, и та вздохнула так тяжело, что под ее ситцевой кофточкой колыхнулись две высокие волны.
Над острогом в пыли поднималось солнце. В новом соборе ударили в колокола. На городской каланче в первый раз после брандмейстерских именин очнулся пожарник и увидел над собой небо и на небе золотого черта в рыжих шерстяных чулках.
Сухоруков постучал в низкую калитку острога. Встреча с единственным сыном радовала и пугала старика. За стеной кто-то подметал двор и вполголоса пел песню про Маруську, уходившую на войну. На этот раз Сухорукову опять отказали в свидании.
Веселые, молодые надзиратели взяли его за руки и, протестующего, вывели на мостовую к трактиру «Причал горемыкам». У открытых окон этого заведения стояли извозчики с киями и разглядывали сухоруковскую лысину, мерцающую и мертвую, как бильярдный шар.
…Не такой судьбы и старости ожидал старик. На последней своей версте Сухоруков хотел остановиться, опомниться, отдышаться от прожитой никудышной жизни. Он думал, что мир будет самим собой, что будет так, как складывалось исстари в Кандалапе, — отцы стареют, сыновья растут. У старика за безотрадность труда — резное крыльцо с тремя ступенями, тишина и старый чубук, по субботам морозовская баня с паром, где выплеснутая в колени первая пригоршня воды кидает в дрожь, как первая рюмка водки.
Молча и неуклюже Сухоруков повернулся спиной к острогу.
На мостовой он вдруг вспомнил, что был когда-то отчаянным парнем и на лбу у него лежал большой завиток волос.
Двадцать семь лет тому назад за обманутую девку он и Санька Ческидов побили молодого чиновника Александра Карповича Иванова.
Александра Карповича прислонили к забору и били медленно и внимательно свинцовыми ударами под ребра.
В тот вечер была музыка в саду «Аркадия». Самый большой кандалаповский пес стоял тогда на углу и смотрел на обманутую девку, воющую от страха и тошноты в тусклой, вытоптанной полыни. Утром на том месте, где били Иванова, Сухоруков нашел очки. Он спрятал их на дно сундука, и они пролежали там двадцать шесть лет. За это время Иванов стал большим чиновником, а Сухоруков жил, как все кандалаповцы, тесно и настороженно, ничего не придумывая, ничего заново не начиная. Он много работал, а потом грыжа пригнула его к земле. В прошлом году, бросив свое ремесло, Сухоруков вынул из сундука очки и по вечерам стал читать книжку об уроках Великой французской революции.
Однажды во сне Сухоруков увидел бога, и бог ему сказал:
— За эти очки и за такую книжку я тебя, каменщика, буду сейчас судить.
До первых петухов бог судил старого каменщика.
Утром, когда Сухоруков выбрался из обломков своего сна, он вспомнил приговор и подумал, что бог не прав.
За мельницами на стрелках колотился поезд. Сухоруков шел медленно мимо низких палисадников и скамеек, и на лаковых его голенищах вертелась улица с опрокинутыми домами. На углу он остановился. Каменщик вспомнил поле. По престольным праздникам там, в знобящих хлебах, кандалаповские ребята играли в карты. Они уходили туда с водкой, потому что выселки были тесны для них… Сейчас перед Сухоруковым лежал луг, загороженный со стороны казарм теплыми земляными валами. Этот луг надо было пройти нигде не отдыхая, но страх перед таким пространством охватил каменщика, и он почувствовал себя стариком.
Только к полудню старый каменщик приковылял в Кандалапу. Задыхаясь от жары, он вошел во двор, под тень единственной березы. Его тусклое лицо было в пыли, глаза неподвижны и темны, рот открыт и щеки стянуты в рубцы. Строго и внимательно Сухоруков осмотрел свое хозяйство. Посредине двора стояла бочка, почти совсем распоясанная соседскими ребятишками. На крыше сарая валялись кирпичи, вырванный косяк голубятни висел на одной покоробленной петле.
— Непорядки, — сказал каменщик самому себе. — За такие непорядки Сибири тебе мало, Иван Петрович.
В кухне Иван Петрович разделся и снял сапоги. Твердая холщовая рубаха висела на нем ровно, не прилегая к бокам. В горнице на деревянной кровати лежала Марфа.
Каждый раз в полдень Сухоруков возвращался из города, и Марфа узнавала по скрипу калитки, но шарканью ног в сенях, какие вести о сыне передаст ей Иван Петрович. Все эти дни она восстанавливала в памяти пережитое и ничего хорошего не могла вспомнить.
…Там, в пережитом, были метели, в окна стучали нищие, на Кандалапу наседали старухи, завернутые в черные шали. Старухи торговали голубой иорданской водой, продавали теплую землю с Голгофы, читали в горнице псалмы, целовали грязными губами детей и шли дальше, по насыпям Юго-Восточной дороги.
В те годы Марфа и Иван Петрович мытарились со своим сыном по чужим углам. Наконец был куплен дом, но Марфа надорвалась на погрузочном дворе, и с тех пор у них не стало детей.
Тогда кандалаповцы, не умея еще бастовать, молились богу. Марфа молилась святой Марии, державшей на коленях бесполого младенца с растопыренными ногами. Каждую весну она собиралась в Киевскую лавру, но Иван Петрович говорил, что бог везде один, а к святым идти незачем, потому что они сами когда-то были грешниками.
По вечерам Марфа вязала чулки, а Иван Петрович ругал себя за нищету до тех пор, пока не вырос сын Федор.
Федор вырос, посмотрел на мир большими глазами и понял его так, как никто не понимал в Кандалапе. Однажды он принес из мастерских книжку об уроках Великой французской революции.
Иван Петрович читал эту книжку по буквам, терпеливо и угрюмо, и его прокуренный палец медленно двигался по строке. А в апреле у Сухоруковых был обыск. Федор бастовал вместе с деповскими машинистами, и составы с новобранцами застревали в тупиках под белыми газовыми фонарями. Так было несколько дней, и вот ночью восемнадцатого апреля взяли всех бастующих машинистов и разместили их в трех арестантских вагонах. Этот состав с необычными пассажирами тронулся на рассвете по особому жандармскому графику и на первой же версте напоролся на петарды.
У каждого машиниста есть свои навыки в работе. Машинист, ведущий этот состав, хитрил с машинистами, едущими в вагонах. Он хотел, чтобы у него не было имени, но у него остались привычки, и они выдали его на третьем подъеме.
Поезд вел Бороздин, второй сухоруковский сосед, купленный за шестьдесят рублей жандармами.
Дети железнодорожников прямо с насыпи кидали каменьями в машиниста. На паровозе горели буксы. Под водокачками бастующие мастеровые упрашивали Бороздина отцепиться от состава, ему закрывали семафоры, его долго держали на полустанках, стрелочники грозили ему красными флажками. Со станции Владиславской Бороздин поехал неровно и бешено, и тогда все машинисты поняли, что ему конец.
Месяца через два, ночью, с порожняком из-под балласта его загонят в тупик на полном ходу по таким правилам, когда никакое расследование не сумеет найти виновников катастрофы.
…Иван Петрович ничего не знал о Бороздине. Сейчас он думал только о Марфе, которая после ареста сына слегла в кровать и не может теперь подняться.
Иван Петрович осторожно вошел в горницу. Марфу знобило, она смотрела на мужа измученными глазами и видела только его длинную рубаху с отвисшей пуговицей на воротнике.
— Ну как там с Федором?
— А так, — сказал Сухоруков. — Крепись, Марфа, говорят, скоро выпустят.
Иван Петрович придвинул табуретку к кровати и сел около Марфы, чувствуя, что ему нужно сказать много таких слов, которые могли бы ее успокоить. Но слов не было, и он сидел строгий и босой, держа ее руку в своих тяжелых руках.
К вечеру ей стало хуже. В горнице было душно. Иван Петрович был во дворе и набивал на бочку обруч, отнятый у ребятишек. Потом он сел на крыльцо и стал думать о Марфе. Жизнь была уже прожита и вся перезабыта так, что он не мог даже вспомнить, в каком году Марфа была с ним в кинематографе. После картины там показывали трех обезьянок в малиновых бархатных жилетках. Маленький клоун с колокольчиками на ногах объяснял, как он произошел от обезьяны.
Перед Сухоруковым стояла сутулая береза с длинными ветвями, раскинутыми от калитки до самой крыши дома. Сам Сухоруков вырастил эту березку и хотел под ее пыльными листьями пить по вечерам чай и разговаривать с Марфой о хозяйстве. Но все было иначе.
Иван Петрович обиженно посмотрел на березу. Она стояла перед ним согнутая, неприбранная, и ствол ее был тусклым, как цинк, а листья ее опадали, и ветер выметал их со двора.
«Графиней стоишь, — подумал Сухоруков, — притворяешься молодой. И за что только про тебя люди сложили такие песни!»
Вечером Иван Петрович напоил Марфу чаем и открыл окно. На линии пели рожки, над окном висела луна и своим светом пересекала горницу пополам.
— Ваня, ты видишь? — спросила Марфа. — Ты посмотри туда!
— Куда?
— Наверх, Ваня.
— Тебе чего-то снится, Марфа, — сказал Сухоруков.
Но Марфе ничего не снилось, ей просто хотелось сказать, что вот она прожила большую жизнь, без отдыха, без одобрения, и только перед смертью заметила, что на небе есть луна.
 ПЛЕМЯННИКИ
ПЛЕМЯННИКИ
Пыльные полосатые верстовые столбы были теплы от солнца. Деревянный мост, пахнущий плесенью, висел в чаду за сверкающими шинами нашего тарантаса. Тарантас прыгал и проваливался в глубокие снарядные воронки.
Я сидел рядом с Гиацинтовым — работником нашего укома.
— Со мной нехорошо, — сказал он. — Ты понимаешь, у меня малярия.
У разрушенной паровой мельницы мужик, который нас вез по наряду, решил поить лошадь. Веселые, сытые, оглушительные и торжественные, как свадьбы, гусиные вереницы гоготали и покачивались в воде.
Гиацинтов вылез из тарантаса. Онпошел в поле, принес пригоршню васильков и вложил их в страницы тяжелого Евангелия.
— Зря ты интересуешься этим цветком, — укоризненно заметил мужик. — Наша обыкновенная свинья чихнуть не пожелает на такой цветочек.
— При чем здесь свинья? — спросил Гиацинтов.
— А все при том же, — сказал мужик. — Я вот с самого города жизни тебя учу, а ты ничего не понимаешь.
— Я больной, — тихо сказал Гиацинтов.
— Это видно: цветочками интересуешься. Этот цветок высасывает душу из хлеба, а ты его, синего подлеца, в книжку кладешь.
Мужик укоризненно посмотрел на Гиацинтова, но тот промолчал, потому что в то время нельзя было спорить с человеком, который везет тебя мимо таких деревень, которые кишели и тайными и явными антоновцами.
Я лег на землю и закрыл картузом лицо. Гиацинтов стоял на берегу в хромовых сапогах, в помятых галифе, положив локоть на грязную парусиновую кобуру. Он ехал на диспут с попом и сейчас думал о том, как бы удобнее и вернее припереть его к стенке. Он знал, что церковный староста, старухи и кулаки восстанут против него и будут утверждать, что бог создал мир в шесть дней. На седьмой день бог отдыхал, он лежал под яблоней, в деревянных китайских сандалиях, белоголовый и завернутый в голубые простыни от бороды до пят. Тогда в раю на ветках кричали попугаи, они раздражали бога, и ангелы длинными шестами изгнали их в Африку. За ними вылетели Адам и Ева, они стали жить прекрасной плотской жизнью на земле. Но это тоже богу не понравилось, и всемогущий старик задумал грандиозный потоп.
— Я тебе дам потоп, — сказал Гиацинтов и, сутулясь, неожиданно выпустил в небо полный заряд из белого никелированного револьвера.
Солнце спряталось за спиной Гиацинтова. Его трясла малярия. На том берегу сидел мальчишка в зеленой домотканой рубахе, и на коленях его лежал картуз, наполненный теплыми вишнями. Дальше, за выгоном, в полуразрушенном палисаднике стояли вишневые деревья, словно развернутые знамена.
Я встал с земли, Гиацинтов повернулся ко мне и что-то виновато забормотал. Он увидел мужика, прислонившегося к тарантасу, равнодушного и строгого, сталкивающего прокуренным ногтем муравья с ладони.
— Стреляешь? — спросил мужик и посмотрел на Гиацинтова. — Бога небось достаешь?
— Достаю, — похвастался Гиацинтов и пошел к нам, задыхаясь от озноба и жары.
Мы сели в тарантас на сложенный брезент и за поворотом увидели рощу, отступающую от обрыва. Кирпичная церковь, белая и высокая, спускалась со своей Голгофы и шла нам навстречу по мерцающим зеленям. По обеим сторонам дороги стояли хлеба. Прямо по ржи к далекой деревенской околице тупо брела корова с деревянной колодкой на рогах.
К нам навстречу из деревни выехали антоновцы. Они были в длинных зипунах и ехали мелкой рысью, не соблюдая никакого интервала. Я быстро спрятал свои документы и заставил Гиацинтова как можно быстрее засунуть в торбу кобуру с револьвером.
— Ребята, — сказал мужик, — смотрите не выдавайтесь, а я вас не выдам. Я ведь догадываюсь — вы комсомол, а они таких не любят.
Первым подъехал к нам молодой парень в черном купеческом картузе, неумело размахивая тупой и тусклой шашкой.
— Слезай, — скомандовал он, — чего как господа развалились?
Мы слезли, нас обыскали, а с Гиацинтова сняли сапоги и стали делить эти вещи между собой.
— Небось комсомол везешь, старый хрен? — спросил парень в купеческом картузе.
— Какой комсомол, племянников своих везу с фабрики.
— А вот мы сейчас узнаем, кому они племянники, — сказал антоновец и слез с лошади.
Это был мой дядя, единственный деревенский родственник, который лет пять тому назад часто заезжал к нам. Он подошел к нашему мужику и сказал:
— Такую лошадь имеешь, а брешешь.
— Чего мне брехать-то? — ответил мужик.
— А я тебе говорю, брешешь. Буду считать до трех. Не скажешь правды, лошади твоей капут… Понял? Ну, я считаю… Раз… два… три…
Мой дядя еще немножко помедлил, озадаченно посмотрел на меня, а затем подошел к лошади и выстрелил ей в голову из своего короткого обреза.
Больше он не принимал никакого участия, а только криво улыбался, пока антоновцы допрашивали мужика.
Мужик упрямился, мой дядя молчал, и только когда они стали уезжать, он несколько раз дернул меня за ухо и сказал:
— Благодари своего дядю, дорогой племянничек!
Обратно в деревню антоновцы поскакали нескладным галопом. Мы рассовали по карманам все, что спрятали, попрощались с мужиком, обогнули деревню и пошли прямо по ржи к далекому полустанку.
 ТЕЛЕГРАММА
ТЕЛЕГРАММА
Всю ночь в будке путевого обходчика горел огонь. У стола сидела Евдокия Ивановна и шила сыну рубашку, потом чинила ему полушубок, а на рассвете убавила свет в керосиновой лампе и подошла к окну.
На полотне она увидела мужа, шагающего в сторону семафора, и собаку, которая всегда ходила с ним в обход.
Солнца еще не было видно, но уже начался день без метели, морозный и ясный, с бездонным небом, с горьковатым запахом дыма и с криком галок, замерзающих на дорогах и на телеграфных столбах.
— Ваня, — сказала Евдокия Ивановна, — вставай!
С деревянной кровати встал мальчик лет одиннадцати, и по его веселому лицу можно было догадаться, что он проснулся давно.
— Ты думаешь, я спал? — спросил мальчик. — Это я так, нарочно спал, а на самом деле я не спал. Ну-ка, где моя рубаха, давай примерять будем.
Мальчик оделся и подошел к зеркалу, потом сел завтракать, но за столом ему не сиделось, и он часто прислушивался, поглядывал на часы и вскакивал со стула.
Вскоре около путевой будки остановилась моторная дрезина, и мальчик засуетился и вышел на полотно.
В дрезине пахло бензином и было холодно, и когда она тронулась, то в углу неожиданно заскрипела обшивка и на стыках от мороза сухо зазвенели колеса и задребезжали стекла.
Набирая скорость, дрезина обогнала путевого обходчика и пошла по неровному профилю; ее сильно болтало вместе с юными пассажирами, которые сидели робко и смотрели на сердитого моториста, на мелькающие щиты и на мелкий кустарник, почти занесенный снегом.
Под откосом валялись три пассажирских вагона. Кое-где на телеграфных столбах не хватало изоляторов. Прямо на насыпи, около железнодорожного моста, горел костер, разложенный ремонтными рабочими. Повсюду еще были заметны следы гражданской войны, хотя на этом участке восстановительные работы велись круглые сутки.
Помахав дрезине вслед, ремонтные рабочие повернулись к костру, а моторист покачал головой и сказал совсем оробевшим ребятам:
— Видали, как нас провожают? Кругом разруха, а мы господами в школу ездим. Но имейте в виду, на вас вся надежда. Мы последнее с себя снимем, но в государстве у нас будут и свои инженеры, и свои доктора.
У закрытого семафора моторист остановил дрезину и с любопытством осмотрел будущих инженеров и докторов. Их было шесть человек, закутанных в полушубки и в пуховые платки, и среди них две девочки, похожие друг на друга.
Не торопясь, моторист вынул из кармана кисет и зажигалку и, раскурив трубку, еще раз окинул сердитым взглядом притихших ребятишек.
— Все здесь, студенты? — спросил он.
— Все, — тихо ответил кто-то.
— Ну хорошо, — сказал моторист, — экзаменовать я вас буду осенью, а сейчас послушайте, что я вам скажу. Одним словом, смотрите, чтобы бензин мне даром не жечь.
Он погрозил пальцем ребятишкам и расстегнул ворот полушубка.
— Как только утро, — сказал он, — так все за учение, я сам буду тетрадки проверять и лично за вами ездить. Слышите? Учиться это есть свет, а не учиться это есть тьма!
Он выбил пепел из трубки и вдруг хорошо и ласково улыбнулся.
— Вот, — сказал он, — меня отец мечтал в люди вывести, а силы у него не хватило. Бился он, бился, а потом и говорит: «Иди-ка, сынок, в дистанцию, а то своим образованием ты всю семью надорвешь. Нету у нас таких капиталов, чтобы тебя в инженеры вывести».
— Дяденька, а долго мы так будем ездить? — спросила девочка.
— До конца занятий, — сказал моторист. — Каждое утро будем ездить. Да не мы одни. Так будет по всей России. С утра всех ребят — в школу. Где бы ты ни жил, все равно тебя должны доставить на ученье. Как-то третьего дня вызывает меня сам начальник дистанции и говорит: «Тут, говорит, Василий Спиридонович, есть одна ответственная телеграмма от самого товарища Ленина. Да, повторяет, высокая телеграмма, насчет детей путевых обходчиков. Это, говорит, просто уму непостижимо, у Ленина столько дел, а он не забыл даже про детей путевых обходчиков. С пятнадцатого, по ленинскому распоряжению, все эти ребята будут учиться в школе. И чтобы никаких затруднений им не чинить, и на разруху не ссылаться». Понятно?
— Дяденька, дяденька, — закричала девочка. — Смотрите, нам семафор открыли!
— Ну, тронулись, — сказал моторист. — Только в школе мух не ловить. Как хотите, ребята, а чтобы до инженеров непременно дотянулись.
Вечером Василий Спиридонович пришел домой, молча поужинал, молча лег в кровать. Он стал размышлять о своей жизни, о жизни соседей, понимая, как плохо они жили и как будет хорошо ребятишкам, которых он сегодня впервые доставил в школу. Он думал и думал, и слышал, как в тупике пыхтел паровоз, как на улице лаяли собаки, как стучали вязальные спицы в руках жены. Потом его жена стала молиться, и, когда она поднялась с колен, Василий Спиридонович спросил:
— Ну что, ничего не вымолила?
— Нет, — сказала жена и заплакала.
— А ты не плачь, — сказал Василий Спиридонович. — Ну, нет так нет. Двадцать лет мы с тобой ребятишек ждали, а их нету. Может быть, из приюта возьмем, а? На инженера учить будем. По нынешним временам это вполне доступно.
Часов до двух Василий Спиридонович рассказывал жене про телеграмму Ленина, про ребятишек, которых он будет теперь возить в школу, и чем больше он об этом рассказывал, тем светлее становилось у него на душе. Раздражала только горящая в углу лампадка.
— Ты бы, Маша, потушила ее, — сказал он. — Нечего зря масло портить.
 Дальше было так…[2]
ПОВЕСТЬ
Дальше было так…[2]
ПОВЕСТЬ
 Он вышел за ворота и остановился.
Он презрительно посмотрел на надзирателя, на закрытую милицейскую машину со спящим шофером в кабине и облегченно вздохнул, чувствуя, что за спиной больше никого нет и он теперь может идти вправо и влево без всяких предупреждений.
— Капелька, — сказал он самому себе, — сначала мы пойдем прямо, посидим немножко в пивной, а потом подумаем о ночлеге.
Не торопясь, он пересек теплую площадь и вышел на берег Енисея. Он вспомнил: была зима, когда его привезли в колонию. На плечи падал снег, и луна тогда еще проглядывала из облаков, и Капельке так и не удалось попрощаться с нею.
Сейчас было лето. Был жаркий день. Енисей на мгновение ослепил Капельку своей вспыхнувшей огромной, глубокой синевой.
На самом берегу реки стоял лесопильный завод, и оттуда тянуло прогорклым болотным запахом.
Зеленая тайга медленно спускалась по уступам к воде, и ее длинная яркая тень лежала в реке.
Над товарной пристанью висела пыль.
Из длинных штабелей в баржу грузчики носили кули с черемховским углем, и трап под ними чуть прогибался, когда они двигались двумя цепочками.
Грузчики торопились, и Капелька терпеливо ждал, когда же наконец кто-нибудь из них сорвется с трапа и упадет в воду, но они двигались уверенно, и Капельке вдруг стало скучно, и он брезгливо отвернулся от реки и перестал смотреть на грузчиков. Его внимание привлекли женщины.
Перед самым выходом на свободу он почти перестал спать. По ночам ему было душно от тех удивительных картин, какие создавало его воображение, и он засыпал, и просыпался, и снова засыпал с горящей папиросой во рту.
По ночам Капелька часто видел во сне одну и ту же девушку, похожую на русалку, и просыпался, потому что она уходила от него в море, а он боялся воды.
Но теперь ему нечего было бояться. Он ступал по земле и привыкал к людям, рассматривая только женщин сухими наглыми глазами и загадочно улыбаясь девушкам, одетым в короткие платья с короткими рукавами.
Он шел по береговой улице и в самом конце этой улицы увидел у коновязи ломовых лошадей и прибавил шагу, зная, что там пивная.
В пивной было прохладно и сумрачно.
Ломовые извозчики сидели за одним столом, их влажные спины и затылки были в муке, а широкие рубахи в дегте и желтых пятнах. Из угла на этих людей насмешливо смотрел старичок и потягивал пиво, вздрагивая и морщась от наслаждения.
Капелька подозвал официанта, сутулого сибирского мужика в белом фартуке.
— Што прикажете? — спросил официант, стремительно нагибаясь.
Капелька сморщился, махнул рукой и сказал:
— Я не приказываю, а прошу… Надо же это понимать. Я прошу полдюжины пива и один бутерброд подешевле.
Официант обиженно выпрямился и медленно пошел от столика.
— Я, конечно, извиняюсь, — сказал Капелька, обращаясь к старичку, — но, представьте себе, я очень не люблю холуев.
Капелька положил на колени узелок с бельем.
— Из баньки? — спросил старичок.
— Совершенно точно…
— Ну, выпьем за легкий пар, — сказал старичок. — За то, чтобы вечно ходить под парусами.
Капелька улыбнулся и выпил, потом пожевал бутерброд и вытер губы ладонью.
Над ним висела клетка с попугаем. Два официанта укоризненно смотрели на клетку, а третий что-то говорил буфетчику, который хмурился и покачивал головой.
— Так вот, Тарас Григорыч, пения от него никакого, а штрафовать нас будут. Участковый так и сказал: «Раз, говорит, сумели испортить такую интересную птицу, сумейте ее и перековать». А как его перекуешь, такого фулигана? Запой-то у него беспробудный.
— Запой сурьезный, — сказал буфетчик. — И с чего это он так растревожился? Не могу понять.
— От тоски, — заметил официант. — Холодно у нас в Сибири, и ему непривычно без слонов.
— Вы вот чего, ребята, — сказал буфетчик официантам, — не предавайтесь фантазиям. Нечего баловать иностранную птицу. Пускай воздержится.
Клетка качнулась, и попугай проснулся. Он поднял белую трясущуюся головку, вспрыгнул на жердочку, зевнул и расправил свои зеленые крылья.
— Хозяин, пивка! — сказал он. — Р-р-раков… р-раков…
— Воздержаться надо, Вася, — сказал буфетчик. — Вот скоро участковый придет, слышь, нишкни.
— Участкового мы подождем, — сказал Капелька и вышел из-за стола. — Подумаешь, чем напугали птицу…
Капелька посмотрел на взъерошенного попугая, потрогал прутья и, отломив кусочек сыру от своего бутерброда, бросил его в клетку, чувствуя жалость к этой разноцветной твари.
— Ну дайте вы ему пивка, — сказал Капелька, — чего птицу мучаете? Вот тебе, Вася, хруст, выпей, сынок, за мое здоровье. — Капелька вынул из кармана рубль и бросил его буфетчику.
Здесь же у стойки Капелька выпил двести граммов водки, наблюдая за официантами, которые суетились у клетки и из пузырька выливали пиво попугаю в кормушку.
— Только нишкни, — сказал буфетчик и погрозил попугаю пальцем.
— Тише, — сказал старичок. — Я есть основатель.
Он положил голову на руки, словно сидел не в пивной, а в паровозной будке. Потом неожиданно поднялся и направился к двери. Поравнявшись с ломовыми извозчиками, он спросил их:
— Кто вы такие есть? Вы есть актеры. На одни свои штаны по двенадцать метров мануфактуры гробите. Вы запорожцы в юбках, и я вам приказываю молчать. Я есть основатель железных паров…
— Иди-ка ты, папаша, спать, — сказал ему бородатый извозчик. — Не мешай. Ну вот, а откуда ни возьмись, молоньей трах-трах-трах, колокольчик на дуге дзинь-дзинь, и сама дуга в пламя. И вижу я, братцы мои, картину: мой мерин задымился…
— Врешь!
— С места не сойти — дымился!
Капелька неожиданно захмелел. Его твердые ладони обмякли и вспотели. Блаженная улыбка осветила его длинное худое лицо. Капелька рассмеялся, думая о том, что у старичка, кроме нескольких рублей и пенсионной книжки, нет ничего за душой. «Он есть основатель». Капельке даже стало весело. И он выпил еще, чувствуя себя совершенно свободным человеком, но, чтобы убедиться в этом, он вышел из пивной, отыскал в садике самое прохладное место и лег в теплую траву, положив под голову узелок с бельем.
Он долго слушал, как шумит сад, долго глядел в небо, и, оттого что в небе быстро передвигались облака, дремота стала одолевать его. Он закрыл глаза. Туфли давили ему в подъеме, и он снял их, не боясь, что могут украсть, положил в высокую траву и только после этого почувствовал облегчение. Больше у него не было сил, и Капелька стал засыпать.
Проснулся он вечером. В городе уже горели огни. Отражение звезд вспыхивало в реке, и от бакенов к берегам шли волны и разбивались о пристань, высоко поднимая катера, стоящие у причала.
Капелька не торопился. Он вышел на главную улицу, где, по его расчету, должно было произойти знакомство.
Он бродил долго, останавливаясь у ресторана, рассматривал улыбающихся женщин в витринах кино, но никто к нему не подходил и никто не обращал на него внимания.
За два часа он обошел все шумные городские места.
У вокзала он разговорился с извозчиком, но тот не знал ни одного адреса, где Капелька мог бы утолить свои желания, и он пошел обратно по длинным улицам, в которых было много электрического света, новых жилых домов, автомобилей и женщин.
Он шел и не узнавал города. Первый раз Капелька почувствовал растерянность и теперь не знал, что ему делать со своими деньгами, которые он честно заработал в колонии и честно выиграл в карты перед самым выходом на волю.
«Бабы, — с отчаянием думал он, — у меня много денег. Спасите меня». Но он врал самому себе, потому что денег у него было столько, что их едва хватило бы на один хороший загул.
Он остановил какую-то девушку в темном пальто и долго расспрашивал ее, как пройти на Качу, хотя дорогу туда он знал. От этой девушки пахло кондитерской, и она терпеливо улыбалась, посматривая на часы, висевшие над ювелирным магазином. Капелька поблагодарил ее невесело и лениво побрел в сторону Качи, чувствуя, что в этом городе никому не нужны ни его деньги, ни его любовь.
Он злился на прохожих, задевал их плечами, и от пристального, голодного взгляда Капельки женщины сжимали губы и опускали глаза.
На углу Капелька остановился. Накрапывал дождь, и на раскрытых шелковых зонтах отражались зажженные фонари, витрины и багровый свет реклам.
Дождь шел все сильней, и вскоре улицы совсем опустели, и Капелька растерянно пожал плечами. Он повертел в руке кепку и нахмурился.
Что ж, он может и подождать, у него теперь в запасе целые годы, огромные города и так много свободы, что ему становилось как-то неловко, словно его одели в просторный дорогой костюм.
Напротив в клубе был танцевальный вечер, и Капелька посмотрел на открытые окна. Он увидел горящие люстры и услышал размеренное глухое шарканье ног. Там танцевали медленно и однообразно, и Капельке казалось, что в этом освещенном зале работала какая-то большая паровая машина.
Через час дождь перестал, и Капелька решил идти на Качу. У фонарного столба он засучил рукав и по складам прочитал записанный на руке адрес Анны Тимофеевны.
Дом, в котором она жила, не понравился Капельке.
Этот деревянный одноэтажный дом стоял рядом с милицией, а напротив была аптека и большое новое здание транспортного института.
Он вошел в дом и на кухне увидел женщину в фартуке, стоящую у плиты; из открытой конфорки вырывался огонь.
Белые волосы этой женщины вдруг напомнили Капельке, что и у него была мать, которая, наверно, любила его, если из своей пенсии посылала ему в колонию то деньги, то посылку перед каждым большим праздником, когда Капелька ждал амнистии.
Он почтительно кашлянул и сказал:
— Здравствуй, мамаша.
— Здравствуй, голубчик. Ну, чего же ты на пороге встал? Проходи.
— Ничего, мамаша, не беспокойтесь. Я, конечно, извиняюсь, но я от вашего сына… Имеется письмо.
— От Анатолия?
Капелька утвердительно кивнул головой, и Анна Тимофеевна испуганно всплеснула руками и заплакала по-старушечьи, часто всхлипывая.
— Чего это вы расстраиваетесь, мамаша? — спросил Капелька.
— Ах, господи, — сказала старуха, — беспокойство-то какое. Ну как он, небось мается? — Она с затаенным страхом посмотрела в глаза Капельке и отступила к столу.
— Стыдитесь, мамаша, — сказал Капелька. — Вы плачете, как при старом режиме.
— Но ведь стены-то, стены… — сказала старуха. — Ведь тоска-то какая, господи.
— Бросьте, мамаша, нам и тосковать-то там некогда. Днем работаешь, а вечером кино смотришь или книжку читаешь.
Капелька решил не расстраивать старуху. Он сел на стул и подробно стал рассказывать ей о сыне, стараясь придерживаться правды.
В кухню из комнаты вошла девушка и встала у плиты, потом, заметив на себе пристальный взгляд Капельки, она опустила глаза и спрятала руки за спину.
— Это сестра его, Маша, — сказала старуха. — Сейчас она у меня студент.
Капелька приветливо улыбнулся, потому что в душе он всегда уважал образованных и ученых людей.
Он вынул из рукава письмо.
— Это вам от Анатолия.
Анна Тимофеевна засуетилась.
— Маша, — спросила она, — где очки?
— Вечная история с этими очками, — сказала Маша. — Хочешь, я буду читать?
— Только не барабань, — сказала старуха. — Читай пореже.
— «Добрый вечер, дорогая мама и ты, моя милая сестричка Маша…»
Анна Тимофеевна снова заплакала, и крупные слезы поползли по ее щекам.
— Если ты будешь плакать, я брошу читать, — сказала Маша.
— Читай, читай, я больше не буду.
В конце этого длинного письма Анатолий просил мать и сестру как-нибудь устроить Капельку у себя, пока он найдет угол и работу.
— Ну что ж, — сказала старуха, когда письмо было прочитано, — оставайся у нас, поживешь, осмотришься, а там и на работу поступишь, вот и вспомнишь меня, старую. Мой покойный муж всегда говорил: «Доброе дело в огне не горит и в воде не тонет». Так-то вот, сыночек! — Старуха вытерла фартуком глаза, и лицо ее стало скорбным.
— Только смотри не женись сразу, да и работу выбери по душе: постылая работа хуже плохой бабы. Это я тебе верно говорю.
— Я очень рад, мамаша, — сказал Капелька. — Вообще вы не думайте, что я какой-нибудь жулик или брандахлыст. Ну, знаете, по пьяной глупости — сначала он меня, а потом я его, а потом мы устроили так называемый шухер по семьдесят четвертой статье. Знаете, мамаша, есть такая статья — семьдесят четыре.
— Это за хулиганство, — сказала старуха. — У меня сын-то по этой статье попал. Все с голубями возился и с соседями воевал. Теперь вот похлопотать бы надо, да некому. Маша все книжки читает, а я за день так ухожусь, не приведи бог.
Старуха вдруг спохватилась. Она попросила Машу собрать на стол, а сама куда-то вышла.
Капелька пристально посмотрел на Машу. Сердце его стучало… В доме больше никого не было, и он почувствовал дрожь, и ему стало трудно дышать. Он побледнел и исподлобья бросил взгляд на парня, вошедшего в кухню.
— Здравствуй, Машенька, — сказал парень. — Мне нужно с тобой поговорить.
Они ушли в комнату, и Капелька остался один и долго прислушивался к разговору, из которого ничего нельзя было понять.
Капелька криво улыбнулся. Он кашлянул в кулак, и они притихли. Они совсем забыли, что в кухне сидит посторонний человек, и вышли из комнаты, чувствуя какую-то вину перед Капелькой.
Вскоре парень ушел, и Маша сказала:
— Это мой жених. Очень хороший человек.
— Да и вы неплохая, — сказал Капелька. — Вы девушка самых высших мер…
Через несколько минут вернулась Анна Тимофеевна и усадила Капельку напротив Маши, а сама села рядом и поставила перед ним тарелки с холодным мясом, свежими огурцами, с колбасой и сыром, настойчиво и ласково угощая его.
Украдкой он внимательно рассматривал старуху и чувствовал, что ее интересует только Анатолий, и Капелька хитрил и в рассказы напускал много тумана, зная, что так будет спокойнее и старуха не передумает и не откажет ему в ночлеге.
Суетясь, Анна Тимофеевна совсем забыла спросить у Капельки, как его зовут и есть ли у него родные. Она только иногда трогала его за плечо и просила вспомнить еще что-нибудь о сыне, и Капелька тер лоб и говорил, что все будет хорошо, и от радости старуха выпила три рюмки водки, а остальное выпил Капелька.
— Да, — сказал он, обращаясь к Маше, — люблю я ученых людей.
Но Маша промолчала, а старуха стала просить Капельку попробовать грибков собственного засола.
Капелька ел много, и старуха с умилением смотрела на него. Есть ему не хотелось, но он жевал с жадностью, потому что на столе было много еды, а он привык много есть и ничего не оставлять на завтра.
Когда Капелька съел почти все, он почувствовал, что в кухне ему не хватает воздуха. Он расстегнул ворот рубашки, откинулся на спинку стула и с любопытством посмотрел на сундук, окованный железом.
— Ну как, сынок, накушался? — спросила Анна Тимофеевна.
Капелька, чтобы окончательно расположить к себе старуху, встал из-за стола и хотел перекреститься, но Старуха поймала его за руку и строго сказала:
— Не богохульствуй, все равно не веришь…
Она посмотрела на часы. Было уже около двенадцати.
— Давайте стелиться, — сказала Маша, и Капелька облегченно вздохнул, поднимаясь из-за стола.
Наступила первая тихая ночь на свободе, когда никто не тревожит тебя. От радости у Капельки дрогнули губы, и он с благодарностью посмотрел на старуху.
Анна Тимофеевна хотела уложить Капельку в горнице на диване, но там всегда спала Маша, и Капелька не согласился и попросил постелить ему на кухне. Капелька потушил свет и лег под чистую простыню, вытянув замлевшие ноги.
В горнице на расшатанной деревянной кровати неспокойно спала старуха. Она просыпалась от боли в пояснице, тяжело переворачивалась на другой бок, растиралась нашатырным спиртом и кашляла в подушку, чтобы не разбудить Капельку и Машу.
Всякие мысли беспокоили ее; она думала, что городской человек быстрее сбивается с пути и что завтра нужно будет купить чаю, а утром оставить Капельке записку, если он будет спать, чтобы он положил ключ под крыльцо и не уходил без завтрака.
Капелька понял, что в темноте ему не уснуть. Он привык спать при казенном электрическом свете, спать так, чтобы рядом кто-нибудь тосковал, ругался, читал или пел вполголоса песню. Он привык к одной зеленоватой злой звезде, и, когда ему не спалось, он смотрел в окно барака и спрашивал всех, кто носил очки, — почему из каждого такого окна видна только одна звезда.
Сейчас за окном было много звезд. И луна и звезды были зажжены высоко над енисейской тайгой, и их свет, проникая в кухню, еле касался крышки сундука и длинного лезвия забытого на столе ножа.
Капелька повернулся лицом к двери и откинул руку назад, осторожно стал ощупывать сундук. Он нашел замочную скважину, из любопытства потрогал ее пальцами и притих, потому что с кровати поднялась старуха и, охая, вышла на кухню.
— Спит, — сказала она. — Ну, спи… забыла я только спросить, как у тебя с деньгами.
Превозмогая острую боль в пояснице, она нагнулась к Капельке, поправила в ногах у него простыню и накрыла его своим одеялом. Потом, нагнувшись еще раз, она перекрестила его, хотя сама давно уже стала забывать бога и часто ложилась без молитвы в постель.
Полуприкрытыми глазами Капелька увидел старуху. От старухи пахло нашатырным спиртом, и, когда она задела его лицо, пальцы были холодными, и Капелька подумал, что ей уже пора умирать, а она все еще бродит и, наверно, копит деньги для Анатолия и складывает их в сундук.
Он прикинул в уме, сколько можно накопить денег за десять лет, если каждый месяц откладывать по двадцать рублей. Цифра получалась внушительной. Она внесла успокоение в душу Капельки. И он стал засыпать…
Проснулся он поздно, но вставать ему не хотелось.
Он прислушался и, полежав еще несколько минут, понял, что старуха и Маша куда-то ушли и оставили его одного в доме.
Наедине со своей совестью, со своим прошлым он почувствовал себя неловко и не знал, что ему сейчас делать с самим собой. Раньше его никогда не оставляли одного среди чужих вещей, в чужом доме, где даже обои были такого же сиреневого цвета, как в комнате его сестер.
Тогда он был мстительным и лживым мальчиком, и за это его били колодезной веревкой, ставили на колени в угол, выгоняли из дому, потом плакали и до полночи искали его. Однажды у Капельки кто-то украл голубей, и он решил отомстить за это всему рабочему поселку и для начала поджег сарай соседнего дома, и сарай сгорел дотла.
После пожара отец выволок Капельку на улицу и, бросив его в пыль, устало сказал толпе:
— Убейте его. Он хотел сжечь свой дом.
Но мать Капельки рухнула тогда перед толпой на колени и заплакала, и все увидели, что ее прекрасные волосы начинают уже белеть, и все отступились от Капельки и угрюмо разошлись по домам.
Капелька положил руки на кромку одеяла, они мгновенно похолодели.
Он подумал, что сегодня ему надо искать работу, но эта мысль была неприятна ему. Он встал, оделся, прочитал оставленную записку и пошел в горницу.
Рассматривая комнату, Капелька убедился, что Анатолий ему не соврал ни про хрустальную люстру, ни про письменный стол, ни про стенные часы с медным позеленевшим орлом на верхней крышке.
В горнице было много мягкой протертой мебели, фотографических карточек и книг.
Капелька осмотрелся; он не стал притрагиваться к вещам и вел себя лживо, словно в этом доме за ним кто-то подсматривал и все время испытывал его.
Вернувшись в кухню, Капелька еще раз прочитал записку, потом вышел во двор, заглянул в щель деревянной уборной, потрогал окно, съел вырванную из грядки морковку и, заметив на сарае замок, спокойно вошел в дом и закрыл за собой дверь.
Он сел на сундук. Ему было стыдно признаться, что решение он принял еще вчера и что сегодня никаких изменений не будет, и он возьмет у старухи не только все ее тряпки, но даже резную шкатулку и стенные часы.
Он вошел в горницу с непривычным чувством жалости ко всему, и его смутило скорбное лицо старухи и ее ласковые глаза на большой фотографии. Он медлил и хотел разозлиться, но злиться ему было не на что, и страх охватил его.
Он насторожился и услышал, как кто-то осторожно стал шарить по клеенке и царапать кухонную дверь.
Испуганным голосом он спросил: «Кто там?» Но ему никто не ответил, и он торопливо открыл дверь и увидел кошку.
— Пошла вон, пиковая сука, — сказал он и закрыл дверь на крючок. Он заметался по горнице, вышел в кухню, из кухни снова в горницу, потом остановился перед кроватью старухи и поднял конец одеяла.
Под кроватью никого не было, и это успокоило его.
Он заметил себя в зеркале и погрозил в ту сторону указательным пальцем.
— Ждешь манны с неба, ну, жди, — сказал он, — жди, пока тебя выгонят отсюда.
Он хотел подхлестнуть себя этими словами и вытащил из-под кровати ящик со столярным инструментом.
Стамеской он вскрыл платяной шкаф. На вешалках висели платья Маши, шерстяной костюм Анатолия, его пальто, две тяжелые шали старухи.
В нижнем ящике было много белья, но Капелька не ощущал в себе злобы и работал вяло, выбрасывая все это на пол. Руки его тряслись, от страха у него болели скулы, и он стал икать до тех пор, пока его не вырвало.
Вскрывая сундук, Капелька порезал стамеской палец и первый раз за сутки выругался и почувствовал облегчение. Он разозлился на старуху, словно она была виновата в том, что в доме не было никаких золотых вещей и что этот старинный сундук не хотел раскрываться.
Он ударил крышку тяжелым топором, и томительное пение пружины переполнило уши Капельки…
Он вышел за ворота и остановился.
Он презрительно посмотрел на надзирателя, на закрытую милицейскую машину со спящим шофером в кабине и облегченно вздохнул, чувствуя, что за спиной больше никого нет и он теперь может идти вправо и влево без всяких предупреждений.
— Капелька, — сказал он самому себе, — сначала мы пойдем прямо, посидим немножко в пивной, а потом подумаем о ночлеге.
Не торопясь, он пересек теплую площадь и вышел на берег Енисея. Он вспомнил: была зима, когда его привезли в колонию. На плечи падал снег, и луна тогда еще проглядывала из облаков, и Капельке так и не удалось попрощаться с нею.
Сейчас было лето. Был жаркий день. Енисей на мгновение ослепил Капельку своей вспыхнувшей огромной, глубокой синевой.
На самом берегу реки стоял лесопильный завод, и оттуда тянуло прогорклым болотным запахом.
Зеленая тайга медленно спускалась по уступам к воде, и ее длинная яркая тень лежала в реке.
Над товарной пристанью висела пыль.
Из длинных штабелей в баржу грузчики носили кули с черемховским углем, и трап под ними чуть прогибался, когда они двигались двумя цепочками.
Грузчики торопились, и Капелька терпеливо ждал, когда же наконец кто-нибудь из них сорвется с трапа и упадет в воду, но они двигались уверенно, и Капельке вдруг стало скучно, и он брезгливо отвернулся от реки и перестал смотреть на грузчиков. Его внимание привлекли женщины.
Перед самым выходом на свободу он почти перестал спать. По ночам ему было душно от тех удивительных картин, какие создавало его воображение, и он засыпал, и просыпался, и снова засыпал с горящей папиросой во рту.
По ночам Капелька часто видел во сне одну и ту же девушку, похожую на русалку, и просыпался, потому что она уходила от него в море, а он боялся воды.
Но теперь ему нечего было бояться. Он ступал по земле и привыкал к людям, рассматривая только женщин сухими наглыми глазами и загадочно улыбаясь девушкам, одетым в короткие платья с короткими рукавами.
Он шел по береговой улице и в самом конце этой улицы увидел у коновязи ломовых лошадей и прибавил шагу, зная, что там пивная.
В пивной было прохладно и сумрачно.
Ломовые извозчики сидели за одним столом, их влажные спины и затылки были в муке, а широкие рубахи в дегте и желтых пятнах. Из угла на этих людей насмешливо смотрел старичок и потягивал пиво, вздрагивая и морщась от наслаждения.
Капелька подозвал официанта, сутулого сибирского мужика в белом фартуке.
— Што прикажете? — спросил официант, стремительно нагибаясь.
Капелька сморщился, махнул рукой и сказал:
— Я не приказываю, а прошу… Надо же это понимать. Я прошу полдюжины пива и один бутерброд подешевле.
Официант обиженно выпрямился и медленно пошел от столика.
— Я, конечно, извиняюсь, — сказал Капелька, обращаясь к старичку, — но, представьте себе, я очень не люблю холуев.
Капелька положил на колени узелок с бельем.
— Из баньки? — спросил старичок.
— Совершенно точно…
— Ну, выпьем за легкий пар, — сказал старичок. — За то, чтобы вечно ходить под парусами.
Капелька улыбнулся и выпил, потом пожевал бутерброд и вытер губы ладонью.
Над ним висела клетка с попугаем. Два официанта укоризненно смотрели на клетку, а третий что-то говорил буфетчику, который хмурился и покачивал головой.
— Так вот, Тарас Григорыч, пения от него никакого, а штрафовать нас будут. Участковый так и сказал: «Раз, говорит, сумели испортить такую интересную птицу, сумейте ее и перековать». А как его перекуешь, такого фулигана? Запой-то у него беспробудный.
— Запой сурьезный, — сказал буфетчик. — И с чего это он так растревожился? Не могу понять.
— От тоски, — заметил официант. — Холодно у нас в Сибири, и ему непривычно без слонов.
— Вы вот чего, ребята, — сказал буфетчик официантам, — не предавайтесь фантазиям. Нечего баловать иностранную птицу. Пускай воздержится.
Клетка качнулась, и попугай проснулся. Он поднял белую трясущуюся головку, вспрыгнул на жердочку, зевнул и расправил свои зеленые крылья.
— Хозяин, пивка! — сказал он. — Р-р-раков… р-раков…
— Воздержаться надо, Вася, — сказал буфетчик. — Вот скоро участковый придет, слышь, нишкни.
— Участкового мы подождем, — сказал Капелька и вышел из-за стола. — Подумаешь, чем напугали птицу…
Капелька посмотрел на взъерошенного попугая, потрогал прутья и, отломив кусочек сыру от своего бутерброда, бросил его в клетку, чувствуя жалость к этой разноцветной твари.
— Ну дайте вы ему пивка, — сказал Капелька, — чего птицу мучаете? Вот тебе, Вася, хруст, выпей, сынок, за мое здоровье. — Капелька вынул из кармана рубль и бросил его буфетчику.
Здесь же у стойки Капелька выпил двести граммов водки, наблюдая за официантами, которые суетились у клетки и из пузырька выливали пиво попугаю в кормушку.
— Только нишкни, — сказал буфетчик и погрозил попугаю пальцем.
— Тише, — сказал старичок. — Я есть основатель.
Он положил голову на руки, словно сидел не в пивной, а в паровозной будке. Потом неожиданно поднялся и направился к двери. Поравнявшись с ломовыми извозчиками, он спросил их:
— Кто вы такие есть? Вы есть актеры. На одни свои штаны по двенадцать метров мануфактуры гробите. Вы запорожцы в юбках, и я вам приказываю молчать. Я есть основатель железных паров…
— Иди-ка ты, папаша, спать, — сказал ему бородатый извозчик. — Не мешай. Ну вот, а откуда ни возьмись, молоньей трах-трах-трах, колокольчик на дуге дзинь-дзинь, и сама дуга в пламя. И вижу я, братцы мои, картину: мой мерин задымился…
— Врешь!
— С места не сойти — дымился!
Капелька неожиданно захмелел. Его твердые ладони обмякли и вспотели. Блаженная улыбка осветила его длинное худое лицо. Капелька рассмеялся, думая о том, что у старичка, кроме нескольких рублей и пенсионной книжки, нет ничего за душой. «Он есть основатель». Капельке даже стало весело. И он выпил еще, чувствуя себя совершенно свободным человеком, но, чтобы убедиться в этом, он вышел из пивной, отыскал в садике самое прохладное место и лег в теплую траву, положив под голову узелок с бельем.
Он долго слушал, как шумит сад, долго глядел в небо, и, оттого что в небе быстро передвигались облака, дремота стала одолевать его. Он закрыл глаза. Туфли давили ему в подъеме, и он снял их, не боясь, что могут украсть, положил в высокую траву и только после этого почувствовал облегчение. Больше у него не было сил, и Капелька стал засыпать.
Проснулся он вечером. В городе уже горели огни. Отражение звезд вспыхивало в реке, и от бакенов к берегам шли волны и разбивались о пристань, высоко поднимая катера, стоящие у причала.
Капелька не торопился. Он вышел на главную улицу, где, по его расчету, должно было произойти знакомство.
Он бродил долго, останавливаясь у ресторана, рассматривал улыбающихся женщин в витринах кино, но никто к нему не подходил и никто не обращал на него внимания.
За два часа он обошел все шумные городские места.
У вокзала он разговорился с извозчиком, но тот не знал ни одного адреса, где Капелька мог бы утолить свои желания, и он пошел обратно по длинным улицам, в которых было много электрического света, новых жилых домов, автомобилей и женщин.
Он шел и не узнавал города. Первый раз Капелька почувствовал растерянность и теперь не знал, что ему делать со своими деньгами, которые он честно заработал в колонии и честно выиграл в карты перед самым выходом на волю.
«Бабы, — с отчаянием думал он, — у меня много денег. Спасите меня». Но он врал самому себе, потому что денег у него было столько, что их едва хватило бы на один хороший загул.
Он остановил какую-то девушку в темном пальто и долго расспрашивал ее, как пройти на Качу, хотя дорогу туда он знал. От этой девушки пахло кондитерской, и она терпеливо улыбалась, посматривая на часы, висевшие над ювелирным магазином. Капелька поблагодарил ее невесело и лениво побрел в сторону Качи, чувствуя, что в этом городе никому не нужны ни его деньги, ни его любовь.
Он злился на прохожих, задевал их плечами, и от пристального, голодного взгляда Капельки женщины сжимали губы и опускали глаза.
На углу Капелька остановился. Накрапывал дождь, и на раскрытых шелковых зонтах отражались зажженные фонари, витрины и багровый свет реклам.
Дождь шел все сильней, и вскоре улицы совсем опустели, и Капелька растерянно пожал плечами. Он повертел в руке кепку и нахмурился.
Что ж, он может и подождать, у него теперь в запасе целые годы, огромные города и так много свободы, что ему становилось как-то неловко, словно его одели в просторный дорогой костюм.
Напротив в клубе был танцевальный вечер, и Капелька посмотрел на открытые окна. Он увидел горящие люстры и услышал размеренное глухое шарканье ног. Там танцевали медленно и однообразно, и Капельке казалось, что в этом освещенном зале работала какая-то большая паровая машина.
Через час дождь перестал, и Капелька решил идти на Качу. У фонарного столба он засучил рукав и по складам прочитал записанный на руке адрес Анны Тимофеевны.
Дом, в котором она жила, не понравился Капельке.
Этот деревянный одноэтажный дом стоял рядом с милицией, а напротив была аптека и большое новое здание транспортного института.
Он вошел в дом и на кухне увидел женщину в фартуке, стоящую у плиты; из открытой конфорки вырывался огонь.
Белые волосы этой женщины вдруг напомнили Капельке, что и у него была мать, которая, наверно, любила его, если из своей пенсии посылала ему в колонию то деньги, то посылку перед каждым большим праздником, когда Капелька ждал амнистии.
Он почтительно кашлянул и сказал:
— Здравствуй, мамаша.
— Здравствуй, голубчик. Ну, чего же ты на пороге встал? Проходи.
— Ничего, мамаша, не беспокойтесь. Я, конечно, извиняюсь, но я от вашего сына… Имеется письмо.
— От Анатолия?
Капелька утвердительно кивнул головой, и Анна Тимофеевна испуганно всплеснула руками и заплакала по-старушечьи, часто всхлипывая.
— Чего это вы расстраиваетесь, мамаша? — спросил Капелька.
— Ах, господи, — сказала старуха, — беспокойство-то какое. Ну как он, небось мается? — Она с затаенным страхом посмотрела в глаза Капельке и отступила к столу.
— Стыдитесь, мамаша, — сказал Капелька. — Вы плачете, как при старом режиме.
— Но ведь стены-то, стены… — сказала старуха. — Ведь тоска-то какая, господи.
— Бросьте, мамаша, нам и тосковать-то там некогда. Днем работаешь, а вечером кино смотришь или книжку читаешь.
Капелька решил не расстраивать старуху. Он сел на стул и подробно стал рассказывать ей о сыне, стараясь придерживаться правды.
В кухню из комнаты вошла девушка и встала у плиты, потом, заметив на себе пристальный взгляд Капельки, она опустила глаза и спрятала руки за спину.
— Это сестра его, Маша, — сказала старуха. — Сейчас она у меня студент.
Капелька приветливо улыбнулся, потому что в душе он всегда уважал образованных и ученых людей.
Он вынул из рукава письмо.
— Это вам от Анатолия.
Анна Тимофеевна засуетилась.
— Маша, — спросила она, — где очки?
— Вечная история с этими очками, — сказала Маша. — Хочешь, я буду читать?
— Только не барабань, — сказала старуха. — Читай пореже.
— «Добрый вечер, дорогая мама и ты, моя милая сестричка Маша…»
Анна Тимофеевна снова заплакала, и крупные слезы поползли по ее щекам.
— Если ты будешь плакать, я брошу читать, — сказала Маша.
— Читай, читай, я больше не буду.
В конце этого длинного письма Анатолий просил мать и сестру как-нибудь устроить Капельку у себя, пока он найдет угол и работу.
— Ну что ж, — сказала старуха, когда письмо было прочитано, — оставайся у нас, поживешь, осмотришься, а там и на работу поступишь, вот и вспомнишь меня, старую. Мой покойный муж всегда говорил: «Доброе дело в огне не горит и в воде не тонет». Так-то вот, сыночек! — Старуха вытерла фартуком глаза, и лицо ее стало скорбным.
— Только смотри не женись сразу, да и работу выбери по душе: постылая работа хуже плохой бабы. Это я тебе верно говорю.
— Я очень рад, мамаша, — сказал Капелька. — Вообще вы не думайте, что я какой-нибудь жулик или брандахлыст. Ну, знаете, по пьяной глупости — сначала он меня, а потом я его, а потом мы устроили так называемый шухер по семьдесят четвертой статье. Знаете, мамаша, есть такая статья — семьдесят четыре.
— Это за хулиганство, — сказала старуха. — У меня сын-то по этой статье попал. Все с голубями возился и с соседями воевал. Теперь вот похлопотать бы надо, да некому. Маша все книжки читает, а я за день так ухожусь, не приведи бог.
Старуха вдруг спохватилась. Она попросила Машу собрать на стол, а сама куда-то вышла.
Капелька пристально посмотрел на Машу. Сердце его стучало… В доме больше никого не было, и он почувствовал дрожь, и ему стало трудно дышать. Он побледнел и исподлобья бросил взгляд на парня, вошедшего в кухню.
— Здравствуй, Машенька, — сказал парень. — Мне нужно с тобой поговорить.
Они ушли в комнату, и Капелька остался один и долго прислушивался к разговору, из которого ничего нельзя было понять.
Капелька криво улыбнулся. Он кашлянул в кулак, и они притихли. Они совсем забыли, что в кухне сидит посторонний человек, и вышли из комнаты, чувствуя какую-то вину перед Капелькой.
Вскоре парень ушел, и Маша сказала:
— Это мой жених. Очень хороший человек.
— Да и вы неплохая, — сказал Капелька. — Вы девушка самых высших мер…
Через несколько минут вернулась Анна Тимофеевна и усадила Капельку напротив Маши, а сама села рядом и поставила перед ним тарелки с холодным мясом, свежими огурцами, с колбасой и сыром, настойчиво и ласково угощая его.
Украдкой он внимательно рассматривал старуху и чувствовал, что ее интересует только Анатолий, и Капелька хитрил и в рассказы напускал много тумана, зная, что так будет спокойнее и старуха не передумает и не откажет ему в ночлеге.
Суетясь, Анна Тимофеевна совсем забыла спросить у Капельки, как его зовут и есть ли у него родные. Она только иногда трогала его за плечо и просила вспомнить еще что-нибудь о сыне, и Капелька тер лоб и говорил, что все будет хорошо, и от радости старуха выпила три рюмки водки, а остальное выпил Капелька.
— Да, — сказал он, обращаясь к Маше, — люблю я ученых людей.
Но Маша промолчала, а старуха стала просить Капельку попробовать грибков собственного засола.
Капелька ел много, и старуха с умилением смотрела на него. Есть ему не хотелось, но он жевал с жадностью, потому что на столе было много еды, а он привык много есть и ничего не оставлять на завтра.
Когда Капелька съел почти все, он почувствовал, что в кухне ему не хватает воздуха. Он расстегнул ворот рубашки, откинулся на спинку стула и с любопытством посмотрел на сундук, окованный железом.
— Ну как, сынок, накушался? — спросила Анна Тимофеевна.
Капелька, чтобы окончательно расположить к себе старуху, встал из-за стола и хотел перекреститься, но Старуха поймала его за руку и строго сказала:
— Не богохульствуй, все равно не веришь…
Она посмотрела на часы. Было уже около двенадцати.
— Давайте стелиться, — сказала Маша, и Капелька облегченно вздохнул, поднимаясь из-за стола.
Наступила первая тихая ночь на свободе, когда никто не тревожит тебя. От радости у Капельки дрогнули губы, и он с благодарностью посмотрел на старуху.
Анна Тимофеевна хотела уложить Капельку в горнице на диване, но там всегда спала Маша, и Капелька не согласился и попросил постелить ему на кухне. Капелька потушил свет и лег под чистую простыню, вытянув замлевшие ноги.
В горнице на расшатанной деревянной кровати неспокойно спала старуха. Она просыпалась от боли в пояснице, тяжело переворачивалась на другой бок, растиралась нашатырным спиртом и кашляла в подушку, чтобы не разбудить Капельку и Машу.
Всякие мысли беспокоили ее; она думала, что городской человек быстрее сбивается с пути и что завтра нужно будет купить чаю, а утром оставить Капельке записку, если он будет спать, чтобы он положил ключ под крыльцо и не уходил без завтрака.
Капелька понял, что в темноте ему не уснуть. Он привык спать при казенном электрическом свете, спать так, чтобы рядом кто-нибудь тосковал, ругался, читал или пел вполголоса песню. Он привык к одной зеленоватой злой звезде, и, когда ему не спалось, он смотрел в окно барака и спрашивал всех, кто носил очки, — почему из каждого такого окна видна только одна звезда.
Сейчас за окном было много звезд. И луна и звезды были зажжены высоко над енисейской тайгой, и их свет, проникая в кухню, еле касался крышки сундука и длинного лезвия забытого на столе ножа.
Капелька повернулся лицом к двери и откинул руку назад, осторожно стал ощупывать сундук. Он нашел замочную скважину, из любопытства потрогал ее пальцами и притих, потому что с кровати поднялась старуха и, охая, вышла на кухню.
— Спит, — сказала она. — Ну, спи… забыла я только спросить, как у тебя с деньгами.
Превозмогая острую боль в пояснице, она нагнулась к Капельке, поправила в ногах у него простыню и накрыла его своим одеялом. Потом, нагнувшись еще раз, она перекрестила его, хотя сама давно уже стала забывать бога и часто ложилась без молитвы в постель.
Полуприкрытыми глазами Капелька увидел старуху. От старухи пахло нашатырным спиртом, и, когда она задела его лицо, пальцы были холодными, и Капелька подумал, что ей уже пора умирать, а она все еще бродит и, наверно, копит деньги для Анатолия и складывает их в сундук.
Он прикинул в уме, сколько можно накопить денег за десять лет, если каждый месяц откладывать по двадцать рублей. Цифра получалась внушительной. Она внесла успокоение в душу Капельки. И он стал засыпать…
Проснулся он поздно, но вставать ему не хотелось.
Он прислушался и, полежав еще несколько минут, понял, что старуха и Маша куда-то ушли и оставили его одного в доме.
Наедине со своей совестью, со своим прошлым он почувствовал себя неловко и не знал, что ему сейчас делать с самим собой. Раньше его никогда не оставляли одного среди чужих вещей, в чужом доме, где даже обои были такого же сиреневого цвета, как в комнате его сестер.
Тогда он был мстительным и лживым мальчиком, и за это его били колодезной веревкой, ставили на колени в угол, выгоняли из дому, потом плакали и до полночи искали его. Однажды у Капельки кто-то украл голубей, и он решил отомстить за это всему рабочему поселку и для начала поджег сарай соседнего дома, и сарай сгорел дотла.
После пожара отец выволок Капельку на улицу и, бросив его в пыль, устало сказал толпе:
— Убейте его. Он хотел сжечь свой дом.
Но мать Капельки рухнула тогда перед толпой на колени и заплакала, и все увидели, что ее прекрасные волосы начинают уже белеть, и все отступились от Капельки и угрюмо разошлись по домам.
Капелька положил руки на кромку одеяла, они мгновенно похолодели.
Он подумал, что сегодня ему надо искать работу, но эта мысль была неприятна ему. Он встал, оделся, прочитал оставленную записку и пошел в горницу.
Рассматривая комнату, Капелька убедился, что Анатолий ему не соврал ни про хрустальную люстру, ни про письменный стол, ни про стенные часы с медным позеленевшим орлом на верхней крышке.
В горнице было много мягкой протертой мебели, фотографических карточек и книг.
Капелька осмотрелся; он не стал притрагиваться к вещам и вел себя лживо, словно в этом доме за ним кто-то подсматривал и все время испытывал его.
Вернувшись в кухню, Капелька еще раз прочитал записку, потом вышел во двор, заглянул в щель деревянной уборной, потрогал окно, съел вырванную из грядки морковку и, заметив на сарае замок, спокойно вошел в дом и закрыл за собой дверь.
Он сел на сундук. Ему было стыдно признаться, что решение он принял еще вчера и что сегодня никаких изменений не будет, и он возьмет у старухи не только все ее тряпки, но даже резную шкатулку и стенные часы.
Он вошел в горницу с непривычным чувством жалости ко всему, и его смутило скорбное лицо старухи и ее ласковые глаза на большой фотографии. Он медлил и хотел разозлиться, но злиться ему было не на что, и страх охватил его.
Он насторожился и услышал, как кто-то осторожно стал шарить по клеенке и царапать кухонную дверь.
Испуганным голосом он спросил: «Кто там?» Но ему никто не ответил, и он торопливо открыл дверь и увидел кошку.
— Пошла вон, пиковая сука, — сказал он и закрыл дверь на крючок. Он заметался по горнице, вышел в кухню, из кухни снова в горницу, потом остановился перед кроватью старухи и поднял конец одеяла.
Под кроватью никого не было, и это успокоило его.
Он заметил себя в зеркале и погрозил в ту сторону указательным пальцем.
— Ждешь манны с неба, ну, жди, — сказал он, — жди, пока тебя выгонят отсюда.
Он хотел подхлестнуть себя этими словами и вытащил из-под кровати ящик со столярным инструментом.
Стамеской он вскрыл платяной шкаф. На вешалках висели платья Маши, шерстяной костюм Анатолия, его пальто, две тяжелые шали старухи.
В нижнем ящике было много белья, но Капелька не ощущал в себе злобы и работал вяло, выбрасывая все это на пол. Руки его тряслись, от страха у него болели скулы, и он стал икать до тех пор, пока его не вырвало.
Вскрывая сундук, Капелька порезал стамеской палец и первый раз за сутки выругался и почувствовал облегчение. Он разозлился на старуху, словно она была виновата в том, что в доме не было никаких золотых вещей и что этот старинный сундук не хотел раскрываться.
Он ударил крышку тяжелым топором, и томительное пение пружины переполнило уши Капельки…
Он вышел за ворота, как пассажир, с двумя чемоданами в руках. Он огляделся и увидел кошку. Кошка остановилась на панели, брезгливо подняла одну лапу и стала отряхивать ее, словно она выпачкалась в чем-то ужасном. Потом она перешла ему дорогу и села у крыльца аптеки. Капелька всегда переживал радость, если его дело благополучно приближалось к концу, но сейчас он ничего не ощущал, кроме тошноты, и шел слишком быстро по безлюдной улице, и только перед домом милиции замедлил шаги. Он был суеверен. Он верил в сны, в карты, в дурные и хорошие приметы, и ему казалось, что сейчас из переулка выйдет старуха и остановит его. На углу Капелька взял извозчика. Он снял кепку, потрогал слипшиеся волосы и еще острее почувствовал надвигающуюся беду. Вдруг в крайнем окне третьего этажа раздвинулась штора, и Капелька увидел заспанное смеющееся лицо девочки и сердитое лицо старухи. Старуха пальцем показывала девочке на солнце, запутавшееся в густой зелени парка, а девочка показывала ей на белый тающий месяц, не успевший еще уплыть. Словно во сне Капелька услышал паровозные свистки и увидел желтое станционное здание, затем билетную кассу поездов дальнего следования. Потом он вошел в вагон, осторожно поставил на самый верх чемоданы и лег на среднюю полку головой к окну, подстелив под себя пальто Анатолия. Он измучился и устал ждать, но наконец поезд тронулся, и грустное чувство разлуки охватило многих пассажиров. Набирая скорость, паровоз нехотя отрывал от них эту станцию, этот город, в котором ночью был дождь, эти бегущие стрелки в пути, знакомые заводы, не достроенные еще дома, мосты и ослепляющую синеву Енисея. Голуби летали над городом широкими кругами, а на пустой аэродром садился самолет с белыми крыльями. Наступал двенадцатый час последнего летнего дня, и в полях стояли высокие хлеба, и красноватое солнце висело над проселочными дорогами, над золотыми приисками, над мелькающими селами и полустанками и над грузовыми машинами, бегущими в пыли. Прощальные летние цветы Сибири продавали на больших станциях. Эти яркие цветы покупали студентки, и Капелька смотрел в окно на веселых загорелых девушек, на станционные березы, на величественного старика, неумело держащего метлу в руках. Капелька лежал еще несколько перегонов, не двигаясь и не закрывая глаз. Он ждал вечера и хотел скоротать время приятными размышлениями, но в купе было шумно. На какой-то станции на запасном пути стоял маленький пустой, очень знакомый вагон. Капелька узнал его по решеткам и прижался лицом к стене… Мимо станции босая девочка гнала быка, и на его рогах висели детские туфли. — Следующая станция — это моя родина, — сказал кто-то в коридоре, и поезд тронулся. Капелька разжал стиснутые зубы, повернулся на правый бок и посмотрел вниз на своих спутников. Когда-то давным-давно Капелька смотрел так в реку и видел очертание дна так же смутно, как видел очертание своих спутников сейчас. Они улыбнулись ему, и молодая женщина поставила патефон на столик, и Капелька услышал мягкие звуки рояля и любимую песенку Мистера:
Не для меня придет весна,
Не для меня Буг разольется
И сердце трепетно забьется…
Николаева-Российского, Капельку и старика направили в колонию. К чаю они все-таки опоздали и прибыли из бани, когдавсе уже ушли на работу и в бараке было прохладно и тихо, словно в опустевшем деревянном вокзале. Дежурный надзиратель Шаталов отпустил конвоиров, и Капелька растерянно заулыбался Шаталову, а тот покачал головой, и его широкое лицо, вышитое оспой, стало угрюмым и настороженным, словно от внезапного приступа зубной боли. Он пятнадцать лет проработал в колонии и с каждым годом все реже и реже встречался со старыми жильцами. Он привык их встречать в городе полноправными гражданами и простодушно подтрунивал над ними, приглашал их в гости на дармовые хлеба. При встречах со своими бывшими жильцами Шаталов никогда не замечал в них ненависти или презрения, с ним всегда встречались как с хорошим знакомым и еще издали махали ему рукой. — Вы что же это, Капелька? — Не удержался на поверхности, — сказал Капелька. — Представьте себе, гражданин дежурный, не повезло. Он задержался в дверях и нехотя, словно его кто-то подталкивал в спину, переступил знакомый порог и глубоко вдохнул знакомый воздух. Здесь было пусто. На стенках висели разноцветные мешки, на подоконниках сушился хлеб. В помещении только один уборщик, шлепая опорками, ходил вокруг топчанов и делал вид, будто очень занят и наводит порядок, вкладывая в это дело много сил и труда, пока Шаталов не ушел из барака. — Эй, Марфушка, ставь самовар, видишь, гости пришли! — крикнул Капелька. — Сорок святых! — удивился уборщик. — Откуда ты, Капелька? — Все оттуда же. — Прямо с воли? Боже ж мой, неужели с воли? — С воли. — Ну, как там положение? — Вполне приличное. Только ты плохо гостей принимаешь. — Музыка у меня в отпуску. — А свободные квартиры есть? — Квартир много, — сказал уборщик. — Тогда пропиши их. Чего ж они стоят? — Капелька показал на старика и Николаева-Российского, а сам пошел в угол и поздоровался с белокурым человеком, лежащим в самом углу. — Ример, ты что, заболел? — Отдыхаю. Свежую газету принес? — Мне некогда было читать газеты, — ответил Капелька и остановился перед топчаном, который был заправлен по-солдатски серым, прожженным одеялом. Это было его место, и теперь оно было занято. Осторожно, чтобы не помять чужих вещей, он сложил их в простыню. Отнес узелок уборщику, потом пересмотрел все постели, нашел свой старый матрас, и через полчаса Капелька лежал на своем топчане, уткнувшись лицом в подушку и вытянув руки по швам. Ему казалось, что ничего нового не было в его жизни, что он никогда отсюда не выходил, никогда не пил пива, не видел садика и старухи, не слышал птиц и не ехал поездом. Он лежал вниз лицом и краешком глаза смотрел на постель Анатолия. Он опять вспоминал обворованную старуху, старичка в пивной, и ему стало ясно, что наступают годы расплаты, одиночества и тоски. — Слушай, Марфушка, мне писем не было? — А откуда тебе письма? — удивился уборщик. — Как это откуда, мало ли что может быть? — Ну, может быть, из Парижа, — сказал уборщик. — А так нету. Вот ты выскочил чистенький и опять погорел. Кто же тебе писать-то будет, Капелька? — Молчи, Марфушка. — Я молчу, — сказал уборщик. — Я молчу, сто пятьдесят святых. Капелька сел на топчан и посмотрел в дальний угол, где на стене должна была висеть сумка его друга Антоши Чайки. Но сумки там не было, и место, где спал Чайка, было накрыто каким-то старым чужим одеялом. Капелька боялся спросить у Марфушки, почему нигде не видно подушки, которую он оставил на память Антоше, когда уходил отсюда. Он встал, чувствуя нараставшую в душе тревогу, и еще раз осмотрел помещение, все еще не веря, что Чайки здесь больше нет. — Марфушка! — крикнул Капелька. — Чего тебе? — А посылки не было? — Завтра почту понесут, — сказал уборщик и зубами стал развязывать бинт на своей левой руке. Размотав бинт, Марфушка насмешливо посмотрел на Капельку. — Ну как, посылку-то подождешь? — Можно и подождать, — сказал Капелька, — нам теперь торопиться некуда. А тут у вас все живы-здоровы? — У нас тут старое положение, — сказал Марфушка. — Только вот Антоша все передачу от тебя ждал. Мне, говорит, не передача его важна, а память. — Представь себе, Марфушка, — сказал Капелька, — ничего не мог сделать. Старик и Николаев-Российский сидели за длинным столом и пили теплый кипяток с сахаром и сухарями. Они устроились рядом. Старик обещал по ночам делиться с ним своим одеялом, и Николаев-Российский, боясь обидеть старика, почти не притрагивался к сухарям и взял только один кусочек сахару из раскрытого портсигара. — Банька здесь хороша, — сказал старик, — до самых костей пробрало. Вот теперь бы тяпнуть по маленькой. — Брось, папаша, — сказал Николаев-Российский. — Это все мечтания, и не нужно им предаваться. — Хороша. Ах, как хороша! — повторил старик. — В такой бане и умереть не грех. — А ты знаешь, папаша, — сказал Николаев-Российский, — я и сочинять могу. — Да ну? — Хочешь, я тебе почитаю? — Марфушка! — крикнул Капелька. — Ну, чего тебе? — Иди сюда. Ha-ко вот возьми, — сказал Капелька. — Только метки спори. — Он бросил уборщику нижнюю рубашку Анатолия, и уборщик нерешительно повертел ее в руках, посмотрел на свет и, конфузясь, отдал обратно. — Бери на память, ведь дармовая, Марфушка. — С меня хватит, — сказал уборщик. — Теперь и сам не беру и другим не даю. Ты мне краденое суешь. Ты думаешь, тебе все сойдет? — Как-нибудь сойдет, — неуверенно сказал Капелька. — Нет, — сказал уборщик, — нынче ничего даром не сходит. — Конечно, если ты дурак, — сказал Капелька, — так ты и мухи будешь бояться… Он надел на себя эту рубашку и снова лег на топчан. — Сорок святых, Капелька. Жизнь-то, она ведь проходит. Как же мы дальше жить-то будем? — спросил Марфушка. — Как-нибудь, — сказал Капелька. — Наш первосвященный архиерей, — продолжал уборщик, — каждый день долбит нам: «Для чего вы родились? Жизнь-то ведь проходит. Ведь живете-то вы только один раз, — и сами не живете и другим мешаете». А мы ему говорим: «Поехали дальше, гражданин воспитатель». Капелька поднял веки, и уборщик увидел его покрасневшие мокрые глаза. Они были серого цвета, подернутые блеклым налетом тоски и тупого отчаяния. — Ты все рассуждаешь, — сказал Капелька, — а вот, к примеру, оставили тебя одного в квартире, что ты будешь делать? — Я завязал… Мне теперь брульянты клади — не возьму. — Божись. — Век свободы не видать — не возьму. — Ты ее и так не узнаешь, — сказал Капелька злобным, дрогнувшим голосом. — Почему это я не узнаю свободы? — с горечью спросил Марфушка. — Мне Константин Петрович досрочную будет хлопотать. «Я для тебя, говорит, сделаю все возможное, и ты увидишь свободу. Только ты работай честно». А меня черт под пилу поднес. Видишь, как расхватило? — Он показал Капельке забинтованную руку и, что-то вспомнив, пошел к двери, волоча за собой половую щетку. — Слушай, Марфутка, а Антоша здоров? — А чего же ему сделается? — сказал Марфушка. — В карты он больше не играет, норма у него старая, полчаса пошуровал — и кочергу на место. Хлеба-то он полтора кило получает, смотри, сколько выметать приходится. Хоть бы убавили, что ли. — Ну, ну, каркай. Накаркаешь шестисотку, придурок, — сказал Николаев-Российский. Перед обедом к ним пришел воспитатель. Он поздоровался со всеми и, увидев Капельку, недоуменно пожал плечами и подошел к нему. — Ну, — сказал он, — опять приплыл? — Приплыл, — сказал Капелька. — По какой же статье? — По пятиосьминной с нарезкой. — Я тебя серьезно спрашиваю. — А я серьезно не знаю… Ехал поездом и в окно глядел. Знаете, гражданин воспитатель, поля там всякие, полустанки. Ну, думаю, наконец-то жизнь. И вдруг меня снимают. Вяжут ни за что и говорят: «Запечатайте его в конверт и отошлите обратно». — Какое безобразие, — сказал воспитатель и засмеялся. — Так еще может и до суда дойти. — И дойдет, — сказал Капелька, — они клавши подберут. Дескать, судился, рядился, бежал и не остановился… — И в самом деле, почему бы тебе не остановиться? — спросил воспитатель. — А все забываю, — сказал Капелька. — Как только разбегусь, так прямо пулей и влетаю в эти ворота. Вот и про статью забыл. — А ты все-таки вспомни. — Да ведь статья-то наша известная, — сказал Капелька, — сто шестьдесят два и ни нуля больше. Он разговаривал лежа, и уборщик руками показывал ему, что надо вставать и не ссориться с Константином Петровичем. Константину Петровичу почти не говорили дерзостей и в шутку его прозвали «архиереем». Это был всеми уважаемый пятидесятилетний седой человек. Он был участником двух войн, и эти войны не ожесточили его мягкого характера, и многолетняя работа в колонии не надломила его души. Константин Петрович работал много и терпеливо, и однажды, когда вся страна запела песенку одного из его бывших воспитанников, он целую ночь пролежал без сна, переполненный звуками этой сибирской песенки. Он был терпелив даже к таким, как Капелька, который лежал на топчане и нагло плевал на пол, словно стараясь попасть в сапог воспитателя. — Интересное положение, — сказал Капелька, — я вот лежу и думаю… — А почему ты лежишь, когда с тобой разговаривают старшие? Встань сейчас же! Капелька попробовал подняться, но снова опустил голову и положил ноги на одеяло. — Не могу, — сказал он. — Не успеешь приехать из отпуска, а тут тебе начинают заповеди читать. Можете вызывать конвой… — А зачем мне конвой? — сказал воспитатель. — Завтра пойдешь кирпичи таскать. — У меня сердце плохое, — глухо сказал Капелька, и ему вдруг стало как-то неловко ломаться перед Константином Петровичем, и он встал с топчана. — Конечно, — сказал Капелька, — эксплуатировать вы меня можете сколько угодно, а вот профессии научиться я должен у чужого дяди. Кирпичи таскать! Пускай их ангарский медведь таскает! — Ну хорошо, — сказал Константин Петрович, — тогда ты их будешь чистить. — Не буду, — сказал Капелька, — я на пенсию буду подаваться. Константин Петрович громко рассмеялся и покачал головой. — Ну и орел! — сказал он. — А работать ты все-таки пойдешь. Ты знаешь, мой тебе совет, иди в бригаду к Богданову, помнишь, у которого во сне золотой зуб украли… — К нему мне нельзя, — сказал Капелька. — Ну, тогда к Боброву. — К Боброву мне тоже невозможно. Он до сих пор думает, что я у него хромовые сапоги треснул, а я их, гражданин воспитатель, и в глаза не видел. — Слушай, Колесников, — сказал Константин Петрович вошедшему бригадиру, — ну-ка иди сюда. Возьмешь к себе вот этого пенсионера. Колесников помялся и осторожно спросил: — А что же я с ним буду делать? — Будешь меня возить по цеху, — обидчиво сказал Капелька. — Подумаешь, работнички какие! Что он будет со мной делать! Будто я сил внутри не имею. Но только, гражданин воспитатель, я предупреждаю: в эксплуатацию я к нему не пойду. — Да ладно, Капелька, — сказал Константин Петрович, — сеанс окончен. Ты хоть свой килограмм хлеба отработай, и то хорошо будет. Капелька снова лег на старое место, а Константин Петрович подошел к старику и Николаеву-Российскому. Он выяснил, что старик попал сюда по недоразумению и охотно будет ухаживать за лошадьми, если в колонии откроется вакансия конюха, а Николаев-Российский попросился в столярную мастерскую, дав понять воспитателю, что политура наносит непоправимый вред человеческому здоровью. Это был тонкий, дипломатический разговор, и, чтобы окончательно завоевать симпатию Константина Петровича, Николаев-Российский признался, что сочиняет даже стихи и очень любит книги Максима Горького. Перед уходом Константин Петрович внимательно посмотрел на Капельку, а затем вызвал его во двор. — Послушай, Капелька. Я хочу поговорить с тобой начистоту. До меня дошли слухи, что кто-то из колонистов после освобождения обокрал мать нашего заключенного. Так вот, если это сделал ты, скажи сейчас же, и мы переведем тебя в другое место. — Я тут ни при чем, гражданин воспитатель. — Смотри, Капелька. Чем больше ты станешь врать, тем хуже будет для тебя. Ну, говори честно. Ты хоть и дрянь, а все равно я жалею тебя. Ведь есть же в тебе что-то хорошее? — Конечно, есть, — сказал Капелька после некоторого раздумья, корда понял, что воспитатель припирает его к стенке только косвенными уликами. — Отчего же не быть хорошему, если я просветлел. — Ну так и говори правду. Ты это сделал или нет? — Нет. Это не моя работа. — Ты понимаешь, что ждет тебя, если это действительно сделал ты? Я в последний раз спрашиваю — да или нет? — Нет. — Тогда иди, а я-то грешным делом подумал на тебя. Даже спасать решил. Надо, думаю, перевести его в другое место, пока не поздно. Может, перевести? Но Капелька отрицательно мотнул головой, потому что перевод означал признание. Он все еще на что-то надеялся и до самого вечера был молчалив и тоскливо ждал встречи с Антошей Чайкой. Николаев-Российский и уборщик учили старика играть в домино, и оба нервничали, когда костяшки падали у старого человека из рук… Вечером, вернувшись с работы, Анатолий увидел Капельку в чистой нижней рубашке, помеченной вышитыми крестиками. Вытянув свое длинное худое тело, Капелька лежал на топчане и был похож на покойника, которого еще не успели прикрыть. При одной только мысли, что этот человек был в его семье и снова попал сюда, Анатолий вдруг почувствовал страх и разбудил Капельку, взяв его за воротник. — Это ты, Толя? — испуганно сказал Капелька. — Ты понимаешь, про твою старуху я совсем забыл — из головы выпала! — А письмо? — спросил Анатолий. — Порвал, — сказал Капелька. — Как привезли в дежурку, так и порвал. Был великий шмон. — Ну вот и хорошо, — сказал Анатолий, и у него сразу же пропал интерес к Капельке, и он отошел от него, чувствуя большое облегчение. Чайку Капелька встретил у порога, и они трижды поцеловались. — Да как же это ты попал-то, Капелька? Значит, по новой? — По новой, — сказал Капелька. Обнявшись, они прошли в угол и сели на край топчана, бессмысленно улыбаясь и тиская друг другу руки. Сначала они говорили громко, и Капелька жаловался на Константина Петровича, а Чайка хвалил его, потом они перешли на шепот, и Мистер смотрел на них с любопытством, а старик брезгливо и хмуро, думая, что они замышляют против него какое-то нехорошее дело. Старик придвинулся ближе к Николаеву-Российскому и взял не ту костяшку, на которую ему показывал Кривописк, самый счастливый человек в колонии. Он заведовал прачечной, где работало тринадцать женщин. — Ты проиграл, папаша, — шепотом сказал Кривописк, когда старик сделал следующий ход. После ужина многие стали расспрашивать Капельку, как он снова попал сюда, и Капелька несколько раз рассказывал выдуманную историю, в которую были замешаны и начальник станции, и его хорошенькая дочка, и толстая мамаша, пожелавшая, чтобы Капелька стал ее зятем. Всем было скучно и нудно от этой истории, потому что никто из слушателей не верил Капельке и каждый думал о себе. Марфушка вдруг вспомнил свою деревню, вспомнил полустанок и освещенный скорый поезд, идущий в Москву. Только на одну минуту этот поезд останавливался на полустанке, и Марфушка вышел тогда из вагона посмотреть на родные поля, которые тянулись до самой деревни и тускло переливались волнами в лунных сумерках. Он уехал тогда под Москву к своему другу «брать» какую-то богатую квартиру, и, когда он посмотрел в поля и на берег маленькой речки, где паслась белая лошадь его отца, он почувствовал страх и понял, что ему не будет удачи. С тех пор прошло много времени, но он все еще помнил эту квартиру, где с перепугу какая-то женщина дважды выстрелила ему в живот. Правда, он вспоминал об этом редко и никому не рассказывал, потому что стреляла в него женщина, но вот сейчас приход Капельки снова что-то нарушил в жизни Марфушки, и он неподвижно сидел за столом и думал о своем прошлом. Думал об этом и Мистер. Несколько дней тому назад Капельке раньше срока дали возможность уйти отсюда. Для него открыли ворота, и он увидел площади, много дорог, много домов и улиц, но не сумел удержаться и снова вернулся сюда… Мистер взволнованно ходил из угла в угол, хмурясь и закинув руки за спину. Его бизоновые сапоги скрипели, а жилетка кофейного цвета, надетая на голое тело, была расстегнута, и ее концы болтались, как собачьи уши. Мистер был потрясен возвращением Капельки. Он был молод, и ему хотелось жить как-то по-особому, идти своим путем, но он знал, что так жить ему теперь не дадут, и в этом он убедился сегодня, увидев Капельку на прежнем месте. Он чувствовал, что настало время решать, будет ли он человеком. Нужны ли ему дети и жена и честная жизнь или он должен торчать здесь по нескольку лет, потом «гулять» несколько дней на свободе и снова проводить здесь лучшие годы… — В чем дело? — вслух спросил он и вдруг остановился и засмеялся. — Малоуважаемые граждане, — сказал он, ни к кому не обращаясь, — сегодня на нашем горизонте появилось три новых звезды. Что касается одной из них, то есть нашего многоуважаемого старичка папаши, которому уже перевалило за шестьдесят, то я просил бы некоторых безо всяких шалостей, иначе каждый будет нести ответственность своей персональной головой. Понятно? — Понятно. — Марфуша, занес ли ты их на довольствие? — Так точно, товарищ староста. — Принеси мне скрижали, я посмотрю, — сказал Мистер, и уборщик принес ему две фанерные доски. На длинные, разлинованные куски фанеры записывали фамилии всех прибывших, и когда кто-нибудь уходил отсюда, Мистер счищал фамилию этого счастливца куском стекла и потом долго смотрел на пустое место, чувствуя мучительную зависть к ушедшему человеку. Шло время, и пустых мест на фанере появлялось все больше и больше. Однажды от скуки Мистер соскоблил свою фамилию Дарьялов, и без этой фамилии весь список показался ему очень странным и несостоятельным… — Марфушка, — сказал Мистер, — как же ты записал старика? Слушайте, папаша, как по-вашему нужно писать Подопригора — через тире или без через тире? — Не знаю, — сказал старик. — Ты пиши попроще — Иван Ксенофонтович Подопригора. Был уже вечер, и для многих возвращение Капельки было неожиданным событием, и вскоре об этом узнала вся колония и затихла. Было что-то тягостное в этом возвращении, и только один Чайка тайно радовался и поил Капельку чаем внакладку. Он сидел на топчане напротив Капельки, и издали они были похожи друг на друга, словно родные братья. Оба сутулые, русые, с узкими костлявыми плечами, в одинаковых нижних рубашках, они говорили о воле, и Капелька рассказывал о городе, а Чайка задавал вопросы и укоризненно качал головой. На всякий случай Чайка спросил, какие произошли изменения в паспортном деле, и Капелька беспомощно развел руками. — Ах, Антоша, — сказал он, — кругом порядок и порядок. Конечно, если задуматься поглубже, то положение получается очень интересное, но, я думаю, нам унывать еще рано. Давай спать. Они разошлись по своим местам, но никак не могли уснуть, думая о воле. С воли их привозили на рассвете, в закрытом милицейском автомобиле, и здесь они думали о своем доме и, засыпая, видели пароходы и поезда, какие-то глухие полустанки, женщин, идущих по грязи и почему-то улыбающихся странной веселой улыбкой. Им снились деревни, поля, телеграфные столбы, стоящие по пояс в тумане, лошади и костры в степи, белые улицы и знакомые калитки, в которые нельзя было никогда попасть. — Ну, спокойной ночи, — сказал кто-то, и Кривописк подошел к Капельке и взял его за руку. Рука у Капельки была холодная и влажная, словно он только что пришел с улицы и лег в постель. — Ты чего? — спросил Капелька. — Так — может быть, это не ты. — Я, — сказал Капелька, и Кривописк отошел к окну. За окном были видны склады, кусочек звездного неба, заводская труба и курган, на котором стояла старинная часовенка Ермака. Кривописк сел за стол и услышал, как щелкнул замок в коридоре барака, где только на ночь закрывали заключенных. Он сидел неподвижно, остро прислушиваясь ко всему и ожидая той минуты, когда можно будет заплакать, чтобы не видел никто. Этот мир, из которого только сегодня пришел Капелька, был в нескольких шагах от Кривописка и казался настолько близким, что его можно было достать рукой. За высоким деревянным забором были слышны разговоры прохожих, их смех, веселое посвистывание на ходу и озорные пререкания. Сколько раз, перед тем как уйти отсюда, Кривописк мечтал совершить какой-нибудь подвиг, но подвига из-за своей лени он не совершал, а, покидая эти места, только тихо вздыхал от удивления и торопился к первому стакану водки, потом спивался и «тепленький», прямо с дела, снова попадал сюда. Заметив задумавшегося Кривописка, Мистер подошел к нему и сказал: — Иди спать, дурак. Кривописк хотел что-то возразить, но у Мистера нехорошо поблескивали глаза, и Кривописк только сунул руки в карманы и покорно встал из-за стола. В этот вечер никто не поссорился, никто не играл в домино и в карты. Несколько человек слонялись из угла в угол. Анатолий штопал носки, Капелька дремал. А рядом с ним Марфушка пел старинные тамбовские песни. Старик и Николаев-Российский легли раньше всех и, накрывшись одеялами, оба задумчиво рассматривали потолок… Ночью Капелька вдруг проснулся от внезапного испуга. Было холодно. В зарешеченное окно дул ветер. Где-то далеко-далеко паровоз просил станцию открыть семафор. Капелька сел и протер глаза. Он хотел вспомнить, что же ему приснилось, но вспомнить ничего не мог и долго не мог понять, где он и почему так тяжело и страшно.
Прошло несколько дней, интерес к Капельке стал проходить, и скоро все забыли, что он недавно был в городе, ходил по улицам, наделал там каких-то «чудес» и опять вернулся сюда. Все это было теперь забыто, и, пожалуй, сам Капелька многое успел перезабыть, но его беспокоила старуха, и он боялся Анатолия. Он чувствовал приближение беды и придумывал разные оправдания, но они казались ему неубедительными. Что делать, как уйти отсюда? Эта мысль не покидала его даже во сне. Хотелось ругаться, и он придирался к Марфушке и кричал, бросая в него пиджак или ботинки. По вечерам Анатолий рассказывал разные истории, вычитанные из книг, а Капелька прислушивался к его ровному голосу, и однажды ему вдруг захотелось, чтобы Анатолия кто-нибудь убил. Но это было невозможно, и потом такое желание показалось ему несправедливым. Когда-то он был совершенно равнодушен ко всему и не понимал, как это могут люди не есть и не спать оттого, что они совершили преступление… Сейчас он чувствовал жалость к самому себе и знал, что его не пощадят и убьют свои же товарищи как собаку, если вся эта история со старухой вдруг выплывет наружу. Надо было или признаться Константину Петровичу, или бежать… Но признаться он не мог, а бежать пока невозможно. Иногда Капелька украдкой рассматривал Анатолия. Он смотрел на него с ненавистью, словно на однодельца, который выдал следователю их общее преступление. Анатолий был здесь совершенно посторонним человеком и держал себя как недолговременный гость, который случайно угодил в этот дом и больше никогда сюда не вернется. Это видели все, но его любили за веселые рассказы, за сердечную доброту, за его старуху мать. Когда Анатолий получал от матери передачу, многие, подходя к мешку, брали щепоть табаку и курили его с особым удовольствием, задумчиво и молчаливо, словно вспоминая что-то далекое и неповторимое. Николаеву-Российскому некого было вспоминать. Он потерял родных в одиннадцать лет и бродил по городским приютам, воруя на базаре зелень у заезжих мужиков и баб. С каждым годом ему становилось все труднее восстанавливать в памяти свое детство, и глухие звуки рояля, и сероглазую девочку с широкой лентой в волосах. Эта девочка была его сестрой, но она всегда ябедничала на Николая, и он ее не любил и обращался с ней, как с уличной девчонкой. С каждым годом его память слабела, и он становился неуверенным в своих воспоминаниях и старался не думать о том времени, когда был гимназистом и жил вместе с семьей в большом каменном доме, где было много комнат и много цветов. В доме говорили о войне, часто ссорились и читали книги. Однажды, проходя мимо кабинета отца, Коленька остановился и прислушался. — Мне все равно, — сказал отец, — уезжайте куда хотите. — Но только, ради бога, — сказала мать, — пусть Ника останется с вами. — Он мне не нужен, — сказал отец. — Я не обязан нянчить чужих детей и воспитывать их на свое жалованье. Нет! Как это все-таки мило! После каждого вашего любовника — ребенок, удивительно мило! Отец нехорошо засмеялся, а мать вздохнула и поднялась с дивана. — Да, да, — сказал отец, — после каждого любовника — ребенок. Задыхаясь, Коленька осторожно отошел от двери и долго потом не мог заснуть, потому что в гостиной кто-то играл на рояле, а в окно смотрела звезда. Он томился и открывал глаза, чувствуя страх и стыд, и никак не мог понять, почему в этом доме все живут так безрадостно и страшно. Несколько дней он выпытывал у старших гимназистов о жизни, о которой он не знал, и они охотно показывали ему порнографические открытки и рассказывали, почему мужчины спят с женщинами, для чего нужны любовники и публичные дома. Он особенно внимательно рассматривал одну карточку, и ему тогда хотелось плакать от обиды, потому что на карточке была изображена женщина, похожая на его мать. А в субботу Коленька украл у матери маленький револьвер и выстрелил в себя на уроке закона божьего. Ни смерть, ни пуля не пугали Коленьку. Он боялся только звука, и, перед тем как выстрелить в себя, мальчик заложил уши ватой и разорвал записку, адресованную матери. Пять месяцев Коленька пролежал в своей комнате, и в доме по-прежнему ссорились и говорили о войне. Но осенью в гостиной стало тихо, и как-то ночью Коленьку привезли на вокзал и в суматохе забыли его на перроне. В городе стреляли, и Коленька до рассвета сидел на багажной тележке, а потом к нему подошел какой-то человек, взял его за руку и отвел в городской приют. — Ты, мальчик, особо не убивайся, — сказал человек, — они вот теперь всю жизнь от нас бегать будут, а тебе это ни к чему. Ты у нас таким актером будешь, ого! Хочешь артистом быть? — Артистом не хочу, — сказал Коленька. — Ну ничего, тогда у меня секретарем будешь. Я вот хоть и комендант, а грамота у меня пока небольшая. В дежурной комнате их встретила женщина в белом халате и укоризненно покачала головой. — Боже мой, — сказала она. — Это четвертый за сутки. — А вы не удивляйтесь, Ольга Павловна, — сказал комендант, — чемоданов-то они, пожалуй, не бросят. Первые дни Коленька держался в стороне от своих приютских товарищей, но потом быстро привык ко всему и вместе с Яшей Кирсановым стал ходить на базар и воровать мороженую рыбу, муку и масло, что попадется. Потом он бежал и три месяца путешествовал вдоль железной дороги, оставляя позади леса, овраги, мосты и тощие деревенские церквушки. Он умывался в ручьях, спал в стогах и церковных сторожках, и однажды, когда в поле было солнце и какая-то птица пролетала над ним, он огляделся и, услышав далекую артиллерийскую канонаду, сел на землю и заплакал от одиночества и тоски. Затем он вошел в город, где на окраине шел митинг и какой-то солдат в очень длинной и грязной шинели кричал в толпу: — Хватит, отраспутничались… Мы присягали царю, присягали отечеству, присягали кресту с поперечной перекладиной. Кому мы присягали? Гнидам, а они кровь нашу пили и в колокола звонили… Вечером мальчик попал на вокзал и увидел прапорщика, внезапно застигнутого смертью. Прапорщик лежал около лоснящихся перил, и его пробитый висок был в крови и опилках. В левой руке он держал надкусанную грушу. Мальчику было трудно разжимать пальцы мертвому и еще труднее есть эту грушу. В этот вечер он почувствовал, что его детство кончилось, а через несколько дней он уже метался в тифу в приемном покое, и ему мерещилась приютская его подушка, прислоненная к черной деповской стене. Задыхаясь, Коленька дул в станционный рожок, куда-то бежал вдоль длинных товарных составов, и пустые составы пахли липецкими дынями, пахли горьковатым дымом, словно внутри вагонов жгли отсыревшее сено. Останавливаясь, он видел, как по деревянным настилам из вагонов солдаты тянули упиравшихся лошадей. Они били их по мордам тяжелыми рукавицами, били уздечками и потом уговаривали ласковой матерной бранью, а над полотном, над сбившимися в кучу составами висело раскаленное солнце, и больному было трудно дышать и слушать музыку с вокзала. Он никогда никому не рассказывал о своем детстве и о своих мелких воровских делах. Днем он учился столярному ремеслу, вечером писал стихи и рассказы на фанерных дощечках и перед сном читал написанное Анатолию, Мистеру и старичку, чувствуя искреннюю привязанность к ним. «Ехал безногий солдат, — читал он, — все мимо, мимо богатых мельниц и толстых риг, мимо обрывков музыки с вокзала, объезжая стороной умалишенный гул войны. И вдруг телега перестала скрипеть, и он и его возница въехали в родную деревню под названием Шутки. Там была тишина, и родные ивы кланялись солдату, и крестная мать просила солдата не расстраиваться, что его папаша пожалел коня и не подал его к вокзалу. На следующее утро солдат решил стать сапожником и стал у отца просить денег на обзаведение. Но отец его был сукин сын и денег ему на обзаведение не давал…» Был выходной день, и многие еще не вставали. После бани было приятно полежать, поговорить о нормах, о своих процентах и посплетничать о прачечной, в которой работали бывшие растратчицы и проститутки. Как всегда в этот день, рассказывали сны, с утра гадали, чисто брились, перечитывали письма, грустили и ждали посылок или свидания. Кто-то принес охапку цветов и бросил их на стол, за которым сидел плотник Устинов и писал письмо. Сладкий запах цветов мешался с запахом дыма, и стоящий возле печки печник часто шмыгал носом и с недоумением держал вьюшку в руках. Печка дымила. — И это называется ремонт! — сказал Мистер. — Да гори ты огнем с таким ремонтом. Ты чего же, нас в выходной день травить вздумал? — Почему дымит, не понимаю. — Устинов, — сказал Мистер, — объясни этому спецу, что происходит в трубе. — Вот допишу письмо и сам сделаю. Это аферист, а не спец. «Я не отказываюсь, — писал Устинов, — конечно, бил тебя, как Иван Грозный, а ты кричала: «Я не крепостная», но зато ты тоже от меня хотела оставить одно воспоминание. Вот так мы и жили с тобой, пока не нажили беды, а когда нажили, тут-то мы и увидели: друг без дружки нам не прожить. Вот мы и заскучали. Я тоже тебе посылаю сто рублев, но тоже прошу держать себя в чистоте и сохранности для будущей жизни…» Он поставил точку и задумался. — Что же тут удивительного, — сказал Капелька и предложил папироску Чайке. — Тут, Антоша, карта виновата, край-то, он вон какой… — Велик, — сказал Чайка. — Неделю поездом надо ехать. Вот следователь и говорит: отправьте его в краевую колонию, пусть там займутся этим хамом. И отправили. Капелька вздохнул и положил руки на кромку одеяла. — А знаешь что, Антоша, — сказал он, — напрасно ты задумываться стал… Как поговоришь с Константином Петровичем, так ходишь как неприкаянный. Об чем же у вас там разговор? — Да все об жизни, — сказал Чайка. — Жмет он меня правдой. «Ах, говорит, Чайка, какой бы из тебя вышел человек, если бы ты захотел. Я, говорит, прочитал твое личное дело, смелости-то в тебе сколько, а все без толку. Ты бы, говорит, подумал об этом». — Нам нечего думать, — твердо сказал Капелька, — не за тем мы страдали, чтобы думать… Срываться надо, Антоша. — Не хочу, — сказал Чайка. — Почему? — Я боюсь, — сказал Чайка. Он поднял свои светлые глаза на Капельку. Капелька нахмурился. Он совсем не ожидал такого ответа от своего друга и хотел бежать только с ним, потому что Чайке ни разу не изменило счастье в побеге. — Чего же ты будешь ждать? — спросил Капелька. — Не знаю, — сказал Чайка. — Говорят, амнистия будет. — Ты только послушай, Антоша, — мечтательно сказал Капелька. — Вот мы с тобой выскочили. Ночью мы берем ювелирный магазин, сторожа вяжем и идем дальше. — А за нами идет машина из уголовки, — сказал Чайка. — Опять нас вяжут, и опять десять лет. На нарах в чистой домотканой рубахе сидел старик и протирал глаза. Только вчера парикмахер Жорж охотно постриг старика под польку, подровнял ему усы, и старик выглядел теперь молодо и празднично. — Фу… и вижу, наливаешь ты мне наперсток, — сказал старик Николаеву-Российскому. — Ну, думаю, не дойдет, не достанет, душу не пошевелит. — А я, папаша, Христа видел, — сказал Марфушка. — Такой непонятный сон. Крепко мы будто бы с ним схлестнулись. Пожалуйста, говорю, товарищ, мы тоже не из лаптя сделаны, доказывайте не доказывайте, а это, говорю, вопрос — кто основал землю. А он стоит посреди улицы, белый весь, и рукой шляпу придерживает. — Трудный сон, — сказал старик. — Слушай, старый хрен, — сказал Мистер. — Сон действительно трудный, но и ты не лучше Иисуса Христа. Зачем ты берешь лишние пайки и кормишь своих лошадей? — Уж больно они тощие, товарищ староста. — Пусть начальству жалуются. — Они не могут жаловаться. Бессловесные твари. Подойдешь к ним, а у них град в глазах, а потом он будто начинает таять и получаются слезы, и обжигают тебя. — А ты не подходи. — Не могу. — Тьфу, старый черт, — сказал Мистер. — Давай отложим этот разговор на завтра. Говорят, ты вчера был на допросе. Ну как, здорово копают? Пусть копают. Это мартышкин труд. Ты говори правду. Чего тебе стесняться? Твой председатель сука. Требуй очную ставку с ним, и все. — Потребовал, — сказал старик. — Меня даже показывали самому главному. — Ну, а он что? — Смеется. Подожди, говорит, немного, батя, дай нам время разобраться. — Тихо! — крикнул Марфушка и посмотрел на вошедшего коменданта. — Подопригора, — громко сказал комендант. — Есть такой. — Имя и отчество? — Иван Ксенофонтыч. — Иван Ксенофонтыч, собирайтесь с вещами. — Это еще куда? — спросил старик. — Домой, — ответил комендант. — Гражданин комендант, должен вам заметить, что такими словами не шутят, — сказал Мистер. — А я и не шучу. Собирайтесь, товарищ Подопригора. В бараке сразу же стало тихо, и Николаев-Российский услышал, как печник отчаянно провел мастерком по мокрой печной стене. — Без паники, старик. Я помогу тебе собраться. Теперь ты свободен. Да здравствует справедливость. Да сгинет мгла, — сказал Николаев-Российский. Старик заморгал глазами и заплакал. Его окружили и бережно стали укладывать его вещи в мешок. Николаев-Российский подал ему пальто, и левая трясущаяся рука старика долго не могла найти рукав. — Ну, прощай, старик, — сказал Мистер, — не поминай лихом. — И вы прощайте, — сказал старик. — Только жалко мне вас, ребята. — Тогда оставайся. В чем дело? — Какими бы вы орлами были при нынешних доступностях. Силы-то в вас сколько, а она стервячья. Вот я и боюсь, что вы доиграетесь до ручки. — Ничего, папаша, — сказал Мистер, — поумнеем. — Смотрите. — Будь покоен, старик, в два глаза смотрим, — сказал Капелька и нехорошо засмеялся. — Только вот я тоже боюсь за твою старуху. Приедешь ты домой и ничего не сможешь. Куда ж тебе, такому учителю… — Помолчи! — крикнул Мистер и оттолкнул Капельку от старика. — Ты проводи меня, Коля, — попросил старик. — Ноги у меня от радости ослабли. — Хорошо, — сказал Николаев-Российский. И старик стал прощаться со всеми молча, душевно и неторопливо. Он не попрощался только с Капелькой, и тот обиженно отошел к Чайке. Старик и Николаев-Российский вышли из барака и увидели радугу, дождь, солнце и часовенку на кургане, острую и тусклую, похожую на потушенную свечу. Они шли за комендантом, не зная, что сказать на прощание друг другу. Старик чувствовал: они больше никогда не встретятся, и ему хотелось сказать Николаю что-то хорошее, такое важное и необходимое, что сохранилось бы в памяти на всю жизнь… — Ты вот чего, Коля, — наконец сказал старик. — Ты это баловство по чужим сундукам брось, у тебя золотая голова, тебе бы только жить да жить по твоим талантам. Как ты думаешь? — Думаю жить, — сказал Николаев-Российский. — Верно! Зачем тебе рядиться в волки, когда у тебя душа человечья. Ну, прощай, сынок. — Прощай, старик… Они поцеловались трижды. Потом комендант повел Ивана Ксенофонтовича в канцелярию, а Николаев-Российский прислонился к тополю и решил подождать, пока старик выйдет за ворота. Он стоял, ковыряя носком сапога мокрую землю, а старик смотрел на него из окна комнаты свиданий и ждал документов. Через несколько минут старику открыли калитку, и он недоверчиво посмотрел на дома, на желтый палисадник, на двух девочек и машину, прыгающую по-лягушечьи в конце немощеной улицы. Старик покачал головой и в последний раз с недоумением посмотрел на калитку, из которой только что вышел.
_____
В комнате, где заключенные получали свидание, было несколько женщин. Анна Тимофеевна сидела рядом с Машей, в очень старом шерстяном платье, держа на коленях корзину, покрытую чистой марлей. — Не надо, доченька, ничего говорить Анатолию. Вот когда получит вольную, тогда и расскажем. — Поступай как хочешь, а я молчать не буду. Это непротивление, — сказала Маша и увидела сквозь зарешеченное окно брата, который на ходу приглаживал волосы, потом снял кепку с какого-то заключенного, стоящего возле тополя, и надел, поджидая отставшего надзирателя. Падал дождь, а Николаев-Российский стоял во дворе колонии и, вытянув руки, наблюдал, как на его ладонях разбивались капли. Долетев до земли, капли вспыхивали шляпками гвоздей, и Николаев-Российский прислушивался, как этот дождь торопливо прибивал что-то к земле. Мир становился глуше, глуше звучали гудки и голоса людей за воротами, и все ярче блестела трава. В помещении Мистер от скуки и безделья то барабанил пальцами по столу, то прохаживался с заложенными за спину руками и, вспомнив о старике, попросил Марфушку принести «скрижали». Он сел на топчан и стеклышком соскоблил фамилию старика. — Пустынно становится, староста, — сказал Марфушка. — Каждый день все стираем и стираем. А нас-то кто же стирать будет? — К сорок третьему году и нас сотрут, — сказал Мистер и посмотрел на Анатолия и Николаева-Российского. Мокрые, они молча прошли мимо Капельки. Николаев-Российский взял у Анатолия корзину и поставил ее на пол. В грязном комбинезоне, в сапогах и кепке Анатолий лег на топчан и вдруг заплакал громко и злобно, захлебываясь в страшной матерщине. — Я убью его, — сказал он. Капелька кинулся к выходу и пригнулся, не успев разглядеть, кто бросил нож: Анатолий или Николаев-Российский. Нож рукояткой ударился о дверь и упал около параши. — Это что за номер? — спросил Мистер и отвел Капельку в угол к своему топчану. Но Капелька молчал и тупо смотрел на окурок, прилипший к полу. Тогда Мистер подошел к Николаеву-Российскому, и они долго разговаривали, нервничали, и Мистер попросил Марфушку принести ему воды. — Обсуждать надо, — сказал Николаев-Российский. — Ну что ж, давайте обсуждать, — Мистер выпил всю воду и отдал алюминиевую кружку Марфушке. — Товарищи, — сказал Мистер, — я требую обсуждения. Я как староста приказываю прекратить игры, в углу там пускай закроют читальню. Кривописку не выскакивать, пока я ему не дам голоса. Понятно? — Понятно. — У меня на руках, — сказал Мистер, — имеются грустные факты. Тихо! Я буду говорить про Капельку. Вытолкните эту дрянь на середку. Пускай на него каждый посмотрит. Это просто, товарищи, уму непостижимо, когда ты приютишь человека, а он думает, как бы перегрызть тебе горло. Просто уму непостижимо… — В чем дело, Мистер? — Я человек нервный, — сказал Мистер, — и я за себя не поручусь. У меня тоже есть старушка мать, и, если я не ошибаюсь, она шестьдесят три года страдает на свете. То сын у нее плавает, то дочь не так вышла замуж, а она все страдай и страдай до тех пор, пока ее не прикроют крышкой. Правильно я говорю, товарищи? — Как будто бы все верно. — Так вот, я человек нервный… — Разреши мне докончить, староста, — сказал Николаев-Российский, и Мистер утвердительно кивнул головой. Николаев-Российский выволок Капельку на середину помещения и поставил его на колени. — Товарищи, я знаю, — сказал он, — каждый из нас достоин какого-то сожаления, но ты, Капелька, барабанная тварь, и никакого сожаления ты к себе не жди. За что мы его поставили на колени? Почему он подсчитывает свои последние шансы на жизнь и не может их подсчитать? А потому что он пират, и как только вышел на свободу, он сразу же направился к матери Анатолия, к седой старушке, и старушка оказалась высокой женщиной и дала ему приют. Правильно я говорю, Капелька? — Правильно, — сказал Капелька. — Что же он сделал? Вы думаете, он пощадил старуху? Нет! Он ощипал ее начисто и огорчил до полусмерти. — Позвольте узнать, — сказал Кривописк, и вместе с Марфушкой они стали подробно допрашивать Капельку, как его приняли, чем кормили, где он спал и какие вещи забрал и что оставил Анне Тимофеевне. Капелька говорил правду, и от такой правды многие чувствовали в себе беспокойство и старались не смотреть на Капельку, словно и они были причастны к этому делу. — Ясно только одно, — сказал Николаев-Российский, — вот мы столкнулись с жизнью. Правильно я говорю, Капелька? — Правильно… только ты зря звонишь, — сказал Капелька. — С каких это пор вы стали лучше меня? Тоже судьи… — С этой минуты мы все стали лучше, — сказал Николаев-Российский и увидел, как Марфушка воровато ударил Капельку по шее. — Вот тебе судьи, — сказал он. — Могу добавить еще. Но Мистер отшвырнул его от Капельки. Чайка встал у стены и стиснул зубы. Кулаки его были сжаты, но заступаться за Капельку было нельзя и жалеть его тоже вдруг стало не за что. И Чайка вспотел, чувствуя, как слабеют его ноги и разжимаются кулаки. Он плотнее прижался спиной к стене и растерянно посмотрел на Мистера. — Продолжай, Коля, — сказал Мистер, — а остальным не рукошлепничать. — Я знаю, — продолжал Николаев-Российский, — некоторые из вас посылают деньги своим матерям, о чем же тут говорить, когда мать нашего товарища жестокопострадала от налета этого палача. Вот он стоит, шакал, и на нем нет лица, а мы позволяем ему грабить наших матерей. Как же это все называется? Это называется — сыновья радуют своих старушек на закате ихней жизни. Задумайтесь, товарищи. Жестоко задумайтесь. А что касается моей личности, считайте меня кем угодно, но я навсегда завязываю узелок. — Тише, товарищи. Какие поступят предложения на Капельку? — спросил Мистер. — Сдать его в солдаты! — крикнул кто-то. — На курорт его, халдея. — Тише! — Братцы! — закричал Марфушка. — Я вспомнил, дайте мне добавить, не лишайте слова. — Слазь, — сказал Мистер. — Прокурор без тебя добавит. — Староста, выпиши ему путевку. В курорт его, подлюгу. — Правильно, — сказал Мистер. — Под топчан… Слышишь? На курорт поедешь. — Слышу, — сказал Капелька. — Днем пускай работает, как все, а ночью под топчан без одеяла. — Срок? — спросил Мистер. — Выпиши ему бессрочную. Нехай подыхает. — Так и будет, — сказал Мистер. Он поднял Капельку с пола и провел его несколько раз по бараку, заметив, что дает Капельке последний «променад». Потом он затолкал его под топчан и посмотрел в окно. Дождь утихал. Небо было мутное, с крыши падали капли и разбивались о железный подоконник. Проплывающие облака своею тенью касались земли, и верхушки деревьев то вспыхивали, то темнели, то становились желто-красными. Через час вся колония обсуждала дело Капельки. Через два часа об этом узнали в больнице, и всюду заработали сарафанная почта и телеграф. Мистеру принесли письмо. Он посмотрел на посыльного и покачал головой. Это был парикмахер Жорж с русыми подпаленными локонами, с пухлыми губами, чуть тронутыми кармином. Письмо пахло духами, и оно было из женского барака. Там спрашивали подробности о Капельке, сколько ему лет, какие у него глаза и высокого ли он роста. В тот же вечер Чайка ушел ночевать в кочегарку. Ему было и стыдно и боязно оставаться вместе с Капелькой, и он виновато улыбнулся кочегару, когда тот удивленно посмотрел на него. Подстелив под себя пиджак, Чайка лег головой к топке. Весь вечер он был молчалив. В кочегарке было жарко, но Чайка лежал с застегнутым воротом и думал о Капельке. Он думал о Мистере и Кривописке, а они в это время рассказывали всякие небылицы про свои дела и изо всех сил старались казаться более честными, чем были на самом деле. Отдельные слова и восклицания доносились и до Капельки, и он напрягал слух, но ничего не мог понять из того, что говорил Мистер. — Итак, братцы, это было около самого синего моря, — рассказывал Мистер. — Ехали мы тогда, если не ошибаюсь, скорым, ехали и разговоры вели, а море за окном так и горело. Люблю я, братцы, море, мне бы моряком быть, а не Иваном с двумя бахромами, и по моим железным нервам я мог бы вполне соответствовать и капитану. — А в этом нельзя сумлеваться, — сказал Марфушка, — мог бы вполне. — Значит, так, — продолжал Мистер, — выехали мы из Туапсе маленько под хмельком. Я, потом какой-то человек шикарной наружности, одна блондинка и одна брюнетка. Денег у меня тогда было вагон, и я решил, как будто бы я в отпуску и трогать мне этого шикарного человека не надо. Только необходимо заметить, братцы, — хвастун он был самой первой гильдии. «Я, говорит, зарабатываю до трех тысяч. Мои, говорит, знакомые девушки все в шелках ходят, а сам я лечиться еду. Я, говорит, инженер-механик, и мне бы интересно узнать, с кем я имею дело». — «Пожалуйста, говорю, я тоже инженер своего дела, хотя и не механик, но я в колесах тоже кое-что понимаю. Я, говорю, инженер службы тяги. Вот навожу порядок на транспорте». И представьте себе, братцы, стал он оскорблять транспорт, а потом как-то закис и как будто бы даже заскучал и детство вспомнил. «Видите, говорит, море? Здесь вот я родился, здесь вот у меня мамаша проживает, а сын ее, инженер-механик, на водолечение едет». — Нет, — сказал Мистер, — есть все-таки много приятного в честной жизни. Отработал — и отдыхай. Скучно мне, братцы, стало, что этот механик на водолечение едет, а я одной ногой на пороге тюрьмы стою. Что же, думаю, его мамаша сто лет может прожить в таком живописном климате да еще при таком роскошном сыне, который, наверно, рублей по пятьсот отламывает ей каждый месяц. И тут наш скорый поезд дает остановку. Останавливается он вроде как под навесом, и блондинка говорит: «Ах, как красиво!» А брюнетка говорит: «Подожди ахать, будет еще красивше, дальше, говорит, пойдут каменные львы и черноморские пароходы». Но тут разговору нашему помешала старушка, которая, вошедши в вагон, сразу же застыдилась и глаза в пол опустила. «Не поможете ли, говорит, молодые люди, хоть чем-нибудь, а то я в этом месяце в большую затруднительность попала». «Что вы, мамаша, никаких затруднений, сделайте одолжение, вот вам, пожалуйста, и на квас, и на скромную пищу», — и сую ей в руку ни больше ни меньше зеленую сотню. И заплакала старушка солеными слезами, а инженер-механик посмотрел на нее и белее полотна стал. Отвернулся он к окну и пальцем вроде стекло протирает… И понял я сразу, что эта старушка является его родной мамашей, и такое меня зло взяло, что я вывел старушку из купе и адресок ее на память в свою записную книжку чиркнул. Ладно, думаю, история нас разберет. До самого Сухуми мы с этим инженером-механиком на пароходе ехали, а на пристани я его обделал. Взял все под метелку. Он мне даже и пиджак оставил. Но механик-то он оказался тоже липовый. Стал я швы проверять — нет ли, думаю, где-нибудь заначки, и вместо этого натыкаюсь я на документы и на справку из колонии об освобождении. Ну, думаю, пускай ты будешь свой, а зачем же ты мимо матери королем проехал и меня в такой расход поставил? Ладно, думаю, раз свои люди, значит, сочтемся. Продал я все его тряпки и вроде как бы от сына посылаю этой старушке ровно половину, а остальную половину беру себе за беспокойство. …В этот вечер Мистер написал письмо своей матери, которую он не видел пятнадцать лет. Он исписал три листа, но ему казалось, что он написал слишком мало и что ему, пожалуй, будет стыдно, если он пошлет старухе простое письмо в таком простом конверте. Но особого конверта под рукой не оказалось, а тот, который был прислан из женского барака, был мал по своим размерам и не понравился Мистеру по цвету. Но Мистер решил отправить все-таки письмо в этом голубом конверте. Бритвой он порезал чью-то галошу и кусочком резинки осторожно стер все, что было написано на конверте. Еще раз перечитав письмо, он вдруг задумался и понял, что забыл новое название улицы, да и номер дома теперь показался ему сомнительным. Он потер лоб и прошелся по бараку, стараясь вспомнить хотя бы соседние номера домов. Он ходил долго и только еще больше запутывался, и ему казалось, что, если он сейчас же ничего этого не вспомнит, завтра уже будет поздно, завтра все будет кончено, и у него не будет матери, и он этого никогда себе не простит. — Эй, работяги, — сказал он спящим, — ну-ка поднимитесь. — Што такое? Почему подъем? — Сколько времени, Марфушка? — Без шести минут полчаса второго, — сказал Марфушка. — Так чего же вы с ума сходите? — Слушайте, братцы, — сказал Мистер, — никто из вас случайно не был в городе Новозыбкове? Знаете, там еще спички делают. — Там сумасшедших делают, — сказал кто-то, и большинство, как по команде, снова легли в постель. — Я вас спрашиваю, кто был в городе Новозыбкове? — Ну, я был, чего орешь? — сказал Красильников, он же Перерве, он же Русаков и он же Петр Эдуардович Перельман. — Слушай, Васек, город-то какой, а? — Тот город, — сказал Красильников, и лицо его приняло злое выражение. — Мне интересно вспомнить, как там называлась вторая улица от вокзала. Помнишь, белый дом на углу? — Не помню, — сказал Красильников. — Меня вели по первой. — А ты вспомни, вторая улица. Там каланча, столб, водокачка. — Я помню только одну улицу, — сказал Красильников, — от вокзала до тюрьмы. Поганая улица — пыли-то, батюшки! И потом старушек. И все они идут и идут, будто на богомолье. У вас, наверно, там было много монастырей. — Ну-ну, повежливей, — сказал Мистер. — Это фабричный город. У нас там одних клубов штук восемь было, а сейчас, наверно, вдвое больше. И вдруг он смутился и умолк, наконец вспомнив и название улицы, и номер дома, и скамейку, на которой он сидел когда-то целыми вечерами и грыз семечки, сплевывая шелуху в левую ладонь. Он надписал адрес и положил письмо на стол. В самом углу Кривописк тихо рассказывал что-то Римеру, и Капелька думал, что этим рассказам не будет конца. В эту же ночь он простудился и захворал. Это была длинная ночь, и Капелька лежал на голом полу и собственным дыханием согревал себя. Он плакал от обиды, царапал ногтем стену и доски и думал о том, что придет время и он предъявит Николаеву-Российскому и Мистеру свои права. Он слышал, как прошел сибирский люкс. Протяжные гудки доносились с пристани, это пароходы прощались с городом, уходя на север в последний рейс. Капелька прислушался к глухому шуму автомобиля, и знакомая сирена крякнула дважды у закрытых ворот… Он весь выплакался и перемерз, и больше у него не было сил сопротивляться тоске. Он вспомнил, как однажды, перелистывая от скуки газету, увидел на второй странице портрет своей младшей сестры и вскрикнул от боли и изумления. Полная и сероглазая, с большой косой, с полуоткрытыми губами, она улыбалась Капельке, и он то подносил газету к глазам, то далеко отставлял ее от себя. По складам Капелька прочитал, что его сестра, лучшая ткачиха в Иваново-Вознесенской области, едет учиться в академию. Эта академия, про которую ему захотелось вдруг узнать все подробности, потрясла Капельку, и он всюду стал хвастаться, что его сестра учится на академика. Но ему никто не верил, и через месяц эту газету порвали на цигарки, и Капелька забыл о сестре. Несколько суток он пролежал в темноте, и, когда наступал ужин, Мистер наливал ему миску щей и ставил ее на пол, как паршивой собаке. С этой пищей каждый делал все, что хотел, и Капелька сносил обиду молча и не притрагивался к миске до тех пор, пока дневная смена не уходила на работу. Его больничный обед Марфушка по приказанию Мистера выливал в парашу, и Капелька голодал, чувствуя, как постепенно ослабевают его руки и ноги. Через день к Капельке заходила сестра из амбулатории, и Марфушка заискивающе объяснял ей, как Капелька шил, как потом уронил иголку под топчан и как ему, близорукому, теперь трудно найти ее. — Крошечка, — говорил Марфушка вкрадчивым голосом, — сестричка пришла, вылезай, пожалуйста. Только один раз Капельке удалось поговорить с Чайкой и выпросить у него пайку хлеба. — Конечно, — сказал Капелька, — строить из себя честного каждый из нас умеет, а вот удержаться на этом принципе не каждому дано. Ты понимаешь, Антоша, встал я утром, а в квартире ни одной души. Хоть бы тебе собака или мышь где-нибудь пискнула. Так нет же! Один, как есть один, стою посреди квартиры и слушаю самого себя. Страх на меня напал. Вот, думаю, подожду еще полчаса, помучаюсь, а потом сложу свои вещи в узелок и уеду… Сел я, Антоша, на сундук и мучаюсь. Пять минут мучаюсь, десять минут мучаюсь, а старухи все нет и нет… Чего же ты, думаю, не идешь, старый черт! Ведь я же тебя сейчас обворую. — Пропадем мы, Капелька, — сказал Чайка. — Грязи-то сколько. В пять лет не отмыться. Ты знаешь, на днях всех наших перекованных будут в новый барак переселять, который с занавесочками, а у меня этот билет отобрали; вот и думаю — не видать мне с тобой занавесочек. — Проживем и на старой квартире, — сказал Капелька. — Только пусть Мистер не думает, что он тоже туда поедет. Никуда он не поедет. — Почему? — спросил Чайка. — А потому, что он меня бить будет. А мне это на руку, — сказал Капелька, — хочу в больницу. Иногда для развлечения Мистер беседовал с Капелькой. Он садился на корточки и, пуская дымовые кольца прямо в лицо Капельке, спрашивал его, изучает ли он иностранные языки. — А зачем мне твои языки? Мне бы кусочек хлеба-а. Ведь он же не твой, государственный. Отдай мне мою пайку. Мистер притворно вздыхал, покачивал головой, и его тонкие губы складывались в печальную и язвительную улыбку. — Мне кажется, — говорил Мистер после некоторого раздумья, — хлеб тебе будет вреден, как ты думаешь? — Жрать хочется, староста. — Да не может быть. Что же ты хочешь? Хлеб тебе вреден. Хочешь булку с маслом? Капелька молчал, потом сиротским голосом просил у Мистера амнистии, но Мистер снова загонял его в темноту, и беседа прекращалась. В темноте Капелька ел и спал, и только к двум часам ночи, озираясь по сторонам, он выползал на свет и, протирая глаза, шел к параше, чувствуя молчаливую ненависть вокруг себя. Он шел на цыпочках и не знал, охотятся за ним или нет, и часто оглядывался, держа руки так, чтобы можно было отвести от себя удар. Капелька редко видел Анатолия. Анатолий работал дежурным слесарем в ночную смену, и ему приходилось быть и шорником, и механиком, и монтером, и настройщиком станков. Приходил он с работы утром, и Капелька видел только его ноги и боялся заговорить с ним. Однажды Анатолий послал Марфушку в ларек, и Капелька, выглянув из-под топчана, понял, что они остались только вдвоем в помещении. Он решил не защищаться. Его руки тряслись от слабости и страха, а до стола, на котором лежали огурцы и нож, он все равно не успел бы дотянуться. Они пристально посмотрели друг на друга, и Анатолий вынул из корзинки белую булку и отдал ее Капельке. Это была городская булка, и Капелька знал, кто ее принес Анатолию. Он съел эту булку неторопливо, захмелев от еды, и, согретый мыслями о воле, заснул и увидел во сне Анну Тимофеевну. Слепая, постукивая палкой о землю, она вышла во двор и увязла в глине, которую днем месили печники. Кругом была ночь, и старуха неистово стучала палкой о крышу собачьей будки и кричала тоненьким голосом: «Помогите!» От этого крика Капелька проснулся, вылез из-под нар и, сонно, жалко и нагло улыбаясь, подошел к Мистеру. Был вечер, и дневная смена давно уже пришла с работы, и Капелька удивился, что он так долго спал. — Братцы! Интересное положение, — закричал Марфушка, — на горизонте шакал! Капельку окружили, и сразу же стало тихо. Когда-то он сам был участником этих немых сцен и знал, отчего наступает такая тишина, и понял, что ему пришел конец. — Мистер, — сказал Капелька, — ты поступаешь со мной не по закону. — Мне их еще не прислали, законов-то, — сказал Мистер. — А ты бы их подождал, — сказал Капелька, — может, мне по законам-то под топчаном сидеть и не полагается. — А что ж, с тебя портреты писать? — спросил Мистер. — Откуда он мог предположить, закон-то, что среди нас отыщется такая тварь, как ты? Ну, откуда? — Прости, Мистер. — Молчи, паскуда, — сказал Мистер. — Нет больше для тебя никаких законов. Полезай обратно. Не будет тебе прощения, такой твари. Капелька подошел очень близко к Мистеру, и в душе у него появилась надежда, что его простят за старуху и быстро забудут ее. Капелька подошел к Мистеру в то время, когда у Мистера было хорошее настроение. Чтобы ударить Капельку по его жалкому немытому лицу, надо было накопить много злобы и холода, и Мистер стал затягивать разговор, заставляя Капельку стоять навытяжку, но злоба не приходила. Тогда Мистер ударил Капельку по щеке, и сырой звук этого удара полетел к полузакрытой двери. Потом Капельку стали бить другие, стараясь не задеть губ и носа. Мистер распахнул дверь. Он вызвал врача, и тот осмотрел Капельку. — Кошмар, гражданин доктор, — сказал Мистер, — и вообще ванитас ванитатум этомия ванитас. — Мистер загадочно улыбнулся двум огромным санитарам и беспомощно развел руками. — Если я не ошибаюсь, по-латыни это называется капут. Сколько раз я ему говорил: «Капелька, не возись на топчане, упадешь». — Ну, знаете, — сказал доктор, — так с топчана не падают. — У нас каждый падает по-своему, — сказал Мистер, — и поднимается тоже по-своему. Через несколько минут Капельку увели в больницу. А Марфушка тряпкой вытер пол и подал Мистеру кусок фанеры. Стеклышком Мистер соскоблил фамилию Капельки и вдруг почувствовал, что кругом стало как-то светлее, просторнее и чище.Первую неделю Капелька прикидывался очень больным человеком. Он пытался понять, почему ему никто не простил всей этой обыкновенной истории с Анной Тимофеевной, и в конце концов пришел к выводу, что свое наказание отбыл, а если судья накинет ему лишний год, то это не так страшно, потому что он все равно вырвется на свободу и достанет свои сто тысяч. Он лежал на железной койке и прислушивался к разговору незнакомых людей. От скуки больные спорили о медицине, потихонечку «бурили» и гадали на спичках, предсказывая амнистию в самом ближайшем времени. Выбрав удобный момент, больные делали налеты на парники, потом мучились животами и развлекались, требуя врача и прокурора. Дней через пять Капелька получил письмо от Чайки. Письмо было длинное, написанное карандашом и чернилами, в нескольких местах протертое резинкой и перепачканное машинным маслом. На желтом самодельном конверте крупными спотыкающимися буквами было написано: «Бывшему моему другу Капельке». В письме Чайка ставил в известность Капельку, что дружбы между ними больше нет, и пусть Капелька ни на что не рассчитывает после возвращения из больницы. Дальше Чайка писал о своем сроке, что ему осталось полтора года и он решил кончать с воровской жизнью. Прочитав несколько раз это письмо, Капелька почувствовал себя как-то одиноко, но наутро это все прошло, и он забыл про письмо. Однажды сосед Капельки, по прозвищу Глобус, подозвал к себе сестру и стал ей что-то шептать, показывая пальцем на Капельку. — Век мне в тюрьме гнить, не вру. Вы, говорит, не сомневайтесь, мамаша, все будет честь по чести. — Да ну вас, — сказала сестра, — перестаньте выдумывать. — А я тебе говорю — обокрал. Не трогай его, пускай сдыхает… Глобус нахмурился. Желтые пятна выступили на его лице, и он с нескрываемым презрением посмотрел на Капельку. — Ты знаешь, сестра, не приведи боже, — сказал он, — иметь дело с таким человеком. На нем пробы негде ставить, а ты его под защиту берешь. — А для меня вы все одинаковые, — сказала сестра. Глобус обидчиво отвернулся от нее и тихо выругался в подушку. Вечером он набрал в стакан воды, всыпал туда два порошка, вылил остатки микстуры, бросил кусок мази и кусочек известки, потом все это тщательно размешал и посмотрел стакан на свет. Ехидная и торжествующая улыбка появилась на его лице. Он пошептался с Бомбовозом, и на цыпочках они подошли к Капельке, но подбежавшая сестра выбила стакан из рук Глобуса и загородила собой Капельку. — Что вы делаете, варвары! — закричала она и растерянно взглянула на вошедшую женщину. Это была врач. — Почему у вас так шумно? — спросила она. — А потому, что он обокрал старуху, мать нашего заключенного, — сказал Глобус, — я его все равно отравлю… — Ну, кто хочет покричать еще? — спросила врач. — Кому надоело в больнице? — А мы не кричим, — сказал Бомбовоз, — мы только просим, согласно конфликту, — уберите от нас этого самурая. — Ну, а еще какие будут жалобы? — Хорошенькие жалобы! А известна ли вам, гражданка доктор, автофизиография Капельки? Неизвестна? — спросил Глобус. — Так нам и говорить с вами нечего. — И не надо, — сказала врач. — Нас интересуют только ваши болезни и больше ничего. Понимаете? Мы обязаны вас лечить, и мы это делаем. После ужина Глобуса переселили на другую койку, а рядом с Капелькой положили старого медвежатника, «папу», страдающего экземой. — Обижают, сынок? — спросил «папа». — Всяко бывает. — А ты не огорчайся, — сказал «папа», — плюнь, сынок, на все и береги здоровье. Ну, спокойной ночи. — Спокойной ночи, — сказал Капелька. Он поправил одеяло и увидел вокруг себя несколько крошечных блуждающих светлячков. Они были лимонного цвета, и их появлялось все больше и больше. Они отрывались от электрической лампочки и сыпались, как снег, и гасли, не долетая до изголовья. В полночь Капелька захотел есть и вынул из тумбочки несколько белых сухарей и кусочек сахару, принес стакан чаю. Светлячков уже не было, и ровный накал лампочки не слепил глаза. Где-то далеко за окном, на той стороне мира, ветер раскачивал на столбе репродуктор, и Капелька прислушивался к незнакомым пропетым навзрыд словам:
Вся наша жизнь — игра…
Николаев-Российский вышел из барака и остановился во дворе колонии. Колонисты группами направлялись к клубу в расстегнутых бушлатах и в пиджаках, в легких городских туфлях и вычищенных хромовых сапогах. «Мамаева орда», — подумал Николаев-Российский и поежился. Было холодно, с неба крупными хлопьями падал снег и казался желтым от тусклого света луны. До начала собрания оставалось еще минут сорок, и Николаев-Российский решил зайти в кузню и показать Мистеру посылку, которую прислал старик Подопригора. Здание кузни стояло между механическим цехом и столярной мастерской, напоминая паровозное депо своими широко распахнутыми воротами. Мистер ковал лошадь. Он нервничал, чувствуя ее горячее дыхание на своей спине. — Ну, стой! — говорил Мистер. — Стой! Да стой же ты, зараза четыре раза. — Сильным коротким ударом он вбил последний гвоздь в копыто и столкнул с колена согнутую ногу лошади. — Иди к черту, — сказал он, — я сам нервный не хуже тебя, а ты тут барыню ломаешь. — Ковать надо лучше, — сказал кучер. — А тебе гонять надо легче. Смотри, на что стала похожа кобыла. Бока запали, внутри хрипы. Наверно, ты ее опоил, придурок. В следующий раз за такую езду по морде схватишь. Мистер сложил инструмент в ящик, вывел присмиревшую лошадь из станка и отдал повод кучеру. И вдруг он как-то жадно осмотрел колонию, не понимая, что с ней произошло. А перемена была. Падал снег. Падал на узкую колею, заставленную вагонетками, на штабеля, на вышки с часовыми, на молотобойцев, которые у дверей механического цеха рубили котельное железо, и град ударов, удивительно четких и слаженных, обрушивался на зубило с такой веселой и озорной силой, что Мистер улыбнулся и посмотрел на Николаева-Российского. — Видишь, как стараются, — сказал Мистер. — Это наши котельную подтягивают. Что это у тебя там, под мышкой? — Посылка, — сказал Николаев-Российский. — Ты помнишь старика Подопригору? Помнишь, он еще про рыбу рассказывал… Так вот… он мне посылку прислал. Кушай, говорит, Коля, на здоровье и, пожалуйста, забывай про старую жизнь. — Какой старик! — с восхищением сказал Мистер. — А про меня он ничего не спрашивал? — Ну как же! Как, говорит, тот парень, который в старостах у нас ходил, не уехал он еще в Новозыбков? Я, говорит, его город на спичечных коробках вижу. — Да, — сказал Мистер, — наши спички знамениты. Ну что ж, пойдем чай пить, помянем старика добрым словом. На пути они встретили Кривописка, и тот рассказал им по большому секрету, что был он сейчас у следователя и что на всех на них завели очень серьезное дело за избиение Капельки… Кривописк махал руками и, озираясь по сторонам, старался изобразить, как плакал Анатолий в кабинете следователя, рассказывая про письмо и про свою старушку, которую обокрал Капелька. При допросе в кабинет часто заходил начальник колонии. — Потом привели Капельку в халате, и все это я видел собственными глазами, — сказал Кривописк, — так что хлебать эту кашу придется без масла. — Ты вот чего, — сказал Мистер Кривописку, — Анатолия в это дело не впутывай. Я все на себя возьму. — Для одного это многовато, — сказал Кривописк, — давай делить на равные части: тебе, мне, Марфушке. — Я еще подумаю, — сказал Мистер. — Если будут судить, пусть судят показательным. Такого суда я не боюсь, пусть судят при старухе и чтобы Капелька давал на меня показания. — А все-таки зря мы связались с ним, — сказал Николаев-Российский. — Надо было просто вызвать следователя. Ты понимаешь, как бы это здорово получилось! Вызвали бы следователя, и чтобы он при нас допрашивал Капельку. Признает ли он себя виноватым или нет. Вот это был бы суд и порядок. Я уж потом спохватился, да поздно было… — А про тебя, Коля, что-то ни звука, — сказал Кривописк, — можешь себе представить, никаких следов. Я думаю, в дальнейшем без тебя обойдется. Они вошли в свой барак, где услышали голос Марфушки: — Товарищи, на всеобщую собранию, годовой плант принимать. — Пускай его алтайский волк принимает, — сказал молодой парень и посмотрел на вошедшего Мистера синими тоскующими глазами. — Не будет он за тебя принимать, — сказал Мистер. — Он в отпуск уехал. Давай собирайся. Завязав шнурки, он подошел к Николаеву-Российскому, и тот дал ему кусок стерлядки и сказал, чтобы остальные подходили получить свою долю… В посылке были только сухари, табак и стерлядь, но эта посылка так радовала Николаева-Российского, что он забыл все огорчения с Капелькой и сидел за столом вместе с Мистером и Марфушкой, размачивая сухари в кружке. Марфушка пил чай шумно и сосал стерлядку с лукавым и приятным выражением на лице. Мистер понюхал присланный стариком табак и выкурил цигарку с нескрываемым удовольствием. Табак был плохой, но к этой посылке отнеслись с еще большим уважением, чем относились к передачам, и каждый, подходя к мешочку, осторожно брал щепоть табаку и курил с особым удовольствием, восхищаясь удивительной отзывчивостью старика. — Ну, — спросил Мистер, — все перекурили? — Все. — Ну, — сказал Мистер, — теперь пошли на собрание. В клубе было уже тесно. В передних рядах сидели женщины в ярких платках и беретах и говорили что-то обидное работникам механического цеха… Женщин поддерживали деревообделочники… Из задних рядов, где сидели сапожники, через весь зал летели к женщинам записки и падали в проходах. Марфушка уступил место Мистеру, и тот сел недалеко от женщин, чувствуя запах духов, напоминающий сирень, цветущую в садах Новозыбкова. В зале было светло и оживленно. Работники механического цеха говорили, что и на этот раз первое место останется у кузнецов и напрасно волнуются «чурочники» и подбивают портных и сапожников выступать против механического цеха. — Ничего не выйдет, — сказал Мистер. — У нас на каждого приходится по сто девяностоодному проценту. — Вы блат имеете. У вас все нормировщики купленные. — А чем же мы их покупаем, гвоздями? — спросил Мистер. — Ну, все-таки блат-то у вас есть, с нормировщиками вы всегда за ручку. Наше вам, а ваше нам, вот и получается двести процентов. — Ну, побреши еще, — сказал Мистер кому-то. Но в это время в зале погасили свет, и старшая прачка звонко ударила по руке парикмахера Жоржа. В задних рядах засмеялись, но потом смех оборвался, и начальник производственной части начал доклад. Он говорил долго и знал, что его слушают, а на улице густо падал снег, и в городе мягко горели фонари и двигались автомобили. Какой-то прохожий остановился у ворот колонии и никак не мог понять, почему так тихо стало в городе и почему эти крыши и дома вдруг стали не такими, какими были они вчера. Но потом прохожий понял, почему так глухо загудела в затоне сирена, и поднял воротник пальто… Наступала зима, и это был первый зимний вечер, с покрасневшим небом, с белыми присмиревшими деревьями и прохожими, которым не хотелось уходить с улицы, и они шли в скверы и садились на скамейки, думая о чем-то светлом и чувствуя в себе что-то детское, навеянное этим вечером и падающим звездным снегом. А между тем в колонии все еще продолжалось собрание. Присутствие женщин всегда превращало такие собрания в праздник, примечательный еще и потому, что колонисты могли покритиковать «вольняшек», а себя показать только с самой лучшей стороны. Обычно такие собрания заканчивались торжественно — оглашением списка заключенных, получивших досрочное освобождение. В зале было необыкновенно тихо. Анатолий услышал, как его вызывают на сцену: он свободен и сегодня может уйти домой. Он встал и почувствовал, как все в нем отяжелело. Задевая чьи-то ноги, Анатолий выбрался из ряда и спросил начальника колонии, не перепутал ли он фамилию. Но все было правильно, и через два часа Анатолий уже шел по городу и думал, постучать ли ему сначала в окно или немножко задержаться в сенях, чтобы подготовить мать и не напугать ее своим неожиданным возвращением. Он думал об этом всю дорогу и, ничего не решив, зашел прямо в кухню и положил узелок на стол. До самого рассвета в доме Анны Тимофеевны горел огонь, из трубы поднимался дым, и ветерок пригибал этот дым к земле и со скрипом покачивал косяк пустой голубятни, чуть наклоненной набок.
Около двух недель шли допросы по делу Капельки. Вызвав Марфушку, следователь долго объяснял ему, что его запирательство ни к чему хорошему не приведет, что есть уже показания Капельки и Анатолия, и осталось только уточнить некоторые мелочи, и дело будет сделано. — Ведь ты же числишься уборщиком, — сказал следователь, — значит, ты знал, за что били Капельку. — Нет, не знал. Все били, и я бил. Подумаешь, какой принц крови. Ежели вы такой чистый законник, тогда спрашивайте пострадавшего, а не меня. Красильников, он же Русаков, он же Перерве, он же Петр Эдуардович Перельман, действительно видел, как Капельку били, но кто его бил и за что, этого свидетель сказать не может, так как в девять часов семнадцать минут он читал книжку одного немецкого сочинителя под названием «Шопена и Гауера». Капелька вел себя неспокойно. Он путался в показаниях, писал следователю покаянные письма, но через два-три дня отказывался решительно от всего и жаловался на головную боль. Однажды следователь показал точный список вещей, украденных у Анны Тимофеевны, и Капелька сел на диван и попросил папироску. — Ты читать еще не разучился? — спросил следователь. — Тогда заодно прочти и справку из колонии, откуда ты бежал. — Я очень извиняюсь, но таково было мое тогдашнее положение, — сказал Капелька. — Хотел переехать на юг по болезни… — Значит, побег был? — В жизни, гражданин следователь, всякое бывает… Иные бегут и по дороге пачкаются, а я бежал смирно. — Ну, спасибо и на этом, — сказал следователь. — Но били-то тебя все-таки за что? — Просто так, от скуки, гражданин следователь. — Я тебя спрашиваю, за что тебя били… Может быть, ты нечаянно заигрался? Капелька вспыхнул и глазами, полными презрения, посмотрел на следователя. Он встал и, заикаясь, сказал, что никогда не заигрывался и никогда его не били за карты. — Но все-таки, за что же тебя били? Ты учти, если будешь ломаться, я вызову Анатолия на очную ставку. — Не надо, — сказал Капелька и снова сел. Раздавленный стыдом и отчаянием, Капелька уныло засмеялся, потрогал руками колени и укоризненно покачал головой. — Пишите, — сказал он, — нехай меня распинают за эту сволочную старуху, как Иисуса Христа. — Молчать, негодяй! — крикнул следователь. — Ты не смеешь так говорить о женщине, которая приютила тебя. — Молчу, гражданин начальник… На следующий день следователь показал Мистеру протокол Капельки, где тот расписался во всем, что он сделал дурного людям за свою короткую непутевую жизнь. Мистер прочитал эти показания очень внимательно и, улыбаясь, посмотрел на следователя. — Ну, — спросил следователь, — будем мы с этим кончать или нет? — Ну конечно, будем, — ответил Мистер. — Зачем же тянуть? — Так почему же вы раньше ничего не подписывали? — Было неудобно, гражданин следователь, подписывать бумаги вперед Капельки. Ведь он главный по делу. Надо было ждать, пока он сам расколется. — А бить его вам было удобно? Устраивать самосуд да еще подводить людей, которые с вами цацкаются? Вот вы говорите, что уважаете надзирателя Шаталова, а он проглядел ваши художества и за это схватил выговор. — Это наша ошибка, — сказал Мистер. — Боги и те ошибаются. Я думаю, гражданин следователь, история нас рассудит. Мистер подписал протокол охотно, и в тот же день это дело направили в прокуратуру. А Мистер стал ждать суда, делая какие-то заметки на клочках бумаги. Он читал книги и через день брился, собираясь предстать перед судом не так, как раньше, а как-то по-особому и с гордостью принять любое наказание. Он был очень весел. Из книг Горького он сделал несколько выписок и спрятал их под подушку вместе с колодой карт, на которых иногда гадал. Мистеру было приятно думать, что вот старушка увидит его на суде и, плача может быть, скажет ему спасибо за то, что он заступился за нее, старую; может быть, она купит ему пачку папирос и попросит конвой передать их Мистеру, и Мистер будет курить эти папиросы только в особых случаях. Недели через три Мистера, Марфушку, Кривописка и еще несколько человек вызвали в канцелярию и прочитали им обвинительное заключение. — Ребята, — сказал Мистер, — кто как, а я от защитника отказываюсь. — Только отказывайтесь письменно, — сказал делопроизводитель. — Пускай будет письменно, — сказал Марфушка. И они вышли из кабинета. Вечером они посадили за стол Николаева-Российского и наперебой стали диктовать письмо защитнику. — Теперь давайте послушаем, что у нас получилось, — сказал Мистер и отошел в сторону. — Тише. Читай, Коля. — «Многоуважаемый гражданин защитник…» — Так, — сказал Мистер, — прилично. Дальше. — «Нам, то есть вашим подзащитным по процессу некоего негодяя Капельки, сегодня в шесть часов вечернего времени была зачитана обвиниловка и было заявлено, что якобы вы, гражданин Зильберштейн, взяли на себя задачу защищать нас от нападок прокуратуры и якобы наш следователь, гражданин Фомин, лично по телефону с вами разговаривал и просил, чтобы вы лично нас защищали изо всей коллегии. Конечно, нам лестно, тем более в газетах мы неоднократно наталкиваемся на ваше славное имя за щитника, но, обсудив это положение, мы решили твердо: пострадать. Гражданин Зильберштейн, мы знаем — закон нас выведет на чистую воду, но закон — он тоже знает, за какое дело мы встанем перед ним с обнаженными головами. Вы же сами знаете, какое это ясное дело. Нам стало стыдно за свою прошлую жизнь, а что касается пострадавшей старушки, так она разбудила в нас совесть, и за это каждый из нас в своем сердце должен поставить ей нерукотворный памятник. Гражданин Зильберштейн, так о чем же вы будете говорить и чего доказывать?»
Никогда еще Капелька не чувствовал себя таким одиноким, никогда он не слушал так внимательно свой «послужной список», как во время этого суда. Суд был показательным, в зале, где Капелька когда-то смотрел кино и где было много знакомых. Женщина-судья задавала подсудимому вопросы, и он отвечал коротко «да» или «нет» и опускал глаза, словно рассматривал чисто вымытый пол. Он чувствовал, что Анна Тимофеевна сидит где-то здесь, вместе с Анатолием и Машей, и что вся колония смотрит на старуху, а старуха, наверное, плачет и Маша успокаивает ее. Он слышал, как судья стала спрашивать Анну Тимофеевну, и в зале стало так тихо, словно здесь было всего три человека. Анна Тимофеевна говорила беззлобно и всхлипывала. — Граждане судьи, — сказал Капелька в своем заключительном слове, — это, конечно, очень интересно распинать меня, как Иисуса Христа, и выставлять напоказ за простую кражу… Но, я думаю, совсем неинтересно смотреть на меня, как на безнадежного типа, тем более — я не граф и у меня, граждане судьи, сестра на академика учится. Я просто извиняюсь. Таково было мое тогдашнее положение. Простите меня, мамаша.
Наступила весна, и в эти дни Мистер и Марфушка тосковали больше и в свободное время сидели во дворе колонии, думая о том, что хорошо бы куда-нибудь уехать подальше от этого города и затона, где начинали уже перекликаться пароходы и катера. Шла весна. От тоски Мистер и Марфушка пристрастились к семечкам и грызли их до одурения. Семечки привозили шоферы из города и после работы продавали стаканами за наличные деньги, а когда затоваривались, то отпускали и в долг. Однажды, когда все уже ложились спать, пришел заведующий прачечной Кривописк и сел на топчан рядом с Николаевым-Российским. — Все пишешь? — многозначительно спросил Кривописк. — Пишу, — сказал Николаев-Российский. — Не время этим заниматься, надо о сухарях думать, — сказал Кривописк и умолк, чувствуя, что наполовину новость уже рассказана. Николаев-Российский посмотрел на Кривописка и отложил в сторону фанерную дощечку и карандаш. — Откуда новость? — Из конторы. Внимание, — сказал Кривописк и поднял руку, — сушите сухари. Дня через два поедем. — Куда? — На восток. — А может быть, ты брешешь? — Я брешу? — спросил Кривописк. — А кто нашу охрану видел? Сейчас они в дежурке сидят. И Капелька там. Куда, спрашиваю, Капелька? А он говорит, наверно, на восток. Ну, я сразу же в контору вроде как по своему прачечному делу, а сам глазами нырь и вижу — наряд выписывают. Куда, думаю, наряд, а тут еще начальник с пакетами носится и на телефоне висит: «Город, алло, алло! Дайте вокзал, дайте дежурного, дайте вагонный парк. Хорошо, говорит, беспременно. Мерси, говорит, завтра, говорит, чуть свет. Там наши плотники будут. Только чтобы, пожалуйста, вагонов нам не убавлять, мы не дрова повезем» — А наряд-то на кого выписывали? — Да на плотников, — сказал Кривописк, — завтра они на станцию пойдут вагоны оборудовать. — Ну, значит, едем, — сказал Мистер. — Я вот думаю, на востоке… там скорей освободиться можно… Марфушка, раскинь-ка на счастье. Колода у меня под подушкой. — А это сейчас мы узнаем, — сказал Марфушка и пошел к топчану Мистера за картами. Гадал Марфушка долго — и на себя, и на Мистера, и даже вспотел, потому что кругом ложились пики, и только одному Николаеву-Российскому выходила казенная дорога из казенного дома, и благодаря хлопотам какого-то благородного короля Николаев-Российский должен был получить приятное известие и потом полное исполнение всех своих желаний.
По Енисею шел лед, и тайга была в зеленых пятнах, а темное голубое небо было безоблачным и спокойным в эти весенние последние дни. Всем хотелось ехать на восток и пробыть несколько дней в дороге, слушая перестукивание колес или шум воды за бортом парохода. Капелька попал в один вагон с Мистером и Марфушкой и лежал на нарах на спине, задумчиво смотрел на горящую в фонаре свечу. В углу бывший шофер Могила тихо и подробно рассказывал о своей любовнице: — А она все свое — купи да купи. «Купи мне, говорит, милый, золотое кольцо на верность. Ты посмотри, говорит, как солнце льды расплавляет. Неужели у тебя нет сердца?» А дней через семь, слышу, поет: «Потеряла я колечко, потеряла я любовь». «Знаешь что, говорит, милый, ты не огорчайся за кольцо, а купи мне крепдешину». — Видать, она у тебя была экспортная барыня. — Всякая была, — со вздохом сказал Могила. — Она меня в тюрьму и кинула. Это была не баба, а насос. Всю душу из меня выкачала, и все ей мало — и крепдешину мало, и театров мало, и пирожков с повидлой тоже мало. Очень она любила пирожки с повидлой. По два десятка на спор съедала. Бывало, встанем мы с ней около коляски с пирожками, а она смеется и говорит: «Почему ты такой нынче сердитый? Ты, может, чем-нибудь расстроен? Может быть, ты со мной не интересуешься ходить?» — «Нет, говорю, отчего же? Теперь отступать уже поздно, раз я из-за тебя левые товары на сторону гоняю. Значит, от судьбы никуда не уйдешь». — Дурак ты был, — сказал Марфушка и засмеялся. — Был, — сказал Могила. — Стал я потом на голове пушнину рвать, да уж было поздно. — Стоп, — сказал Мистер. — С кем только наш брат не встретится за свою короткую нервную жизнь. Был у меня дружок. Корешок Николенька Ястреб. Если мы будем справедливы, то никто из нас не может пройти безразлично мимо Николеньки Ястреба и не снять своей шапки за его подвиг на мировой арене. Марфушка, поправь свечу. Однажды ему как-то следователь и говорит: «Ты, говорит, растленная личность. Тебя бы, говорит, давным-давно шлепнуть надо. А мы все с тобой возимся. Убирайся к черту, не хочу я больше выслушивать твоих покаяний, потому что знаю — со своей дорожки ты не сойдешь…» И Коленька ушел, но на пороге он сказал: «Пусть будет этот портрет Ленина свидетель, но я вам заявляю — кончено, повенчано, зарыто». Дали нам тогда приличный срок, и мы разъехались. Коленька поехал к холодному океану, а меня привезли сюда на исправление. Ну, что было со мной, над этим нечего поднимать занавес, а если его даже и поднять, то там получится небогатая сцена. А вот с Коленькой случилось такое. Выехали они как-то в море рыбку ловить. А тут вдруг откуда ни возьмись шторм как из пушки бу-бух, и пошла пальба с раскатами. Четыре духарика их было на кавасаки. Сенька Моторист, Гаврюшка Непомнящий, Соломон Первопечатник и Коленька Ястреб в чине капитана. Бросили они якорь, но с якоря их сразу же сдуло и понесло. От конвоя они оторвались, и забросало их по морю с волны на волну, из ямы в пропасть и опять на волну. Трое суток их мотало как проклятых. Всю душу из них море вынуло, и, когда они очнулись, они увидели военный катер, и Коленька сказал: «Ну, братцы, мы, кажется, в гостях у буржуев. Будем держаться». И стали они держаться. Привезли их в карантин, посадили за решетку, пригласили своих газетописцев. Киномашину приволокли и, одним словом, хотели их в кино снимать, как пострадавших. А они молчат и только твердят одно: «Дайте нам нашего господина посла. Мы с ним объясняться будем». Но нашему послу об этом ничего не говорили, и он, конечно, не знал, что в буржуйском карантине страдают русские люди. Тогда Коленьку Ястреба, и Сеньку Моториста, и Гаврюшку Непомнящего стали покупать деньгами. Вызвали их на допрос и положили перед ними деньги, целую кучу. Конечно, — сказал Мистер, — и Коленька Ястреб, и Сенька Моторист не такие были люди, чтобы оставаться в долгу перед этими покупателями. Вскоре вся тюрьма ходуном пошла, все стекла на улицу вылетели, а от скамейки одни только щепки остались. Но вот однажды бросают к ним Соломона Первопечатника, и Соломон ложится вниз и так лежит до самого вечера, а вечером он и говорит: «Трудно, говорит, мне держаться. Хотя и держусь не хуже всех». А надо вам сказать, что ему доставалось больше всех от самураев за его национальное положение. «Ладно, — говорит Коленька, — пошутили мы с ними, и хватит. А теперь начнем разговаривать всурьез. Сенька, давай сюда пайку». И Моторист подает Ястребу хлеб, а Коленька рвет четыре лоскутка со своей рубашки и на каждом лоскутке пишет номерочек. Первый номер, второй, третий номер и четвертый номер. «Вот, говорит, ребята, наша судьба. Как видно, посла нам не вызовут. А родину мы не продадим. Я вот сейчас закатаю эти номерки в хлеб, и мы бросим жребий, кому первому умирать. Первый будет умирать после ужина, второй будет умирать завтра, третий послезавтра, а четвертый умрет через неделю, если не добьется до нашего посла. Соломон Первопечатник вынул первый номер. Сенька Моторист — второй, Гаврюшка — третий, а Ястреб даже не стал тянуть. Он всегда был счастливей всех, даже по женской линии. После ужина Соломон вынул из-за печки бритву и стал прощаться. «Прощайте, говорит, братцы, только вы на меня не смотрите так подозрительно, жить-то ведь каждому хочется». — «Ничего, Соломон, ты не беспокойся, — сказал Коленька. — Мы отвернемся». Но тут вдруг открывается дверь, и их всех вызывают с вещами. «Там, говорят, за вами господин посол приехал». И такие они ласковые стали, но все-таки по своей психике нет-нет да зашипят… «Вот, говорят, не хотели у нас свободы получить, так поезжайте на родину, а там вас возьмут и шлепнут…» — «Ладно, — говорит Коленька, — мы это уже слышали, скажи что-нибудь поновей». А сам смеется, весь заливается и Соломона за талию держит. Сели они в машину, а Коленька и спрашивает: «А где же конвой, господин посол?» — «А вы чего же, или по конвою соскучились? Ничего, говорит, господа небольшие, и без конвоя обойдетесь…» И обошлись. Сами приехали в колонию трезвые как стеклышки, а через неделю вышли они на дорогу, посмотрели в последний раз друг на друга и навсегда разошлись. — Их что же, освободили? — спросил Ример. — Подчистую, — сказал Мистер. — Такие сказки из тыщи и одной ночи мне непонятны, — заметил Ример. — А зачем тебе понимать? — спросил Мистер. — И вообще ты воздержись. Мы люди грамотные и лучше тебя знаем, где она есть, эта правда, а где ее нету. Ример промолчал и лег рядом с Капелькой. Кого-то бил кашель. Справившись с кашлем, человек этот вздохнул и, томясь от скуки, стал барабанить пальцами по доске. Ример положил ладонь на лоб и осмотрелся. Тусклый синий свет просачивался сквозь зарешеченный люк, но в вагоне было душно, и запах портянок вызывал отвращение такое же непреоборимое, как и рассказы этих людей. Он чувствовал ненависть, она, как астма, теснила ему дыхание, и Ример ворочался, и мысли о побеге все больше и больше занимали его. Но одному идти было бессмысленно, а найти себе попутчика среди этих людей было не так-то просто. Все они недолюбливали его, и вряд ли кто-нибудь согласился бы на побег с ним. Ример повернулся на бок и локтем задел Капельку. — Капелька, — сказал он, — ты не спишь? — Нет, — сказал Капелька, — я не сплю. — Ну как дела? — А так, — сказал Капелька, — как у погорельца. Ты знаешь, Ример, я не могу ишачить за гроши. Сто тысяч у меня в голове. Вот лежу и думаю — неужели я их никогда не достану, эти сто тысяч? — А если пятьдесят? — спросил Ример. — Нет, — сказал Капелька, — только сто тысяч. Вот меня все презирают за старуху, а я должен был обернуться или не должен? Может быть, когда я достиг бы этих ста тысяч, я ей пианину на дом послал бы. Пусть она себе играла бы и упражнялась. — Но ведь ты же их не достал? — Ну и что ж, — сказал Капелька, — когда-нибудь достану. Мне бы только вот осмотреться да партнера найти. — Мне бы тоже, — тихо сказал Ример. — Сто тысяч — это на семечки. Мы достали бы больше. Ример вдруг смолк и пытливо посмотрел на Капельку. Но Капелька был занят своими мыслями о ста тысячах и лежал на спине с закрытыми глазами, и видел себя то в поезде, то на пароходе, то где-то около моря, и с ним была девушка в голубом коротком платье и в крошечных туфельках с серебряными пряжками. — Сто тысяч, — сказал Капелька и открыл глаза. В вагоне было душно, сумрачно и тесно, и многие уже спали. — А вот теперь про лебедя, — сказал Кривописк. — Оказывается, и лебеди бывают черными. Видел я как-то убитого черного лебедя. Лежит, крылья раскинул, а они чуть-чуть в крови. — Это к чему же ты все говоришь? — спросил Капелька. — К дождю, — сказал Кривописк, — и еще к тому, что ты не лебедь. Весь следующий день Мистер составлял список своей будущей бригады, а Капелька думал о ста тысячах, и у него приятно кружилась голова. На рассвете поезд остановился на маленькой сибирской станции, и над тайгой стоял легкий туман, и где-то далеко были слышны взрывы аммонала и сирены автомобилей, идущих по тракту. Бросив в дверь свой вещевой мешок, Мистер вылез из вагона и осмотрелся вокруг. Шла перекличка. Кругом была весна, и за вокзалом одиноко горел костер, и Мистеру вдруг вспомнился глухой предрассветный час, оставшийся в памяти с детства. Мистер вспомнил реку, ночь и своего крестного отца, с которым он всегда ходил за рыбой. Он вспомнил, как крестный приходил в милицию и брал Мистера на поруки, а потом они шли на рыбалку песчаной просекой с удилищем и котелком, и Мистер винился и просил прощения у этого старика. К обеду их привезли в колонию, и Мистер сказал Капельке: — Слушай, Капелька, давай мириться. История со старушкой тебя научила? — Ладно, — сказал Капелька, — я подожду. — Чего будешь ждать? — Хорошей погоды.
Прошел год, и снова наступила весна. Вокруг уже зазеленели листья, и Капелька с грустью думал, что, когда настанет осень, будет труднее уйти отсюда. С каждым днем в колонии жизнь становилась шумнее, и тем откровеннее ее ненавидел Капелька. Он ненавидел Мистера и Марфушку, хотя с завистью глядел на их челки, которые разрешалось носить только работягам, а остальных приказано было стричь под ноль. Такую челку носил и Ример. Каждое утро Капелька выходил на работу озлобленный и сонным голосом говорил самому себе: «Куда же мы будем нынче ховаться?» Но прятаться ему было уже некуда, и он торчал в лесу вместе со своей бригадой и сидел у костра или лежал под сваленным деревом, наблюдая, как падают сосны, или вслушиваясь в грохот, доносившийся с тех сопок, где работал Мистер со своей бригадой подрывников. Сейчас Капелька лежал у костра и смотрел на самую высокую сопку, где на расчищенной тусклой вершине был водружен флажок, наверно, Мистером. «Уйду», — с тоской думал Капелька, кашляя от дыма. Ногой он попробовал дотянуться до огня, чтобы отодвинуть дымящуюся головешку, но не достал и снова положил ногу на пень. — Слушай, Ример, — сказал он, — ты бы хоть костер потушил, у меня ведь легкие не казенные. Зачем ты все время прижимаешь костер к деревьям? — А, пусть горят, — сказал Ример, — мне это надоело. — Мне тоже, — сказал Капелька и сел напротив Римера. — Ты помнишь, Капелька, — спросил Ример, — наш разговор в вагоне? Я ничего не забыл, даже твои сто тысяч помню. Может быть, они тебе теперь уже не нужны? — Почему же, — сказал Капелька, — они бы сейчас пригодились. — Только не здесь, — глухо проговорил Ример. — Удивительный ты человек, столько лет живешь на свете, а ни разу не подумал о своем будущем. — Мне думать об этом нельзя, — твердо сказал Капелька. — Это все равно, хочешь ты об этом думать или не хочешь, но у нас нет будущего. А раз его нет, его надо вырвать зубами. Ример поправил очки и тихо заговорил, хотя кругом никого не было и только шагах в двадцати от них громко ругались два одесских жулика, потому что никак не могли набросить петлю на вершину дерева. Ример говорил тихо, задыхался и с отвращением смотрел на сопку, где работала бригада Мистера. — Нет, ты полюбуйся! Ты только посмотри, как они стараются, — сказал Ример и показал пальцем на двух одесских жуликов. — А чего они добьются? Почему ты тянешься к Мистеру, когда ты орел и тебе нужна свобода? — А я к Мистеру не тянусь, — сказал Капелька, — у меня своя дорога. Выйду я на магистраль, присмотрю какого-нибудь кассира и скомандую: «Руки в гору!» А потом брошу все и уеду к морю. — Я тоже думаю уходить, только надо уходить не так, а немножко похитрее. Уходить надо совсем… Ты понимаешь? Туда, где ничего этого нет. Устроим им на прощание иллюминацию и уйдем. — Не понимаю, — сказал Капелька. — Ну и не надо. Я скажу тебе проще: надо уходить за границу. — За границу? — спросил Капелька, и губы его дрогнули и расплылись от изумления. Тонкое, чуть загорелое лицо Капельки вдруг побагровело, и он глубоко вздохнул и ладонью закрыл глаза. — Да, да, — сказал Ример, — пойдем за границу… — Так я же уголовный, — сказал Капелька. — Ну так что же, со мной ты там не пропадешь. Как только прорвемся, так сейчас же достанем целую кучу денег, и пойдем мы с тобой к девочкам. А потом будем пить, гулять и в автомобилях ездить. Ну, — спросил Ример, — согласен? — Давай попробуем, — нерешительно сказал Капелька. — А теперь еще один вопрос. Видишь ли… я не жулик. — Знаю, — сказал Капелька. — И тебе нужны документы. — Не только документы, но и оружие. — Это мы срежем в два счета. Нам бы только уйти до магистрали. — Уйти-то мы уйдем, но что мы в тайге жрать будем — не знаю. Капелька вдруг рассмеялся и посмотрел на Римера озорными наглыми глазами. — Ты меня поучи немного, — сказал Капелька, — а то я совсем неграмотный. Ну, вот что, я не люблю пустых разговоров. Будем уходить завтра. Какое завтра число? — Двадцать первое, — сказал Ример. — Счастливое число, и ночь будет темная. Двадцать первого ночь всегда темная. — А если она будет светлая? — Все равно уйдем. — Ну, дай бог, — сказал Ример, — будем уходить с иллюминацией. Перед окончанием работы Капелька потушил костер, а Ример положил несколько горящих головешек под огромные сваленные деревья и забросал эти тлеющие головешки только что сорванной корой. Ример воровато оглядывался. Руки у него тряслись, когда он заваливал головешки сырыми ветками. С работы он пошел рядом с Капелькой, и весь вечер они готовились к побегу и рано легли спать. Всю ночь дул ветер в сторону городка, и на рассвете часовые заметили зарево, приближающееся к колонии. Пожар был повальный, и вскоре над тайгой загудели самолеты и долго ныряли в дыму, сбрасывал какие-то светящиеся пакеты. Потом самолеты улетели, а зарево все приближалось, и от этого утро казалось тревожным, теплым и душным, и Ример улыбался, а Капелька хмурился и молчал. Они попили чаю, и Капелька вышел из барака. Был выходной, и на улице Капелька увидел много народу и Мистера, который рассаживал в машины людей, добровольно изъявивших желание тушить пожар. — Здравствуй, Капелька, — сказал Мистер, — поедешь с моей бригадой, садись. Мистер побежал к машине, но Капелька покачал головой и презрительно посмотрел на Николаева-Российского и на Марфушку. — Я извиняюсь, — сказал Капелька, — но у меня в приговоре не сказано, чтобы я тушил пожары. — А у других сказано? — спросил Мистер. Вскоре колония опустела, и Капелька долго слонялся по баракам, ходил на кухню, от скуки препирался с часовыми и сел на крыльцо больницы. Он сидел неподвижно, и солнце дышало ему в лицо, и от этого жаркого дыхания Капельку немножко тошнило, и он часто сплевывал и косился на небо. А пожар все приближался. Где-то совсем близко загудела автомобильная сирена, и Капелька вздрогнул и увидел, как с пожара привезли Мистера в разорванной куртке, грязного и обожженного, с помертвевшим лицом и опаленными волосами. Мистер попросил пить, но увидел Капельку, повернулся на бок и закрыл глаза. — Уйди отсюда, — сказал Мистер. И Капелька радостно и громко смеялся, чувствуя, что Мистеру пришел конец. Потом кто-то сказал, что, кажется, и Марфушку прихватило лиственницей, и Капелька обрадовался еще больше и несколько раз ходил к арке и смотрел на дрожащее зарево. После обеда Капелька направился в барак, где жил Мистер, и у самой двери заметил уборщика и поздоровался с ним. — А я к тебе, — сказал Капелька. — Честь имею представиться, я санитар из больницы, где тут вещи Мистера? — А что такое? — испуганно спросил уборщик. — Что с ним случилось? — А ничего особенного, — сказал Капелька, — привезли его с пожара, а он кричит, рубаха на нем сгорела, сапоги полопались. Одним словом, погорелец. А ты шевелись, мне некогда. — Господи, — сказал уборщик, — беда-то какая! — И пошел за вещами Мистера. — Я тут кое-что отберу, — сказал Капелька, — а ты пока сбегай в ларек, купи ему что-нибудь повкусней, потом он рассчитается. — Да это мы мигом, — сказал уборщик и бросился к двери. Капелька осмотрелся. Не торопясь, он развязал вещевой мешок, вынул из кармана бритву и стал резать вещи, письма и фотографии и бросать их обратно в мешок. Бизоновые сапоги Мистера, его кофейную жилетку и две пары белья Капелька оставил для себя и все это положил на тумбочку. На постели, около которой он стоял, он увидел конверт и бумагу, и Капельке захотелось написать Мистеру что-то оскорбительное и бросить это в мешок, и он не выдержал и написал: «Если встретимся, завалю тебя начисто. С приветом. Капелька». Минут через двадцать вбежал уборщик с пакетами и дрожащими руками стал упаковывать передачу Мистеру. — Тут вот мамаша ему банку варенья прислала я думаю, не повредит она ему. — Не повредит, — сказал Капелька, — заворачивай. С большим пакетом под мышкой Капелька вышел из барака, веселый и радостный, чувствуя, что сегодня ночью он вместе с Римером вырвется на свободу и этот пакет им пригодится. Вечером они были готовы к побегу. После поверки зарево исчезло совсем, и Капелька увидел Марфушку и Николаева-Российского, вернувшихся с пожара. Они скандалили с продавцом около закрытого ларька и требовали для больного Мистера килограмм сахару и пачку грузинского чаю. Темный августовский вечер был душным, и похоже было, что скоро пойдет дождь и тайга будет стоять в тумане неподвижно и сонно до самого рассвета. Капелька посмотрел на месяц и сказал Римеру: — Пора. Месяц плыл высоко, и его захлестывали облака, и он мутно мерцал в дыму, то пропадая, то вновь появляясь. Чтобы отвести от себя все подозрения, Капелька пошел к дежурному и сказал, что он будет ночевать в пекарне и помогать пекарям, если только ему разрешит дежурный. И тот ему разрешил, и в эту ночь Капелька ушел с Римером. Только потом уже, на рассвете, когда Ример очнулся от страха, он поразился спокойствию и находчивости Капельки. Они решили идти тайгой до тех пор, пока хватит продуктов. Капелька торопил Римера, и они шли двое суток без отдыха. На четвертые сутки они стали ссориться, а на пятые снова пошли спокойно и мирно, и Ример старался поддерживать в Капельке интерес к заграничной жизни и рассказал ему о публичных домах, о кинематографах и об американском бандите Аль-Капоне. Вечером, на привале, от скуки Капелька сказал: — Ты бы мне, Ример, объяснил, почему тебе не нравится советская власть? Но Ример промолчал. Он подумал о колонии, где уже зажигали огни и кончали ужинать, расходясь по баракам. Сегодня, после работы, вся колония хоронила Кривописка, погибшего на пожаре. Его хоронили с музыкой, как настоящего героя, говорили речи, от которых Марфушка чуть не заплакал. — Марфушка, — сказал Мистер, — принеси мне список. Стеклышком он соскоблил фамилию с фанерной дощечки и лег лицом в подушку, чувствуя усталость в обожженной руке. Многие, проходя мимо несмятой постели Кривописка, старались не смотреть на нее, но невольно поворачивали головы в ту сторону и думали о погибшем. — Слушай, Марфушка, как ты думаешь, — спросил Мистер, — уйдет Капелька или нет? — Думаю, что уйдет, — сказал Марфушка. Мистер встал, молча взял с тумбочки записку Капельки, сунул в карман куски фотографий и вышел из барака. Через несколько минут он сидел перед начальником третьего отделения Васильевым. Синие, сумрачные глаза Мистера были как-то по-детски капризны, и голос его звучал сначала неуверенно, но потом это все прошло, и они разговорились. Васильев откровенно рассказал Мистеру все, что ему было известно о Капельке. Он прочитал Мистеру последнюю сводку и сказал, что Капелька идет, очевидно, с Римером, идет тяжело, неспокойно, отбирая продукты у охотников. — Это не они, — сказал Мистер, — Римера я знаю. Он никогда не рискнет на это. Да и Капелька тоже человек грамотный. Они понимают, чем это будет пахнуть, если их задержат. — Вы думаете? — Я в этом уверен, гражданин начальник. По-моему, нужно вот что. — И Мистер подробно стал излагать свой план и сказал, что, если ему дадут одного оперативника и дрезину, он возьмет Капельку и Римера. — Оперативника я вам не дам, — сказал Васильев, — а вы поедете с моим помощником. Знаете его? — Знаю, — сказал Мистер. — Тогда идите одевайтесь. Только вот что: я не люблю самосудчиков. — А если они будут петушиться? — спросил Мистер. — Все равно, — сказал Васильев, — они нам нужны живые. Ну, желаю вам успеха. Он пожал руку Мистера и проводил его до двери. Через час Мистер и помощник начальника оперативного отдела ехали в машине по безлюдному тракту, и Мистер рассказывал, почему он боится собак. На повороте машину вдруг рвануло, занесло в сторону, и совсем близко промелькнули дома, деревья, насыпь, и Мистер носом ткнулся в спину шофера. — Эй, дядя, — сказал он, — ты нас угробишь. — Извиняюсь, — ответил шофер, — я немножко заслушался. Несколько минут они ехали молча, и машина толчками шла на подъем, и от зажженных фар тракт казался узким, а деревья огромными, убегающими в темноту. Вытянув ноги, помощник начальника Сухарев с любопытством посматривал на Мистера, который, навалившись локтями на сиденье шофера, ел сушку и улыбался. Он думал о Капельке. А Капелька лежал рядом с Римером и тоже думал о Мистере. Чувствуя холод и усталость, Капелька ближе придвинулся к Римеру, потом он встал и поднял Римера, ткнув его в бок ногой. Мрачные, молчаливые, спотыкающиеся от усталости, ненавидящие друг друга, они брели еще одни сутки по тайге и только на рассвете вышли к магистрали. Капелька засмеялся, а Ример шумно вздохнул, и они пошли в сторону семафора, который был закрыт. По-видимому, где-то недалеко находился полустанок, и Капелька отправился туда один, сунув за пазуху пустую флягу. Он знал, что на полустанке должна быть бочка с водой. В зале вокзальчика никого не было. Капелька подошел к бочке, выпил три кружки воды, наполнил флягу и вернулся к Римеру. — Устал я, — сказал Капелька. — Ты вот у меня всю дорогу барином идешь, а я за тебя ишачу. Ну да черт с тобой. Слушай, Ример. Дальше я не пойду. Надо дождаться вечера. В темноте нам будет легче сесть в товарный поезд. Ты умеешь садиться на ходу? — Нет. — Тогда слушай. За поручни сразу не берись. В это время за полотном кто-то выстрелил из ружья. Капелька и Ример поспешно собрали вещи и бросились в глубь тайги. Был рассвет, и над тайгой в утреннем серебристом сумраке кружилась птица, испуганная выстрелом охотника. Торопливо шагая, Капелька исподлобья следил за ее полетом и думал о том, что если они уйдут за границу, тогда все будет кончено — и с этой птицей, и с русскими людьми, и с Иваново-Вознесенском. При одной только этой мысли ему стало холодно, и тут же он подумал, что через час солнце обогреет тайгу, и они уйдут за несколько километров от полустанка и будут спать в теплых кустах, на теплой русской земле, и пусть она катится, эта заграница, к такой матери. Он никогда никуда не пойдет. Минут через сорок они выбрали место для отдыха. — Уже светает, — сказал Капелька и сел напротив Римера. — Слушай, Ример, ты вот ученый, а я неученый, скажи мне, как же мы будем там жить без русского разговора? — Очень просто, — сказал Ример, — научимся иностранным языкам. — Нет, — сказал Капелька, — от иностранных языков зачахнуть можно. Ну вот, к примеру, птица, как будет по-иностранному называться эта птица? — Фогель, — сказал Ример. Капелька презрительно выругался и сплюнул: — Правильно, я так и знал — и жизни нету, и свиста нету. А вот у нас скажешь слово «птица» — так самому лететь хочется… Ример беспокойно взглянул на Капельку и решил прекратить этот неприятный разговор, но Капелька вдруг заявил, что он за границу не пойдет, а что касается документов, он сдержит свое слово и достанет их Римеру на первой же, узловой станции. — Это блажь, — гневно сказал Ример. — Какая же это блажь, — ответил Капелька, — когда у меня сестра на академика учится. — Ну и пусть себе учится, — сказал Ример, — плевать нам на ее учение. Если бы я знал, какой ты трус, я бы с тобой не пошел. — А разве я тебя тянул? — спросил Капелька. — Это ты меня тянул, а теперь кричать начинаешь. — Но ты должен идти со мной. Ты учти, Капелька, у нас нет другого пути. Вот твоя сестра выучится, может быть, прокурором будет. «Ах, скажет, это мой брат, дайте ему десять лет, пусть он на Колыму едет». Ты должен идти со мной. — Я и пойду, — сказал Капелька, — только не за границу — удовольствия мне мало таскаться по чужим тюрьмам. — А таких орлов там не сажают. Я из тебя человека хочу сделать, а ты ломаешься. Ты думаешь, я боюсь, что в случае неудачи ты меня закопаешь? Нисколько. Поэтому я и говорю с тобой так откровенно. С Россией все кончено. Надвигается война. Немцы скоро сотрут в порошок твой Иваново-Вознесенск и твою сестру. России приходит конец, вот почему я торопился с побегом. Я выбрал тебя потому, что ты смелее других и понимаешь, какое наказание тебя ждет, если там сообразят, что ты бежал вместе со мной. — Этого доказать никто не может, — сказал Капелька, — а насчет России — это ты брось, иначе я тебе побью морду. — Ну ладно, все-таки ты пойдешь со мной. — А я и не отказываюсь, но только до первой большой станции, а пока давай спать. Проснулись они поздно, и, когда подошли к полустанку, Капелька решил снова войти в зал и набрать воды во флягу. Где-то за полустанком послышалось мирное, все нарастающее стрекотание дрезины, и, пока Капелька набирал воду, дрезина вдруг заглохла и, визжа тормозами, неожиданно остановилась у перрона. Капелька растерялся. Он встал у стены и вынул нож из кармана. Затем он увидел, как распахнулась дверь и два человека быстро вошли в зал и тоже встали, только у противоположной стены. — Я, кажется, горю, — тихо сказал себе Капелька и узнал Мистера. Мистер засмеялся, а Капелька громко выругался и, пряча нож за спину, плотнее прижался к стене. — Ложись, стерва! — крикнул Мистер. Но Капелька не лег. Сухарев выстрелил в темное пятно над головой Капельки, и брызнувшая со стены штукатурка на секунду ослепила Капельке глаза, но, когда он их открыл, он увидел чуть улыбающееся лицо Мистера и понял, что его, Капельку, будут брать живьем. Он не лег и после третьего выстрела, хотя глаза уже слезились, а на душе было тоскливо и страшно от запаха пороха и от дребезжания оконного стекла. Капелька знал, что в нагане Сухарева было еще четыре патрона, и ему хотелось, чтобы тот как можно быстрее истратил их и остался с пустым барабаном. Тогда Капелька попытает счастья в последний раз и вдоволь посмеется над ними, если у него хватит сил одним рывком пробить с ножом себе дорогу в эти двери. — Четыре… пять… шесть… — считал Капелька, и пули полукругом ложились над его головой. — Подождите, — тихо сказал Мистер и, меняясь в лице, пошел прямо на Капельку. — Мы тоже считать умеем, — сказал Мистер. — Хитри не хитри, а седьмая пуля все-таки твоя. Сухарев выстрелил в Капельку. Тот оступился и вскрикнул. На мгновение увидел лампу. Она качнулась и погасла. Потом какая-то птица шумно влетела в двери, и Капелька бросил в нее нож и промахнулся. Очнулся он только в поезде и, чувствуя боль в плече, попросил у Мистера папироску. Он сел у окна. Был солнечный день, и за окном мелькали сосны и бесконечно тянулись провода вместе с дорогой, с пылью и насыпью… — Душно, — сказал Капелька и мучительно стал ждать, когда с ним заговорит Мистер, но Мистер упорно молчал, и это молчание так обидело Капельку, что он не выдержал и заплакал. — Слушай, Капелька, — сказал Сухарев, — будь ты хоть раз человеком. Сделай доброе дело, скажи, где Ример? — Какой Ример? — Ну хотя бы тот, с кем ты бежал. — А я, гражданин начальник, бежал один. — Врешь. — А вот вы и докажите, что я вру. — Этого сейчас мы доказать не можем, но я даю тебе слово: все, что ты скажешь о Римере, все это останется между нами. Ты только пойми, кто с тобой бежал и сколько этот человек может принести зла, если побег его кончится благополучно. На следствии ты, конечно, будешь утверждать, что бежал один, но нам ты должен сказать правду. — А я эту правду уже сказал. Я думаю, гражданин начальник, что у каждого человека есть такая тайна, о которой никто не должен знать. Я не святой. Есть такая тайна и у меня. Она осталась на том полустанке, где вы меня взяли. Скоро моя тайна сядет в поезд, доедет до узловой станции и там затеряется среди людей. Ясно? — Вполне, — сказал Сухарев и положил в карман Капельки коробку папирос. Подъезжая к городу, Капелька вдруг вспомнил о Константине Петровиче. Однажды Константин Петрович сказал Капельке: — Помни, Капелька, придет время, и ты, может быть, захочешь стать хорошим. Ты будешь каяться, а мы тебе искренне не поверим… И Капелька почувствовал, что это время пришло и каяться теперь уже поздно, а надо что-то делать и спасти себя в последний раз для какой-то новой, хорошей жизни. На рассвете они приехали в город. Прямо с вокзала Капельку привезли на старое место, и он снова увидел пустой двор, мокрую траву и дежурную комнату, в которой сидело несколько мелких базарных жуликов, уже остриженных. Капелька рассеянно осмотрелся, и оттого, что под его ногами по-прежнему заскрипели половицы, его охватила грусть, и он сел на лавку, положив на колени узелок с бельем. Был рассвет, туманный и мутный, как море. За окном дважды вскрикнула пароходная сирена, потом в регистратуре зазвонил телефон и смолк, и Капелька протер глаза. На стене, испещренной вольными рисунками, он увидел надпись, оставленную его другом Антошей Чайкой: «Бал кончился, и погасли свечи».
В начале этой дороги все, что появлялось перед ними, им самим казалось слишком неправдоподобным, словно пловцам, которые только что вынырнули из глубины, где они пробыли долгое-долгое время. Они ехали по тракту уже вторые сутки, оставив позади четырестакилометров и все еще не веря ни в свои чистые документы, ни в бесконвойную дорогу, которая то поднималась к солнцу, то спускалась в низины, пахнущие терпким туманом и болотной водой. Но люди довольно быстро привыкают даже к неожиданному счастью. И когда машина остановилась, сидящие в кузове спрыгнули на землю и как-то буднично попрощались с шофером, и он поехал, махая рукой им из кабины, а они остались одни на дороге, уже неторопливо вдыхая в себя хмельной воздух воли, от которого кружилась голова. Это было двадцатого июня, во второй половине дня, залитого обжигающим зноем, когда солнце никак не могло прогреть только Ангару, эту самую холодную и светлую реку в Сибири. Над Ангарой гудел гидроплан, и пилот хитрил, срезая углы, но потом сбавлял скорость, если ему навстречу плыли караваны, и покачивал крыльями, а ему отвечали с катеров протяжными гудками, словно оповещая пилота о состоявшейся приятной встрече. — Красиво разговаривают, — сказал Мистер, показывая на удаляющийся гидроплан. — Это почта. — Нет, это не почта, — сказал Марфушка и вынул из кармана кисет и долго не мог свернуть цигарки, чувствуя, как его знобит от солнца и запаха сосны. — Не будем спорить, — сказал Мистер. — Я не знаю как у кого, но у меня подгибаются ноги. — Он сел и привалился спиной к дереву, закрыв ладонями уши, которые глохли от радости. — Если я не ошибаюсь, — сказал он, — мы совсем на воле. — Совсем, — подтвердил Марфушка, потом оттолкнул Николаева-Российского к соседнему дереву, и тот лег на землю и стал следить за муравьем. Муравей боролся с хлебной крошкой, неизвестно как попавшей сюда. Крошка была больше муравья, и он брал ее передними лапками, но она переворачивалась, и муравей испуганно отбегал в сторону и снова возвращался на старое место. Николаев-Российский оглядел и городок, расположенный у самого тракта. Было как-то непривычно для глаз видеть среди тайги на расчищенной большой площадке несколько недостроенных зданий, и уже разукрашенную железную арку, похожую на радугу, и две жилые улицы с красными трехэтажными домами, где на окнах висели белые тюлевые занавески. — Интересно бы точно узнать, сколько осталось еще до станции? — спросил Марфушка. — А вот там и узнаем, — сказал Мистер, показывая на городок. Они перешагнули узкий ров, словно границу, которая отделяла их от городка, и около первого же здания увидели сидящего на скамейке мужчину в войлочной широкой шляпе, отмахивающего от себя комаров. — Ну-с, садитесь, гости. Вы, наверно, освобожденные? Я давно за вами наблюдаю. — А вы что, надзиратель? — насмешливо спросил Мистер. — Нет. Я комендант вот этого пустого общежития. — Тогда позвольте вас спросить, а крыша на нем есть? — Из чистого оцинкованного железа. Такая крыша сто лет не протечет. Вербуйтесь, ребята. Будете плавать в деньгах. — Мы уже наплавались, хватит, — сказал Мистер. — Вы лучше скажите нам, сколько верст до станции? — Не меньше пятнадцати, — сказал комендант. — А куда вам торопиться? К вечеру вы все равно не дойдете, а в тайге вас сожрет комар. — Мы привыкли и к мошкаре, — сказал Мистер. — Но, безусловно, под цинковой крышей ночевать, конечно, вольготней. — Ну и ночуйте, а к утру, может быть, передумаете и завербуетесь. Прораб здесь толковый мужик. А потом девушки одна другой лучше. Черт их знает, почему они такие красавицы. Да и магазин тут, как в Москве. Лимитное снабжение. Шампанского навал, а предпочитают девяносто шесть градусов. — Ну что, вербуемся? — ехидно спросил Мистер. — Нет, не вербуемся, — сказал Марфушка. — Я домой поеду. Землю пахать буду. Посмотрите, у меня и грабки-то крестьянские. Он растопырил свои прокуренные короткие пальцы и показал их сначала Мистеру, потом коменданту. — Да, — сказал комендант, — вы слабосознательный элемент. Что тебе земля? Это тощая баба. А у нас каждое зернышко — алмазик. И, скажу вам по секрету, есть и другие минеральные истоки. Комендант посмотрел на всех выжидательно, словно он выложил последнюю козырную карту, но еще не знал, будет ли она бита или выиграет. И тогда Мистер сказал: — Товарищ комендант… — Он произнес слово «товарищ» с удовольствием, потому что много лет каждого вольнонаемного он называл гражданином, чувствуя огромную дистанцию, которая отсекала его от того человека, к кому он обращался. Теперь эта дистанция был стерта, и Мистер даже понимал некоторое свое преимущество в разговоре с комендантом и немножко куражился, уже давно решив поехать к матери в Новозыбков. — Товарищ комендант, — повторил Мистер, — ваши любезные уговоры очень даже соблазнительны. Очень и очень. Но только один Николай может клюнуть на такого жирного червяка. — Мистер кивнул на Николаева-Российского. — У него нету в целом мире ни одного дома, куда бы он мог зайти и сказать: «Здрасьте, я ваш родственник». А у Марфа есть мать и у меня тоже. Так неужели вам, товарищ комендант, желательно, чтобы наши матери еще раз осиротели? Для нас с Марфом, если по-латыни, это получается ванитас ванитатум. Ванитас значит по-древнему — суета сует и всяческая суета. А мы решили не суетиться. Марфушка восторженно посмотрел на Мистера и снял кепку, обтирая подкладкой свой потный лоб с двумя угрюмыми морщинами. Николаев-Российский молчал. — Нет, — сказал Мистер. — Не вербуемся. Двинемся дальше по своему графику. И они снова вышли на тракт. Впереди кем-то был брошен кусок жести, и, подожженный солнцем, этот кусок горел в траве, словно костер, и был виден издали. Марфушка придерживался солнечной стороны тракта, а Николаев-Российский и Мистер шли в тени и курили лимитные папиросы, взятые на пробу из комендантского портсигара. Марфушка потел и часто трогал воротник черной сатиновой рубашки, который был чист и застегнут по-крестьянски на все пуговицы. Мистеру вдруг захотелось обнять Марфушку и поцеловать его волосы, всегда пахнущие дымом, но он сдержался, потому что сейчас Марфушка был слишком строг и праздничен и совсем не походил на того парня, которым привык командовать бывший староста много лет подряд. Николаев-Российский все время отставал от своих спутников и не замечал этого. На ходу он сломал ветку, оборвал с нее листья и бросил в кусты, не зная, что с этой веткой делать дальше. Шаг его был неровен и сбивчив, и думал он о девушке, которую видел давным-давно на перроне какой-то маленькой станции. Он стоял тогда у окна, и они смотрели друг на друга, словно стараясь припомнить, где они виделись раньше. Он вспомнил, как неожиданно тогда зашипели тормоза, как качнулись вагоны, как дрогнуло стекло, как изменилось лицо этой девушки от свистка паровоза и жалкого постукивания колес. Долго потом он не мог понять, почему эта незнакомая девушка вдруг помахала ему платком и пошла с вокзала сиротливо, словно она только что проводила самого близкого человека. «Наверно, это была моя судьба», — подумал он, Но тогда он даже не спросил у проводника название станции, куда бы он сейчас поехал и, наверное, узнал бы эту девушку, которую он часто видел во сне, а потом украдкой плакал и по вечерам писал стихи о Юго-Восточной железной дороге и о маленькой станции, где на деревянном перроне произошло такое злое чудо. — Не отставай, Коля! — крикнул Мистер. — А главное, не задумывайся. От этого чокнуться можно. Мистер шел раскачиваясь, в пиджаке, небрежно наброшенном на плечи, без жилетки, которую он подарил новому старосте как символ призрачной власти в том мире, который навсегда покинули эти три человека. Тракт был безлюден, узок и петлял, как высохший таежный ручей, заросший кустами черемухи и шиповника. Потом он стал шире в том месте, где недавно горела тайга, и Мистер, Марфушка и Николаев-Российский пошли молча, поглядывая на мертвые, неприбранные деревья, на обгоревшие кусты и черные пни, вырванные из земли с корнями. На одной стороне тракта было тихо и сумрачно. Несколько упавших стволов загораживали проход, от почерневших пней, кустов и деревьев пахло гарью, и веяло теплом от неостывшей еще земли. Но другая сторона тракта жила и была наполнена ровным глухим плеском листвы и стуком падающих шишек. Здесь зеленели деревья, пели птицы и где-то недалеко паслось стадо коров и гремело разноголосыми колокольцами. — Братцы, где-то рядом жилье, — сказал Марфушка. — На станции мы все равно ничего не достанем, а в сельпо для охотников, убей меня бог, всегда продается чистый спиртик. Выпили бы на прощание, поглядели бы на Сибирь из-под ладошки, а потом каждый пошел бы своей стороной-дорожкой. Они повеселели, и Марфушка сипл заплечный мешок и на ходу стал выбрасывать из него портянки, старые носки и совсем истлевшие нижние рубашки, из которых сложным технологическим процессом получились бы игральные карты или накрахмаленные ленточки для красавиц из колонии. Они прибавили скорости и вошли в поселок, чувствуя запах еще необжитых, недавно выстроенных домов, и, чувствуя себя по-праздничному и тоже необжитыми, задевали друг друга плечами на деревянном тротуаре. В новой лавке увидели двух женщин, и женщины вдруг умолкли и отошли от прилавка. — Здравствуйте, — сказал Мистер и приветливо улыбнулся. — Здравствуйте. — Ну, бабоньки, как жизнь? — спросил Мистер. — Небось все сахар покупаете? — Да, все покупаем, сынок, — сказала женщина постарше, — мужикам-то нынче забот мало: получил получку — и гора с плеч, а тут обо всем думать приходится. Вы что ж, по освобождению идете? — Угадали, — сказал Марфушка. — Ну, в добрый путь, — сказала женщина, — только смотрите, ребята, не споткнитесь. — Ничего, привыкнем, — сказал Мистер, — глаза-то у вас, мамаша, серые, я думаю, не сглазите. Он навалился на прилавок и стал рассматривать мануфактуру, конфеты, детские санки и топоры, развешанные по всей лавке. — Ну-с, хозяин, — сказал Мистер продавцу, — дайка нам пару бутылочек молочка, вон того, синего. Отлично, мерси. Теперь заворачивай три стакана без пыли, а я буду думать, что покупать дальше. На полке был еще один стакан, и Мистеру вдруг стало жалко оставлять его в лавке, потому что этот стакан выглядел теперь сиротливо среди хомутов, чаш и кастрюль. — Ты знаешь что, — сказал Мистер продавцу, — клади и четвертый, не стоять же стакану одному на полке. В лавке было прохладно и пахло мылом, кожей и теплым пшеничным хлебом, отделенным от остального товара кисейной занавеской. — А мне вешай колбасы и пряников, — попросил Марфушка. — Сколько прикажете? — Вешай столько, сколько в чашку влезет, да смотри, поход-то какой даешь, за такой поход на наше место угодить можешь. — Ничего, натянем, — сказал продавец. По старой привычке Мистер и Николаев-Российский, легко подзадоривая друг друга, стали покупать все, что им было нужно и не нужно, и только Марфушка сдерживался, заплатив еще за буханку пшеничного хлеба, выпеченного в русской печи. Через полчаса они вышли из лавки вместе с пожилой женщиной, которая без колебания предложила им ночлег. Марфушка нес в подоле рубашки пряники и колбасу, а Мистер держал в руке игрушечный танк, решив подарить его сыну хозяйки. Как и во многих сибирских селениях, в этом поселке не было ни одного дерева, но кругом пахло сосной и домашними банями и почти на каждом заборе висели рыбацкие сети, а между сетями торчали высокие колья, на которые были надеты старые глиняные горшки, словно шапки, вынесенные хозяйками на просушку. За столом Мистер произнес первый тост, поблагодарив этот дом и пожелав ему счастья на долгие годы. Они выпили только одну бутылку спирта, а остальное оставили на завтра, и уже перед сном хозяин спросил Мистера: — Ну как там, плохо? — Средне, — сказал Мистер, — но жить можно. Затем хозяйка уложила гостей на полу и ушла за полог, где на кровати лежал ее муж в белой ночной рубашке, неестественно светлой и вызывающей тяжкое смятение в душе этой женщины, которая вдруг вспомнила глупую бабскую болтовню о войне. «Ну что же тут особенного в грибах? — подумала она. — Просто будет урожайный год, а бабы каркают о войне. Верят всяким старинным приметам». Но ее смятение росло, и она прижалась к мужу, который привычно положил руку на ее светящееся в темноте плечо, и только после этого она заснула спокойно, не слыша ни храпа Марфушки, ни простудного кашля Мистера, ни странного бормотания Николаева-Российского, сочиняющего стихи в эту первую ночь на свободе. На рассвете они поблагодарили хозяев, выпили из ковшика воды и ушли. Было воскресенье. Над тайгой медленно поднималось солнце и постепенно бледнело, словно остывая в белом облаке, над самой кромкой горизонта. Так началось еще одно утро в жизни Мистера, Николаева-Российского и Марфушки. Это было двадцать второго июня, когда они шли к станции, где должны были сесть в разные поезда и разъехаться в разные стороны. Станция отличалась от других станций только тем, что на ее привокзальной площади продавали ряженку, горячую картошку, изредка — копченую рыбу и всегда — соленые огурцы. Метрах в тридцати от вокзала стояла водокачка, откуда паровозы набирали в тендеры воду, оставляя после себя лужи, где в жаркую погоду купались воробьи, а потом тщательно отряхивались и улетали к пакгаузу. — Ну, братцы, — сказал Мистер, — вот мы и прибыли на эту самую станцию. Я пока отлучусь на базар, а Марфушка пускай выберет место и раскинет нам буфет перед расставанием. Мистер направился к привокзальной площади, а Николаев-Российский и Марфушка уселись в садике, расстелили на траве старую газету, расставили стаканы, посмотрели на свет бутылку со спиртом, и только после этого Марфушка закурил, а Николаев-Российский сорвал какой-то цветок и долго изучал его, удивляясь, почему дикая пчела, прилетевшая в садик, выбрала вместо этого цветка какую-то хилую былинку и сейчас раскачивала ее своей тяжестью. «Где же здесь разумность природы?» — подумал он вдруг и вспомнил бабочку, которую увидел в далеком детстве в конце апреля, когда его увезли к Балтийскому морю, где у них была своя дача с большой круглой столовой в первом этаже и с маленькими жилыми комнатами наверху. Тогда он пошел гулять со старшей сестрой, и сначала они попали в сосновый лес, а когда вышли из него, то оказались на крутом обрыве, откуда была видна морская вода, напоминающая огромное тусклое зеркало, которое давно не протирала горничная. Они стояли на обрыве, и сестра в бинокль рассматривала корабль, плывший навстречу заходящему солнцу, а Коленька вслушивался, как затихал ветер в прибрежных кустах, откуда вдруг вылетела бабочка и закружилась недалеко от того места, где он увидел маленькую льдинку между сосен, излучающую свой обманчиво теплый свет. Это была последняя льдинка в лесу, и на нее опустилась бабочка и замерла от ожога, но в следующую секунду она взмахнула крыльями и поднялась в воздух, а потом потеряла равновесие и упала в кусты. И вот тогда Коленькина сестра сказала, что такие бабочки живут только один день на свете, и все-таки природа разумна, если она даже уничтожает человека, который рождается слишком поздно или слишком рано для того времени, в котором живет. Мальчику трудно было понять рассуждения своей взрослой сестры, но то, что она не пожалела бабочку, сильно огорчило Коленьку, который до сих пор помнил даже расцветку этих распростертых крыльев в воздухе, а вот имя своей сестры он забыл, и такое случалось с ним не в первый раз, когда он начинал думать о своем детстве. От таких размышлений он довольно быстро уставал. Устал он и сейчас. В его сознании рождались какие-то слова, которые он стеснялся произнести вслух, потому что это были стихи о вечной любви и они могли только рассмешить расчетливого Марфушку, с нетерпением поглядывающего на привокзальную площадь. — Мистер идет, — сказал Марфушка. — Идет, голубчик, и не с пустыми руками. Коля, подъем. Они выпили за свое здоровье и потянулись к горячей картошке и соленым грибам, чувствуя, как что-то теплое и приятное закружило им голову, и от этого всем захотелось спать, но потом это желание быстро исчезло, и они снова увидели бегущие облака над тайгой, последний раскачивающийся вагон уходящего товарного поезда и садик со старой березой, уронившей свой лист на разостланную газету. Они выпили еще и еще, и Марфушка снял кепку и, расстегивая ворот рубашки, вытер шею клетчатым носовым платком, следя за Мистером, который ровно разливал спирт в стаканы. — Аптека, — восхищенно сказал Марфушка. — Люблю точность. И еще я люблю думать, что из меня получится от сознательного просветления. Вот Мистер поедет в Новозыбков спички делать, а я пахать буду. Выучусь на тракториста. Женюсь. Возьму по любви, чтобы чувствами жить, как весной. Ведь никто из нас ничего не знает про настоящую любовь. Никто. — Ты прав, Марф! — воскликнул Мистер. — Ты прав. Понимаешь, про любовь ты сказал золотые слова. Мы ее видели редко в кино, а наяву мы ни разу не переживали такого дара природы. — Не утверждайте этого, — вдруг сказал Николаев-Российский. — Я знаю, что такое настоящая любовь. — А чего же ты молчишь? — изумился Мистер. — Потому и молчу, что никто не поверит в такую необъяснимую любовь. Про нее я написал много стихов. Слушайте. И после того как Николаев-Российский кончил читать, Марфушка усмехнулся, а Мистер погрузился в глубокие раздумья, почувствовав себя впервые в роли судьи, от которого ждали справедливого приговора. «Последствия такой встречи оказались роковыми для Николая, — думал Мистер. — А барышня на деревянном перроне — совершенно неустановленная личность, и это уже точно — неустановленная, и она могла выйти замуж, покинуть эту станцию, связаться с женатым и не признаться, что она взмахом платочка навеки полонила сердце одинокого стихотворца». Голова Мистера раскалывалась от напряжения, и звонкие молоточки стучали в его висках. — Пахарь, дай носовой платок, — сказал Мистер, обращаясь к Марфушке. Он окунул платок в туесок с водой, затем приложил этот жгут к горячему лбу и привалился спиной к старой березе, уронившей еще один лист на газету. — Да, печальное дело, — сказал Мистер. — Память — это глубокий корень. Повреди его, и сам упадешь, как дерево. Помните, ночью я писал письмо матери и начисто забыл номер родного дома? Это значит, все мы были с памятью в разводе, и мы должны осудить себя за это. Слушай, ты, приемный сын родины. Запиши мою настоящую фамилию. Дарьялов. Новозыбков, Песчаная улица, дом девятнадцать. Мистер пристально посмотрел на Николаева-Российского, потом чокнулся с ним и с Марфушкой и, выпив остатки спирта, как-то зябко повел плечами и закусил огурцом. — Ник. Говорю тебе откровенно. Мне не нравится твой литер. По такой бумажке едут за длинным рублем, а твоя юго-восточная любовь — это опасная фантазия стихотворца. Ты затоскуешь в Якутии по этой перронной барышне, а ты живой человек, обходительный, чересчур деликатный. Марфушка, ты слышал от Ника хоть одно черное слово? — Не привелось, — сказал Марфушка. — Вот видишь, Ник, Север отваливается. Остается центральная полоса России. У меня там живет матушка. Правда, не шибко грамотная, но по уму превзойдет академика, а по сердечной доброте даст фору самому Христу. Клянусь, это так. В моем доме три комнаты, а живет там матушка и одна фабричная девчонка, тихоня с преогромными глазами. Днем она работает, а вечером учится, наверно, на инженера, который рождается слишком поздно или слишком рано для того времени, в котором живет. Ник, решай. Калитка моей матушки будет с радостью открыта и для тебя. Это я говорю ответственно, а не с пьяных глаз. — А может, ко мне? — спросил Марфушка. — Спасибо, Марф, — твердо сказал Мистер, — но в крестьянском деле он ни бум-бум. Конечно, местные интересанты будут обнюхивать нас, но мы все перетерпим, и они успокоятся, когда увидят нашу чистую трудовую жизнь. На твоем литере, Ник, я ставлю крест. Марфушка, вынимай из загашника четвертной в общую кассу — Нику на законный билет. Остальное я беру на себя. Прежде всего нужно матушке сочинить телеграмму, но я не умею писать складно, хотя говорить могу хоть целые сутки. Ник, бери бумагу и излагай: «Дорогая матушка. Выезжаю самым скорым поездом с товарищем. Не могу бросить его в беде. Не беспокойся. Он обходительный. Тебе очень понравится и так далее». — Только писать надо короче, — посоветовал Марфушка. — За телеграммы берут большие деньги. — Но мы их не часто посылаем, — с раздражением заметил Мистер. Он встал, качнулся, чуть не задел четвертый стакан, налитый до половины спиртом. — А это кому? — Это твоему другу Капельке, — сказал Марфушка и засмеялся, подавая Мистеру стакан. Мистер выплеснул спирт на траву, раздавил сапогом стакан и, перешагнув через игрушечный танк, пошел к станции. Вернулся он только через час. — Ник, — взволнованно сказал Мистер, — поднимай Марфушку. — Зачем? — Надо. Началась война. — С кем? — С немецкими фашистами. — Вот гады, — сказал вдруг проснувшийся Марфушка. — Не дали вольному человеку выспаться. — Выспишься потом, — сказал Мистер. — А сейчас мы должны определиться. Я думаю так: завтра же всем идти в военкомат и проситься в одну часть. — А возьмут? — Должны взять. Уехали они на рассвете дополнительным поездом в тот большой город, где сидел Капелька, и наутро станция опустела, а когда солнце высоко поднялось над садиком, там появилась девочка и вдруг заплакала, поранив себе ногу осколком стакана, раздавленного Мистером. Но вскоре девочка успокоилась. В траве она нашла игрушечный танк и, прихрамывая, принесла его в дом, где вся семья жила еще прежней жизнью только потому, что шел всего лишь второй день войны.
1940–1941
 После войны
После войны
 О ЧЕМ ЗАДУМАЛСЯ ТОВАРИЩ
О ЧЕМ ЗАДУМАЛСЯ ТОВАРИЩ
Странно, но все было так, и они действительно уезжали. Их отправляли на длительное лечение в маленький городок, о котором никто ничего не знал. К вечеру это известие дошло и до Макова в восьмую палату.
Он сидел на подоконнике и смотрел вниз, в глубину госпитального сада, не слыша, как шумят деревья и как звенят трамваи на Охтинском мосту.
Уткнувшись подбородком в колени, он думал о том удивительном стечении обстоятельств, которые заставляют его опять покидать Ленинград и возвращаться туда, откуда он начал свой жизненный путь.
Двадцать лет тому назад в пустом товарном вагоне он уехал из того городка и попал на Кубань в батраки к богатому садовнику, а потом на кирпичный завод, в самое жаркое место, на гофмановские печи.
Мастер Гаркун хотел тогда сделать из Макова такого пальщика, у которого кирпич звенел бы, как хрусталь, но Маков не послушался старика, думая о ином жизненном своем назначении.
Он перебрал много профессий, пока не стал инженером-геологом, а потом командиром полка. Вот и вся жизнь. Но так ли все это?
Разве такими легкими были его пути, когда он поднимался на жизненную свою вершину, познавая мир и трудясь для него?
Он исколесил почти всю Россию и любил ее пыльные дороги, ее вокзалы и моря, степи и тайгу, светлые реки Сибири и прекрасные улицы Ленинграда, и вот сейчас он вдруг подумал о том, как однажды в пути, когда он пробирался с экспедицией в самый отдаленный угол Якутии, он прочитал уйму книг о тех людях, которые, победив в первой мировой войне, возвращались с искалеченной душой и входили в мир, как входят странники в чужие города. Теперь наступил черед возвращаться в жизнь и поколению Макова.
Нет, они были совсем другими людьми, совсем из другого теста. Как непохожи были его солдаты, возвращающиеся домой, на тех солдат, о которых он когда-то читал в заграничных книгах. Да и сам Маков стал уже совсем не тем человеком, каким был до войны.
Сейчас ему казалось, что он стал гораздо лучше и сильнее. И от этого ощущения на душе у него было светло и радостно, и он думал, что месяца через два он, пожалуй, тоже снимет шинель и снова уйдет в тайгу искать золото.
Плохо вот только, что он один и его личная жизнь ни к черту не годится… Да… Но в этом есть какая-то доля и его вины. Правда, в первые же месяцы войны он пытался в письмах поправить эту беду, но письма приходили обратно нераспечатанными, потому что та, кому они предназначались, уехала из Москвы и никто из московских знакомых не мог сказать Макову, где она жила.
Через несколько дней он вновь увидит Москву. Он увидит ее сквозь стекло санитарного вагона, но на перроне его никто не будет встречать, и только большие окна вокзала, часы и горящие электрические лампы напомнят Николаю о той женщине, которая когда-то приходила туда и потом прямо с вокзала ехала с Маковым домой и была такой счастливой, что даже пассажиры замечали это. Он скоро увидит и свой родной городок. Там он прожил до шестнадцати лет. У него были товарищи, и один из них теперь живет в Москве и работает главным инженером очень большого завода.
Только как-то раз Маков побывал у него под Москвой на даче, но во время войны Николай совершенно забыл об этом человеке и вот теперь, глядя в темную глубину сада, он решил попросить своего друга найти ему ту женщину, которую Маков любил. В конце концов, что же тут дурного, если ему хочется устроить свою личную жизнь? Он решил не откладывать этого дела и сразу же после ужина написать письмо.
В глубокой задумчивости просидел он еще несколько минут, а потом вышел в коридор, чувствуя такую уверенность, словно все его начинания подходили уже к хорошему концу.
Маков с удовольствием выкурил папироску, сходил в соседний корпус к своему однополчанину сержанту Кострюкову, раненному в обе ноги, и вернулся в палату, когда уже все офицеры поужинали и вели ленивый разговор о том городке, куда их направляли.
— Я убежден, что это дыра, — сказал Карпачев, — где нет даже приличного кинематографа. Тоже мне, придумали отдых для выздоравливающих офицеров.
— Но зато там, наверно, рыбы до черта?
— Откуда она, эта рыба? — спросил Сизорин, обращаясь к капитану Пономареву. — Там, что же, есть река?
— Да, есть какая-то лужа. Я смотрел по карте.
— Плохо вы смотрели, капитан, — сказал Маков и подошел к Пономареву. — Там две реки, лес и такие сады, каких я нигде не видел.
— Вы, что же, бывали в тех краях… товарищ подполковник?
— Это моя родина, — сказал Маков. — Вот приедем туда и навалимся на домашние пироги. У меня мать большая мастерица.
Когда больные улеглись, Маков сел за маленький столик и стал писать письмо.
«Друг мой, — писал он, — как видишь, тут дело не только в воспоминаниях о нашем детстве, но еще и в том, что когда-то я полюбил женщину, с которой глупо рассорился, и потерял ее. Но я начну по порядку. Месяца через два я стану совершенно здоровым человеком. Ранение у меня пустяковое. Да и сама война не опустошила меня, а сделала только погорельцем, который пришел на свое пепелище с твердым желанием жить и работать и как можно скорее устроить свою судьбу.
Ты знаешь, Ваня, перед войной на юге со мной произошла довольно заурядная история. Ты, видимо, догадываешься, что речь здесь идет о женщине, москвичке, которую я встретил в Сухуми, а затем потерял из виду и которую ты должен найти.
Только не злись на меня за эту просьбу, а послушай лучше, как это все произошло. Я не хочу утруждать тебя описаниями наших встреч на юге, но как мы расстались — ты должен об этом знать.
Примерно раз в месяц я приезжал в Москву. Вера считалась моей невестой, но я все не решался и тянул, пока не рассердил ее. И вот как-то однажды у нас произошел неприятный разговор, и она сказала мне, что из невесты я постепенно превращаю ее в любовницу, а ей все это ни к чему. «Зачем вы это делаете? — спросила она. — Неужели я не смогу быть хорошей женой?» — «Так надо», — ответил я и стал ей говорить что-то о приближении войны. Но Вера настаивала на своем, и мы окончательно разругались.
В тот же вечер я уехал из Москвы, а через десять дней началась война, и я с чувством злорадства стал ждать от Веры писем, считая себя правым во всем. Но писем я не дождался. Больше того, даже мои письма приходили обратно нераспечатанными. Потом я ушел в ополчение и вместе со всеми отступал. Ты знаешь, Ваня, такого горя я еще никогда не переживал. Но в те дни я увидел и другое — гордых наших людей, умирающих молча на невских равнинах.
Ну ладно, им теперь ничего не надо, а вот уцелевшие хотят счастья. Послушай, друг мой. Если Вера замужем, оставь ее в покое. Мир велик, и я как-нибудь обойдусь без нее, но если с ней ничего не случилось такого, то я прошу встретить меня вместе на вокзале. О дне приезда я сообщу телеграммой.
На отдельной бумажке я сейчас запишу все ее биографические данные, и если Вера в Москве, то тебе не так уж будет трудно найти ее…»
Утром Маков встал раньше всех и сам опустил письмо в почтовый ящик, висящий у главного входа. Затем он долго бродил по госпитальному саду и старался уговорить себя, что никакой встречи с Верой не будет и что лучше сейчас же приготовиться к этому, чем потом огорчаться.
Еще с ранней молодости он приучил себя подходить осторожно к тем делам, за которые он брался. Он сначала смотрел на них с самой худшей стороны, а потом уже доводил их до конца. Сколько раз эта привычка спасала его на войне. Она оберегала его от неудач, когда он искал золото в тайге, охраняла от всяких людей в обледенелых просторах Якутии. Но в личной жизни такая осторожность погубила Макова. Он чувствовал это и в первый же мирный день очень хорошо понял, что расстояние между ним и Верой будет теперь еще длинней. И тогда он подумал, что в конце концов есть вещи поважнее этого, недаром же он истратил половину своих лет на работу, и что теперь он, видимо, здорово отстал от дела и ему будет очень трудно даже в тех местах, где он когда-то бывал. И в госпитале Маков засел за книги. Он читал целыми днями, наталкивался на знакомые фамилии геологов, радуясь их удачам, и, когда наступали сумерки, он неохотно откладывал книгу и ложился на койку, ни с кем не разговаривая. Сумерек он не любил. Даже на фронте они вызывали в нем неприятные чувства. В такие минуты, словно с самого дна его души, вдруг поднималась уверенность в том, что он никогда не встретит Веру.
Но с тех пор, как он опустил письмо в почтовый ящик, Маков с удивлением заметил, что это ощущение исчезло и что ему стало легче, словно он свалил тяжесть со своих натруженных плеч.
В день отъезда Маков узнал номер поезда, а через несколько часов, устраиваясь в вагоне, он попросил свободную от дежурства фельдшерицу отправить телеграмму в Москву.
Он лежал у окна и ждал свистка паровоза, потом он тихо засмеялся и хотел встать, но почувствовал озноб; он положил руки поверх одеяла и закрыл глаза.
Теперь его мысли брали свое начало из тех полузабытых времен, когда он еще был мальчишкой и жил в маленьком городке около железнодорожного шлагбаума.
В то время его отец был машинистом, и однажды он обещал взять мальчика с собой в поездку. Маков до самого вечера хвастался приятелям, что он уезжает, часто лазал на крышу, откуда были видны длинные составы, и с нетерпением ждал отца, но отец не сдержал своего слова… И когда он возвращался из поездки, Маков видел, как паровоз отца долго стоял у закрытого семафора и протяжными свистками просил станцию принять состав.
С тех пор почему-то всякий раз, когда Маков слышал свисток паровоза, его душа наполнялась легкой печалью, а память уносила его к меркнущим берегам детства, и он бродил по ним словно в тумане, боясь, как бы не оступиться в провалы, которых с каждым годом появлялось все больше и больше.
…Да, позади лежало уже много лет. Правда, он пробовал, он пытался, он не раз хотел поглубже заглянуть в свои трудные годы. Но всегда получалось так, что на смену этому желанию приходило какое-то болезненное любопытство к людям, и он все чаще задумывался над судьбами этих людей и совершенно забывал о себе.
Сейчас путь его был далек, и Маков почувствовал, что пора, давно уже пора ему подумать о городах, где он жил, о детстве, прошедшем в рабочем поселке, о той маленькой девочке, которая носила своему отцу обед прямо в депо, и о том, как машинисты подсмеивались над ней, собираясь ее выдать замуж за самого чумазого кочегара, а девочка смеялась, закрывала лицо руками, пряталась за скаты, взбиралась на паровозную площадку и была похожа на отчаянную птицу, залетевшую в черные деповские стены из каких-то далеких и светлых краев.
Надо было вспомнить пыльные летние вечера, когда через поселок пастухи прогоняли стадо коров и когда в каждом дворе, как маяк, вспыхивал костер, — это женщины варили ужин своим мужьям и после гудка в мастерских еще больше томились у огня и думали: «Придет или опять загуляет?»
Надо было вспомнить праздники, гул колоколов, дни получек и игру в лото. Три раскаленные песчаные тропы, заливные луга за рекой, музыку в городском саду и ссоры, которые вдруг наваливались на весь поселок.
Надо подумать, был ли он хорошим сыном и много ли совершил такого, чтобы определить наконец, что же он за человек.
«Да, — сказал Маков себе, — надо определить». Он открыл глаза и увидел кругом постылую белизну. Он услышал, как в соседнем купе летчик лейтенант Карпачев, стуча костылями, рассказывал что-то очень веселое и так звонко хохотал, что даже Маков невольно улыбнулся.
За окном был еще день, и там на железнодорожных путях шла жизнь, которая с детства волновала Макова.
Вот смазчик застучал своим молотком по колесам. Где-то недалеко Маков услышал голос сцепщика и сердитый свисток маневрового паровоза, потом, наверно, прошел главный, с кем-то ругаясь, и за окном вдруг стало как-то очень скучно и тихо, словно после артиллерийского обстрела, и Маков ощутил толчок.
Его брови дрогнули, а к сердцу подступила щемящая боль, и он понял, что это прицепили паровоз к составу и что скоро поезд тронется и поползет мимо колпинских развалин, мимо сожженных рощ и скорбных солдатских могил.
…Ну что ж, когда-то и он воевал в тех местах, но оказался счастливее других и уцелел, сам удивляясь такому удачному исходу.
И вот сейчас он лег поудобней, стараясь подавить в себе одно нелепое воспоминание, связанное с последним ранением, когда его прямо из-под горящего Пскова привезли в Ленинград.
Это расстояние шофер покрыл на «виллисе» за пять часов, и санитары хотели положить Макова на носилки, но он сглупил, пренебрегая помощью, и пошел к регистратуре по длинному коридору, сам открывая двери.
А когда он открыл четвертую дверь, то в сумрачной комнате увидел бывшую свою жену.
И вот тогда там, в регистратуре, чувствуя, что он умирает, Маков поднес свои грязные руки к лицу, словно защищаясь, и вспомнил все, что произошло у него с этой женщиной после такой непредвиденной разлуки.
Правда, как там ни думай, а все это было теперь не так уж существенно: и экспедиция, где он работал начальником, и авария, и следствие, которое велось очень тщательно и слишком долго.
На войне ему некогда было размышлять об этом, да и никакого следа все эти события не оставили в его душе. Но он помнил другое — солнце, медленно катящееся к закату, теплую асфальтовую дорогу и горы облаков, тревожно повисших над Выборгской стороной.
Его освободили под вечер, и следователь проводил тогда Макова до трамвайной остановки и с удивительной прямотой извинился перед ним, и они выпили даже по кружке пива и расстались как хорошие знакомые.
Никогда еще в жизни мир не казался Макову таким прекрасным, как в те первые мгновения, когда он вышел за ворота с узелком в руке и увидел женщин, яркие деревья за железной оградой и тонкий дымок в саду, где жгли прошлогодние листья.
Был воскресный день, и Маков понимал, что его внезапное появление вызовет в доме шумную радость, и очень торопился, но, открыв своим ключом дверь квартиры, он увидел в столовой жену и какого-то незнакомого человека, и у Макова вдруг все заныло внутри. Он остановился, предчувствуя беду, и жалко улыбнулся.
Он заметил, как нехорошо усмехнулся незнакомый человек и как его взгляд остановился на Макове, а потом на виноватом и надменном лице женщины, которую Маков считал своей женой.
Он отлично помнил, что она первая нарушила молчание и чужим, далеким голосом сказала ему о своем замужестве и стала просить, чтобы он не устраивал скандала, потому что ей будет просто стыдно показаться на глаза соседям и посмотреть в лицо человеку, с которым она собирается прожить всю жизнь.
Так он и ушел из своего дома, не сказав этой женщине ни одного слова. Но он не забыл тяжелого, манящего блеска реки под мостами, холода от чугунных перил, мирного света в каждом окне и собственного горя, от которого он задыхался в ту ночь, когда бродил по набережной Невы.
Он не забыл и рассвета, когда зазвенели первые трамваи, и то ужасное душевное состояние, когда он потерял узелок и внезапно остановился на Литейном мосту, чувствуя, что это и есть вершина его собственного горя, на которую он поднимался всю ночь.
А потом он оказался на Выборгской стороне, в Нейшлотском переулке, на лестнице сумрачного многоэтажного дома, перед дверью Анастасии Кузьминичны.
Да, это тоже была одна из тех женщин, о которых Макову следовало бы подумать в дни своей спокойной жизни, но тогда ему было все некогда навестить старуху, питерскую ткачиху, у которой он прожил в студенческие годы почти пять лет и ни разу не почувствовал себя квартирантом.
Он помнил, как Анастасия Кузьминична открыла ему дверь и, всплеснув руками, в изумлении отступила в глубь коридора, а через несколько минут, выслушав Макова, она вытерла платком слезы и сказала ему:
— Ничего, Коля. Может, все это к лучшему, а пока живи у меня и подыскивай себе невесту. Парень ты видный. За тебя любая пойдет.
И Маков остался. А потом он опять поехал в экспедицию, а затем отправился на юг отдыхать и всю дорогу провалялся на диване, разговаривая с каким-то ихтиологом о рыбной ловле.
Он смотрел тогда в окно на сосновые леса, на далекие села и холмы, на редкие деревенские церквушки, которые почему-то всегда напоминали ему старух, задумчиво бредущих на богомолье.
Он смотрел, как мелькали телеграфные столбы и кусты рябины, как рябили в глазах кружевные пролеты мостов, а внизу, за откосом, вспыхивали маленькие речушки, заросшие кугой, и как медленно поворачивались поля.
Он смотрел на весь этот громадный движущийся круг земли и, размышляя под стук колес, вспоминал всякие свои дела и пытался из этого сложить нечто целое, похожее на жизнь; но целого не получалось, и, видимо, только потому, что там не хватало любви к женщине, и веры в нее, и черт его знает чего еще.
Зато потом пришла любовь.
Маков с облегчением вздохнул. Ну, а что же было с той женщиной, которую он когда-то считал своей женой и после того вечера не видел очень долго?
Бог ее знает, как она жила. Только снова они встретились в недобрый час, когда Макова привезли прямо из-под горящего Пскова и когда его шесть орденов были в грязи и крови… Он сел на скамейку, умирающий и надменный, чувствуя, что и на этот раз ему надо промолчать.
— Коля, — тихо сказала она тогда глубоким и горестным голосом. — Коля!
Но он молчал.
«Это не смерть», — подумал он и положил руки на колени. Он ждал, сам не зная чего, а она стояла за деревянным барьером, не спуская с него своих темных, громадных глаз.
— Ну, чего ты на меня уставилась, — сказал он. — Чего тебе нужно?
— Я виновата… Боже мой, как я виновата.
— Никто не виноват, — сказал он, и она громко всхлипнула, и Маков увидел, что это вовсе не смерть стоит там за барьером, а женщина в белом халате, которая когда-то была его женой, и что этой женщине сейчас очень плохо.
Он тяжело поднялся со скамьи и подошел к перегородке. Он не чувствовал ни злобы, ни презрения, ни торжества. В эти мгновения ему хотелось сбросить с себя шинель и лечь прямо на пол, чтобы не ощущать тошноты, подступающей к горлу, и набухших тяжелых бинтов на голове. Но к нему подошел санитар и повел Макова в сортировочную, а оттуда в операционную, и по пути санитар спросил:
— Это что ж, ваша мамзель, товарищ подполковник?
И Маков ответил:
— Нет, это не моя мамзель, — и больше он уже ничего не помнил.
Он никогда никому не рассказывал об этой встрече и всегда старался думать о чем-нибудь другом — о парке под Москвой, где он бродил с Верой, или о тех местах, где в январе цвели мимозы и пахло горьким миндалем. Вера говорила, что это запах жизни, и водила Макова к сумрачному пустынному морю, а на море не было ни одного парохода, и они были счастливы от такого прекрасного одиночества.
Вот так, с закрытыми глазами, он любил путешествовать в те мирные, тихие вечера и перебирать в памяти те места, где он бывал вместе с Верой, всех людей, с которыми они встречались, и те слова, которым когда-то придавалось особое значение, понятное только им двоим.
Да, но любовь началась не тогда, когда Вера выпила вина больше, чем ей хотелось, и не так, как это обычно бывает, а очень удивительно и в то же время совсем по-земному, словно сама судьба свела их лицом к лицу.
В те дни, когда он ехал на юг и разговаривал с ихтиологом о рыбной ловле, он только что начал приходить в себя, и на душе у него было тихо, грустно и сумеречно, словно он попал в этот поезд после сильной грозы. Он сторонился женщин, и по утрам, уходя из дома отдыха, долго бродил по шоссе, а вечерами читал всякую ерунду и сразу же после ужина ложился спать. Он жил в комнате один, и однажды у него не хватило спичек и он вышел в коридор. Была уже ночь. Мертвый матовый свет от зажженных электрических ламп мерцал на медных ручках дверей и падал на длинную красную дорожку, убегавшую в глубь коридора.
Напротив своей двери Маков увидел девушку. Она была высока и хороша собой, но что-то жалкое и злое было во всей ее фигуре и в ее больших синих застывших глазах. Когда Маков посмотрел на нее, она не опустила ресниц, а только сузила их так, как это делают близорукие женщины, и лицо ее задергалось и стало совсем белым.
— Простите, — сказал он, — у меня нет спичек, не найдется ли у вас несколько штук?
— У меня тоже нет спичек, — с отчаянием сказала она, и вдруг слезы поползли по ее щекам.
— Что с вами?
— Болит… Боже мой, как он болит…
— Что у вас болит?
— Да зуб, — сказала она, — у меня огонь во рту…
— Ну ладно, не хнычьте, — сказал он, — завтра я вас свезу к зубному… До свиданья.
— До свиданья.
Они постояли несколько секунд каждый у своей двери, настороженно разглядывая друг друга, а потом Маков чуточку насмешливо спросил:
— Вы актриса?
И она ответила:
— Нет, ятолько учительница.
— Что-то не похоже.
— Ну, знаете, — резко сказала она, — так с женщинами не разговаривают.
— Извините, пожалуйста, но какая же вы женщина? Ведь вам не больше двадцати лет…
— Нет, больше.
— Ну, все равно вы еще девчонка.
— А вы мужчина! Боже мой, какой же вы мужчина, — сказала она с дрожью в голосе, — если не можете посоветовать, что мне положить на зуб!
— Ваш собственный язык, — сказал Маков, — положите его на зуб, закройте рот и молчите до утра, а утром я свезу вас к зубному врачу. Ну, спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — сказала она и вошла в свою комнату, а Маков постоял еще несколько минут в коридоре и спустился за спичками в вестибюль.
На следующий день они поехали в Сухуми к зубному врачу.
Маков великолепно помнил эту поездку: сырое шоссе и сырые сады, он всю дорогу подсмеивался над Верой, которая только болезненно улыбалась и прятала распухшую щеку в воротник. Она сидела так, что ее плечо касалось его плеча, и от нее пахло очень крепкими духами и еще той еле уловимой свежестью, какой пахнет река во время весеннего половодья.
…Да, она и тогда была удивительно хороша. С ней Макову было легко, и — самое замечательное — она была незлопамятна и совсем не умела врать, и ссориться, и искать в жизни такой любви, какой никогда не бывает. Она была умна, и это пугало Макова, и была по-детски наивна, когда оставалась с ним наедине. Иногда Макову казалось, что Вера уже видывала кое-что на своем веку. И тогда он принимался ругать женщин, а она говорила, что не все же такие и что хороших женщин больше, чем плохих, — в этом она достаточно убедилась.
И вот как-то однажды Макову захотелось поцеловать Веру и посмотреть, что из этого выйдет. Над морем были сумерки, а на берег набегали седые валы, тускло отсвечивая и гремя, как листовое железо. Берег был пустынен, а там, за морем, словно на какой-то чужой земле, угасал пожар и отбрасывал свои темные тени далеко по сторонам.
Маков увидел, как вспыхнули два сухумских маяка, и крепко обнял Веру, потом с притворной старательностью поцеловал ее в теплые губы… и отстранился, ожидая гнева. Но она молчала и грустно и нежно смотрела ему в лицо.
— Вам повезло, — тихо сказала она. — Вы посмотрите только, какую женщину вам довелось поцеловать… Ну, посмотрите.
Она отступила на несколько шагов, все еще печально улыбаясь и поправляя волосы, затем подошла к Макову и сказала:
— Только вам не надо притворяться.
— А вам хвастаться.
— Хорошо, — сказала она, — больше не буду.
Вот такой она и жила в памяти Макова, и потом он еще помнил обратный путь, когда они поднимались по широкой каменной лестнице и говорили о всякой чепухе, делая вид, что ничего особенного не произошло, но, когда они вошли в большой темный сад и увидели освещенные окна дома отдыха, они вдруг умолкли и сели на скамейку. Внизу шумело море, а по гудрону шли автомобили, и от зажженных фар на миг врывался в сад белый поток света и исчезал за оградой.
— Как жаль, — сказала Вера, — как нехорошо все получается.
— Извините, — сказал Маков, — но что же в том, что вы видите, нехорошего?
— Да все некстати. Мы, наверно, будем очень редко встречаться.
— Возможно, — сказал Маков, — хотя от Ленинграда до Москвы не такое уж большое расстояние.
— Это вам так кажется, что небольшое, а пока мы рядом, я хочу вам что-то рассказать.
— Наверно, какой-нибудь роман с прекрасным началом и очень грустным концом.
— Нет, — сказала она, — у меня таких романов не бывало.
— А я и не про вас, я говорю про тех, у кого эти романы бывали, и вообще объясните, как это хорошенькая девушка может обойтись без романа.
— Может, — сказала Вера, — только, конечно, до поры до времени… Вот слушайте. Жила-была девочка. Она играла в куклы, училась, ездила к теткам в гости, очень любила расчесывать свои волосы металлическим гребнем, и когда она стала взрослой…
— Она влюбилась, — сказал Маков.
— И, представьте себе, она никогда не мешала тому человеку рассказывать, какие бы глупости он ни болтал. Ну вот, как это все началось, трудно передать словами. Но влюбилась она сразу же, на всю жизнь, и, понимаете, так перепугалась, как будто бы ей пришел конец.
— Ну, знаете, это уже чертовщина, — сказал Маков.
— Пусть будет так, но с женщинами это бывает, и только однажды в жизни. Вы можете называть это чем угодно, солнечным ударом, затмением, блажью, но так иногда бывает. Долго потом горит этот огонек в ее душе, и, заметьте, такие женщины редко бывают счастливыми. Но, простите, я, кажется, немножко расфантазировалась. Пойдемте.
Маков открыл глаза. Боль в затылке утихла, и он чувствовал теперь какую-то необычайную легкость в руках и старался хоть чем-то развлечь себя. Он смотрел на выкрашенные серебристые стены вагона, на проходящих по коридору сестер и чуть улыбался, сам не зная чему.
— Вы не спите? — осторожно спросил Макова капитан Пономарев.
— Нет, — сказал Маков.
— Вот и я тоже ни черта не могу уснуть. Что может быть противнее такого душевного состояния? Лежишь с закрытыми глазами, а уснуть никак не можешь.
Поезд отошел с товарной станции без звонков и медленно набирая ход, застучал на стыках. После госпитальной тишины и скуки стук колес казался очень странным и тревожным, словно там внизу, под вагонами, сидели дятлы и с неутомимым упорством долбили пол.
Еще на станции машинист получил записку от больных с просьбой не торопиться до Саблина и дать возможность раненым повнимательнее осмотреть те места, где они воевали. И поэтому поезд шел медленно, покачиваясь на стрелках и не дымя.
Слева за окнами проплывали дома и черные заводские дворы, угольные склады и открытые семафоры, а справа из сумрака проступала Пулковская высота и сквозь редкие засохшие деревья были видны развалины обсерватории и костер, разложенный у подножия на том самом месте, где было маковское КП.
Маков стоял у окна, и его удивляло то спокойствие, с каким он смотрел сейчас на голые сопки и поля, на серебристые кустарники вербы, на чернеющий парк и разбитые здания Авиационного городка.
Недалеко от насыпи была видна шоссейная дорога, и по ней шла легковая машина, обгоняя состав и подводы.
— Ну как там, все по-старому? — спросил Макова майор Сизорин.
— Нет, — сказал Маков. — Там тишина и костер у моего КП. Он так хорошо горит, Иван Константинович, как будто бы это ребятишки приехали в ночное.
— Значит, мир и покой.
— Тишь и гладь, божья благодать, — сказал Маков, не поворачиваясь к Сизорину. — Я вот триста дней пробыл в этих местах. Ну, думаю, как только поедем мимо, опять разволнуюсь. Все-таки триста дней — это что-нибудь да значит! И вдруг ничего. Понимаете, как будто пробыл здесь только день.
Маков поправил халат, сползавший с плеча, и подумал о том, что не очень-то надолго сохранились в его памяти те дни и ночи, которые когда-то казались ему незабываемыми и самыми важными на войне.
Как-то однажды к Макову в полк приехал военный корреспондент, и, когда они выпили, они разговорились о таких ночах и еще о том, что самое главное на войне всегда происходит в темноте и потом на всю жизнь остается в памяти. Они тогда здорово поспорили. На многие вещи у них были разные точки зрения, и корреспондент так и не поверил Макову, что самое значительное и великое на войне совершается только ночью.
Он так же недоверчиво покачал головой, когда Маков заговорил с ним о тех своих предсмертных минутах, которые, видимо, и ему суждено будет пережить в этих сырых траншеях на вершине Пулковской горы. Маков твердо знал, что ни мать, ни любимая женщина, ни жалость к самому себе не будут волновать его в те мгновения, когда он в последний раз поглядит на мир. Перед ним встанет только то, что он увидел однажды в пути, когда был еще юношей и ехал из Ленинграда на каникулы в свой пыльный и тихий городок. Их поезд остановился в поле ночью, и Маков вышел тогда из вагона узнать, не попал ли кто-нибудь под колеса, и, взволнованный тяжким дыханием паровоза и темнотой, он увидел огоньки дальних деревушек, плывущий месяц, белую березовую рощу и стремительно падающую с неба звезду. Потом он услышал песню и неподвижно простоял несколько минут на насыпи, потрясенный единственным чувством — любовью к этой земле.
И вот тогда, под Пулковом, Маков сказал корреспонденту, что каждый на войне умирает по-своему — днем более тихо и стыдливо, а ночью очень беспокойно и нехорошо. И потом он еще раз повторил, что, если ему суждено будет погибнуть, он соберет все свои силы и увидит себя в последние мгновения на насыпи, юношей, на том самом месте, где когда-то остановился состав.
Этот крошечный кусочек России защитит его от боли и страха и от того горького ощущения, что ты уже не посмотришь на мир, который все так же будет жить и как-нибудь обойдется без тебя.
Спорили они тогда долго не только о жизни и смерти, но и о том, что такое подвиг и в чем можно видеть его проявление.
Маков утверждал, что подвиг на войне совершает почти каждый солдат. Проходя через страдания и бессонницу и, в сущности говоря, ничего такого не делая, что имеет в виду корреспондент…
Сейчас тяжелые дождевые облака висели над высотой. Под горой все ярче разгорался костер, вызывая в душе Макова чувство тихой радости и печали. Там он принимал батальон, а потом полк, и по ночам во время затишья, одолевая сон, он думал о многом и часами просиживал у горящей печки, не слыша артиллерийских ночных дуэлей и винтовочных выстрелов снайперов.
В такое время изредка он садился за свой дневник и описывал только самые важные события, происходившие на том клочке земли.
Отсюда два раза Маков попадал в госпиталь. Его подбивали немецкие снайперы, и, когда он возвращался в свой полк, ему здорово влетало от командира дивизии. Теперь с каждой минутой эта высота отодвигалась от Макова все дальше, но впереди тоже были знакомые места, которые вряд ли можно забыть.
Состав медленно подходил к Колпину, к городу, где рождались дети под артиллерийские вспышки, где пели птицы в самые дьявольские обстрелы, где зеленели деревья и на восточной окраине стоял единственный уцелевший домик с пробитой клеенчатой дверью и забрызганным кровью крыльцом. На том крыльце часто сидели раненые, пережидая обстрел, и какая-то женщина поила их водой и помогала им добираться до медсанбата.
От Колпина поезд пошел быстрее. Маков все еще стоял у окна и не мог оторвать глаз от обугленных рощ, от зеленеющей густой травы и безлюдных огневых позиций, когда-то расположенных недалеко от насыпи. Только по сожженным верхушкам деревьев, по пустым консервным банкам, по ящикам из-под снарядов можно было догадаться, что здесь стояли тяжелые немецкие орудия.
Пройдет еще год или два, подумал Маков, и люди не так уж остро будут чувствовать свои утраты. Так же будет и с ним. Только скорее бы вырваться из этих санитарных поездов, госпитальных палат и от всяких осточертевших процедур.
Почти до самой Москвы Маков пролежал на подвесной койке, перебирая в памяти самое важное, что было у него в жизни. Лишь о Вере он старался не думать. Но когда замелькали московские окраины, сердце Макова забилось сильнее, и он вышел в тамбур и открыл дверь вагона.
Свежий ветер хлынул на площадку. Лицо Макова горело и от волнения покрылось красными пятнами. С удивлением и испугом Маков заметил, что их принимает товарная станция. Они двигались, как по туннелю, вдоль длинных товарных составов и наконец остановились около угольного склада, откуда был виден кусочек Москвы, ее верхние этажи. Маков огляделся. Он спрыгнул на землю, но не увидел ни Веры, ни Ивана Гавриловича, ни больших вокзальных окон. Около четырех часов поезд простоял на этих путях Маков долго ходил вдоль состава, потом сел на верхнюю ступеньку вагона, и, когда поезд тронулся, он улыбнулся и вынул коробку папирос. Неторопливо закурил, думая о том, что вот теперь все с Верой кончено и что ему, видимо, придется начинать жизнь без нее. Ну что ж, в конце концов у него найдется достаточно сил. Резким движением он бросил недокуренную папироску на насыпь и вошел в загон.
Иван Гаврилович сел рядом с Верой и включил мотор. Потом, когда машина прошла по шумным улицам Москвы и прорвалась на окраину, он устроился поудобнее, положил руки на руль, и на лице его появилась легкая насмешливая улыбка. — Ну вот, мы почти уже у цели, — сказал он. — Только не будем молчать. Не люблю, когда спутники в дороге молчат. Они ехали в закрытой машине, очень узкой и длинной, выкрашенной темным лаком, и болтали о всяких пустяках. В кабине было душно, и он чуть приоткрыл ветровое стекло и сбавил скорость. — Не будем торопиться, — сказал он, — у нас еще есть время подумать и решить, что к чему. В конце концов такие дела нельзя решать с маху. — Но их и нельзя откладывать, — сказала Вера. — Я все уже решила, и никто мне теперь не может помешать. Итак, я закрываю рот и молчу. — Ну нет… все, что угодно… только не молчать. Сейчас, например, меня потянуло на воспоминания… Там, в детстве, как у всякого мальчишки, у меня тоже был задушевный приятель, Колька Маков. Мы с ним ловили птиц, собирались в кругосветное путешествие, злили учителей, рыбачили и дружили лет до шестнадцати, а потом поссорились из-за девчонки. — Вы что же, оба влюбились? — спросила Вера отчужденным голосом. — Похоже на это, — сказал он. — И девчонка-то была так себе, а вот поди ж ты, взяла и поссорила нас чуть не насмерть. Много воды утекло с тех пор. Девчонка эта вышла замуж, конечно, за третьего, а мы разъехались кто куда. И вот однажды я получаю от Николая письмо. Ранен… Конец войны, а у него ни семьи, ни дома, ни черта. Только в Москве где-то в Лялином переулке была у него невеста, очень красивая девушка, которую он не видел ни разу где-нибудь в очереди или у плиты. Смешной он, честное слово, смешной. Он остановил время и не подумал, что его невеста давно могла выйти замуж за кого-нибудь другого. — Больше того, эта невеста могла разлюбить его, — сказала Вера, — или просто умереть от огорчения. Пряча довольную улыбку, Вера отвернулась от своего спутника и посмотрела в боковое стекло. Машина миновала окраину Москвы, и за дорогой, под низким небом, Вера увидела маленькие домики, железнодорожные насыпи, картофельные поля и пассажирский состав, остановившийся на какой-то дачной станции. И вдруг знакомое чувство печали так больно сжало сердце, что Вера вздохнула и выпрямилась от внезапного испуга. Она услышала свисток паровоза и на секунду прикрыла ладонью глаза. — Будем откровенны, — сказала Вера. — Я тоже не очень люблю молчаливых людей, но, чтобы не молчать, я хочу признаться в одной своей маленькой слабости. С некоторых пор я не могу равнодушно смотреть на поезда. — Почему? — По многим причинам. И самое главное — потому, что ссориться на вокзале нельзя. — Значит, век живи и век учись… После этого, — сказал он, — надо было бы на вокзале повесить мраморные доски с предупреждением пассажирам: «Граждане пассажиры, на вокзале ссориться воспрещено!» — Это совсем не смешно. — Что не смешно? Такие доски-то? — Нет, не доски. Когда я жила в эвакуации, я часто приходила на станцию и ждала его. Глупо, конечно. Станция была маленькая — ни колокола, ни багажных тележек, ни огня. А я стою, бывало, на перроне, а вьюга такая, что слепит глаза. Поле, снег… даже стрелок не видно. — Да, — сказал он, — картина грустноватая. — И потом там был еще сторож в овчинной шубе. Подойдет он, бывало, ко мне и спрашивает: «Что это вы, барышня, грустная такая?» — «Да вот, говорю, все не едет, жду жениха, а он, наверно, забыл про меня». И вот как-то однажды старик, видимо, решил успокоить меня. Он сказал: «Эта история, милая барышня, очень старинная, такая старинная, что даже самый научный человек не сумеет сосчитать, сколько ей годов. Давно это было, когда и женщина и мужчина были одним существом. В то время не было на земле ни ревности, ни убийства, ни горя, ни тоски. Жило это существо в покое да в воле, пока не рассердило бога. А как только бог разгневался на него, приказал он тогда молнии расколоть это целое на две половинки и назвать их так: одну половину — женской, вторую — мужской. И вот, милая барышня, и тоскуют они с тех пор, эти половинки, ищут друг друга, а найти никак не могут». — Я эту историю где-то слышал. — Возможно, — сказала Вера, — но тогда мне казалось, он обязательно должен приехать на эту станцию, выйти на перрон и поцеловать меня. — Но ведь он так и не приехал? — Нет, — сказала она, — не приехал, и тут не над чем улыбаться. Тогда была война, а сейчас тихо и хорошо кругом. Я всю войну чувствовала себя женой Николая. — Отлично, — сказал он, — начнем феерическую гонку за мужем. Мы можем даже прибавить скорость и врезаться в шлагбаум, так и не поговорив о любви. У кого это было сказано: «Любовь — это когда хочется того, чего нет и не бывает»? — Ну, зачем же меня злить, — тихо сказала Вера, — у каждой женщины есть единственный человек, которого никто не может заменить. Вот это и есть любовь! Сколько еще осталось до станции? — Километров пятьдесят, — сказал он, — но мы все равно успеем. Машина круто свернула на проселочную дорогу, и ее закачало на ухабах. Теперь она шла медленно, мимо подмосковных дач, маленьких деревенек, вдоль какой-то узкой реки, заросшей густым кустарником. В кустарнике пели птицы, и от реки тянуло теплой сыростью и сладковатым запахом гниющих трав. За машиной поднималась пыль и закрывала реку темной высокой стеной. На телеграфных проводах сидели ласточки, оцепенев от зноя. А ниже проводов на горизонте дымился какой-то завод, словно корабль, попавший в мертвую зыбь. — Ну и жара, — сказала Вера, — просто трудно дышать, и дорога дьявольская. — Скоро мы выедем на гудрон, а через час будем на месте, — сказал он. — Только я вот не особенно рассчитываю на свою память. Шутка ли: двадцать лет прошло с тех пор, как мы расстались. Только однажды он был у меня на даче. Я совершенно не представляю себе нашей встречи. — А я представляю. Через полчаса они подъехали к железнодорожной станции, и Иван Гаврилович отправился к дежурному, а Вера вышла на перрон и увидела маленький садик с зелеными скамейками и много товарных составов, стоящих на запасных путях. За белым семафором садилось солнце, и рельсы в том месте лежали как раскаленные полосы, упираясь своими концами в густой и высокий лес. Деревянный перрон был пуст, и только в самом конце его, около багажного склада, сидел старик и старался вдеть нитку в игольное ушко. Он хмурился и после каждой неудачной попытки вытирал потный лоб рукавом и громко кашлял. — Послушай, дочка, — сказал он, обращаясь к Вере, — у тебя глаза-то повострее моих: ну-ка, пособи старику. Видать, ты не здешняя? — Нет, — сказала Вера, — я из Москвы. — А чего это ты такая веселая, — спросил старик, — глаза-то у тебя так и светят. — Жениха встречаю, — сказала Вера, — четыре года не было никаких известий. — Ну и как же он объявился? — А вот так внезапно и объявился. Хотела я его в Москве встретить, да очень уж там много всяких поездов приходит. — А номер-то вагона знаешь? — Там нет номеров, это поезд санитарный. Старик отложил шитье и поднял глаза на Веру. — Ты молодец, дочка, — сказал он, — вот и дождалась счастья. Счастье, я тебе скажу, — это все равно что хорошая погода: и на душе светло, и на сердце ясно. Только ты не робей и держись одного берега. Ну, прощай! Вера вышла в станционный садик и села на скамейку. Наступали сумерки, и вскоре Вера увидела тяжелый, запыленный экспресс, остановившийся на станции. Его окна были ярко освещены, и, когда он тронулся, она долго смотрела на его красный хвостовой фонарь, чувствуя, что теперь ей не страшны никакие поезда. Через час или два все будет решено. Она войдет в вагон спокойно и постарается держать себя так, как будто бы ничего не случилось за это время и словно они все еще в дороге и едут с юга к себе домой. Только бы не разрыдаться при встрече…
1948
 ТЕТЯ ОЛЯ
ТЕТЯ ОЛЯ
1
Этот вагон четвертого класса без колес и подножек был спущен на землю домкратами в тот памятный день, когда подгулявшие новобранцы спалили деревянный Белогорский вокзал и деповскую дежурку. Вагон предназначался для паровозников, и в тот день отец Иван отслужил в новой дежурке молебен, окропил ее стены водой, а машинист Фролов посадил шесть тоненьких березок с той стороны дежурки, где пролегала сточная канава, заваленная битой посудой из-под вина. Когда кончилось торжественное богослужение, толпа разбрелась, и только Пелагея Колганова долго еще стояла на опустевшем полотне, недалеко от состава, пахнущего чарджуйскими дынями, и думала о том времени, когда муж вернется с войны, и она снова станет отличать один паровозный свисток от остальных, и снова будет выбегать на его зов за калитку и махать платком мужу, радуясь, что он благополучно прибыл в Белогорск. Но в тот же год ее муж погиб где-то на Карпатах, а единственный ребенок умер, и она от отчаяния хотела даже повеситься, не зная, как дальше жить, пока соседи не посоветовали ей поступить на железную дорогу. — Ты посуди сама, — сказал ей Кузьма Зябликов, работавший в то время кочегаром на маневровом паровозе. — Чем мыкаться тебе у корыта с чужим бельем, определяйся-ка ты к нам в вызывальщицы. Дело это нехитрое — сунула журнал под мышку и пошла. А ходьбы ты не бойся — чем больше ты будешь ходить, тем скорее в тебе затихнет горе. И Колганова поступила на службу. В первую получку она обронила у кассы серебряный полтинник, и это небольшое происшествие привлекло к ней внимание старика кассира, который любил давать прозвища паровозникам и любил говорить в рифму, изумляя окружающих и в это время обсчитывая их. Высунув голову из окошка, он пристально посмотрел на новую вызывальщицу и сравнил ее с тетей Олей, которую недавно уволили за то, что она стала стара и неповоротлива. «Ишь ты какая красавица, — подумал старик, разглядывая Пелагею. — А ведь лет через тридцать и ты встанешь на паперть, как тетя Оля. Одна у тебя с ней дорожка». — Тебя как зовут-то? — Меня зовут Полей, — сказала Колганова. — Полей, а я думал — тетей Олей. Посмотрите, ребята, какая же это Поля, ежели она теряет деньги, как тетя Оля! Кассир засмеялся, и его смех был поддержан теми, кто еще не успел получить жалованье. — Отныне, — сказал кассир, — мы будем величать тебя не Полей, а тетей Олей. Кто там следующий, подходи! Так Пелагея Колганова превратилась в тетю Олю, и с тех пор на службе ее никто иначе не называл. Вскоре она и сама привыкла к этому. Она пользовалась этим именем словно пропуском, особенно в ночное время, когда ей приходилось стучаться в дома, где жили паровозники, и отвечать на один и тот же вопрос: «Кто там?» Она всегда говорила: «Тетя Оля», и этого было достаточно, чтобы перед ней раскрылись двери. В те годы она была хороша собой, и на нее посматривали даже женатые машинисты, а два деповских слесаря и телеграфист Хлынов посылали к ней самых искусных свах, но не добились положительного ответа. Так прошла ее молодость, и, когда утихла тоска по мужу, деповские слесари обзавелись уже семьями, а телеграфист Хлынов спился и покинул город, не выкупив у шинкарки ни своей вельветовой блузы, ни шелкового искристого банта. В тысяча девятьсот тридцатом году была заколочена старая дежурка, но через двенадцать лет паровозники снова переехали туда, потому что их помещение сожгли вражеские бомбардировщики. Эта первая бомбежка застала тетю Олю недалеко от вокзала. Был последний день сентября, такой яркий, что прохожие даже щурились от солнца, и этот день, ничем не напоминавший о войне, вдруг преобразился от первого же бомбового удара и потемнел, заволакиваясь дымом и пылью. Незнакомый запах — запах тротила — пахнул в лицо тети Оли. Она осмотрелась. Две небольшие бомбы разорвались недалеко от нее, в привокзальном скверике. С деревьев посыпались листья, под ногами бегущих людей захрустели стекла, выбитые из оконных рам. Чувствуя, как тяжелеют ноги, тетя Оля с трудом добралась до скверика и увидела там двух убитых женщин и девочку лет трех, онемевшую от страха. Девочка сидела на траве и широко раскрытыми глазами смотрела на струйку воды, вытекающую из чайника, пробитого осколком. На земле лежали узелки и чемоданы с наклейками. Видимо, обе женщины ехали откуда-то издалека и сделали пересадку в Белогорске, ожидая московского поезда. Тетя Оля взяла девочку на руки и подошла к мертвым женщинам. — Послушай, деточка, ну, повернись! Покажи мне, где твоя мама? В это время резкий свист бомбы, а затем и взрыв заглушили слова тети Оли, и она инстинктивно прижалась к земле, подминая под себя сопротивлявшуюся девочку. Потом она покосилась на небо, где метались самолеты и голуби, и перевела дыхание, чувствуя, как спокойствие понемногу возвращается к ней. Она увидела машиниста Зябликова, торопливо шагавшего по пустынной улице с железным сундучком в руке. Он тоже заметил тетю Олю и направился к скверику. — Ну, что ты навалилась на девчонку? — сказал он, обращаясь к тете Оле. — Вставай, а то задавишь. — Да ведь убьют ее, Кузьмич. — А чего же ты здесь торчишь? Забирай ребенка и беги в туннель. — И верно. От страха я сразу-то и не сообразила. Да, с вызовами-то как же? — А никак. Нынче и без вызовов каждый на месте будет. Там и отдашь. Ну, беги, а то летчик уже на второй заход разворачивается. В глубоком туннеле, который соединял город с вагоноремонтным заводом и с депо, тетя Оля переждала бомбежку и, держа девочку на руках, снова оказалась в скверике, откуда только что отошла машина, забрав двух мертвых женщин и все принадлежавшие им вещи, кроме чайника. Куда направилась машина, никто не знал. В тот день тетя Оля обошла все больницы и госпитали, но там слишком много было убитых женщин, привезенных из разных концов города, и девочка не могла разобраться, кто ее мать. Все эти мамы крепко спали. Их лица были покрыты марлей, а сложенные на груди руки выпачканы землей. Девочке было года три, но с перепугу она забыла все и не могла назвать ни своей фамилии, ни своего имени. Так появилась у тети Оли дочь. В следующее свое дежурство тетя Оля попросила всех присутствующих принять участие в судьбе девочки и придумать для нее имя. После долгих споров девочку решили назвать Поленькой, то есть так же, как называли когда-то Колганову. С тех пор как в домике тети Оли появилась Поленька, прошло семь лет. Девочка росла, хорошела, а тетя Оля старилась и в минуты раздумья с особой остротой замечала, как благоустраивается мир, в котором она жила. Давно исчезли старые паровозы и вагоны четвертого класса. Вместо извозчичьих пролеток у вокзала появились автобусы, а за переездом, на пустыре, выросли четырехэтажные каменные дома. Сверкающий, как ледяная глыба, огромный элеватор и новое здание электростанции из бетона и стекла украшали теперь маленький городок, где когда-то было много нищих и церквей. Только вагон, где помещалась дежурка, все еще торчал на прежнем месте и неизвестно почему поскрипывал обшивкой даже в тихую погоду. — Хоть бы ты сгорел, проклятый! — говорила тетя Оля, когда мыла полы и вынимала из-под ногтей занозы. Но вагон не горел. Перегороженный внутри на несколько отсеков, а снаружи обнесенный завалинкой, он только все заметнее накренялся в ту сторону, где росли березы, словно стараясь прислониться к ним. Этот вагон лет сорок тому назад был прозван «брехаловкой», но официально он именовался пунктом обмена, или дежуркой, куда собирались сменные бригады в ожидании своих паровозов, которые были еще в пути. Здесь при входе стоял начищенный бак с кипяченой водой, а чуть подальше находился стол, постоянно занятый людьми, любившими почитать газету, поспорить, сыграть в шахматы или в домино. Даже в глухой предрассветный час за этим столом паровозники умели весело коротать свое время. Отсюда всегда до ушей диспетчера доносился то обрывок спора, то хохот, вызванный смешным рассказом, то стук костяшек, похожий на цокот подков. Однако этот шум никому не мешал. В соседнем отсеке на железных койках постоянно отдыхала какая-нибудь паровозная бригада, и когда тетя Оля входила в отсек и говорила «подъем», то машинист поднимался первым. За ним вскакивал помощник, а потом пробуждался и кочегар, потягивался, зевал, не спеша выходил на полотно и поворачивал голову в ту сторону, откуда доносился знакомый паровозный свисток. Затем бригада исчезала из дежурки, но отсек сразу же занимали другие, иногородние паровозники, с которыми тетя Оля обращалась мягче, чем со своими, и не так сильно ругала их, когда они ложились на койки в верхней одежде и сапогах. Вагон стоял в десяти метрах от вокзала и своим запущенным видом резко выделялся среди других станционных построек. Это внешнее убожество всегда огорчало тетю Олю. — У других людей, — говорила она, — служба как служба, войдешь в помещение — душа радуется, а у нас вывески и то нету. Но зато внутри вагон блестел и поражал каждого входящего своей удивительной чистотой. Только одного не сумела добиться тетя Оля — изгнать из отсеков едкий махорочный запах, которым были пропитаны даже марлевые занавески. Всякий раз, как только тетя Оля заступала на дежурство, она прежде всего выпроваживала из помещения тех, кто курил махорку, а затем долго с ними пререкалась, высовываясь то из одного, то из другого окна. Так всегда начиналось ее дежурство. Но однажды она только хмуро поздоровалась со всеми и, прихрамывая, подошла к плите. На тете Оле было черное суконное платье, которое она редко надевала, новые башмаки и, вместо берета, клетчатый платок, заколотый булавкой у подбородка. — Ты что-то нынче не по форме оделась, — сказал ей кочегар Сизов. — Куда это ты собралась? — К доктору, — ответила тетя Оля. — Вот отдежурю и пойду. Я так полагаю — простуда. Да и осколок у меня в ноге будто с места сдвинулся. Она нагнулась, потрогала пальцами коленную чашечку и снова сморщилась от боли. — А все из-за вас, чумазых чертей. Помните, как я кочегарила в сорок втором году? Три месяца у топки отдежурила за Слащева. Пока он хворал да по комиссиям разгуливал, меня немец-то и угостил осколком. И куда попал — прямо в ногу, как будто чуял, сукин сын, что я вызывальщицей работаю. — А чего же ты на операцию не идешь? Вынули бы этот осколок, и делу конец. — Да я и сама так думаю, — сказала тетя Оля, — теперь мне больницы не миновать. Она вздохнула, и ее взгляд остановился на Зябликове, достававшем из кармана помятую железную банку с табаком. — Ты бы, Кузьмич, хоть на папироски перешел, — посоветовала она старому машинисту. — Взял бы пример со своих сменщиков. Они помоложе тебя, и заработок у них пониже, а курят «Беломор». — Ну и пусть курят, — сказал Зябликов. — Ты думаешь, мне денег жалко? Нисколько. Я не экономист. У меня в доме от одних книжек полки ломятся. Думаю машину купить, только вот ездить некуда. — Да ты и машину-то задымишь, так обкуришь своим горлохватом, что в ней дышать будет нечем. — А ты рот-то пореже раскрывай! Желаешь критиковать — критикуй, но насчет курения помолчи. Не в табаке дело, а в твоей старости. Шла бы ты на пенсию. Там чистого воздуха сколько хочешь. — А что же ты думаешь? Вот возьму и уйду. Не век же мне с вами мучиться. Тетя Оля прикрыла за собой дверь и оказалась в тесном диспетчерском отсеке, где тоже колыхался табачный дым и горела электрическая лампочка, хотя за окном все еще было светло. — Здравствуй, Лукьяныч, — сказала она диспетчеру, — и ты законопатился, медведь. Лукьяныч повернулся, снял с головы наушники и раскрыл перед тетей Олей журнал, где она должна была расписаться в приеме дежурства. Подув на свою подпись, тетя Оля села на табуретку, и диспетчер насторожился и приготовился к затяжному разговору. — Ты знаешь, Лукьяныч, — сказала тетя Оля, — всем им кажется моя работа так себе: помыла полы, открыла окна, схватила рассыльную книгу под мышку и пошла по легкому профилю. А у меня тоже есть свой график. Я тоже двигаюсь по расписанию. — Она постучала указательным пальцем по кромке стола, стараясь этим жестом расшевелить в душе утихающее негодование. — Иной помощничек или кочегар повесит на дверь замок — и айда. Заберется куда-нибудь на вечеринку, да в такое место, что его и с ученой собакой не найдешь, а я ведь не сыщик и не девочка, чтобы бегать за этими чумазыми чертями. — Ага, загудела! — сказал диспетчер. — Сама их избаловала, а теперь жалуешься! — Я не жалуюсь, а говорю. Баловство, Лукьяныч, бывает разное. Одно идет от доброго сердца, а другое — от малого ума. Значит, по-твоему, молодежь только и должна ждать твоего вызова, будто у них, кроме паровоза, другой жизни нету? Небось ты в молодости с паровозом не целовался, а бегал то к Машке Потаповой, то к Груше Фоминой. Лукьяныч нахмурился. Он хотел возразить тете Оле, но раздумал и только махнул рукой. — Ну, тебя не поймешь, — сказал диспетчер. — Ты то против, то за… Нервная ты стала, сама не знаешь, чего тебе надо. — Эх, Лукьяныч, как же это я не знаю? Мне надо еще кое-что сделать, но оказывается, для этого одной-то жизни маловато, а двух — природа не дает! — Да ты что, или в министры захотела, зачем тебе еще одна жизнь? — шутливо спросил Лукьяныч. — А просто для интереса. Хочу посмотреть, как сознательные люди жить будут. Я вот иной раз приду с работы усталая, злая и думаю: скорее бы на покой, на пенсию, значит. А потом отдышусь немного и сама удивляюсь. Тянет меня в дежурку, как пчелу на цветок. — Значит, привыкла к месту, — сказал Лукьяныч. — А меня, как видишь, с одной должности на другую гоняют. — А ты просись опять на старое место. Ты же машинист. Неужто на твою диспетчерскую работу другого поставить не могут? — Видно, не желают, а я бы с удовольствием, да ведь мало ли кто чего хочет? Наш начальник дороги, может, хотел бы опять машинистом ездить, а ему генеральское звание дали. И не зря. Дело-то на подъем пошло. Это даже простым глазом видно. Ну, что еще у тебя, выкладывай. — А ничего. Ты только электричество зря не пали, — заметила тетя Оля и повернула выключатель. Она вышла в общий отсек взбудораженная и охваченная каким-то недомоганием и снова встала у плиты, посматривая то на Зябликова, то на кочегара Сизова. — Я поражаюсь, — сказал Зябликов, мешая игральные кости, — и чего ты, тетя Оля, навалилась на мой табак? Вы, ребята, наверное, помните такой случай, когда моя бригада отмахала за сутки семьсот километров. Это, я вам скажу, была настоящая поездка! Зябликов распрямил усы и подмигнул слушателям, обращая их внимание на тетю Олю. — При чем же тут твой проклятый табак? — спросила тетя Оля. — А вот слушай. Не успел я сойти с паровоза, а мне уже подносят телеграмму от начальника дороги. Вижу — вызов. Лечу домой, переодеваюсь — и на вокзал. Ну, само собой разумеется, моя Анастасия подводит меня к буфету и приказывает Дуське-буфетчице подать для меня три пачки дорогих папирос. «Ты, говорит, Кузя, при пассажирах махорку-то не кури. Ты теперь человек видный. Тебе ли глотать это зелье?» Одним словом, приезжаю я в управление. Кабинет, за столом — генерал, одетый с иголочки, такой представительный, будто он прямо генералом и родился. Усадил меня генерал на диван, и началась беседа. Я рассказываю. Он слушает. Вот, говорю, взять хотя бы экипировку локомотива. Кажись, ничего нет мудреного, а ведь сколько минут мы теряем даром на этом простом деле. Там десять минут, там двадцать, а в результате — цифра. — А что же ты про табачок молчишь? — спросила тетя Оля. — Не беспокойся. Я уже приближаюсь и к нему. Доложил я, значит, генералу о своей поездке и стал отвечать на вопросы. Между прочим, генерал мне и говорит: «Вижу я, Кузьма Кузьмич, не по душе вам моя папироска. Наверно, махорочку курите?» «Только ее и курю». «А мне вот приходится курить папиросы. Вы как, чистую предпочитаете?» «Нет, — отвечаю, — кладу немного донника и тем самым избавляюсь от кашля. Аромат тончайший — может, попробуете, товарищ генерал?» И что же я вижу? Я вижу, ребята, как начальник дороги делает одну затяжку за другой, хватается за сердце и потом дает оценку моему табаку. Слышите? Самую высокую оценку! — Ох, и врать же ты здоров, — сказала тетя Оля. — Можешь мне голову отрубить, ежели это правда. — Будешь со мной спорить, и отрублю. Я тоже думал: вот приеду к начальнику дороги, а кто его знает, что это за генерал. Но оказывается — простой человек. Сам двадцать лет машинистом пробыл, и потому он с таким аппетитом отведал моей махорки. Должен отметить, вообще он давно бы бросил в корзину свои дорогие папиросы, но положение не позволяет. Да и уборщицы он, видать, здорово боится. Так что закуривайте, ребята, пока не поздно. Зябликов вынул из кармана железную банку с табаком, постучал ногтем по крышке и решительно посмотрел на тетю Олю, стоявшую со скрещенными на груди руками. — Ты думаешь, я не знаю нашего генерала? Один раз я его попросила выйти на курение. Помнишь? Не испугалась, что начальник дороги. Теперь ты понимаешь, Кузьмич, какой ты несамостоятельный человек, — сказала тетя Оля, — я же тебе поручала: будешь у начальника дороги, похлопочи насчет новой дежурки, пусть ее быстрее заканчивают, а ты что? — Известно что — забыл. — Эх ты! Тебе бы в лесу галок считать, а не к начальству ездить. Ты только и помнишь о своем паровозе, а где тебе отдохнуть — безразлично. Ни в одном учреждении я не видела столько почетных людей, как у нас, а ютимся мы в каком-то скворечнике. Тетя Оля осуждающе покачала головой и, не сказав больше ни слова, скрылась в отсеке диспетчера. Там она взяла со стола рассыльную книгу, вложила в нее вызовы и стала ждать, когда Лукьяныч кончит разговор с линией. — Зябликов, — крикнул Лукьяныч, — хватит тебе лясы точить! Твоя двадцатка на подходе. Как поедешь-то? — Известно как, на полный клапан, — сказал Зябликов, получая проездные документы. Он засунул их под подкладку фуражки и вышел на полотно вместе со своей бригадой навстречу приближающемуся составу. Вскоре общий отсек опустел. Подходивший тяжеловесный состав привлек даже внимание кота, который проснулся от тонкого дребезжания стекол и уставился круглыми глазами на окурки, зашевелившиеся в ведре. — Машин-то сколько, батюшки! — воскликнула тетя Оля, выглядывая из окна диспетчерской. — И все на Волго-Дон. Ах, Лукьяныч, жизнь-то как бежит, а мы старимся. Диспетчер посмотрел на тетю Олю и неожиданно рассмеялся, заметив на ее лице сухой румянец. — Ну, тебе еще рано про старость думать, — сказал он. — Смотри-ка, огня-то в тебе сколько, не замуж ли вышла? Тетя Оля усмехнулась. Она приложила ладони к щекам, потрогала лоб и уши и действительно почувствовала какую-то неестественную теплоту даже в шпильках, которые были воткнуты в ее густые белые волосы. Ее немного знобило, но она старалась не обращать на это внимания, так же как и на боль в ноге. Через час она вышла из дежурки и с первых же шагов ощутила утрату той привычной легкости, с какой она всегда ходила по земле. У пакгаузов она остановилась. Вокруг нее шла обычная жизнь, к которой тетя Оля привыкла с самого детства, хотя мало замечала ее. Сейчас у депо сердито пофыркивали паровозы, на линии зажигались огни, в глубине запасных путей проходили маневры, а за шлагбаумом сыто мычали коровы, разбредаясь по улицам Рабочей слободы. Наступил тихий прохладный вечер, и поднимающаяся луна все ярче освещала крыши вагонов и новую двухэтажную, еще не достроенную дежурку, около которой стоял пакгаузный сторож, как-то картинно опираясь на винтовку. Это был дед Арсений, человек добрый и разговорчивый, но чрезмерно кичившийся своей должностью, потому что эти пакгаузы когда-то сторожил Алексей Пешков. Дед Арсений никогда не упускал случая поговорить с тетей Олей и даже подзадорить ее, когда она приходила сюда ругаться с каменщиками и плотниками, которые, по ее мнению, слишком часто устраивали перекур. Но дед Арсений никогда не затевал разговора о своих истинных чувствах к этой женщине, хотя и жалел об этом. Много лет он молча, терпеливо и бескорыстно любил эту женщину, не решаясь сказать ей об этом. Увидев тетю Олю, сторож вынул изо рта трубку, переступил с ноги на ногу и усмехнулся. — Все бегаешь? — спросил он. — Кручусь, — сказала тетя Оля. — Моя служба беспокойная, не твоей в пример. Ты вот ходишь вполшага да трубочку покуриваешь. Курорт, а не служба. Но погоди, доберутся и до тебя, годиков через пять на твою должность крест поставят. — Все может быть, — сказал дед Арсений. — Баловства-то стало меньше. У меня за два года только одну пломбу на грузило срезали. Срезали ее, значит, днем, и пало у меня подозрение на Сеньку Чижика. Уж очень он шустрый и предводительный паренек. Ну, щелкнул я его раз, щелкнул другой, а потом как он начал меня таскать по своим инстанциям, как начал трясти, дело-то чуть до народного суда не довел. Или, говорит, извинитесь перед честным пионером — или пожалуйте к ответу. И пришлось извиниться. — А ты как же думал? Может, твою пломбу-то коза сжевала. А коза, известно, озорница. Ну хватит, заболталась я с тобой, — сказала тетя Оля, — а у меня шесть бригад на вызове. Дед Арсений вскинул винтовку за спину и зашагал вдоль пакгаузов. Вспомнилось ему, как в пятнадцатом году вернулся он с фронта на поправку. Полюбил он тогда так, что просто хоть караул кричи. Была тетя Оля в те времена красавицей: глаза как фонари, косы в кулак толщиной, а плечи такие, каких, может, и у самой императрицы Екатерины не было! Эх, да что об этом зря вспоминать! Радости-то никакой он от нее не увидел: муж у нее на уме был, тоже солдат, только погибший, пал где-то на Карпатах. Хотел Арсений сватов засылать, да постеснялся, а когда вернулся с гражданской — и вовсе оробел. Видит, ходят вокруг ее дома всякие слесари да телеграфисты. И все без толку. «Ну какой, — думалось Арсению, — буду я ей муж? Служба ночная, заработки небольшие, здоровья на одного только хватает…» И он отступил. Может, зря, конечно. Женщина хорошая, а тоже, видать, не нашла в ту пору подходящего человека. Дед приостановился, вздохнул и зашагал дальше. А тетя Оля направилась в Рабочую слободу. Ее шаг был теперь не таким свободным, как прежде, и она шлаосторожно, экономя силы и жадно глотая воздух пересохшим ртом. В доме машиниста Долмата Егорыча она выпила стакан чаю, у Суязовых проглотила какой-то порошок, а у Тютюхина даже рассмеялась, просматривая фотографии, на которых красовался сам глава семьи в трусах и с войлочной шляпой в руке. Он был снят на берегу Черного моря, откуда он только что вернулся, и тетя Оля рассказала ему все новости и пригубила рюмку, наполненную кавказским вином. — Ну, а ты-то собираешься в отпуск? — спросил хозяин. — Думаю взять в августе. Мне Поленька покоя не дает. «Поедем, говорит, мама, на Волго-Дон, ну что тебе стоит? Билеты у нас бесплатные. Денег хватит. Да и переночевать нас каждый пустит». А я ей говорю: «Да кому мы там нужны, Поленька? Ну, подумай. Мы только людям помешаем». А она твердит свое: «Никому мы не помешаем». От Тютюхиных тетя Оля вышла еще более ослабевшей, чувствуя то жар, то ледяной озноб, то боль в висках. Старый машинист Прокофий Иванович Шаповалов, как всегда, встретил тетю Олю молчаливой улыбкой и старательно расписался в книге, пометив не только час, но и ту минуту, в которую был доставлен вызов. Все это он проделал молча, потому что ни у себя дома, ни в гостях, ни в поездке Прокофий Иванович не отличался разговорчивостью, и хотя все его любили, однако выбирать куда-нибудь остерегались из-за его очень замкнутого характера. Как всегда, в Рабочей слободе последним получал вызов Савелий Федорович Боровиков — машинист курьерского поезда. Сейчас в доме Боровиковых было темно, и только одна лампочка, горевшая над крыльцом, тускло освещала Серафиму Ильиничну, которая стояла у распахнутой калитки и, по определению тети Оли, «разводила уже пары», ожидая мужа с рыбной ловли. Ее полная фигура покачивалась от негодования, а насмешливый взгляд, устремленный в конец улицы, как бы предсказывал, что никакой рыбы Савелий Федорович все равно не поймает, сколько бы он ни тратил времени на свою пустую затею. Много душевных сил потратила она, чтобы выбить из мужа его необыкновенную тягу к реке. Несколько раз она даже топила его лодку, дважды сжигала снасть. Но все эти крайние меры только еще сильнее привязали Савелия Федоровича к тому излюбленному им месту на берегу, где вода отражала его маленькую фигуру, застывшую над обрывом с длинным камышовым удилищем в руках. Приняв вызов от тети Оли, Серафима Ильинична еще раз взглянула в конец улицы и, не увидев там ничего утешительного, гневно сдвинула брови и погрозила пальцем в ту сторону, откуда должен был появиться Савелий Федорович. — Сколько раз я ему говорила: «Ну чего ты сидишь у воды, золотую рыбку поймать хочешь? Так ты ее все разно никакими крючками не поймаешь. Тьфу, чтоб тебя там комары слопали». Серафима Ильинична воинственно закатала рукава кофты, а тетя Оля двинулась дальше, в Солдатскую слободу, осторожно стуча в окна и заходя то в шумные, то в тихие дома с маленькими двориками и узкими дорожками, выложенными красным кирпичом. Молодые паровозники встречали ее весело, а старики машинисты — молчаливо и как-то сосредоточенно из-за многолетней привычки щуриться в пути и тем самым защищать свои глаза от солнца или жгучей метели, от пыли или косых дождей. Этот темноватый отпечаток хмурой сановитой сосредоточенности не сходил с лиц стариков даже тогда, когда они смеялись, горевали, гуляли на свадьбах или шутили с тетей Олей. Вручив и здесь девять вызовов, тетя Оля покинула слободу значительно позже, чем это полагалось по времени. Она прибавила шагу, но вскоре остановилась и вытерла пот с лица. То, что с ней происходило сейчас, казалось странным и удивительным. Хотя боль в ноге и тяжесть во всем теле беспокоили тетю Олю и раньше, но прежде все это исчезало через час или два и не внушало такой большой тревоги, какую она испытывала сейчас. На улице было пустынно, светло и тихо. Во всех домах горело электричество, сливаясь с таким ярким лунным светом, какой бывает только в маленьких городках. Этот свет стекал с крыш и деревьев, дрожал в воздухе, освещал деревянные тротуары, пустое пространство между домами и провода, в которых запутались два бумажных змея. Они чуть покачивались и тянулись к тете Оле, когда легкий ветерок дул в ее сторону и освежал воздух, все еще не остывший от дневной духоты. В конце улицы, у палисадника, помощник машиниста Дегтярев, по-видимому, никак не мог расстаться с Таней Силантьевой и держал в одной руке ее руку, а в другой — свой железный сундучок. «А ведь и я когда-то была молодая, — подумала тетя Оля. — Как у меня ныло сердце, когда я провожала Василия в поездку, а вот Таня ничего не боится. Она и целуется звонко, на всю улицу. Да, Вася, нам бы жить и жить, и ездил бы ты теперь на курьерском с тем сундучком, что хранится у меня в чулане…» Эти мысли почти до слез тронули тетю Олю. Где-то далеко, может быть в Заозерье, девушки пели песни высокими чистыми голосами. В поемных лугах кричали дергачи, у путевой будки сердито сопел паровоз, одолевая подъем, а в небе гудел самолет с красными сигнальными огоньками, которые, как две звезды, кружились в великом ночном покое. За этими двумя плывущими огоньками с недоумением наблюдал пес Пират, лежавший на крыльце дома. — Ну что, скучно тебе, старому? — сказала тетя Оля. — Обленился ты, леший, даже брехать перестал. Она потрепала его по спине, усеянной прошлогодними репьями, и, стараясь ступать осторожней, побрела дальше, в город, где тоже жили паровозники, недавно получившие квартиры в большом четырехэтажном доме. Тете Оле нужен был Павлов — молодой машинист, которого она когда-то крестила, таскала за вихры, учила уму-разуму. Это был ее любимец, и она никому не позволяла ругать его, особенно старикам машинистам, которые, по мнению тети Оли, только из зависти критиковали работу ее крестника. Еще издали она заметила темные окна в квартире Павловых. С большим трудом она поднялась на третий этаж, и ее предположение подтвердилось. Ни самого хозяина, ни его жены не было дома. Не оказалось Николая и в клубе. Тетя Оля застала его на бульваре, за круглым столиком, и лицо ее исказилось от гнева, когда она увидела перед ним кружку пива и воблу, еще не очищенную от чешуи. Он сидел под тополем в новом белом кителе и задумчиво рассматривал гуляющих, которые двигались вокруг фонтана, словно ярмарочная карусель. Павлов был чем-то расстроен. Его крупное загорелое лицо было унылым. — Так, крестничек, так, — многозначительно сказала тетя Оля. Ей очень хотелось сесть и отдышаться от боли, но надо было торопиться с остальными вызовами, и она пересилила себя и раскрыла книгу, в которой Павлов должен был расписаться. — Значит, гуляешь. Тебе надо ехать, а ты пьешь. — Да ведь это пиво, тетя Оля. — А пиво — не напиток? Там, где пиво, там и водка. Ну-ка, поднимайся. Она выплеснула остатки пива в кусты и вместе с Павловым выбралась из толпы гуляющих на тихую боковую улицу, где в самом ее конце горел только один фонарь. Он казался таким далеким, что тетя Оля невольно остановилась, чувствуя, как убывают ее силы и как сжимается сердце даже при медленной ходьбе. — Подожди, — сказала она, — ты почему же без Нины? — Поругались, понимаешь. Расцарапались хуже кошек. — Что ж, у вас других занятий нету? Получили квартиру, ну и сидите дома. Радио слушайте, а не бегайте друг от друга. Небось и причина-то с воробьиный нос. — Не знаю, не мне судить. А причина, конечно, есть. Старая причина. — Ну, что же это за причина, ежели Нинка родилась красавицей? Да на нее с малых лет все смотрят, и, слава богу, никто, кроме тебя, не сглазил. Сидит в тебе, крестничек, какая-то беспричинная ревность. От этого ты и бесишься, боишься — уйдет. — А чего мне бояться? Я ее силой в загс не тащил, и не так я мечтал жить, когда расписывался. — А ты что же думал: ежели ты распишешься, так на нее меньше смотреть будут? — Я тебе, крестная, откровенно скажу. Жизнь у меня личная очень трудная, до того беспокойная, что как будто я все время хожу по минному полю. — А ты не ходи, — сказала тетя Оля, — тебя в спину никто не толкает. Возьми и обойди сторонкой. — Да как же обойдешь-то, как? Вот, например, на днях пошли мы с Нинкой в театр, а на нее, понимаешь, смотрят, уставились, как сычи, и глаз не спускают и летчики, и инженеры, и наша деповская братия. Тут поневоле станешь нервным. — И вы, значит, из-за этого и поругались? — спросила тетя Оля. — Может быть. Откуда же я знаю, что у таких людей на уме? Разнервничался я, да и Нина вспыхнула. «Дурак ты, говорит, ревнивый. Ну разве я виновата, что на меня смотрят? Ведь важно, говорит, чтоб я не смотрела. Как ты этого не можешь понять?» Я, конечно, понимаю, а поделать с собой ничего не могу. Видно, сознания во мне маловато. — Что-то ты, крестничек, разговорился, а ну-ка, дыхни, — приказала тетя Оля. Она приподнялась на цыпочки, и Павлов покорно исполнил ее приказ. — Верно, водкой не пахнет. Ну, а Нина-то где? — К матери ушла. Разнервничалась от моих слов и так хлопнула дверью, что даже абажур закачался. Ты бы как-нибудь посодействовала, сходила бы туда, что ли. Сама ведь понимаешь, какие у меня бывают поездки. Осей-то вон сколько — того и гляди порвешь состав на подъеме. — Ладно, нынче же зайду, — сказала тетя Оля. — Только ты сам-то будь подушевней… да подоверчивей. Ну, счастливого тебе пути. Поезжай. Докажи этому старому черту Зябликову, что зря он тебя пять лет в помощниках мариновал. Тетя Оля постояла еще несколько минут у палисадника, а затем двинулась дальше, в ту сторону, где одиноко горел фонарь. После разговора с Павловым она почувствовала себя еще хуже. Теперь она уже все чаще стала останавливаться у палисадников и под деревьями и все острее ощущала тяжесть в ногах. Она чаще садилась на скамейки, но грохот передвигающихся составов и свистки паровозов поднимали тетю Олю с места, и она снова зажигала свой карманный фонарик и стучала в окна, вызывая паровозников в поездку. Давно уже умолкла музыка на бульваре. В городе погас свет, на улицах с деревянными панелями затихли шаги прохожих. Только ночь все еще не кончалась, а вместе с нею и это самое длинное и мучительное дежурство в жизни тети Оли. В четыре часа утра она вернулась в дежурку, и хотя все вызовы были вручены, тетя Оля все-таки чувствовала себя виноватой, оттого что она больна и что одной ей теперь не дойти даже до больницы. — А ты знаешь, Лукьяныч, наделала я вам хлопот, — сказала она диспетчеру. — Заболела я. Видно, это последнее мое дежурство. Она сняла с головы платок и закрыла глаза. Страшная усталость охватила тетю Олю. Ее лицо было землистого цвета. Пыль лежала в глубине ее провалившихся щек. В пыли были и волосы, прилипшие к морщинистому лбу. Лукьяныч помог ей сесть. — Надо бы доктора вызвать, — сказал он. — А зачем его тревожить в такую рань? — ответила тетя Оля. — Он тоже ведь за день-то не меньше нашего намаялся… Ничего… Я потерплю до утра. Ее перенесли в тот отсек, где отдыхали иногородние паровозники, и уложили на свободную койку, расспрашивая, что же это за болезнь, которая так внезапно настигла тетю Олю. Особенно допытывались старики. Они спрашивали шепотом, суетились около койки, пичкали тетю Олю какими-то порошками из домашней аптечки. Насвистывая что-то очень веселое и покачивая головой, в дверях показался помощник машиниста Арбузов в расстегнутом комбинезоне и с железным сундучком в руке. — Привет! — крикнул он. — Что тут за происшествие? — Фуражку сними… дурень, — хмуро сказал Лукьяныч. — Не видишь, тетя Оля захворала. Он направился в свой отсек и сел перед аппаратом, пораженный и испуганный не столько болезнью тети Оли, сколько словами о последнем ее дежурстве. «Что же, — подумал он, — и мое последнее дежурство не за горами. Вон их сколько выбыло за эти годы!» Он вынул из ящика стола довоенный список паровозных бригад и стал читать его, останавливаясь на фамилиях тех людей, которые или погибли на фронте, или ушли на пенсию, охая в ненастные погоды от контузий и ран. Это чтение вскоре было прервано далеким голосом с линии, откуда запрашивали резервный локомотив, и, пока Лукьяныч отвечал на запрос, тетя Оля лежала, не шевелясь и вслушиваясь в разговоры, которые доносились до нее сквозь тонкую дощатую переборку. — Да, это верно. За войну мы почти полсвета обошли. Только вот без родимой сторонки трудновато. Мне сто восьмой километр всю войну мерещился, и чего он ко мне прицепился — я и сам не знаю. — А я, ребята, как переступил границу, так сразу же почуял другой воздух. Никогда не видел снов, а тут вдруг, пожалуйста, как только сомкну глаза, непременно вижу то башни Кремля, то лес, то клуб, то самого себя, будто я сижу вот в этой дежурке с железным сундучком и жду своего семьдесят второго, а его все нет и нет. Верите, иной раз вскочишь с земли, а сердце у тебя так колотится, что и унять его невозможно. — Это что — во сне. Сон, он как дым — покружится и растает. А я вот, ребята, не во сне, а наяву за границей на паровозе одну поездку сделал, — сказал помощник машиниста Быстров. — Как-то перебрасывали нас по железной дороге. Отпросился я у нашего комбата и подхожу к паровозу, Показываю машинисту три пальца и говорю: «Вот сколько лет я не стоял у топки, понимаешь, камрад», а он ухмыляется вроде нашего дяди Саши и молоточком стучит по бандажам. Эх, да что тут толковать про бандажи! Вцепился я, ребята, в поручни. Первый раз прикоснулся к ним за три года. Сжал их и замер, как припаянный. Слушая эти разговоры, тетя Оля пошевелила пальцами, словно стараясь за что-то зацепиться, но ее руки были так бессильны, что она не смогла удержать даже одеяла, сползающего с койки. Она дышала ровно, и только вздрагивающие уголки ее рта свидетельствовали о боли, а молчание — о том, с каким трудом тетя Оля переносила эту боль.2
В шесть часов утра Лукьяныч сдал дежурство и повел тетю Олю в больницу. Остывший за ночь городок дышал прохладой. Но солнце начинало уже отогревать и сады, где крепчали голоса птиц, и улицы, где женщины открывали ставни, выгоняли из ворот скотину и суетились у водокачек с ведрами в руках. Вот в такой тихий и ранний час сторожиха больницы пропустила Лукьяныча и тетю Олю в калитку, и они оказались во дворе, где на деревьях чирикали воробьи, разжигая алчность полосатого больничного кота, который то замирал в траве, то дыбил шерсть, приготавливаясь к прыжку. — Ведь вот дьявольская порода! — сказала сторожиха, ткнув вязальными спицами в сторону кота. — Ну, чего ему, проклятому, не хватает — гладок, сыт, а все равно хищничает. Брысь, разбойник! Сторожиха взмахнула руками, а тетя Оля села на табуретку, чувствуя в своей беде сходство с тем далеким несчастьем, какое она пережила, когда получила известие о гибели мужа. Но тогда она хоть что-то замечала, а теперь нестерпимая слабость мутила ее разум, и она ничего не видела вокруг, хотя и смотрела на больничный двор широко открытыми глазами. Ее заострившееся лицо показалось Лукьянычу таким странным и ужасным, что он даже снял с головы фуражку, тяжело вздохнул и отвернулся, чтобы смахнуть слезу. — Ты, Лукьяныч, пожалуйста, не забывай про мою Поленьку, — еле слышно сказала тетя Оля. — Маловата она для самостоятельной жизни. — А ты не бойся, одна она не останется. Будет жить у нас или у Павлова, но лучше к Павлову. А то он еще обидится. Хоть и небольшой он твой родственник, но правила и тут соблюдать нужно. Как ты думаешь? — Ну что ж, пускай живет у Павловых. А вот пришли-то мы сюда, Лукьяныч, рановато. — Ничего не рановато, — вмешалась сторожиха. — Он, главврач-то наш, встает вместе с петухами: ни свет ни заря, а Иван Гаврилович уже в больнице. Ты, матушка, потерпи, потерпи минутку, а уж Иван Гаврилович не оплошает. Он и операцию сделает, и хворь как рукой снимет. Ты на молодость-то его не смотри, неважно, что у него бороды и усов нет. Но дело он свое знает. А вот и он. Слышите, как он палкой-то по палисаднику постукивает. Что ж, молод еще, видать, кровь-то у него по утрам так и играет. Через минуту действительно в больничной калитке показался врач Поздняков, тщательно выбритый, в светлом просторном пиджаке и в шляпе, которую он сразу же снял, здороваясь со сторожихой. Он принял тетю Олю ласково, стараясь с первых же минут завоевать ее доверие. У Позднякова уже был небольшой опыт, но он знал, с какой настороженностью относятся к нему старые железнодорожники, которые еще недавно лечились у Абесимова, проработавшего в этом городе не один десяток лет. — Так вот, мамаша, — сказал он, окончив осмотр, — никакого ревматизма у вас нет и не будет. А тяжело вам от многих причин. Во-первых, вы простыли, простудились. Возможно, даже схватили воспаление легких. Наверно, выпили после бани ледяного квасу. А в вашем возрасте этого надо остерегаться. — Квасу я, Иван Гаврилович, не пила, а вот в ливень четвертого дня попала. Дежурила я в ту ночь. Ну и промокла до ниточки, а заря-то была холодная. Мне бы в сухое переодеться надо, а я не сообразила. Думаю, авось как-нибудь перемаюсь. — Вот именно как-нибудь, — укоризненно сказал Поздняков. — Да разве можно так относиться к своему здоровью? У вас, например, в ноге сидит осколок. Вы что же, думаете, это не сказывается на вашем самочувствии? Конечно, сказывается. И чем преклоннее будет ваш возраст, тем сильнее отразятся в вашем организме все запущенные болезни. — А много у меня этих болезней? — испуганно спросила тетя Оля. — Пока немного, но из больницы я вас не выпущу. — И резать будете? — Зачем резать? Просто после того, как вы поправитесь, выну у вас из ноги осколок — и все. Интересно, а где же вас так угостили? — На Волге, — глухо сказала тетя Оля. — Ездила я тогда месяца три за кочегара. Мужиков-то мало было. Вот и пришлось мне встать у топки. — Значит, в бомбежку попали? — спросил Поздняков, намыливая руки и подставляя их под кран. — Да не в одну, — сказала тетя Оля. — Почему же вы сразу операцию не сделали? — спросил Поздняков. — А очень просто. Пока лежала от контузии да набиралась сил, нога моя и зажила. Ну, думаю, осколок — беда небольшая. Не сдвинулся бы он только с места. — А вы бы, мамаша, поменьше думали об этом да почаще к врачам заглядывали. Так можно и без ноги остаться. Вам сейчас шагу ступить нельзя, а вы целую ночь бегали. Он вызвал дежурную сестру и приказал ей после рентгена положить тетю Олю в палату номер пять.3
В палате стояло много коек, и только одна из них была занята Надеждой Карповной Хрисанфовой — женой машиниста, которую тетя Оля знала еще с девичьих времен. Теперь это была старая женщина, и на ее дряблом лице только одни глаза выглядели по-прежнему молодо и лукаво улыбались, словно Надежда Карповна знала что-то такое, чего не знал никто. Она очень любила детей и работала в детском саду поварихой, пока не опрокинула на себя горшок с кипящим маслом и не попала в палату номер пять. — Батюшки мои! — воскликнула Надежда Карповна, увидев тетю Олю. — Наконец-то молодой доктор послал мне счастья. А то лежу я одна, как колода, словом перекинуться не с кем. Я уж от тоски-то задумываться стала. А что, думаю, вдруг на самом деле бог есть, а я двадцать лет без креста хожу. — Надежда Карповна звонко рассмеялась. — Ну, теперь мы заживем, теперь нас двое, а это уже сила против каждой болезни. Много дней пролежала тетя Оля под наблюдением Позднякова, и, когда она совершенно поправилась от воспаления легких, молодой врач извлек из ее ноги осколок и уже больше ничем не донимал тетю Олю, считая ее здоровье в полной безопасности. После операции тетя Оля снова оказалась в одной палате с Надеждой Карповной. Взгромоздившись на подоконник, Надежда Карповна с утра и до вечера проводила время у открытого окна, передавала тете Оле привет от Поленьки и вела разговоры со знакомыми, проходившими мимо больницы, останавливала ребятишек, когда их выводили на прогулку, и спрашивала, вкусный ли сегодня был обед в детском саду. Ребятишки поднимали головы и отвечали хором: «Вкусный!» Но она не очень доверяла им, и всякий раз, как только ее помощница возвращалась с работы, Надежда Карповна останавливала ее и учиняла ей допрос: — Ты, Дуська, смотри. Я твой характер знаю. Споришь, а без толку. Ты вари супы так, как я тебя учила, чтобы и легкость была, и ароматность, и сверху никакого жира. Ребятишки страсть как не любят, ежели в супах жир пятачками плавает, слышишь? — Слышу. — Ну то-то, делай как приказано. Ступай. После этого Надежда Карповна закрывала окно. Она сразу же успокаивалась и в изнеможении опускалась на постель, а тетя Оля поворачивалась к ней лицом и затевала разговор о своей приемной дочке Поле. — Жалко мне ее, — говорила она. — Очень Поленька мечтательная девочка. Ей хочется, чтобы в жизни все было красиво, как на картинках, чтобы у нас пианино было, а у соседской девочки — скрипка. Раньше я думала: проработаю еще лет пятнадцать, подниму дочку на ноги, и будет она инженером или врачом, а получается вон что. Вместо ученья дежурство под моим окном. Третий месяц пошел, как я в больнице торчу. — Беда невелика, — утешала Надежда Карповна. — Ну, похвораешь, ну и что? В крайнем случае будешь опираться на пенсию да на костыль, а Поленька и без тебя пробьет дорогу. Девочка она способная, захочет инженером стать — станет; в артистки пойдет — тоже неплохо. Нынче в каждом городке свой театр имеется. — А я бы хотела, чтобы она доктором стала, замуж бы вышла и чтобы больше не было ни войны, ни новых гитлеров. Тетя Оля брала с тумбочки осколок, извлеченный из ноги, и рассматривала его острые грани с какой-то брезгливостью и удивлением. — Ведь столько лет прошло, — говорила она, — наверно, и летчик-то тот давно уже сгнил в земле, а осколок его — вот он. Поздняков дал, говорит — на память. Тетя Оля вздыхала и, не зная, что делать с осколком, снова клала его на тумбочку и прикрывала марлей. Однажды, когда Надежда Карповна ушла на перевязку, в палату влетела Поленька в легком ситцевом платьице и быстрыми беззвучными шагами приблизилась к койке, на которой лежала тетя Оля. За время разлуки девочка нисколько не изменилась. Никаких перемен не было заметно ни в ее смуглом личике, ни в синих спокойных глазах, ни в фигуре. Но тете Оле показалось, что Поленька стала и выше ростом, и красивее, и взрослее. Они обнялись и в первые минуты не могли вымолвить ни одного слова. Потом заговорили обе одновременно и оборвали разговор. — Ты говори первая, — попросила Поленька. — Скажи, больно было, когда осколок вынимали? — Нет, не больно. — А я так волновалась, так волновалась, две ночи уснуть не могла, — сказала Поленька, развязывая пакет и вынимая из него книги, яблоки, пирожки и плитку шоколада. — Книжки я сама выбирала — видишь, всё с картинками. — Хорошо. Обязательно прочитаю, но ты, дочка, за садом поглядывай, сад у нас дорогой, особенный, в нем каждая яблонька получена от самого Ивана Владимировича Мичурина. В тот же день тетю Олю посетил и комсорг Вася Кожемякин. Тетя Оля обрадованно приподнялась на койке и улыбнулась, показывая комсоргу на табуретку. — Ну, Вася, садись и рассказывай. Скучно мне без вас. Даже сама не знала, что будет так тошно. Ну, как там Лукьяныч, лютует? — Да, спуску никому не дает, — ответил Кожемякин. — Нынче, говорит, не война, надо ездить поаккуратнее. За каждый сломанный винтик начет делает. — Так. Ну, а еще что? — А еще был у нас начальник дороги, генерал. Депо осматривал, а потом зашел в дежурку. Увидел Зябликова, и тот, конечно, пристал к нему со своей махоркой. Закурите, дескать, товарищ генерал. Ну и закурили. Вот тут-то генерал про тебя и вспомнил: «А где же, говорит, ваша тетя Оля? Боюсь я ее, как бы она снова за папироску не турнула меня из дежурки. Давайте лучше выйдем». — Значит, все еще помнит. Ну, а как он, обиду-то не затаил? — А на что же ему обижаться? Наоборот. Он даже что-то в книжечку записал и попросил передать тебе, чтобы ты скорее поправлялась. Ну, предвидятся и новости, большие изменения в твоем деле. — Какие же, Васенька? — Пока об этом я помолчу, изменения к лучшему. Тетя Оля растроганно посмотрела на Кожемякина. Потом показала ему осколок и, узнав, что паровозники переехали в новую дежурку, сначала обрадовалась, а потом всплакнула и умолкла, вспомнив совет Позднякова, что ей нельзя расстраиваться. После его ухода она весь день тосковала, перебирала в памяти знакомых, думала о их судьбе и о своей жизни. Вспомнилась война и тот вечер, когда она вызвала Борисова, Лежнева и Жихарева в последнюю их поездку. Это были молодые машинисты, к которым тетя Оля относилась с материнской нежностью и которые хотели дать ей рекомендации в партию. Но они погибли, а просить рекомендацию у других паровозников тетя Оля тогда не решилась. «И зря, — подумала она, — ведь каждый бы дал». Она вспомнила, как ей было трудно в то время и как трудно было всем. В те дни много осиротевших домов стояло на ее пути. Она должна была обходить их и не попадаться на глаза ни вдовам, ни матерям погибших, потому что ее появление, даже отблеск ее зажженного фонаря напоминал осиротевшим семьям о тех, кто не вернулся из последнего рейса. Тетя Оля открыла глаза, но не могла побороть воспоминаний, продолжавших тревожить ее. Она вспомнила и машиниста Панфилова, вдовца, который когда-то ухаживал за ней и не добился взаимности только потому, что был тихим и робким человеком. Панфилов погиб на фронте. Когда-то над ним посмеивались и прозвали его молоканином за то, что он не пил водки и не курил. Он считался неплохим машинистом, но работать с ним было скучно и неинтересно, и молодежь не шла на его паровоз. Только перед самой войной Панфилову удалось найти по своему характеру и помощника, и кочегара. Но ездить им пришлось недолго. Когда началась битва на Волге, они в одну из своих поездок с эшелонами боеприпасов были застигнуты немецким парашютным десантом. Они остановили свой состав со снарядами, молча попрощались друг с другом и взорвали его. Так исчез Панфилов со своей бригадой, а дня через три кто-то из машинистов привез его шапку, и она пролежала в дежурке целую зиму и на всю жизнь запомнилась тете Оле. Она не могла забыть и того утра, когда ей снова пришлось побывать на улице, где жил Панфилов. Его дом с заколоченными ставнями выглядел сиротливо среди других домов. За заколоченными ставнями слышалось жужжание заблудившегося в темноте шмеля. Как всегда, у этого дома ее встретил Пират и передними лапами открыл ей калитку, которую соседи не успели заколотить. Но тетя Оля в калитку не вошла: в первый раз за много лет она прошла мимо, и тогда Пират схватил ее сзади за юбку и потащил к дому, ощетинясь, как еж. — Да ты, леший, взбесился, — сказала тогда тетя Оля и ногой оттолкнула его. С тех пор он уже не встречал ее, а только смотрел на нее жалким, недоумевающим взглядом, потом стал сторониться, а потом и совсем перестал замечать ее… — Ты чего это, никак плачешь? — спросила Надежда Карповна. Тетя Оля промолчала. Она лежала на спине и сухими немигающими глазами смотрела в потолок. С улицы в палату проникали звуки репродуктора, шарканье прохожих, щелканье бича, но все эти звуки заглушались паровозными свистками и сердитым дыханием боровиковского локомотива, который готовили сейчас под курьерский поезд. Где-то далеко, у закрытого семафора, ревел паровоз. — Это мой Степан едет, — обрадованно сказала Надежда Карповна. — Сейчас поставит паровоз в депо, сундучок в руку — и домой. Помоется, поест — и сразу же в клуб. Но, может, он, черт лысый, вместо шахмат на бильярде теперь сражается? Как ты думаешь? — Да это не Степан. Это Павлов, мой крестник. Слышишь? У твоего муженька свисток помягче. — А я тебе говорю — Степан. Что же, я мужа не узнала? — Выходит, не узнала. Ты со мной не спорь. Я сорок лет верчусь среди ихнего брата. За версту любой паровоз по свистку узнаю. Она повернулась лицом к окну и стала вслушиваться в шум, доносившийся со станции и с запасных путей, где происходили маневры, потом она попробовала встать и пройтись, но Надежда Карповна зашикала на нее, замахала здоровой рукой. И тетя Оля снова легла на койку и не могла заснуть всю ночь.4
Дня через три, по приказанию Позднякова, тете Оле принесли костыли. В палате было душно. За открытыми окнами все заметнее темнели облака, а когда они приняли лиловую окраску, в садах умолкли птицы и где-то за городом пророкотал гром, словно там прошел состав, груженный листовым железом. Делая утренний обход, Поздняков задержался в палате номер пять и заговорил с тетей Олей о самом неприятном — о том, что он непременно пошлет ее на медицинскую комиссию. — Нехорошо это, Иван Гаврилович, — сказала тетя Оля, — не пойду я ни в какие комиссии. Я знаю — от этой комиссии, кроме пенсионной книжки, ничего хорошего ждать нельзя, а мне на работу надо. — Ну, мамаша, пост ваш невелик. Обойдутся и без вас. — Да ведь они без меня там совсем избалуются, наплюют, накурят, сырую воду пить будут, в сапожищах на простынях спать. Я вчера как подумала об этом, так все свое лицо сожгла слезами. Неужто моей беде и помочь нельзя? — Да какая ваша беда, о чем вы беспокоитесь? Ходить вы будете, не ходить, а даже бегать, но ведь возраст. Возраст все-таки преклонный. К сожалению, старость — это пока неизменный спутник человека. — Все это так, — сказала тетя Оля. — Только мне и от работы отрываться нельзя. Без должности я — что лист без дерева. — Ну, как хотите, так и поступайте, — сказал Поздняков и вышел из палаты. Тетя Оля загадочно подмигнула Надежде Карповне, потом приподнялась с койки, встала на костыли и без посторонней помощи приковыляла к окну. Там она села на мокрый подоконник, радуясь, что может теперь передвигаться и даже видеть дома, деревья и прохожих, то есть все то обыкновенное, чего была лишена в течение многих дней. Она увидела улицу, но не сразу узнала ее. После грозы и ливня не только старые ветлы, но и дома казались помолодевшими. На противоположной стороне у панели толпились ребятишки и пускали бумажные кораблики в ручье. Ребятишки визжали, визжал и мокрый пес, который тоже суетился у канавы. С той поры тетя Оля, так же как и Надежда Карповна, стала коротать свое время на подоконнике. Она разговаривала то с Поленькой, которая прибегала к раскрытому окну по нескольку раз в день, то со знакомыми женщинами, то с паровозниками, живущими на этой улице. Приходил к больничному окну и дед Арсений, всегда с маленьким пакетиком, в котором были конфеты и печенье. Однажды в палату дежурная сестра ввела диспетчера Лукьяныча, Николая Павлова, комсорга Кожемякина и старого машиниста Зябликова, размахивающего длинными рукавами больничного халата, надетого наизнанку. По случаю необычной поездки, которую совершил Павлов, все они, кроме комсорга, были чуточку навеселе и потому особенно благодушно настроены и к тете Оле, и к Надежде Карповне, и к дежурной сестре Машеньке — дальней родственнице Лукьяныча. — Ну, что же ты тут лежишь? — сказал Лукьяныч, обращаясь к тете Оле. — У нас там такие дела творятся, а ты хвораешь. — Ох, Лукьяныч, старовата я стала. Придется тебе другую вызывальщицу брать. — А может, расправишь крылья-то? — Не похоже. Силы уже в ногах прежней нету. Да и сама я как-то износилась. Мы вот тут с Надеждой Карповной прикидывали, сколько километров я набегала за сорок лет… — Ну, теперь тебе бегать, может, и не придется, — как-то загадочно сказал Лукьяныч. — Ты особенно долго тут не залеживайся, а то ведь получается такая же история, как с гвоздем. Хоть и небольшой ты гвоздик, а ежели тебя нет — значит, фуражку на гладкую стенку не повесишь.5
После трех с половиной месяцев, проведенных в палате, после многих раздумий о том, как же дальше жить, тетя Оля получила направление на, комиссию и покинула больницу в жаркий августовский день на несколько часов раньше, чем предполагала. Поэтому она не увидела ни Поленьки, ни Павлова, ни Нины, которые обещали встретить ее у больничных ворот. «Ну ладно, беда невелика. Пойду-ка я потихонечку без ихней помощи», — подумала она и посмотрела на синее небо с редкими белыми облаками. Как ни храбрилась тетя Оля, но думы о своем будущем омрачали ее. Было душно. На деревьях лениво щебетали птицы. Из заборных щелей просачивались дымки от костров, разложенных в садах, где женщины варили варенье и переговаривались между собой. Еле уловимый запах яблок блуждал по всей этой тесной улице, окаймленной старыми березами и покосившимися телеграфными столбами. С узелком в руке тетя Оля постояла у больничной калитки и затем медленно двинулась в путь, жадно вдыхая горячий воздух и горько улыбаясь всему, что попадалось ей на глаза. Она шла очень медленно и, чтобы миновать дежурку, свернула в ту улицу, где длинные пакгаузы закрывали собой вагонный парк, пути и станционные постройки. Над пакгаузами метался белый домашний голубь, стараясь пристать то к одной, то к другой голубиной стае. За дощатым красным забором пофыркивал маневровый паровоз, а еще дальше, на восьмом или девятом пути, пронзительно свистел сцепщик Аниканов. На тендере маневрового паровоза с лопатой в руках появился Митя Соловцев, затем кочегар Беклемишев, а потом и сам Терентий Васильевич Тютюхин, недавно списанный по старости из пассажирских машинистов. Заметив тетю Олю, он хмуро улыбнулся, поднес два пальца к козырьку своей новой фуражки и опустил глаза, чувствуя себя виноватым, потому что он ни разу не навестил тетю Олю, хотя и собирался зайти к ней в больницу всякий раз, как только наступал воскресный день. — Терентий Васильевич, а Терентий Васильевич! — крикнула тетя Оля. — Ты слышишь? Здравствуй, говорю. Ну как, все живы-здоровы? — Пока все в целости, — сказал он. — А ты чего же в дежурку-то не зашла? Ну, я тебе скажу, и счастливая же ты женщина. Ушла в больницу вызывальщицей, а вернулась оттуда — королевой. Терентий Васильевич широко раскинул руки, словно он готовился кого-то обнять, а Митя Соловцев поспешно спустился в паровозную будку и протяжным, витиеватым свистком приветствовал тетю Олю. — Митя, еще разок! — крикнул Тютюхин и повернулся к тете Оле. — Это он тебя поздравляет. — С чем? — А ты не знаешь? — Нет. — Ну так иди. Там узнаешь. Все равно тебе никто не расскажет, пока не придешь в дежурку. Такой уговор был. Тютюхин приложил два пальца к козырьку и скрылся в паровозной будке, а тетя Оля направилась к вокзалу, чувствуя, что эта встреча со своими людьми была необыкновенно приятна. После долгой разлуки она наконец увидела вокзал и задымленное депо, где под парами стояло несколько локомотивов. На главном пути отчетливо были видны шпалы, похожие на ступени какой-то длинной лестницы, упирающейся своим острым концом в далекую путевую будку. Встревоженными, широко раскрытыми глазами обвела тетя Оля с детства знакомые места и вдруг зажмурилась от острой радости и улыбнулась, сама не зная чему. — Бабушка, а бабушка, это не ты обронила? — спросил Сенька Чижик, которого когда-то напрасно обидел пакгаузный сторож, дед Арсений. Мальчик протянул узелок тете Оле, предполагая, что она идет из бани, и удивляясь странной привычке взрослых, которую он никак не мог понять. «Ну, что хорошего в бане, да еще летом? — подумал он. — То ли дело на речке. Плавай сколько хочешь. В песке лежи! Ныряй!» Он с сожалением посмотрел на тетю Олю. Был полдень. От нагретых солнцем составов пахло то мазутом, то скотом, то антоновскими яблоками. Большие свежевыкрашенные машины стояли на открытых платформах. Подлезая под вагоны, тетя Оля с большим трудом выбралась на свободные пути и увидела старую дежурку с обрезанными проводами, изолированную от всего мира, покинутую и обреченную на слом. Ее окна были наглухо заколочены железными листами, стены испещрены меловыми рисунками, а двери закрыты на замок, который напоминал игрушечный бочонок. Молчаливая скворечня, пустые гнезда на березках, трава, выросшая у порога, разбитая, осыпающаяся завалинка и пожелтевшие окурки так сильно поразили тетю Олю, что она несколько раз обошла вокруг дежурки, стараясь найти хоть какую-то щелку, чтобы заглянуть внутрь, но этой щелки она не нашла. Тогда ее охватило двойственное чувство — чувство торжества над этим покосившимся строением, которое наконец перестало существовать, но вместе с тем и жалости. Тете Оле все-таки было жаль дежурки, как и своей молодости, промелькнувшей давным-давно. «Ну что ж, — подумала она, обращаясь к дежурке, — видно, так тому и быть: заколотили тебя — и хорошо! Ну, прощай, может, больше не увидимся». Тетя Оля постучала палкой по тускнеющим поручням старой дежурки и вскоре оказалась перед двухэтажным кирпичным зданием, украшенным антенной, замысловатой лепкой и двумя большими матовыми фонарями, висевшими над парадным ходом. Нитки проводов соединяли это здание с внешним миром. Под окнами были посажены молоденькие березки. У дверей, на площадке, был постелен половик, и тетя Оля вытерла о него башмаки и, вздыхая, перешагнула порог этого нового помещения, где разместились паровозники. Она вошла бесшумно, чувствуя робость и поражаясь великолепием комнат, предназначенных для отдыха паровозных бригад и для других надобностей. В первом этаже, за дверью душевой, шумела вода. Во втором этаже вкрадчиво и мягко звучала музыка, доносившаяся из комнаты, предназначенной для вызывальщиц, которая была соединена электрическим звонком с диспетчерской и заставлена книжными полками, стульями и столом. В этой комнате за маленьким столиком сидела Настя Парамонова и в одной руке держала телефонную трубку, а в другой — маленькое зеркальце, то приближая его, то отстраняя от веснушчатого загорелого лица. — Мне товарища Крутоярова, — сказала она в телефонную трубку. — Товарищ Крутояров, вам вызов. Явиться в десять ноль-ноль. Она повесила трубку и посмотрела на тетю Олю. — Ну, здравствуй, — сказала тетя Оля. — Это с кем же ты так разговаривала? Какой же он тебе товарищ? Ему шестьдесят шесть лет, у него есть имя и отчество… пять орденов. Дурная! У него уже внуки твоего возраста. Явиться, то есть как это явиться? Ты что, в милиции работаешь? Эх, Настя, Настя, и что у тебя в голове — неизвестно. Ты даже такую простую работу и то выполнить не можешь. — А мне неинтересно старушечью работу делать… — сказала Настя. — Я в техникум собиралась секретарем пойти, а меня сюда прислали. — Ну так вот, дня через три ты отсюда уходи. Это место мое. — Тетя Оля пришла! — послышался чей-то голос в коридоре. Ее сразу же окружили. — Качать ее, ребята! — сказал помощник машиниста Арбузов. Но тетя Оля замахнулась на него узелком, и все засмеялись, а Зябликов и Павлов подхватили ее под руки и повели в диспетчерскую, к Лукьянычу. — А, вернулась! — сказал Лукьяныч. — Ну, проходи. Ишь как ты на больничных харчах подобрела! Никаких наших упущений не замечаешь? Нравится? — спросил он, окидывая диспетчерскую восторженным взглядом. — Да это, Лукьяныч, не дежурка, а дворец. Только цветов и не хватает. — Не торопись, вырастишь нам и цветы, — сказал Лукьяныч. — Раз ты пришла — значит, все будет. Тут, понимаешь, в твоем деле некоторые изменения произошли. Теперь каждому паровознику на дому телефон поставили. Поэтому будешь ты у нас теперь не только телефонной вызывальщицей, но вроде как и культурником. Книги, журналы, газеты, приемник — все это на твою ответственность. Ну, проводите ее, ребята, а ты, Николай Константинович, свези ее на своем мотоцикле домой, и чтобы в следующее дежурство ты была здесь… Все высыпали на полотно. Полуденное солнце слепило глаза. Накатанные поверхности рельсов отливали темной синевой, а испачканные мазутом шпалы блестели и отчетливо выделялись даже на тех путях, которые были заняты составами. Перекликающиеся свистки паровозов вывели тетю Олю из оцепенения, и она встала рядом с Зябликовым, все еще не вполне осознавая, что происходит вокруг, но чувствуя себя под защитой этих людей, с которыми она проработала немало лет.1954
 С БЛАГОПОЛУЧНЫМ ПРИБЫТИЕМ
С БЛАГОПОЛУЧНЫМ ПРИБЫТИЕМ
Каждый день ровно в девять часов утра в Белогорск прибывал скорый московский поезд.
Минут за пять до прибытия на перроне появлялись экспедиторы и, покрикивая на пассажиров, катили две тележки к тому месту, где уже стоял сцепщик Аниканов с засунутыми за пояс брезентовыми рукавицами. Так было и Сегодня, хотя прошел слух, что скорый опаздывает.
— Вот тебе и Плетнев. Хваленый машинист, — сказал один из экспедиторов, — семи минут нагнать не может.
— Не бреши, — сказал сцепщик, — не семи, а восемнадцати. Нагнать такое время — талант нужен, а он у Плетнева есть. Смотри, идет — точность как в аптеке.
— С благополучным прибытием, Яков Андреевич, — сказал сцепщик, когда скорый поезд остановился у белогорского перрона. — Где это вас дождичком похлестало? Видать, знатно выкупались.
Сцепщик запрокинул голову, осматривая еще не просохшие поручни и ступени, и почтительно улыбнулся, пожимая руку машинисту. Затем он отцепил паровоз и встал на подножку тендера, продолжая разговор с Плетневым.
— Нет, как там Авилов ни пыжится, а против вас, Яков Андреевич, у него гайка слаба.
— Это почему же?
— А так, слаба, и все, — сказал сцепщик.
— Ну, а новости-то есть какие-нибудь?
— Есть. Авиловская жинка родила.
— Да ну? Мальчика или девочку?
— А кто ее знает, родила, и все.
У выходной стрелки сцепщик спрыгнул с тендера и скрылся в гуще товарных составов, а машинист вытер руки чистым концом и зевнул, предвкушая впереди и сытный завтрак и сладкий отдых.
Несмотря на усталость, Яков Андреевич не торопился домой, а тихо вел паровоз к депо, находясь все еще под впечатлением совершенной поездки.
По-видимому, он давно привык к тому уважению, каким окружали его люди, и сейчас это уважение он воспринимал спокойно, отвечая на поклоны знакомых то скупой улыбкой, то чуть заметным взмахом руки.
Из окна паровозной будки ему хорошо была видна привокзальная улица, залитая утренним солнцем, и булыжная мостовая, поросшая травой.
Среди редких прохожихЯков Андреевич заметил внука и потянулся к свистку, чтобы вернуть мальчишку, который решительно шагал к центру города.
Но, услышав знакомый паровозный гудок, мальчик не изменил своего направления, а только посмотрел из-под ладони на деда и зашагал еще решительнее.
«Недолго погостил — наверно, с бабкой повздорил, экой озорник», — подумал Яков Андреевич, чувствуя что-то вызывающее в поведении внука.
Через несколько минут старый машинист поставил паровоз в депо и важно сошел вниз, держа в руке свой железный сундучок.
Привычная обстановка успокаивающе подействовала на Якова Андреевича.
Он оглядел депо, где по-прежнему лязгало железо, клокотал пар, дымился шлак и как-то по-банному тлело электричество, освещая несколько паровозов, облепленных слесарями.
Яркие вспышки автогена метались повсюду и доставали почти до самой крыши, откуда в моменты затишья слышалось воркованье голубей.
Убедившись, что в депо все шло по-старому, Яков Андреевич направился в дежурку.
Там его встретили приветливо: машинисты — крепким рукопожатием, помощники и кочегары — такой молчаливой почтительностью, какую они редко проявляли даже к своим наставникам.
— А, Яков Андреевич, ну, спасибо, вытянул, — сказал диспетчер и, подмигнув окружающим, протянул машинисту какой-то конверт.
— Что это?
— Да, наверно, письмо от зазнобы. Смотри, старый греховодник, как бы тебе Пелагея усы не выдернула.
Все засмеялись, улыбнулся и Яков Андреевич.
Ногой он затолкнул сундучок под скамейку, и, чтобы не испачкать письмо, тщательно вымыл руки и сел около плиты, предполагая, что пишет ему какой-нибудь молодой машинист из соседнего депо, вызывая старика на соревнование.
Перед чтением Яков Андреевич расстегнул китель, высморкался, закурил и после этого не торопясь приступил к письму, которое лежало у него на коленях.
Первые же строчки заставили старого машиниста снисходительно улыбнуться, но эта улыбка недолго продержалась на его лице.
Вместо нее по морщинистым щекам Якова Андреевича прошла легкая зыбь, затем в глазах его появились недобрые огоньки, а брови нахмурились и зашевелились в каком-то гневном изумлении.
— Ну, что там пишут? — спросил один из машинистов, заметив, как Яков Андреевич скомкал письмо.
— Так, баловство одно, — сказал Плетнев и бросил письмо в плиту, но через минуту, когда ослаб первый приступ гнева, Яков Андреевич вынул обратно скомканный лист, сунул его в карман и вышел из дежурки, не сказав никому ни слова.
Тяжелой поступью продвигался он до шлагбаума, потом свернул в улицу, заставленную одноэтажными деревянными домами, и грозно остановился, увидев ребятишек, играющих в футбол.
Появление Якова Андреевича заметно снизило темп игры.
Судья Мишка Пономарь сразу же покинул поле и юркнул в свою калитку, забыв вынуть изо рта свисток.
Поредели и линии защиты. Только один вратарь, стоящий спиной к Якову Андреевичу, все еще не подозревал, какая гроза надвигалась на него, и важно расхаживал от одного колышка к другому, поправляя то перчатки, то наколенники.
— Это что же, опять стекла бить? — сказал Яков Андреевич, опуская свою тяжелую руку на плечо вратаря.
— Какие стекла, дядя Яша? Их бьет нападение, а я вратарь.
— Так, значит, ты тут ни при чем. Может, ты и старших уважаешь?
— Уважаю.
— А я тебе скажу — не уважаешь, врешь, все ты врешь. Ну-ка, покажи ногу. Откуда у тебя такая краснота?
— Сами знаете откуда, — холодно сказал мальчик и нахохлился, потому что Яков Андреевич легонько встряхнул его.
Он отпустил вратаря, и, как только закрыл за собой калитку, на улице вновь раздался судейский свисток Мишки Пономаря и послышались вопли нападающих и глухие, частые удары по мячу.
— Рука, рука, — донеслось до ушей Якова Андреевича, и по тому, как замерла улица, машинист понял, что судья назначил в чьи-то ворота одиннадцатиметровый штрафной удар.
С намыленной головой и мокрыми голыми плечами Яков Андреевич приоткрыл калитку и, проследив за трагическим моментом в игре, снова вернулся к рукомойнику, около которого стояла Пелагея Никитична с полотенцем в руках.
— Что-то ты нынче сердитый — наверно, подшипники спалил?
— Не выдумывай, — сказал он.
— Ну, значит, пережег угля.
Яков Андреевич фыркнул и отстранил от себя жену.
— Где Петька? — спросил он.
— Ушел, собрал все свои вещички и ушел. Видно, он на тебя обиделся за приемник. Ну, сломал какой-то винтик, ну и что? Ну и бог с ним. Я бы сама снесла твой ящик в починку.
Пелагея Никитична всхлипнула и затеребила передник, а Яков Андреевич, провожаемый ее скорбным, осуждающим взглядом, переступил порог горницы и сел за стол, не чувствуя ни прежней усталости, ни прежнего аппетита.
После завтрака он не лег отдыхать, нарушив таким образом свою долголетнюю привычку, а вышел во двор, где Пелагея Никитична поливала цветы.
— Срам-то какой! — сказала она. — Один внук, да и тот сбежал от деда. Эх ты, учитель!
— Заступников у него много, вот и сбежал. Погоди, из-за него деда еще в парткомиссию потянут. Оказывается, дед-то у него старорежимный.
— Суровый ты, вот я тебе что скажу, — заметила Пелагея Никитична. — Ты в Петькином возрасте колеса смазать не умел, а Петька уже чего-то изобретает. Послушай, Яков, ты же обещал взять его в поездку. Ведь у ребенка каникулы.
— Он мне тоже обещал хорошо учиться, а где это его учение?
— Так ведь учится. Нынче ребятам задают такие задачки, что и взрослые их решить не могут. Ну что за беда, если внук две тройки принес.
— Не в тройках дело, а в слове. Вспомни, как я воспитывал Василия. Ты думаешь, он стал бы секретарем райкома? А он секретарь. Значит, я воспитывал сына верно. Как-нибудь справлюсь и с внуком.
— Помягче надо, Яков, — сказала Пелагея Никитична. — Не ты один воспитывал Василия. Не ты один воспитываешь и внука.
— Но слово-то я должен держать. Я желаю ему добра. Ну, дед погорячился, пошумел маленько, так потерпи, а не хлопай дверью. А он что делает? Он прямо с пеленок показывает свой характер.
Яков Андреевич изумленно поднял брови и вздохнул, чувствуя, что ему больше не удастся разжечь в себе прежнего негодования.
Посмотрев на знойное небо, он вошел в садик, где уже отцвели вишни и яблони и стряхивали с себя белые лепестки, когда легкий порыв ветра касался верхушек деревьев.
Брошенная в кусты дощечка, выдернутая внуком из своей же грядки, так сильно поразила Якова Андреевича, словно перед его глазами внезапно закрыли семафор. Старик нагнулся и укрепил дощечку на прежнем месте.
«Взбунтовался, упрямец. От горшка три вершка, а уже принципы», — подумал Яков Андреевич и усмехнулся.
Он отыскал тень в самом конце садика и вновь погрузился в размышления, нарушаемые то цвиньканьем синиц, то гудением овода, то судейским свистком Мишки Пономаря.
Яков Андреевич погрозил пальцем в ту сторону, откуда доносились голоса ребят, и вынул из кармана письмо, которое он получил в дежурке.
— Ну, обличители, держитесь, — сказал он, — всем учиню допрос и выясню, кто из вас главный закоперщик. А может, это Петька?
Яков Андреевич посмотрел на письмо, припомнил почерк внука, но почерк был непохож, да и вряд ли Петька стал бы своей рукой писать такое письмо.
В конце концов он неплохой паренек. Правда, немного избалован матерью и бабкой и не по годам умен. Но разве можно сравнить его детство с тем, что пережил Яков Андреевич в Петькином возрасте, когда ему приходилось зимой, увязая босыми ногами в снежных сугробах, бегать по соседям и занимать у них то соли, то серников, то огуречного рассола, чтобы привести в сознание пьяного отца.
«Вот так мы росли», — с ужасом подумал Яков Андреевич, глядя на молоденькую яблоню прищуренными повлажневшими глазами.
Посидев еще минут пять, он заметил какие-то странные перемены в самом себе и повеселел, чувствуя, как крепнет в нем желание перечитать письмо, присланное ему уличными ребятишками.
— Что ж, посмотрим, кто из нас прав, кто виноват, — сказал старый машинист и водрузил на нос очки, которые он не надевал не только при посторонних, но даже в присутствии Пелагеи Никитичны.
С лукавой улыбкой приступил Яков Андреевич к чтению письма:
«Здравствуйте, дядя Яша!»
— Мое вам почтение, — сказал Яков Андреевич и закивал головой.
«Во-первых, мы сразу же вам заявляем: не ищите наших фамилий. Пусть наши инициалы остаются в секрете».
— Ну, пусть остаются, я и без них с вами справлюсь.
Свободной рукой Яков Андреевич смахнул с плеча кузнечика и вытащил из кармана железную банку с табаком. Но он не закурил. Он только сел поудобнее, словно готовясь к трудному перегону, и прищурился, потирая пальцами щетинистый подбородок.
«Дорогой дядя Яша! Двадцать второго мая мы прочитали о Вас в газете. Мы так и думали, что Вы новатор и борец, а также учитель для помощника и кочегара. Но, с другой стороны, и у нас, дядя Яша, есть свои газеты, например «Пионерская правда», и мы тоже можем написать туда, как Вы относитесь к молодым кадрам».
— Как же я отношусь? — спросил Яков Андреевич, переворачивая страничку.
«Вам хорошо известен Дом пионера и школьника по улице Свободы. Там Вы обещали, дядя Яша, рассказать нам про свои самые интересные поездки, и мы пригласили много чужих ребят, а Вы, наверно, забыли и не пришли».
«Да, верно, не пришел, — подумал Яков Андреевич. — Вызвали в экстренную поездку, вот и не пришел. Закрутился и забыл предупредить. Сколько раз я говорил Пелагее: «Купи ты мне записную книжку». Ну, что там дальше?»
«Нам хочется спросить, дядя Яша, почему Вы такой сердитый, и, когда мы с насыпи машем рукой, Вы сидите в своей будке и сверкаете глазами, будто хотите нас проглотить живьем».
«Почему я сердитый? Да потому, что я вас жалею, дураков. Вы того и гляди под колеса попадете. А это что такое?»
Яков Андреевич протер очки. Он даже тихо свистнул от изумления, заметив, что вторая страничка была написана другим почерком, очень напоминающим почерк внука.
— Так, — сказал он, — и ты туда же. Ну, хорошо.
«Вы думаете, нам легко переживать, когда мимо нас проносятся поезда, а мы стоим и стоим на месте. Нам тоже хочется ехать на том поезде, где Вы сидите за реверсом, как капитан. Что же, Вы думаете, мы не растем? Скоро наступит и наш черед сесть за правое крыло и водить поезда не хуже Вашего».
«Экие хвастуны, — подумал Яков Андреевич, — сразу же за правое крыло. Нет. Вы сначала побросайте уголек слева, а потом годиков через пять садитесь на мое место».
«Теперь скажите, дядя Яша, за что Вы нас так невзлюбили. Мы не курим, учимся хорошо, а что касается футбола, так ведь и Вы болеете за нашу команду.
Дорогой дядя Яша! Вы хоть бы разок взяли нас на рыбалку и показали место, где клюют голавли, а не таились бы от коллектива. Неужели Вам интересно одному приходить с рыбой и посмеиваться из окна над остальными, как они возвращаются без всякого улова. По-нашему, это называется копиталистическим пережитком».
— Каким? Копиталистическим? — спросил Яков Андреевич и засмеялся: — Эх, грамотеи.
Он вынул карандаш и поставил птичку, думая, что неплохо бы показать письмо Петькиной учительнице. Воодушевляясь, старый машинист поправил очки и с удовольствием приступил к чтению третьей страницы, хотя и она ничего отрадного не сулила впереди:
«Перед каникулами Вы при свидетелях заявили: если Петька и Женька принесут хорошие отметки, значит, Вы берете ребят в поездку на свой паровоз. А что получилось? Вместо поездки Вы Петьку хотели премировать поркой за конденсатор и кричали, как при старом режиме, будто Петька испортил весь приемник и не может его собрать. А ведь за такой крик, дядя Яша, Петькин отец, как секретарь райкома, может вызвать Вас куда надо. Но Вы не пугайтесь, Петька не ябеда. Он и про Женьку ничего не скажет родителям».
— Яков, а Яков, иди чай пить! — крикнула со двора Пелагея. Никитична.
— Нашла чем угощать, без него жарко, — сказал Яков Андреевич, вытирая пот с лица. Он задумался и стал искать оправдание, но оттого, что он его нашел, Яков Андреевич не почувствовал удовлетворения и полной своей правоты. Тогда он нахмурился и снова взял в руки письмо:
«Дорогой дядя Яша, нам очень обидно за Женьку. Он был на насыпи и хотел помахать Вам рукой, а Вы зачем-то открыли форсунку и чуть не вывели из строя нашего лучшего вратаря. Разве это хорошо? И Вы нас, дядя Яша, извините. Может, мы немножко погорячились, но мы написали Вам всю правду и не отступим от нее ни на шаг. Мы ждем Вашего ответа. Пусть наши адреса тоже останутся в секрете, а ответ Вы можете положить под свое крыльцо, и мы будем Вам благодарны. Группа товарищей».
— Группа товарищей, — с изумлением повторил Яков Андреевич. Он положил в футляр очки и позвал с улицы Женьку. — Садись, — сказал он. — А я постою, побольше вырасту. — Но ты и так не маленький. Вон какие письма пишешь. Однако тут не все правильно. Ты, наверно, спутал мой паровоз с другим. — Я ваш паровоз узнаю даже по свистку. — Ну, хорошо, допустим, я обманщик. Но при чем же тут пар? Я тебя не видел двое суток, а ты пишешь, якобы я умышленно открыл форсунку. Молчишь? Тогда покажи мне, с какой стороны семафора ты стоял? — С этой. — А какая это сторона? — Левая. — Правильно, левая. А на какой стороне находится машинист? — Кажется, на правой. — Кажется… Знаешь ведь, что на правой. Ты не налим, у меня из рук не выскользнешь. За что ты меня, старика, срамишь на всю улицу? Что же обо мне подумает твой отец? А ведь мы с ним соревнуемся. — Простите, дядя Яша. Значит, это ваш помощник. — Молчи, я сам разберусь, без подсказки. Ступай да скажи отцу, вечером зайду поздравить. Что там у вас — мальчик или девочка? — Сестренка. Светкой назвали. — Ну и хорошо, и ступай. Не вертись перед глазами. Яков Андреевич сложил письмо и, как только Женька хлопнул калиткой, вышел из садика и долго потом смотрел из окна на уличных ребятишек, играющих в футбол. Потом старый машинист что-то писал, а Пелагея Никитична все вздыхала и искоса поглядывала на его озабоченное лицо. — Послушай, Пелагея, — сказал он, — хватит тебе вздыхать, ишь какой сквозняк устроила. Достань-ка мне из сундука новый костюм. — Опять собрание? — Нет, пойду в политотдел, надо разрешение взять на поездку одной группе товарищей. — А что же это за группа? Практиканты? Яков Андреевич отрицательно покачал головой. — Пока я там буду, — сказал он, — ты сбегай к нашим и передай Петьке, пусть собирается в поездку. Да проследи, чтобы его одели попроще, не на парад поедем. А Женьку я обрадую сам. Яков Андреевич проводил до калитки жену и вскоре тоже вышел на улицу, где после матча ребят было как-то особенно тихо. Он огляделся, вынул из кармана конверт и, сунув его под крыльцо, быстро зашагал по панели, словно боясь, что его могут остановить.
В следующую поездку Якова Андреевича, примерно за час до прибытия скорого поезда, к Белогорскому депо подошли два мальчика со свертками в руках и сели на рельс. Им было жарко, но они крепились в своих теплых фуфайках и с тревогой следили за паровозами, которые стояли в депо. — Петя, а Петя! — Ну, чего тебе? — А может, он нас подведет? — Кто, дедушка? Ты его еще не знаешь. Раз он сказал, значит, точка. Тебя придут провожать? — А как же. — И меня тоже. Подумай только, уезжаем. Бабушка мне столько еды положила, на целую неделю хватит. Заметив выходивший из депо паровоз Якова Андреевича, ребята вскочили на ноги и замахали руками. — Ух, какая махина! — прошептал один из них, когда паровоз остановился. Яков Андреевич спустился вниз, поздоровался с оробевшими ребятами и помог им перебраться с земли в паровозную будку. Когда он их подсаживал, он заметил, как цепко взялись они за поручни и как у ребят дрогнули мускулы, а глаза засветились и впились в раскрытую топку, где бушевал огонь.
1954
 СОРИНКА В ГЛАЗУ
СОРИНКА В ГЛАЗУ
Этот ресторан Линевский выбрал главным образом потому, что в прошлое посещение ему понравился там официант, сумевший вкрадчивой лестью и почтительностью расположить к себе всю ужинающую компанию. Он выбрал этот ресторан еще и потому, что там было тихо, светло и чисто и туда редко заходили студенты, подгулявшие рабочие и женщины с грошовыми клипсами в ушах.
Когда он разделся, то прежде всего обратил внимание на землистые, старческие пальцы гардеробщика, обмороженные еще в первую мировую войну.
Какой-то старинный значок с двумя мечами украшал впалую грудь этого худенького старичка, одетого в потертый китель.
— Как она, жизнь-то, служивый?
— Ничего, движется. Сначала день, потом ночь. Глядишь, и сутки прочь.
— Вот как, — сказал Линевский. — Да ты, видно, философ?
— На то и человек, чтобы рассуждать.
— И отлично. А что это у тебя с руками? — спросил Линевский, кладя на барьер пальто и шляпу.
— Война покалечила, — сказал гардеробщик.
— В таком случае перчатки носить надо.
— Мало ли чего надо. За перчатки-то шестьдесят восемь рубликов берут, а старые у меня в починке. Может, газетку желаете?
Но Линевский промолчал и только пожал плечами, объясняя этим движением, что его совершенно не интересует газета.
Затем он подошел к огромному зеркалу и пригладил редкие волосы, сквозь которые просвечивала лысина. Он провел ладонью по обвисшим, чисто выбритым щекам, потрогал подбородок, высморкался и отступил на шаг, рассматривая в зеркале то свою полнеющую фигуру, то крупное сытое лицо с полуоткрытым ртом и припухшими мешочками под глазами.
Когда осмотр был закончен, Линевский щелкнул пальцами и направился в зал, бесшумно ступая по ковровой дорожке.
«Надо и сегодня сесть за столик того услужливого официанта, — подумал он. — И пусть Елена убедится, как иногда бывает приятно встряхнуться, имея под рукой такого мужчину, как я».
С такими мыслями он вошел в ресторан, но того официанта нигде не заметил, досадуя на это, сел за угловой столик, откуда были видны все посетители и эстрадные подмостки с закрытым роялем и стульями для оркестрантов.
Недалеко от барабана, прислонившись к стене, спала виолончель. Три люстры ярко освещали пустой зал, где было тихо, торжественно и скучно, словно в богатом и безлюдном соборе.
Раскрыв карточку, Линевский долго изучал меню.
Потом он посмотрел в ту сторону, где стоял молодой официант и осторожно переступал с ноги на ногу.
— Эй, любезный, вы здесь подаете?
— Мунутку, сейчас к вам подойдут, — сказал официант и направился в буфетную за Иваном Гавриловичем.
Иван Гаврилович был самый старый официант в городе, проработавший более полувека в таких ресторанах, где когда-то пели цыгане, пока их не сменили худые певички с коротко подстриженными волосами. Потом за певичками на эстраду пришли молодые, веселые, пьющие ребята. Они назывались джазистами, хотя по всем ведомостям числились как музыканты эстрадного оркестра.
Вся одежда, которую он носил по многу лет, теперь год от года все заметнее топорщилась на нем, становилась просторней и длинней. С каждым годом все глубже западали его глаза, все чаще слабели ноги, все обиднее делалось, когда кто-нибудь из посетителей несправедливо ругал его.
Он худел, желтел и высыхал медленно и незаметно, как заброшенный, старый пруд.
Это была старость.
Сейчас Иван Гаврилович стоял у стойки и, держа в руках салфетку, разговаривал с буфетчицей, полной и румяной женщиной, наделенной добрым характером и тяжелой, спокойной красотой.
Она улыбалась, а Иван Гаврилович вздыхал и удивлялся тому, что с ним происходило.
— Слабею я, Клавдия Денисовна, очень даже слабею, — говорил он. — Дергает меня кто-то за сердце, да так резко, будто оборвать хочет. Отчего же все это происходит?
— Наверно, от возраста, Иван Гаврилович. Небось шестой десяток кончается?
— Шестой-то я еще в позапрошлом году перешагнул, и, представьте себе, задумываться я стал, Клавдия Денисовна. Глянул я как-то в свою трудовую книжку и загоревал. Оказывается, прожил-то я много, а самого главного — фамилии — и не нажил. Нету у меня фамилии.
— То есть как это нету?
— А очень просто. Сначала меня звали Ванюшкой, потом, при нэпе, — Ивашкой, а теперь Иваном Гавриловичем. Для всех моих знакомых посетителей я только Иван Гаврилович, а спроси их, как моя фамилия, не знают, хоть и ходят сюда по многу лет.
Иван Гаврилович поднял глаза на буфетчицу и улыбнулся, поправляя сначала свой белый просторный воротничок, а потом черный бантик, который шевелился под дряблым подбородком и напоминал игрушечный пропеллер.
Услышав свое имя, Иван Гаврилович выпрямился, чувствуя, как все в нем вдруг окрепло, и быстрой, бесшумной походкой направился в зал, где только на четырех столиках горели электрические лампы, остальные столики были свободны.
— Я жду вас, молодой человек, — громко сказал Линевский, когда увидел перед собой Ивана Гавриловича. Но говорить слишком громко в пустом зале было не совсем удобно, и поэтому Линевский понизил голос и перешел на более доверительный тон.
— Со мной сегодня обедает дама, — сказал он. — Вам это понятно?
— Да.
— Так вот. Запишите, что мы будем пить и кушать.
За многие годы общения с посетителями у каждого старого официанта вырабатывалась не только своя манера обслуживания, но и своя стенография, которой он пользовался при записи заказа.
Пользовался такой стенографией и Иван Гаврилович. Он принял заказ и пошел на кухню, а Линевский закурил и поморщился, недоумевая, почему этот официант ни разу не улыбнулся и даже не переставил пепельницу, как это делали некоторые официанты, когда своей угодливостью хотели понравиться посетителю. Но менять столик было уже поздно.
Находясь в прекрасном настроении, Линевский откинулся на спинку стула и задумался.
«Что там ни говори, а когда у человека сбываются его желания, — подумал он, — этому человеку не так уж плохо живется на земле. Исполнится ли вот мое желание? Не повредит ли мне собственная принципиальность? Воображаю, как зашевелится на собрании вся эта беловская компания, когда меня будут принимать в партию».
Он понимал, что его дела и в институте и дома были не так уж плохи. Вот уже несколько лет, как он чувствовал какое-то свое превосходство над женой, над соседями по квартире, над студентами и профессорами, которые побаивались его.
Деньги, которые зарабатывались теперь легко, укрепляли в нем эту уверенность, и он все чаще усмехался, когда видел нужду или неустроенность, все больше проникался презрением к окружающим и в конце концов перестал помогать даже близким людям, оправдывая себя тем, что в наше время каждый может добиться многого, если у него есть желание.
Он оглядел посетителей. Их было немного. Морской офицер с женой, два летчика из гражданской авиации, несколько женщин, по-видимому актрис, и одинокий иностранец, пивший водку и закусывавший одной икрой, — вот и все те островки, которые выделялись среди пустого светлого зала.
Над этими островками плавали дымки от папирос.
Летчики часто чокались, и, когда их рюмки соприкасались, морской офицер поворачивал голову в сторону летчиков и вздыхал, отпивая из бокала пиво маленькими, неторопливыми глотками.
Выпил рюмку коньяку и Линевский. Он посмотрел на часы. До встречи осталось минут пятнадцать. Это порадовало его, но в то же время и насторожило.
«А ведь меня здесь могут увидеть знакомые, — вдруг подумал он. — А впрочем, черт с ними. Пусть сплетничают. Я все равно рискну. Надо хоть немножечко повеселиться. Что же тут особенного, если человек пришел в ресторан с хорошенькой дамочкой?» Во всяком случае, он сегодня же даст ей понять, что его жена — женщина невысокого полета, без идеалов, нравственно опустившаяся, на которой он женился по наивности и с которой он непременно разведется, как только защитит докторскую диссертацию. Он даст Елене понять, что ей надо торопиться и не обращать внимания на мещанские предрассудки, потому что ухаживать за ней долго у него не хватит ни времени, ни терпенья. «Да, надо сегодня же все уточнить», — думал он и следил за официантом, который и на этот раз не проронил ни одного звука.
С самого начала Линевскому многое не понравилось в старом официанте. Но больше всего ему не понравилось молчание Ивана Гавриловича, его независимая походка, его манера подавать на стол, в которой не было даже намека на заискивание.
«Видно, этот старый дурак ушиблен гордыней, — подумал Линевский. — Вот вам и осколок капитализма. Все-таки как меняются люди, как заметно меняются. Небось когда поил купцов, не думал о равенстве, а теперь лишний раз улыбнуться и то не хочет».
Линевский пододвинул к себе пустую рюмку и кивком головы приказал официанту снова наполнить рюмку коньяком.
Иван Гаврилович охотно выполнил это желание и в первый раз внимательно посмотрел на посетителя.
Как все старые официанты, он был суеверен и всегда придавал особое значение первому посетителю.
Сегодня рабочий день Ивана Гавриловича начинался скверно. Нехорошая усмешка посетителя, его брезгливые взгляды на обедающих летчиков, чудесных ребят, которых Иван Гаврилович знал, наконец самый тон человека в светлом пиджаке — все это ничего путного не предвещало.
А между тем ресторан постепенно наполнялся людьми, пришедшими сюда не только поесть, но и душевно поговорить, и повеселиться.
Теперь уже Линевский не так резко выделялся в зале. На его столике было все то же, что и на других столиках, так же ровно горела лампочка, ничем не отличаясь от остальных, и так же неприятно отсвечивали синевой перекрахмаленные салфетки, воткнутые в посеребренные кольца.
С нарастающим беспокойством наблюдал он за входившими людьми, которые садились за столики, брали в руки меню, заказывали кушанья и тем самым словно стирали ту незримую грань, какою всегда гордился Линевский, когда думал о себе как о состоятельном и выдающемся человеке.
Теперь он этой грани не замечал. Вокруг него были люди, по-видимому тоже состоятельные и солидные, и это неприятно удивило его. «Да, оказывается, многие уже могут так широко жить, как я. А впрочем, зря я сравниваю себя с ними, — подумал он, обводя ревнивым взглядом посетителей. — Сколько их, вот таких добродушных толстяков, которые ежедневно запускают лапы в карманы государства. Да и вон того, тощего, в пенсне, тоже надо будет показать Елене. Он совершенно ярко выраженный казнокрад. А вот и снабженцы — расхитители, совершают какую-то грязную сделку. Налево от них тоже сидят хищники, украшенные железнодорожными погонами, и говорят о каких-то котлах, на которых они, наверно, наживут не одну тысячу».
Так думал Линевский о посетителях, но все его суждения были несправедливы. Только двое из всех присутствующих в зале были нечисты на руку, но они не возбуждали никакого любопытства у посетителей, потому что были не очень полными и не очень худыми людьми, не носили никаких отличий и тихо вели разговор о своих желудочных болезнях, лениво пережевывая чебуреки и запивая их кавказским вином. Взгляд Линевского скользнул по ним, но не задержался ни на одну секунду.
Бархатные портьеры, колонны, люстры со множеством стекляшек, похожих на ледяные сосульки, привлекали теперь внимание Линевского.
Все это казалось прекрасным, и только люди, которые заметно повеселели, по-прежнему вызывали в нем раздражение и даже враждебность.
Постепенно его настроение портилось, и портилось оно главным образом потому, что даже старый официант и тот перестал обращать внимание на Линевского.
«Однако пора бы Елене и прийти, — подумал он. — Что за манера у этих проклятых баб вечно опаздывать».
Он выпил еще рюмку коньяку и закурил. Его слух обострился. Теперь в зале почти никто не говорил тихо, до ушей Линевского доносились то всплески женского смеха, то рокот мужских голосов, то осторожное покашливание одинокого иностранца, который, по всей вероятности, изучал загадочную Россию, простыл в открытой машине и сейчас лечился русской водкой. Он посматривал в сторону Линевского, принимая его тоже за иностранца, а тот бросал сердитые взгляды на людей, входивших в зал, и хмурился, сбивая указательным пальцем пепел с папиросы.
«Ну что ж, не будем ее торопить, — мысленно сказал себе Линевский. — Она женщина, а если женщина собирается в ресторан или в театр, то она всегда долго прихорашивается. Надо ждать. Терпение — вот удел влюбленных».
Линевский вытер лоб носовым платком и поморщился, когда почувствовал тот же самый запах духов, какими много лет пользовалась его жена.
Он глубоко вздохнул и торопливо сунул платок в карман. Мысли о жене были совсем некстати, но они не исчезали и все больше тревожили его. «Интересно, что она сейчас делает? Наверно, сидит на веранде и пьет чай. Что же она может делать еще?..»
И вдруг жалость к этой одинокой женщине зашевелилась в нем.
Он нахмурился и, чтобы заглушить в себе это чувство, стал рыться в памяти, припоминая наиболее тяжкие обиды, какие ему нанесла жена. Обид было много. Раздоры начались давно, с того времени, когда на Ленинград упали первые немецкие бомбы. Она не хотела уезжать, но он почти силой увез ее в Пермь, а потом не раз говорил ей: «Вот видишь, как все хорошо выходит. Я получил ученую степень. Мои средства позволили тебе освободиться от неприятной работы врача, и ты теперь независимая женщина. Но что бы с нами стало, если бы мы тогда остались в Ленинграде? Я спрашиваю, что стало бы с нами?» — «Мы были бы людьми», — отвечала она, и такое утверждение Линевский всегда воспринимал как пощечину, хлопал дверью и уходил.
«Глупая идеалистка», — подумал он о жене и пальцем поманил к себе официанта.
Иван Гаврилович подошел к Линевскому и переложил салфетку на левую полусогнутую руку.
— Можно подавать? — спросил он.
— Можно, но не сейчас. Вы же видите, моя дама опаздывает.
Иван Гаврилович потоптался у столика, соображая, чего же в конце концов требует этот капризный посетитель.
— Не желаете ли позвонить? Автомат в гардеробной налево.
Линевский утвердительно кивнул, и, когда он скрылся за портьерой, старый официант почувствовал облегчение и молодцевато засеменил к дальнему своему столику, за который только что сели актеры.
Актеры говорили громко, хорошо поставленными голосами и вкладывали в каждое слово столько театрального пафоса, что невольно привлекали к себе внимание окружающих.
Пока Иван Гаврилович принимал от актеров заказ, Линевский успел уже позвонить Елене и стоял теперь обескураженный ее сухим тоном, а главное — тем, что она не может приехать.
«Мило, очень мило», — подумал он и, покусывая губы, вторично набрал нужный номер, но на этот раз к телефону никто не подошел.
Он бросил трубку на рычажок, затем повернулся к зеркалу и увидел в нем свое лицо, покрытое мутным тяжелым румянцем.
«Капризничает, ломается. Боится совести. Ну, не дрянь ли баба? Конечно, дрянь», — решил Линевский и тяжело задышал от обиды.
Вскоре он вернулся в зал и подозвал к себе Ивана Гавриловича.
— Вот что, любезный, старый заказ отменяется. Вы принесите только один шашлык, одну порцию салата, добавьте в графин коньяку, а остальное можете предложить другим посетителям.
Иван Гаврилович не стал спорить, хотя и знал, что откупоренную бутылку с вином буфетчица от него не примет. Он хотел сказать, что так вообще не поступают, но вместо этого старик покорно убрал со столика все, что требовал Линевский, и принес из кухни лучшую порцию шашлыка, обложенного прозрачными кружочками лимона.
Усевшись поудобнее, Линевский склонился над тарелкой и задвигал челюстями, пережевывая сочные кусочки мяса. Но есть ему уже не хотелось.
Тогда он выпил еще две рюмки коньяку и обвел зал помутившимся взглядом, натыкаясь как раз на таких людей, которые весело пили, и весело ели, и даже не сердились на официантов, когда они путали заказ и приносили не те блюда.
Злоба закипела в нем, но сорвать ее было не на ком, пока он не заметил старого официанта, хлопотавшего около столика, за которым сидели актеры.
Выждав удобный момент, Линевский остановил Ивана Гавриловича:
— Послушайте, что это вы принесли, прожаренную резину или шашлык? Я плачу большие деньги, а вы кормите меня черт знает чем.
Резким движением он отстранил от себя тарелку, но потом немного смягчился, заметив испуг на лице официанта.
— Шашлык подогреть, — сказал он, — и тарелку тоже. Неужели я должен обо всем вам напоминать?
Отпустив Ивана Гавриловича, Линевский стал рассматривать женщин, но и они не понравились ему.
Чтобы хоть чем-то развлечься, он трижды подзывал к себе старого официанта и посылал его то за папиросами, то за боржомом, то за самой маленькой плиткой шоколада, которую надо было завтра подарить семилетней профессорской дочке в ее день рождения.
Пока Иван Гаврилович бегал в буфет, на эстраде появились музыканты. Их присутствие заметно оживило дам и подбодрило мужчин, которые, словно сговорившись, одновременно потянулись к графинам.
Под музыку Линевский допил коньяк и съел все, что заказывал. Как пианист, только что кончивший играть, он откинулся на спинку стула и закрыл глаза.
Зал гудел. Повсюду слышался смех и непринужденный разговор, но такое шумное веселье начинало уже сильно раздражать Линевского, и он все заметнее нервничал, проникаясь презрением к этим людям, которые, по его мнению, болтали всякий вздор.
«На Выборгскую сторону вас, в чайную», — подумал он и зло усмехнулся.
Затем он стал припоминать по порядку весь свой день. Печник, кассирша в институте, чистильщик сапог, продавщица газированной воды — люди самых разных профессий замелькали в его памяти, но все они (так казалось Линевскому) вели себя независимо и непочтительно по отношению к нему, разыгрывали из себя честных людей, а на самом деле за несколько часов сумели уже много раз обмануть его.
«Вот и эта старая бестия, официант, тоже надует меня, — подумал он. — Воспользуется моей интеллигентностью и непременно обсчитает. Тут непонятно только одно: по профессии он холуй, а изображает такого человека, который звучит гордо. Нет, милый, на гордыне ты далеко не уедешь. Рано тебе думать о равенстве. Выпишешь счетик, а мы его возьмем да проверим, а потом носом, носом. Вот и будет тебе полное равенство».
Линевский посмотрел на Ивана Гавриловича желтыми выпуклыми глазами, повлажневшими от хмеля.
Вряд ли он мог бы признаться даже самому себе в том, что он презирает Ивана Гавриловича за его профессию. Но это было так, и Линевскому захотелось немножечко продлить свою власть над этим загадочным старичком, уличить его в нечестности и в нерадивом отношении к посетителям. Он повеселел, когда подумал о том, что старик не выдержит и, конечно, подаст неверный счет.
Чтобы окончательно сбить с толку официанта, Линевский даже улыбнулся. Но это была колючая улыбка, вызвавшая в душе Ивана Гавриловича испуганное недоумение. «Что такое? Кажись, и вины-то перед ним никакой нету, а я его боюсь. Редкой расцветки птица», — подумал он о Линевском и подал счет, почтительно склонив голову, Но было уже поздно. Теперь не улыбка, а неумолимая суровость появилась на лице Линевского. Он пробежал глазами счет и вернул его официанту. Иван Гаврилович тоже молча проверил счет и, не обнаружив в нем никакой ошибки, снова подал его посетителю.
— Так, — сказал Линевский, — да вы к тому же еще и упрямый. Не нравится мне ваш ресторан.
— Отчего же? У нас здесь хорошо. К нам многие ходят, а главное — люди-то разные: и делегаты, и спортсмены, и даже московские певицы у нас изволят кушать. Что же вам не нравится?
— Не нравится мне хотя бы то, что вы все-таки хотите с меня получить вот по этому счету.
— Извините, но, пока существует счет, мы обязаны получать. Было бы, конечно, неплохо дотянуть до бесплатной жизни, но мне не дотянуть.
— Похоже на это, — сказал Линевский, — а впрочем, кто знает. Тогда таких, как вы, будут только выставлять в музеях, в отделе «Осколки капитализма».
— Все-таки это тоже работа, — сказал Иван Гаврилович. — А кто любит труд, того и люди чтут.
— Конечно, но труд бывает всякий. Недаром же и платят за него по-разному.
— А я за деньгами не гонюсь. Сколько стою, столько и получаю.
— Так ли это? Хитрите, молодой человек. Ох, как плохо хитрите. Я вас насквозь вижу. Что вы мне подсовываете? Учтите. Я достаточно хорошо разбираюсь в математике.
Линевский постучал указательным пальцем по столику и окинул сердитым взглядом застывшую фигуру старого официанта.
Тот стоял с опущенными глазами, не зная, шутит ли посетитель или говорит всерьез.
— Ну, что же вы молчите? — спросил Линевский. — Небось в бога веруете, а сами делаете черт знает что.
— Я ничего не делаю. Жду, пока вы перестанете говорить такие слова.
— А какие же вам надо говорить? Вы хотели меня обсчитать да еще услышать за это спасибо. Ну и порядки!
Иван Гаврилович отступил на шаг и от удивления даже обронил салфетку, а Линевский качнулся и, откинувшись на спинку кресла, грозно нахмурил брови, ожидая ответа. Но официант молчал.
— Отлично, — сказал Линевский, — но я все-таки интересуюсь, на сколько же вы хотели обсчитать немножко выпившего человека.
— Вы обижаете меня, гражданин. Потрудитесь проверить.
— Я уже проверил.
— Тогда я не понимаю, чего вы от меня хотите? Не верите мне — дайте администратору, пусть он проверит.
— Все вы тут одним миром мазаны.
— Ну, это уже лишнее. Про всех так говорить нельзя. У нас работают всякие, и есть даже партийные.
— Воображаю этих членов партии. Ну, вот что, молодой человек, возьмите счет и сейчас же его перепишите, а затем извольте извиниться.
— Не за что, — с тоской сказал Иван Гаврилович, — я и без извинения не так уж плохо свои шестьдесят три года прожил. За что вы повышаете на меня голос? Смотрите, публика уже обращает внимание, а я на работе. Понимаете, на работе. Что ж вы думаете, мне не дорога моя репутация?
— Думаю, что нет, — сказал Линевский, — если вы мне не хотите уступить. Ну, ладно. В таком случае пеняйте на себя. Сию же секунду ведите меня к директору.
В кабинете директора Линевский успокоился. Ему стало даже жаль старого официанта, который стоял у стены и молча наблюдал за посетителем.
«Боже мой, как все это мелко, — подумал Линевский. — За каким чертом я пишу жалобу на старика? Ведь счет-то, пожалуй, правильный». Он повернулся лицом к Ивану Гавриловичу, уверенный в том, что встретит просящий взгляд старого официанта, но вместо этого Линевский увидел в глазах старика презрение. Старик смотрел на Линевского в упор и не опустил глаза, когда их взгляды встретились.
«А, решил не сдаваться, — подумал Линевский. — А я-то жалею такого дурака».
Он сел поудобней, и, пока он писал жалобу, Иван Гаврилович прислушивался к биению своего сердца, и ему казалось, что это биение слышит даже директор и неодобрительно качает головой.
— Вам надо успокоиться, Иван Гаврилович, — сухо сказал директор. — Идите в официантскую, а мы здесь проверим счет и разберемся без вас. Ну, идите…
_____
Он лежал в пустой официантской на диване и тяжело дышал. На его выбритом морщинистом лице с впалыми щеками и заострившимся носом время от времени проступал пот. Тогда Иван Гаврилович прикладывал салфетку ко лбу, закрывал глаза и опять прислушивался к биению своего сердца. Оно работало угрожающе, то замирая, то шумно ворочаясь в груди. «Ишь как ты разбаловалось! Ну-ну, хватит озорничать», — подумал он и хотел подняться с дивана, но не смог. Обида на посетителя снова вспыхнула в душе старого официанта. Если бы подобный случай произошел лет десять, двадцать или сорок тому назад, то Иван Гаврилович вряд ли принял бы оскорбление так близко к сердцу, потому что, по его мнению, и жизнь и люди тогда были хуже и грубей, и поэтому им многое можно было простить. Но теперь, когда он отвык от незаслуженных обид, в его ушах все еще звучали слова Линевского, звучали слишком оскорбительно, и как ни старался Иван Гаврилович притвориться, что ничего не случилось, — это ему не удалось. Давно уже так тяжко никто не обижал его. В дореволюционную пору владельцы ресторанов хоть и презирали Ивана Гавриловича за честность, но охотно держали такого официанта, зная, что из-за него никогда не будет никаких неприятностей. Своим тяжелым полувековым трудом заслужил он уважение многих людей. Ему было приятно, когда на улице при встрече знаменитые актеры или писатели первые приподнимали шляпы и здоровались с таким маленьким человеком, каким считал себя Иван Гаврилович. Ему было приятно, когда с ним прощались, уходя из ресторана, или когда говорили ему спасибо, и он готов был служить людям еще несколько лет, но сегодняшний случай почему-то так больно отозвался в душе Ивана Гавриловича, что отнял у него много сил, а внезапно нахлынувшая тоска по родным местам и напугала его и повергла в отчаяние. «Значит, я помираю», — подумал он и выронил из рук мокрую салфетку. Он повернулся лицом к стене и стал думать о родных краях, куда собирался поехать в отпуск много лет подряд, но всякий раз он попадал в дом отдыха и, вместо речки Борки, вместо колышущихся колхозных хлебов, видел Финский залив или ярко-зеленые леса Карельского перешейка. И вот сейчас Иван Гаврилович вдруг понял, что он никогда уже не увидит тех мест, откуда его, деревенского мальчишку, привезли в Петербург, на Васильевский остров, и отдали в услужение к трактирщику Сысою Касаткину. Трактирщик хотя был и непьющим (царствие ему небесное), но бил мальчика Ванюшку так больно, что тот не выдержал срока обучения и угодил в больницу, а оттуда с запиской сиделки попал к Ракову, который работал в то время официантом в ресторане «Аквариум». И когда мальчик стал юношей, то Раков был уже председателем профсоюза служащих трактирного промысла, был революционером и произносил речи в Государственной думе от фракции большевиков. Потом он несколько раз заходил к Ивану Гавриловичу и оставался у него ночевать или отдавал на сохранение какие-то пакеты, где, по всей вероятности, была нелегальная литература. Да, все это было давно, но Иван Гаврилович хорошо помнил Ракова и в дни двух революций часто слушал его речи на митингах, а затем по газетам следил за его судьбой и по газетам узнал о его героической смерти. Позже, когда Иван Гаврилович бывал на Марсовом поле, он всегда останавливался у могилы этого необыкновенного и простого человека, снимал сголовы шапку или шляпу, задумывался и молча благодарил его за те первые наставления и уроки, которые впоследствии уберегли Ивана Гавриловича от многих соблазнов и дурных дел. Да, немало всяких людей перевидел Иван Гаврилович за полвека работы. У него был мягкий, незлобивый, уступчивый характер, и только в одном Иван Гаврилович был тверд — в своей ненависти к Илье Кузьмичу, тоже старому официанту, который вел дело по-волчьи и такими повадками заражал других. Илья Кузьмич приоткрыл дверь в официантскую и усмехнулся, увидев Ивана Гавриловича лежащим на диване. — Ну что, отдыхаешь? — спросил он. — Эх, Гаврилыч, по-моему, рановато ты размечтался о равенстве. Не наша это забота — жить по новому уставу. Ты вот тянулся к людям, верил им, а что они с тобой сделали? Взяли и зачеркнули. — Один человек — это еще не все люди, — сказал Иван Гаврилович, поворачиваясь к Илье Кузьмичу. — Ты зачем пришел? — Поговорить. Хоть и не время, а нужно. Давно я хотел с тобой потолковать, но моменты были неподходящие. — Я и нынче не расположен с тобой разговаривать. — А завтра, может, поздно будет. Илья Кузьмич прикрыл дверь и, бесшумно ступая по паркетному полу, опять подошел к Ивану Гавриловичу, крутя в воздухе салфеткой. — Вот мы с тобой проработали рядом почти пятьдесят лет, ты вроде как честно, а я, признаюсь, иной раз хитрил, было так, что и обсчитывал, и даже давал денежки в рост. — Ходят слухи, что ты и теперь все это потихонечку делаешь. — Ну и что ж. И пусть себе ходят, зато ты святой, но цена нам все равно одна. Так кто же из нас живет правильнее — ты или я? — Правильно живет тот, кто свою совесть в грязи не пачкает. Человек, Илья Кузьмич, не свинья, и он должен быть чистым. Вот ты ни во что ставишь свою профессию и говоришь: «Мы люди маленькие, вроде шестерок в колоде». Не спорю, может быть, ты и прав. Но ты же сам понимаешь, что без шестерок даже в дурачка и то нельзя играть. Ты когда-нибудь думал, с чего мы начали свою жизнь? — Мне думать некогда, — сказал Илья Кузьмич. — Врешь. У тебя было время. В прошлом году ты целый месяц был в санатории. Неужели ты ничего и не вспомнил? — Нет, — сказал Илья Кузьмич, — память у меня стала слаба. — То-то ты рассуждать стал много. Сразу видно — от забывчивости. — А что вспоминать-то? — Ну, хотя бы великий пост, и как хозяин нас отпустил говеть. Ведь мы только раз в году видели солнце. Женились мы по разрешению. Когда нас обыскивали — мы молчали, и, кроме слова «слушаюсь», других слов мы не имели права произносить. Помнишь, как мы в тринадцатом году решили забастовать? Напились для храбрости, зеркала побили, а наутро проснулись и, крадучись друг от дружки, на коленках поползли к хозяину в кабинет. Тошно, Илья Кузьмич, об этом вспоминать, но надо. Ведь таких, как мы, с каждым днем все меньше остается на свете. Грешно нам не понимать, кого мы поили и кормили раньше и кому мы служим теперь. — Это все я понимаю, — сказал Илья Кузьмич, — однако расположения своего у меня нету и к нынешним посетителям. Иной вилку как следует держать не умеет, а прет к нам. — Ну и хорошо. Значит, человек богаче стал. Почему же ему не посидеть у нас? Ты думаешь, мне не больно, когда посетитель смотрит на нашего брата свысока? Обидно. Но ведь кто-то должен исполнять нашу работу. Никакие машины нас не могут заменить. — Отчего же? — А оттого, что людям будет скучно, ежели им пищу станут подавать машины. — Значит, и через сто лет будут такие, как я, и такие, как ты. — Не знаю, что там будет через сто лет, но тебя, Илья Кузьмич, я не понимаю. Раньше ты лучше был, светлее, а теперь все хитришь, и так хитришь, что когда-нибудь перехитришь и самого себя. — И что же тогда? — насмешливо спросил Илья Кузьмич. — Тогда тебе будет тошно. Но ты меня не перебивай, — сказал Иван Гаврилович и неохотно окинул взглядом высокую, тощую фигуру собеседника. — Прожил ты большую жизнь, а ничего не понял. Ты сам себя за человека не считаешь, а от этого и все твое метание происходит. Вижу, рад моей беде. Смотрите, мол, как его обидели. А ты знаешь, от такой обиды при нашей работе никуда не спрячешься. Это вроде шальной пули. Нонче она попала в меня, а завтра может угодить в кого-нибудь и поважней, чем мы с тобой. Да, Илья Кузьмич, а ты радуешься, злорадствуешь. Думаешь, из-за такой обиды я озлоблюсь на людей. Иван Гаврилович спустил ноги с дивана, собираясь продолжать разговор, но в это время появился молодой официант Саша, и Илья Кузьмич исчез за дверью так же внезапно, как и вошел сюда. До официантской из зала доносился глухой рокот оркестра. За дверью были слышны голоса официантов, столпившихся у кассового аппарата, который ныл и позванивал всякий раз, как только кассирша поворачивала ручку. — Ну, Саша, вот ты и дождался работы, — сказал Иван Гаврилович. — Теперь ты будешь обслуживать разных людей: и профессоров, и артистов, и рабочих, но ты должен ко всем относиться одинаково. Для тебя все равны. Веди дело по-честному. Не так, как Илья Кузьмич. — Да уж как вы учили, так и поведу. Осточертело мне в резерве болтаться и с пожарником в шашки играть. Вскоре он ушел в зал веселый и довольный, а Иван Гаврилович стал одеваться и долго шуршал плащом, просовывая левую руку в рукав. В соседней комнате тоже кто-то шевелился. Это был директор, Григорий Моисеевич Левин, больше всего на свете боявшийся скандалов, которые он называл инцидентами и которые, правда, не очень часто, но все-таки вспыхивали и в «его» ресторане. Он только что вызвал такси по телефону и сидел теперь за столом перед раскрытой жалобной книгой, с отвращением рассматривая подпись Линевского, похожую на длинный дачный палисадник. «Боже мой, — думал Григорий Моисеевич, — какой позорный инцидент. Что же завтра про нас в тресте скажут?» Он был в отчаянии. Но ему все-таки стало очень жаль старого официанта. — Ну что, голубчик, плохо? — спросил он Ивана Гавриловича, входя в официантскую. — Но ничего, главное — спокойствие и еще раз спокойствие. Скоро за вами приедет такси. Григорий Моисеевич заложил руки за спину и деловито зашагал по комнате, словно измеряя ее метраж. — Черт бы его взял, — сказал он, — этого кандидата наук. Математик, а считать не умеет. Однако почему у вас, голубчик, такое перепуганное лицо? Вы испугались этого крикуна? — Испугался, — сказал Иван Гаврилович. — Мне страшно не оттого, что он плохой, а от его понятия собственной личности. Он-то ведь думает, что лучше его и нет человека на свете. — Ну и пусть себе думает. Таких, как он, немало, но от этого еще никто не умирал. Так зачем же вам все это близко принимать к сердцу? — А я и не принимаю и, конечно, от этого не помру, но вам, Григорий Моисеевич, моего страха не понять. — Отчего же? — Возраст у вас маловат, а я вот сразу почуял, чем этот математик дышит. — В таком случае объясните, голубчик, почему вы так сильно испугались. В конце концов я возьму все на себя и докажу в тресте, что вас оклеветали. Вам нечего бояться. — Да что вы, Григорий Моисеевич, разве тут дело в одном страхе? — А в чем же? — В обиде. Когда вас ни за что обижают — это очень даже обидно бывает. А мы уже от незаслуженных обид отвыкать стали. Я давно бы плюнул и ушел на пенсию, ежели бы наши посетители были такие, как при нэпе. Вот в чем дело, а не в страхе. Не желаю я привыкать к такому сукину сыну, как этот математик. Григорий Моисеевич внезапно прекратил ходьбу и ошалело заморгал глазами, а Иван Гаврилович снова почувствовал сильное сердцебиение и повалился на диван, не успев снять ни шляпы, ни плаща. Все это настолько серьезно встревожило Григория Моисеевича, что он хотел вызвать «скорую помощь», но Иван Гаврилович попросился домой, и, пока Левин искал лекарства, пока успокаивал старика и пил вместе с ним валерьянку, к ресторану подошла машина, и по тому, как она развернулась и резко встала у подъезда, можно было безошибочно определить, что шофер такси находился в прескверном настроении. С утра ему не везло на пассажиров: то они что-то забывали в машине, то подгоняли его, то заставляли ехать слишком медленно, а последние три пассажира, возвращавшиеся с собачьей выставки, были настолько толстые, что спустил баллон и пришлось менять колесо. Теперь вот в довершение всего надо везти и пьяных. Но как ни был мрачен шофер, однако он не мог скрыть улыбки, когда вспоминал своих первых сегодняшних пассажиров. Он отправился по вызову на улицу Петра Лаврова и остановился у родильного дома. Женщина с ребенком села в его машину, и они тронулись с необычайной осторожностью по мокрому, только что политому проспекту. Малыш кричал. Женщина уговаривала его. Поднявшееся над домами солнце заглядывало в машину, словно оно хотело спросить: «А скажи-ка, малыш, как тебя зовут?» Шофер открыл боковые створки, чтобы новому гражданину было легче дышать. Из разговоров с женщиной он узнал, что ее муж находится сейчас в далеком плавании и что она ждет от него телеграммы, в которой будет твердо решено, как назвать малыша. — Ну, моряк, будь здоров, — сказал шофер и поехал на стоянку, чувствуя прилив веселья и улыбаясь не только прохожим, но даже инспекторам ГАИ, дежурившим на самых коварных перекрестках. Вот так хорошо начался его рабочий день. Теперь этот день был окончательно испорчен предстоящей поездкой с пьяными пассажирами. Правда, шофер и сам иногда любил встряхнуться. Он выпивал и, как о нем говорили, «заводился легко, с полуоборота», но пьяных он понимал только тогда, когда сам был навеселе. В остальных же случаях он осуждал пьющего человека, и если тот оказывался неподалеку от машины и нетвердо держался на ногах, то шофер приоткрывал дверцу и ругал пешехода самыми последними словами. Сегодня на Суворовском проспекте он чуть не задел крылом машины такого петляющего пешехода, и от этого у него до сих пор было сухо во рту и очень тревожно на душе. Увидев швейцара, открывающего дверь, шофер нахмурился и включил мотор. В то мгновение, когда Ивана Гавриловича вывели под руки из ресторана, вспыхнули электрические фонари. На Невском было много народу, как во время демонстрации, а в Михайловском сквере тихо, словно на сцене, где только что была сыграна какая-то старинная, печальная пьеса. Ивана Гавриловича осторожно усадили в такси. Из деликатности с ним никто не стал прощаться, хотя всем было ясно, что старик плох и что он никогда уже не вернется на работу. Григорий Моисеевич ласково пожал ему руку и сунул шоферу деньги, а затем бумажку с адресом старого официанта. Все молчали, и когда машина тронулась, то даже Илье Кузьмичу стало как-то не по себе. — Да, вот это был человек. Не нам чета, — сказал он и помахал салфеткой, следя за машиной, которая круто свернула на улицу Ракова и затем исчезла вместе с красными сигнальными огоньками.Иван Гаврилович жил у Финляндского вокзала, в угловом доме, и в свои выходные дни любил смотреть из окна на платформы, запруженные народом. Когда ему надоедало слушать перекликающиеся сирены электропоездов, он брал в руки гармонь и, пока его жена стряпала на кухне, играл тихо и проникновенно, забывая о присутствии в комнате соседских ребятишек, которым он всегда что-нибудь дарил в свой выходной день. После обеда Иван Гаврилович уединялся; он раскрывал перед собой тетрадь и принимался за воспоминания, на которых настаивал один знаменитый актер, полагая, что эти воспоминания будут безусловно интересными, если в них показать хотя бы частицу того, что видел и слышал Иван Гаврилович. С первых же строк своих воспоминаний Иван Гаврилович убедился, что он не может быть беспристрастным к событиям, к людям и даже к самому себе. Когда-то, давным-давно, гвардейские офицеры, купцы и заводчики, крупные чиновники и интенданты, модные адвокаты и врачи щедро рассчитывались с Иваном Гавриловичем, но они давали ему чужие деньги, и он понимал это, хотя многие посетители и говорили о нем, что он глуп. Поэтому ему было противно писать о прошлом. Слишком непривлекательным и страшным выглядело оно в глазах Ивана Гавриловича. Ему казалось, что лучше всего, светлее у него должна получиться последняя часть, озаглавленная «После нэпа», та счастливая полоса, когда Иван Гаврилович распрямился, почувствовал себя человеком и по-настоящему полюбил свой труд, не видя в нем ничего зазорного. По доброте своего характера Иван Гаврилович хотел даже простить Линевского, но простить он не мог только потому, что слишком старым, ненавистным временем повеяло от этого человека, который считал себя ученым, а между тем не понимал самых простых вещей и держался в кабинете директора так, как разгневанный барин у себя в конюшне. Сейчас, думая обо всем этом, Иван Гаврилович забился в самый угол машины и всхлипнул, чувствуя, что ему не хватает воздуха. Он почувствовал и приближение смерти, но не испугался ее, а только заплакал от обиды, потому что эта смерть всем своим внешним обликом напоминала сегодняшнего посетителя. Она была одета в светлый костюм. Ничего страшного в ней не было, кроме желтых провокаторских глаз, пристально смотрящих на Ивана Гавриловича. — Ты меня узнаешь? — спросила она. — Да, узнаю, — сказал Иван Гаврилович, ощущая всем своим существом, как она все ближе придвигалась к нему и как все проворнее нащупывала пальцами его пересохшее горло. Потом она навалилась на старика, и он потерял сознание. Очнулся он на Литейном проспекте от запаха бензина, от того машинного горьковатого запаха, каким всегда были пропитаны после полетов бортмеханики и пилоты, штурманы и мотористы, которых Иван Гаврилович обслуживал, когда работал в аэропорту. Они приходили в ресторан в кожаных куртках, в комбинезонах, со шлемами в руках, напоминая Ивану Гавриловичу его сыновей — танкистов, погибших под самым Берлином. Летчики и штурманы шумно входили в зал и, завидя Ивана Гавриловича, издали улыбались ему. Нравились они и старому официанту. С ними было легко. И вот сейчас он хотел крикнуть им: «Ребята, помогите!» Но сегодняшний посетитель снова подмял под себя старика и закрыл ему рот ладонью. Иван Гаврилович засопел, что-то забормотал и еще глубже забился в угол машины. Шофер чуть повернул голову, искоса посмотрел на плачущего пассажира, но ничего не сказал, зная по опыту, что за рулем нельзя вступать в разговоры с пьяными. «Видать, загульный старикашка. Пропил, наверно, пенсию, а теперь переживает. Поди дома-то старуха ждет и когти точит. Ну да ничего. В таком положении она тебя не тронет, а завтра видно будет. Утро вечера мудренее», — думал шофер, вслушиваясь в беспомощные всхлипывания пассажира. Увидев впереди красный глаз светофора, он сбросил газ и остановил машину. На панелях было людно, но почти весь народ двигался в одну сторону, к Неве, откуда доносились зазывные гудки пароходиков. Приближалась белая ночь, серебристая, как небо. Город затихал. Его улицы становились все просторнее. С Невы тянуло прохладой. Сотни горящих фонарей отражались в мглистой воде. Город успокаивался. Шофер улыбнулся, потому что и в машине вдруг стало тихо. «Значит, уснул», — подумал он о пассажире и повеселел, кладя обе руки на руль. При въезде на Литейный мост их обогнала машина. Это было тоже такси. Рядом с шофером сидел Линевский и курил, презрительно посматривая на пешеходов. Он взглянул и на машину, в которой ехал Иван Гаврилович, и бросил под ее колеса горящую папироску. Ему было приятно от выпитого коньяка и от собственной доброты, проявленной к жене, которой вез торт, и он теперь умилялся, держа на коленях этот подарок. Он вышел у Финляндского вокзала и затерялся в толпе в ту минуту, когда к угловому многоэтажному дому на той же площади подошла машина. Это был дом, в котором Иван Гаврилович прожил сорок девять лет. Многие окна в доме были распахнуты. В самом верхнем этаже, в третьем окне, показалась жена Ивана Гавриловича. С ковшиком в руках она приблизилась к подоконнику, чтобы полить цветы, но ее внимание отвлекла машина, приближающаяся к подъезду, и Прасковья Яковлевна просто ради любопытства заглянула вниз. Машина остановилась. Прасковья Яковлевна поглядела на нее и стала поливать цветы, а шофер выключил счетчик и с удовольствием потянулся, чувствуя, что всем его нынешним неприятностям наступил конец. — Ну, вот мы и приехали, — бодро сказал он. — Гражданин, выходите. Проснитесь, папаша. Вы что же притихли? Батя, а батя? Я говорю, приехали. Выходите, слышите? Но Иван Гаврилович молчал. Тогда шофер зажег свет и круто повернулся к пассажиру. Тот сидел неподвижно, с открытыми немигающими глазами, запрокинув голову и беспомощно опустив плечи. Правая рука Ивана Гавриловича свисала, словно он хотел поднять скомканную салфетку, которая валялась тут же, около его ног, а левая рука лежала на коленях, и на ней тикали часы, видневшиеся из-под широкой, чистой, но много раз стиранной манжеты. — Батя, что с вами? — крикнул шофер и придвинул к себе старика, затем он его отпустил, и, когда тот беспомощно рухнул на сиденье, шофер понял все и как ужаленный выскочил из машины. Надо было немедленно что-то предпринять. Но что? Шофер рванул дверцу и стал тормошить пассажира. Но чем сильней он его тряс, тем все больше убеждался в том, что старик теперь уже не скажет ни единого слова, что бы с ним ни делали и куда бы его ни повезли. Взглядом, в котором все еще теплилась надежда, шофер посмотрел на салфетку, на манжеты, на часы пассажира, показывающие семнадцать минут одиннадцатого. Затем он высвободил плечи и голову из машины и встал лицом к площади, залитой огнями и запруженной людьми, которые торопились на пригородные поезда. — Вы свободны? — Занят, — хрипло ответил шофер и очнулся, чувствуя во всем теле какую-то отвратительную мелкую дрожь. Он стоял понуро, стиснув зубы, и не понимал, отчего ему так скверно и так больно в эту минуту, когда он на войне видел вещи в тысячу раз страшнее того, что произошло сейчас. «Надо взять себя в руки, — подумал он. — Надо успокоиться. Теперь, папаша, нам торопиться некуда». Шофер разжал губы и глубоко вздохнул. Кепкой он вытер пот со лба, затем закурил и только после нескольких жадных затяжек стал размышлять более спокойно, припоминая все, что произошло в пути. Место, откуда шофер повез старика, оброненная в машине салфетка, манжеты, бантик под желтым подбородком и блестящие лацканы пиджака — все это указывало на профессию пассажира. Шоферу даже показалось, что он где-то раньше видел этого старого официанта с большими часами на руке. К своему великому огорчению, он понял и другое. Старик был трезв. Он плакал не от вина и не оттого, что был болен. Когда человек тяжело болен, он стонет, мечется, требует помощи, а старик не стонал, ничего не требовал, он только плакал, и так горько, как могут плакать от незаслуженной, тяжкой обиды. Много лет шофер возил разных людей, и вот теперь чутье подсказывало ему, что со стариком кто-то поступил подло — может быть, оболгал его или, может быть, даже ударил. Но что бы там ни совершил обидчик, как бы он ни оправдывался, теперь было ясно, что он убил человека. Шофер похолодел от злобы и сжал пудовые кулаки. Но тут же он подумал и о себе и почувствовал, что его совесть тоже не очень чиста перед пассажиром. «Мне бы поговорить с ним. Много ли обиженному старику надо! Одно душевное слово — и он опять на ногах, а я-то думал — везу пьяного». — Прости, батя, — тихо сказал шофер. Он посмотрел в сторону вокзала и среди киосков и ларьков заметил несколько будок, тесно прижатых друг к другу, и над ними зеленую надпись: «Телефон». «Ну, теперь держись, — подумал он о себе. — Затаскают на допросы». Шофер порылся в карманах и зашагал к телефонной будке. Сгоряча он попробовал набрать номер телефона указательным пальцем, но у него ничего не получилось. Палец не влезал в дисковые дырки. Тогда шофер сплюнул и стал набирать нужный номер мизинцем. Он поговорил со своим сменщиком. Затем позвонил в таксомоторный парк. — Это Свешников, — крикнул он, не узнавая своего голоса, — Свешников, шофер с тридцатки. Илья Ларионыч, разрешите подмениться. За рулем будет мой сменщик. Я ему только что звонил. Машина в порядке. Я тоже, а работать нынче не могу, боюсь. Нет, Илья Ларионыч, бог свидетель — ни одного грамма. Мне просто попала соринка в глаз и режет так, что хоть караул кричи.
С тех пор как жена Ивана Гавриловича перестала поливать цветы, прошло ровно четырнадцать дней. За это время несколько раз лил дождь, и в конце второй недели, когда погода установилась, в городе густо зазеленели деревья, ярче заблестели купола и шпили, потеплели набережные Невы, а белые ночи стали еще прозрачней. Они наступали незаметно и так же незаметно сливались с рассветом, предвещая ясное утро и хороший, солнечный день. С площадей и улиц, которые прилегали к заливу или к Неве, хорошо был виден светлый месяц, висящий над огромным уснувшим городом. Утром в воскресенье, когда поднялось солнце и в садах запели птицы, месяц все еще висел на небе, хотя из парков давно уже были выведены на линии автобусы и трамваи, троллейбусы и такси. В этот час на улицах было как-то особенно тихо и безлюдно, потому что многие еще спозаранку уехали за город, а те, кому не нужно было никуда ехать, только проснулись и не выходили пока из квартир. Город отдыхал. За Кировским мостом в яркой утренней зелени утопала Петроградская сторона. На площади Льва Толстого, около кинотеатра, стояло десятка полтора такси. Шоферы в ожидании пассажиров томились от безделья и развлекали себя чем могли: кто грелся на солнышке, кто читал, кто просто смотрел на площадь, ничего не замечая, кроме инспектора ГАИ. Вскоре к стоянке подошла еще одна машина. Из нее вышел человек лет сорока пяти, загорелый, низкорослый, с угрюмыми бровями, сливающимися у переносицы, и оттопыренными ушами, похожими на самоварные ручки. Это был Хохлов, которого сами же водители считали лучшим шофером в городе, а между тем довольно часто подсмеивались над одной его слабостью, выражающейся в благоговейной любви к врачам. Он только что вернулся из отпуска и работал первый день, не зная еще всех событий, происшедших в его отсутствие. В парке Хохлову не удалось разузнать толком ни о главном механике, ни о премиях, ни о Терещенко, которому прокололи права, ни о том, что было со Свешниковым в милиции, когда он привез туда мертвого старика. Все это интересовало Хохлова, и он хотел было подойти к группе шоферов, стоявших у садовой решетки, но заметил Свешникова и направился к его машине. — Ну-ка, подвинься, — сказал Хохлов, — давай кавказских покурим. Эх, и до чего же там хорошо. Море. Горы. А вот работать туда я бы не поехал. Не люблю работать там, где много курортников. Ну, а что у вас нового? Чем закончилась твоя война с профессором? Дал ты ему жизни или нет? — Нет, — сказал Свешников. — Ну и дурак. А я бы не выдержал. — И ты бы выдержал. Зачем тебе из-за какой-то сволочи в тюрьму садиться. Да он и не профессор, а кандидат математических наук. — Тем более. Поставил бы этому кандидату печать на одном месте, и все. А ты струсил. Забыл, наверно, что у нас за правду в тюрьму не сажают. — Но и кулаками доказывать ее тоже не советуют. Ты вот говоришь: я струсил, а это совсем не так. Задумался я, понимаешь? — Нет, — сказал Хохлов, — не понимаю. Ты давай по порядку. Значит, после телефонных звонков ты поехал в милицию? — А куда же я должен был ехать? Конечно, в милицию. Там сразу же протокол, установление личностей, медэкспертиза старику и все прочее, что полагается по закону. Но закон законом, а меня взяло сомнение. Да и врач вроде как подтверждает, что старик мог бы скрипеть еще лет десять, не случись с ним нервного удара. Значит, надо выяснить, отчего у старика разорвалось сердце. Может, я в этом виноват? Ну и конечно, стали выяснять. По требованию оперуполномоченного поехали мы в ресторан и вот что узнали там про старого официанта Ивана Гавриловича. Оказывается, я не ошибся. Старика действительно сильно обидели. Придрался к нему кандидат математических наук. Не так подаешь. Не так смотришь. А потом кляузную жалобу накатал. Вот она, — сказал Свешников и вынул из кармана блокнот. — Я эту жалобу от слова до слова переписал. Слушай. — Красиво написано, — заметил Хохлов. — Слог красивый, а все равно брехня. Стали мы выяснять про старика и сразу же поняли, что это был за человек. Труженик. Всю жизнь провертелся среди соблазнов, а, между прочим, к нему ничего плохого не пристало. Поняли мы тогда и другое. Стоим и поражаемся. Оперуполномоченный смотрит на меня. Я на оперуполномоченного… Ай да математик, чисто сработал. Попробуй докажи, что вогнал старика в могилу. Вот и получается картина. Тень-то ложится на меня. Вышел я на улицу и задумался. Как же так, думаю, учили, учили этого математика, преподавали ему всякие науки, а главного он так и не познал — уважения к простому человеку. Нет, думаю, так не выйдет. Если я хорошо работаю, то где бы я ни служил — в Совете Министров или в гараже, — а ты меня уважай. Вот в таких размышлениях дошел я до улицы Ракова. Осмотрелся, закурил, выпил в ларьке кружку пива, а старый официант ну никак не выходит у меня из головы. Даже дома мне стало так скучно, так неуютно — будто я только что близкого человека потерял. Ты помнишь, где я живу? — вдруг спросил Свешников. — А как же, — ответил Хохлов. — Так вот, а через дом жил старый официант. Отправился я в магазин и вижу у того дома два автобуса. Подхожу. Оказывается, хоронят Ивана Гавриловича. И что самое удивительное, узнаю я среди людей знаменитого артиста, который в кино играл даже царей. Не успел я приблизиться, а уже слышу, распорядитель говорит: «Это тот самый шофер. Молодец, что пришел, посадите его во второй автобус». Так я проводил старика в последний путь. Был и на поминках и видел двух его сыновей — танкистов. Только не рядом с матерью, а на фотографии. — Ну, это ничего. Отслужат и вернутся, — сказал Хохлов. Свешников задумчиво улыбнулся и повернул голову к Хохлову. — Они уже свое отслужили, — сказал он. — Оба погибли где-то под Берлином. Таким образом, осталась в семье одна мать, старенькая, худенькая, итак она мне тоже запала в память, что я долго не мог сообразить — отчего такая карусель завертелась у меня в душе. Задумчивым стал, злым. И потянуло меня к тому математику. Надо, думаю, поговорить с ним по-настоящему. В крайнем случае схвачу месяца три, а больше мне за такую мразь не дадут. Адрес института у меня был записан. — И ты пошел туда? — спросил Хохлов, заметно оживляясь. — А что я должен был делать, если меня этот человек стал беспокоить, как соринка в глазу. Не жизнь, а мученье. Ты вроде здоров, а на самом деле спать ляжешь — не спится, за стол сядешь — аппетита нет. Одним словом, растревожился я не на шутку. Главное, что меня выбило из колеи, — это происхождение Линевского. Как же так, думаю, ты вышел из рабочих, а поднял руку на труженика. И представь себе, я не выдержал и отправился в институт. Брожу этак я по коридору, а за мной уборщица наблюдает. «Что это, спрашивает, ты так сильно нервничаешь? Заочник, наверно?» — «Заочник, говорю, шофер». — «А кому сдавать будешь?» — «Линевскому. Знаете такого?» — «Еще бы, говорит, не знать». А сама на меня как на обреченного смотрит. «Хочешь, говорит, давай поспорим — ты ему зачета не сдашь. Таких, как ты, он режет наповал». Так слово за слово и завязалась у нас беседа. В порядке разговора я спрашиваю уборщицу: «Что же вы мне посоветуете?» А она отвечает: «Не торопись. Есть слухи — профессор Белов возвращается, ему и сдашь». И опять стала ругать Линевского. «Посмотри, говорит, куда он метит». И подводит меня к доске с объявлениями. Читаю. Оказывается: открытое партсобрание, прием в партию — и кого бы ты думал? Линевского! Вот тут-то мне и стало жарко. Вышел я в институтский садик, сел на скамейку и подумал: «А наверно, сыновья-то Ивана Гавриловича были коммунисты». Стал я перебирать в памяти партийцев. Вспомнил своих фронтовых дружков, тебя, секретаря нашего Никандра Палыча и даже соседа по квартире — токаря Селиванова. Ведь это же настоящие люди. Разве, думаю, Линевский может состоять с ними в одной партии? Как тебе известно, я человек беспартийный. Но тут я не выдержал и отправился к Никандру Палычу. Так и так, говорю, Никандр Палыч, присоветуй, что делать, и рассказываю ему все как было. Лезет, говорю, к вам в партию гадина. Берегитесь ее. Не открывайте ей двери. Короче говоря: посоветовал мне Никандр Палыч выступить в институте на открытом партсобрании и дать Линевскому отвод. Но речь мне писать не стал — дескать, обойдешься и без бумажки, если не забудешь сказать о самом главном. И стал я готовиться к собранию. Растревожился от своей же речи, понимаешь? — Понимаю, — сказал Хохлов. — Это я хорошо могу представить, что бывает с человеком, когда ему попадает соринка в глаз. Хохлов открыл дверцу. То же самое сделал и Свешников, чтобы проветрить машину, в которой было сильно накурено. — Да, нелегкое это дело — выступать на собраниях, — сказал Свешников, — да еще на таких, где в первых рядах сидят профессора, за ними кандидаты наук, а за кандидатами — остальной народ. Для меня легче было сутки за рулем пробыть, чем поднять руку и попросить слова в прениях. Но я все-таки пересилил себя и сказал: «Товарищи ученые, Вот я шофер такси. Человек, можно сказать, необразованный и беспартийный, но я не хочу, чтобы в партии были такие люди, как Линевский, и вот почему». И начинаю рассказывать, а в конце речи заявляю: «Наша партия, говорю, основана на защите тех, кто работает, на уважении к трудовому человеку. А что сделал Линевский? Он до смерти обидел старика, труженика, который всю жизнь хлопотал, как пчела. Что там ни говорите, а пятно ложилось и на меня. Тут шутки плохи, когда вас начинают допрашивать: «Отчего это вдруг у вас в машине человек умер?» Только вы, говорю, пожалуйста, не думайте, что я за себя стараюсь. Мне старика жалко, и жалко потому, что он погиб на своем маленьком посту как настоящий человек. Видимо, Линевский забыл, в каком он государстве живет. Так мы ему напомним. В государстве рабочих и крестьян. Вот поэтому-то, говорю, он и не имеет права быть в Коммунистической партии». Не успел я сесть, как в зале поднялся шум. Одни кричат: «Правильно!» Другие: «Не может быть!» Третьи: «Пусть шофер расскажет подробней». Вскочил и Линевский. Начал он издеваться надо мной. «У меня, говорит, была тетушка. Так она умерла оттого, что один мой знакомый ее сильно рассмешил, и представьте себе: его до сих пор еще никто не назвал убийцей. Почему же я должен чувствовать себя виноватым перед каким-то официантом, которого не знаю и знать не хочу. Разве я виноват, что он хотел меня обсчитать, а затем по каким-то причинам взял да и умер от разрыва сердца в такси?» И тут вдруг кто-то засмеялся. Потом стали смеяться еще несколько человек, и я не знаю, чем бы все это кончилось, если бы с переднего ряда не поднялся старик, белый как лунь, в бархатной шапочке и в просторной куртке, вроде наших шоферских, только с бархатным воротником. Не успел он повернуться к народу, а в зале уже наступила тишина. «Вы, товарищ Свешников, — говорит он, — не смущайтесь. То, что сказал Линевский, это вовсе не так уж смешно, как некоторым кажется. У нас в институте еще до вашего выступления было много разговоров о Линевском. Одни утверждали, что он может быть в партии. Другие говорили: «Нет». Я тоже склоняюсь к тому мнению, что Линевского нельзя принимать в партию». И стал он его молотить. После него выступил лекальщик из институтской мастерской, за лекальщиком — кандидат наук, потом — студент, а в заключение — секретарь райкома. Наговорили они Линевскому столько, что ему хватит, пожалуй, на всю жизнь. — Ну и чем же кончилось дело? — Известно чем — отводом. Но это только начало. Недаром же мне сказали: «Никудышный он человек. Профессоров съедал, всех запугивал, а на официанте поперхнулся». Свешников откинулся на спинку сиденья и сквозь ветровое стекло увидел женщину, которая несла ребенка на руках, пересекая немноголюдную площадь. Женщина шла к стоянке такси, и Свешников сразу же узнал ее, хотя видел всего один раз, четырнадцать дней тому назад, когда вез ее и мальчишку из родильного дома. Он проворно вылез из машины и пошел женщине навстречу. — Давайте сюда, гражданка, а вы, ребята, не кричите, — сказал он шоферам, — это мои постоянные пассажиры. — Как назвали моряка-то? — спросил Свешников. — Записала Андрюшей. — А по отчеству? — Владимировичем. — Значит, Андрей Владимирович. И куда же мы едем, Андрей Владимирович? — В порт, отца встречать. Он семь месяцев был в заграничном плавании. — В таком случае поторапливаться надо. Свешников посадил женщину рядом с собой, и, когда он закрывал дверцу, его взгляд скользнул по зданию кинотеатра, около которого уже толпились ребята, пришедшие на дневной сеанс. Над входом в кинотеатр ярко горели разноцветные электрические лампочки, а чуть повыше висели большие, мрачные фонари, которые не зажигались почти сорок лет.
1954
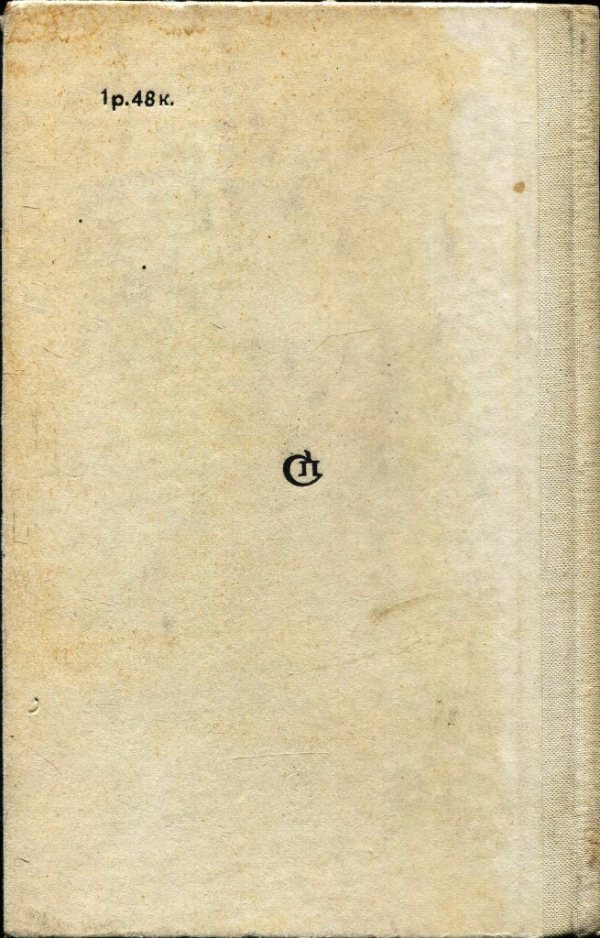 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Последние комментарии
8 часов 12 минут назад
12 часов 32 минут назад
14 часов 19 минут назад
15 часов 32 минут назад
16 часов 38 минут назад
17 часов 47 минут назад