
Маргарет Дюрас
Моряк из Гибралтара
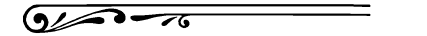 Мы уже посетили Милан и Геную и два дня пробыли в Пизе, когда я предложил ехать во Флоренцию. Жаклин согласилась. Впрочем, она всегда соглашалась со мной.
Шел второй послевоенный год. В поездах не было мест. По всем направлениям они ходили переполненными. Путешествия требовали большой спортивной сноровки, и мы старались приобретать ее. Когда мы приехали на вокзал в Пизе, окошки всех касс были закрыты, так как не осталось билетов ни на один поезд. Мы подумали об автобусе, но и на него не было билетов. Несмотря на все препятствия, я решил во что бы то ни стало добраться до Флоренции. В пути мной овладевал какой-то азарт, хотелось ехать и ехать. Поэтому мысль, что придется ждать до завтра, чтобы увидеть Флоренцию, была для меня невыносима. Трудно объяснить, почему я так ждал встречи с этим городом. На какое откровение или на какую передышку надеялся? Я не мог объяснить своего возбуждения. После неудачи с автобусом стал наводить справки. Мне сказали, что какие-то бригады рабочих каждую среду к шести часам возвращаются во Флоренцию, их грузовичок стоит на привокзальной площади. Иногда они берут с собой пассажиров.
Мы направились на вокзальную площадь. Часы показывали пять. У нас оставался еще целый час. Мы сели на чемоданы. Во время войны площадь подвергалась частым бомбардировкам, и сквозь разрушенное здание вокзала мы видели, как приходят и отходят поезда. Мимо нас проходили сотни усталых и вспотевших пассажиров. Я пытался понять, кто из них едет во Флоренцию, и на всех смотрел с надеждой. Жара стояла невыносимая. Листва нескольких сохранившихся на площади деревьев, выжженная солнцем и дымом паровозов, почти не давала тени. Всем своим существом я желал выбраться из Пизы, и уже от одного этого мне становилось жарко. Через полчаса Жаклин сказала, что хочет пить и с удовольствием выпила бы лимонаду, ведь время еще есть. Я предложил ей сходить одной, так как боялся прозевать рабочих. Она отказалась и купила мороженое. Мы старались съесть его побыстрее, но оно растеклось по пальцам, которые стали липкими, и пить захотелось еще больше. Сегодня одиннадцатое августа. Итальянцы предупредили нас, что это время самой сильной жары, которая обычно наступает с пятнадцатого августа. Жаклин напомнила мне об этом.
— Ну ничего,— сказала она,— только бы нас взяли во Флоренцию.
Я не ответил. На две ее реплики из трех я никак не реагировал и уже отчаялся когда-либо в жизни найти хоть какое-то взаимопонимание с ней. Меня раздражала сама манера ее речи. К тому же лето наводило на меня безнадежную тоску.
Наконец, прибыли рабочие. Мы узнали их по рабочей одежде. Они шли небольшими группками. Это были каменщики, работавшие на восстановлении Пизы. Первая группа подошла к маленькому грузовичку с брезентовым верхом, стоявшему неподалеку от нас.
Жаклин подбежала к рабочему, садившемуся в кабину грузовичка,— решила, что женщину скорее согласятся взять, чем мужчину. Она объяснила ему на итальянском языке,— изучала его все два месяца нашей поездки по Италии, как, впрочем, и я,— что мы, двое французов, которым не повезло с транспортом, а нам надо во Флоренцию, и, если они согласятся взять нас с собой, это будет очень любезно с их стороны. Он сразу же согласился. Я сел рядом с ним, чтобы лучше видеть дорогу. Жаклин разместилась сзади. Я сидел у окна, что, если угодно, почти естественно, и она не обиделась на меня. По крайней мере, я так думал. Она покорно заняла место сзади вместе с рабочими. Послеполуденное солнце накалило воздух до тридцати шести градусов в тени, а в машине, накрытой брезентом, было настоящее пекло. Но я знал, что Жаклин хорошо переносит жару. За несколько минут грузовичок набился до отказа. Мы двинулись. Я взглянул на часы: ровно шесть.
Дорога на выезде из города была запружена машинами и велосипедами. Наш водитель на чем свет стоит клял велосипедистов, кативших прямо под колеса нашего грузовичка, несмотря на его беспрерывные сигналы. В детстве он два года провел во Франции — это первое, что он мне сказал, и поэтому кое-как говорил по-французски. И ругался по-французски — для меня. И крепко ругался. Но не только из-за велосипедистов. Во Флоренции он не нашел работу и вынужден ездить сюда за семьдесят пять километров. Для рабочих сейчас настали трудные времена. Это не жизнь. Все так дорого. Зарплата очень низкая, так не может долго продолжаться. Первое, что надо сделать,— это сменить правительство. Надо его сбросить, а потом ликвидировать теперешнего президента. Когда он произносил фамилию президента, то в бессильной ярости потрясал кулаками, при этом машина управлялась только силой праведного гнева и отчаяния. Машина делала резкие повороты, ветер врывался внутрь, и брезент начинал хлестать по крыше. Но никого из пассажиров это не волновало. Я подумал, что, вероятно, так происходит каждую среду, что шофер всегда бывает в раздражении при выезде из Пизы и что виной тому злосчастные велосипедисты. Но мне не было страшно. Успокоенный и довольный, что все-таки скорей всего попаду сегодня во Флоренцию, я слушал водителя.
Мы уже отъехали от Пизы и приближались к Касине. И тут я услышал сзади приглушенные вскрики — вскрики Жаклин. Рабочие на свой манер принялись ухаживать за ней. Их игриво-веселые возгласы говорили сами за себя. Шофер тоже услышал их.
— Если хотите,— сказал он, несколько смутившись,— ваша жена может сесть рядом со мной.
— Совсем не обязательно.
Он с удивлением посмотрел на меня и улыбнулся.
— У нас мужчины очень ревнивы. А во Франции меньше, да?
— Без сомнения.
— Перед отъездом они пропустили несколько стаканчиков. Сегодня день зарплаты. Вы ничего не имеете против них, правда?
Это казалось ему странным.
— Вполне естественно,— сказал я,— когда женщину обнимают мужчины, особенно, если они выпили.
— Здорово, что вы не ревнуете. Я бы так не смог.
Рабочие смеялись. Жаклин оскорбленно вскрикнула. Водитель удивленно посмотрел на меня.
— Они живут совсем одни,— сказал я,— подолгу не видят женщин, и мне доставляет некоторое удовольствие, что другие… ну, вы понимаете…
— Вы долго женаты, наверное, так ведь?
— Мы давно знаем друг друга, но не женаты. Собираемся пожениться. Она этого хочет. Ей кажется, что будет счастлива, если мы поженимся.— Мы оба рассмеялись.
— Большинство женщин думает так.
Обычно люди, довольные собой или слишком просто смотрящие на жизнь, раздражали меня. Но его я воспринимал спокойно.
— Любовь,— заметил он,— как и все другое, не может длиться вечно.
— Она очень любезна.
— Вижу,— ответил он, смеясь.
Проехали Касину. Дорога стала немного свободнее. Ему явно хотелось поболтать. Он задавал мне обычные вопросы.
— Вы первый раз в Италии?
— Первый раз.
— И долго вы уже здесь?
— Пятнадцать дней.
— Ну и как вы находите итальянцев?
Последний вопрос он задал мне провокационным тоном, с каким-то детским вызовом. Затем стал ждать ответа, внезапно приняв замкнутый вид и нарочито внимательно ведя машину.
— Я недостаточно хорошо еще знаю их,— сказал я,— но, тем не менее, мне кажется, что их трудно не любить.
Он улыбнулся.
— Не любить итальянцев,— продолжал я,— значит не любить человечество.
После этого он полностью расслабился.
— Очень много всякого говорят об итальянцах в связи с войной.
— Люди много думают и говорят о войне,— ответил я.
Я устал. Но он, конечно, не понял этого.
— А Пиза, правда, очень красивый город?
— О да, очень красивый.
— К счастью, главная площадь не пострадала от бомбардировок.
— К счастью.
Он повернулся и посмотрел на меня. Я сделал усилие, чтобы ответить, и он это заметил.
— Вы устали.
— Немного.
— Жара… и нелегкий путь.
— Да, это так.
И все же ему хотелось поговорить. Он стал рассказывать о себе, в течение целых двадцати минут у меня не было необходимости ему отвечать. Он говорил, что заинтересовался политикой сразу после освобождения, особенно после того, как вступил в заводской комитет в Пьемонте. Это был самый лучший период в его жизни. А когда комитеты разогнали, он вернулся в Тоскану. Но сожалеет о Милане, потому что ему было там хорошо. Он много говорил о заводских комитетах и о том, что с ними сделали англичане.
— Отвратительно, что они ликвидировали их, ведь так?
Комитеты имели для него большое значение, и я ответил, что это ужасно. Он снова начал говорить о себе. Теперь он каменщик в Пизе. Грузовик принадлежит лично ему, появился у него после освобождения, и он очень дорожит им. А в Пизе сейчас многое надо восстанавливать.
Беспрестанно разговаривая, он не забывал, когда мы проезжали через деревни, притормаживать, чтобы я мог видеть церкви, памятники и надписи мелом на стенах: VIVA IL PARTITA COMUNISTA! [1]
Я очень внимательно смотрел на все, что он мне показывал, и тот старался ничего не пропустить.
Мы приехали в Понтедеру. Он снова заговорил о своем грузовичке. Чувствовалось, что он очень дорожит им.
— Что вы хотите? Я должен был вернуть его товарищам из комитета?! Ну уж нет, я оставил его себе!
Он очень хорошо видел, что это не вызывает у меня возмущения.
— Я должен был, но не смог этого сделать. Водил его целых два месяца и не мог расстаться с ним.
— Многие поступили бы так же.
— Я говорил себе: у меня никогда в жизни не будет другого,— и не мог расстаться с ним, можно сказать, украл его. Ну и что, украл, но не жалею об этом.
Он объяснил мне, что, да, этот драндулет едва выжимает шестьдесят километров, но все же он очень доволен им. Машины — его страсть. Если как следует заняться клапанами, грузовичок сможет ехать и под восемьдесят, но он все никак не выберет времени заняться этим. И все же грузовик хорошо служит ему. Летом можно отправиться на нем с приятелями на рыбалку на берег Средиземного моря в маленький портовый городок. Это гораздо дешевле, чем ехать на поезде.
— Где это? — спросил я.
— Это Рокка.
Там у него родственники. Это недалеко. Можно бы ездить туда каждую неделю, но с бензином пока туго, и поэтому удается выбираться через две недели. В последний раз он был в Рокке на прошлой неделе. Там встретил очень богатую американку и еще удивился: что она делает в этом забытом Богом уголке? А прибыла туда на великолепной яхте, которая стояла на якоре у пляжа. Он видел, как она купается. Изумительная женщина!
— До сих пор я верил, когда говорили, что американки менее красивы, чем итальянки. Но эта была так красива! Я просто никогда не встречал более красивой женщины.— И добавил по-итальянски: — Bellissima! — Она прекраснейшая из всех!
Затем он рассказал о Рокке. В сущности, почему бы не поехать туда, если есть время? Чтобы увидеть настоящую Италию, совсем не обязательно ездить по городам. Надо посмотреть один-другой город, а потом ехать в деревню. А Рокка — как раз такое место, где можно увидеть, как живут простые итальянцы. Этот народ так страдал, а работает, как ни один другой народ, вы увидите, как он добр. Сам он хорошо знает свой народ — его родители были крестьяне — и очень любит его. Он говорил об этом с гордостью. Да, да, если есть время, надо непременно съездить в Рокку. Там только одна маленькая гостиница, но ему с женой очень нравится это место.
Он сказал мне:
— Представляете, с одной стороны море, с другой — река. Когда море сильно штормит, или когда оно чересчур теплое, или просто хочется разнообразия, можно купаться в реке. Там очень чистая вода, а гостиница стоит прямо на берегу реки.
Он говорил мне об этой реке, о гостинице, о горах, окружающих долину, о подводной охоте.
— Если никогда не занимался подводной охотой, то невозможно себе представить, какое это удовольствие. В первый раз я боялся, а теперь не могу обойтись без нее. Кругом такая красота, а под тобой проплывают рыбы, и такая тишина, просто трудно передать.
Он рассказывал о народных гуляньях, о фруктах — «лимоны такие огромные, словно апельсины».
Доехали до Сан-Романо, откуда открывался вид на долину реки Арно [2]. Небо окрасилось в медный цвет. Солнце уже клонилось к закату, неярко освещая верхушки холмов, сплошь засаженных масличными деревьями. Возле опрятных маленьких домиков возвышались кипарисы. Пейзаж мне показался тошнотворно-сладким.
— Вы из этой части Тосканы? — спросил я его.
— Из этой долины,— ответил он,— но с другой стороны Флоренции. Но моя семья теперь в Рокке. Мой отец любит море.
Солнце исчезло за холмами, и долина освещалась теперь только серебристым светом Арно. В этом месте река не была широкой. Ее студенистая поверхность, мягкие, многочисленные извивы и зеленовато-голубой цвет придавали ей сходство со спящим животным. Нежась в крутых высоких берегах, река текла неторопливо и привольно.
— Как красив Арно,— сказал я.
Даже не заметив этого, он перешел на «ты».
— А чем ты занимаешься?
— Служу в Министерстве по делам колоний,— ответил я.
— И тебе нравится твоя работа?
— Ужасно не нравится.
— А что ты там делаешь?
— Снимаю копии с актов рождения и смерти.
— Понимаю. И сколько же лет ты этим занимаешься?
— Восемь.
— Я,— сказал он, помолчав мгновение,— не смог бы, наверное.
— Нет. Ты не смог бы.
— Но быть каменщиком трудно: зимой холодно, летом жарко. Но все время снимать копии я бы не смог.
— И я не могу.
— Однако ты это делаешь.
— Я это делаю. Вначале думал, что помру от такой работы, но делаю ее. Ты хорошо знаешь, что значит работа…
— Ты и теперь думаешь так?
— Что от этого можно помереть? Да, но другому, не мне.
— Должно быть, ужасно все время снимать копии,— сказал он медленно.
— Ты и представить себе этого не можешь.
Я произнес это в шутливом тоне. Можно было подумать, что так не должно быть или что это моя обычная манера говорить о жизненных неурядицах.
— Но ведь это очень важно — работа, которой занимаешься. Нельзя делать что попало.
— Очень даже можно,— сказал я,— кто-то же должен делать это, почему бы не я?
— Нет, нет,— ответил он,— почему именно ты?
— Я пытался делать что-то другое, но не смог ничего найти.
— Лучше сдохнуть с голоду. На твоем месте я бы лучше подох от голода.
— Всегда страшно остаться без работы. И еще стыд, ну, я не знаю…
— Есть что-то, что стыднее делать, чем не делать.
— Мне хотелось стать велогонщиком, путешественником — не получилось. В конце концов, я поступил в Министерство по делам колоний. Мой отец был колониальным чиновником, и это было проще для меня. В первый год я говорил себе, что это ненадолго, так, шутки ради, во второй год я уже думал, что так продолжаться больше не может, потом наступил третий год, а потом… Ну вот, ты знаешь…— Ему доставляло видимое удовольствие, что я разговорился.— Во время войны мне было хорошо. Я был в группе телеграфистов. Научился взбираться на телеграфные столбы. Это опасно, меня могло убить током, я мог упасть, и все же был счастлив.— Мы посмеялись.— Когда настал момент удирать, я находился на самом верху телеграфного столба. Мои товарищи убежали без меня, но не в ту сторону, куда следовало. Когда я спустился, их и след простыл. И я убежал один, но в другом направлении. Мне повезло.
Он хохотал от всей души.
— Да! Война… Но иногда смеются и над войной. А потом,— спросил он через мгновение,— во время Сопротивления?
— Я был в Виши с министерством.
Он замолчал, как будто ждал дополнительных разъяснений.
— Я делал фальшивые документы для скрывшихся евреев.
— Понял. И это тебе не надоедало?
— Никогда. Только после войны, из-за того, что я три года провел в Виши, меня понизили в должности.
— А твои евреи не могли сказать, что ты им помогал, нет?
— Так и не смог найти ни одного из них,— усмехнувшись, ответил я.
— И все-таки ты покорился? — Он искоса посмотрел на меня, подумал, что я вру.
— Ну, я не слишком занимался поисками. Я и так остался бы в этом учреждении…
— И все же…— добавил он. Он мне не верил.
— Это правда,— улыбнулся я ему,— мне нет смысла врать тебе.
— Я тебе верю,— сказал он наконец.
Я рассмеялся.
— Обычно я часто вру. Но не сегодня. Бывают такие дни, как сегодня.
— Все врут,— сказал он, подумав.
— Вру всем — Жаклин, моим начальникам… У меня даже образовалась привычка, потому, что часто опаздываю в контору. А так как я не могу сказать, что работа мне отвратительна, придумал себе болезнь печени.
Он засмеялся, но как-то невесело.
— Это не называется врать.
— Когда нужно поговорить о чем-нибудь, я всегда говорю об этом. Моя печенка — предмет, о котором я больше всего люблю говорить, иногда целыми днями описываю, как она ведет себя. В министерстве вместо приветствия меня спрашивают: «Ну, как твоя печень?»
— А она тебе верит?
— Не знаю, она мне не говорит об этом.
Он задумался.
— А политикой ты интересуешься?
— Интересовался, когда был студентом.
— А теперь совсем не интересуешься?
— Все меньше и меньше. Теперь совершенно не интересуюсь.
— Ты был коммунистом?
— Да.
Он надолго замолчал.
— Я слишком рано начал,— сказал я,— надоело…
— О, понимаю.— Он опять замолчал, а потом внезапно предложил: — Поехали в Рокку на выходные?
Я понял, что он хотел сказать. Жизнь иногда так тяжела — он хорошо это знал,— и надо время от времени ездить в Рокку, чтобы делать ее чуть-чуть приятной.
— Отчего бы не съездить? — сказал я.
— Не знаю почему, но я люблю Рокку,— заметил он.
Мы добрались до Эмполи.
— Здесь есть стекольный завод,— сообщил он.
Я сказал, что нахожу город красивым. Он не стал распространяться о нем, он думал о другом, думаю, обо мне. Мне было хорошо, и я чувствовал себя довольным. Он возил многих людей между Пизой и Флоренцией, но на меня он смотрел как на приятеля. Я не имел привычки быть довольным собой. Когда иногда со мной случалось подобное, ничто так меня не удручало, и мне требовалось не меньше недели, чтобы войти в колею. Для меня легче выйти из похмелья.
— Ну, поехали в Рокку, ты должен ее увидеть.
— У меня еще осталось десять дней отпуска,— ответил я,— можно и поехать.
Машина шла теперь на пределе своих ограниченных возможностей — почти шестьдесят километров в час. Жара совсем спала, и с наступлением вечера поднялся свежий ветер, должно быть, он пришел из района, где началась гроза. Запахло влагой.
Мы поговорили еще — о нем, о работе, о зарплате, о его жизни, о жизни вообще. Рассуждали о том, что может сделать мужчину счастливым — работа, любовь или что-либо другое.
— Ты мне сказал, что у тебя нет приятелей, я не понимаю. Приятели должны быть, разве нет?
— Может быть, и должны, но среди коллег по министерству у меня их нет, а у Жаклин тоже никого нет, она никого не знает.
— А ты?
— У меня есть старые друзья по факультету. Но я их больше не вижу.
— Странно.— Он был вежливым человеком, но почти уже не верил мне.— Думаю, приятелей всегда можно найти.
— На войне у меня было много хороших знакомых. Но теперь, мне кажется, друзей так же трудно найти, как я… я не знаю что.
— Как женщину?
— Почти,— сказал я, засмеявшись.
— И все-таки…— Он опять задумался и добавил: — Без друзей я просто несчастен, не могу без них.
Я ничего не ответил. Мне показалось, он пожалел, что ему пришлось сказать так. И тут он очень тихо заявил:
— Думаю, тебе нужно бросить работу.
— Рано или поздно я сделаю это.
Он решил, что я не принимаю всерьез то, что он хотел заставить меня понять.
— Ведь мне все равно, ты знаешь, но мне кажется, ты должен бросить такую работу.
И, помолчав, добавил:
— Твоя жизнь не удалась.
— Уже восемь лет,— сказал я,— жду подходящего момента, чтобы бросить работу.
— Я хочу сказать, что нужно побыстрее бросить твою работу.
— Может быть, ты и прав.
Ветер принес приятную свежесть. Он не ощущал этого, как я.
— Почему ты мне говоришь все это? — спросил я.
— Но ты ведь хочешь услышать все это, разве нет? — тихо сказал он. И повторил: — Твоя жизнь не удалась, и тебе никто не скажет этого, кроме меня.— Он мгновение поколебался и произнес, наконец решившись: — Так же, как и с твоей женщиной. Разве она нужна тебе?
— Я все время сомневаюсь. Но мы работаем вместе, целыми днями вижу ее, ты понимаешь…— Он не ответил.— Иногда вроде бы и нет желания выбраться из дерьма, признаться себе, что твоя жизнь — дерьмо.
Он понимающе молчал.
— Нет,— сказал он твердо. Чувствовалось, что моя ирония не понравилась ему.— Так нельзя.
— Многие поступили бы так же, как я. У меня нет веских причин не жениться на ней.
— Ну, и как она?
— Ты же видишь,— сказал я,— всем довольна. Оптимистка.
— Вижу.— Он скривился.— Я не люблю всегда довольных женщин. Они…— Он подыскивал слово.
— Утомительны,— заметил я.
— Вот именно, утомительны.— Он повернулся ко мне и улыбнулся.
— Часто спрашиваю себя,— сказал я,— что нужно для того, чтобы быть всегда довольным жизнью. Может быть, совокупности всего или лишь нескольких небольших условий…
Он еще раз повернулся ко мне с улыбкой:
— Нужно всего лишь несколько условий, и этого достаточно. Но время от времени требуется еще что-то, разве нет?
— Что?
— Быть счастливым. А любовь нужна для этого?
— Не знаю,— признался я.
— Нет, знаешь.
Я не ответил.
— Поехали в Рокку. Если приедешь в среду, я буду там. Вместе поныряем, поохотимся.
Он замолчал, и больше мы не возвращались к этой теме. Мы доехали до Ластры и выехали из долины Арно.
— Еще четырнадцать километров,— сообщил он, опустил боковое стекло, и свежий ветерок приятно обдувал лицо.
— Здорово,— сказал я.
— После Ластры всегда так, не знаю почему.
Ветер, казалось, подгонял нас. Теперь мы, в основном, молчали. Лишь иногда он объявлял почти крича:
— Еще полчаса, еще двадцать минут, еще пятнадцать минут — и ты увидишь его!
Он хотел сказать — город. Но мог бы сказать и другое, он мог бы сказать — счастье. Так хорошо было сидеть рядом с ним, под ветром, что мне захотелось сидеть так еще не один час. Но ему не терпелось показать мне Флоренцию, и его желание передалось мне.
— Еще семь километров,— прокричал он,— и ты увидишь ее внизу, когда мы въедем на холм.
Он, наверное, в сотый раз проделывал этот маршрут между Пизой и Флоренцией.
— Смотри,— провозгласил он,— она прямо под ногами!
Флоренция сверкала под нами, как перевернутое небо. Затем, поворот за поворотом — и мы спустились вниз.
Но я думал о другом. Я думал о том, что даже если только путешествовать вот так, из города в город и встречать таких людей, как он, то это уже много.
По прибытии мы все вместе выпили белого вина в кафе у вокзала. Жаклин вылезла из-под брезента растрепанная и разве что не изнасилованная. Несомненно, кому-нибудь она могла показаться красивой, но только не мне. Я увидел ее довольное лицо. Она была в прекрасном настроении.
В кафе он снова заговорил о Рокке. Я хорошенько рассмотрел его, пока он говорил,— в машине я видел его только в профиль. Мне показалось, что все рабочие похожи друг на друга, но он не походил ни на кого. И тут он немного смутил меня.
— Надо ехать в Рокку,— опять сказал он,— надо отдохнуть. Наступает самое жаркое время. Что такое восемь дней? Вместе покупаемся в Магре и, если будет время, займемся подводной охотой. У моего двоюродного брата есть маска и трубка. Ну, идет?
— Идет,— сказал я. Жаклин улыбнулась, ничего не понимая. Ей он не предложил ехать в Рокку.
Мы уже посетили Милан и Геную и два дня пробыли в Пизе, когда я предложил ехать во Флоренцию. Жаклин согласилась. Впрочем, она всегда соглашалась со мной.
Шел второй послевоенный год. В поездах не было мест. По всем направлениям они ходили переполненными. Путешествия требовали большой спортивной сноровки, и мы старались приобретать ее. Когда мы приехали на вокзал в Пизе, окошки всех касс были закрыты, так как не осталось билетов ни на один поезд. Мы подумали об автобусе, но и на него не было билетов. Несмотря на все препятствия, я решил во что бы то ни стало добраться до Флоренции. В пути мной овладевал какой-то азарт, хотелось ехать и ехать. Поэтому мысль, что придется ждать до завтра, чтобы увидеть Флоренцию, была для меня невыносима. Трудно объяснить, почему я так ждал встречи с этим городом. На какое откровение или на какую передышку надеялся? Я не мог объяснить своего возбуждения. После неудачи с автобусом стал наводить справки. Мне сказали, что какие-то бригады рабочих каждую среду к шести часам возвращаются во Флоренцию, их грузовичок стоит на привокзальной площади. Иногда они берут с собой пассажиров.
Мы направились на вокзальную площадь. Часы показывали пять. У нас оставался еще целый час. Мы сели на чемоданы. Во время войны площадь подвергалась частым бомбардировкам, и сквозь разрушенное здание вокзала мы видели, как приходят и отходят поезда. Мимо нас проходили сотни усталых и вспотевших пассажиров. Я пытался понять, кто из них едет во Флоренцию, и на всех смотрел с надеждой. Жара стояла невыносимая. Листва нескольких сохранившихся на площади деревьев, выжженная солнцем и дымом паровозов, почти не давала тени. Всем своим существом я желал выбраться из Пизы, и уже от одного этого мне становилось жарко. Через полчаса Жаклин сказала, что хочет пить и с удовольствием выпила бы лимонаду, ведь время еще есть. Я предложил ей сходить одной, так как боялся прозевать рабочих. Она отказалась и купила мороженое. Мы старались съесть его побыстрее, но оно растеклось по пальцам, которые стали липкими, и пить захотелось еще больше. Сегодня одиннадцатое августа. Итальянцы предупредили нас, что это время самой сильной жары, которая обычно наступает с пятнадцатого августа. Жаклин напомнила мне об этом.
— Ну ничего,— сказала она,— только бы нас взяли во Флоренцию.
Я не ответил. На две ее реплики из трех я никак не реагировал и уже отчаялся когда-либо в жизни найти хоть какое-то взаимопонимание с ней. Меня раздражала сама манера ее речи. К тому же лето наводило на меня безнадежную тоску.
Наконец, прибыли рабочие. Мы узнали их по рабочей одежде. Они шли небольшими группками. Это были каменщики, работавшие на восстановлении Пизы. Первая группа подошла к маленькому грузовичку с брезентовым верхом, стоявшему неподалеку от нас.
Жаклин подбежала к рабочему, садившемуся в кабину грузовичка,— решила, что женщину скорее согласятся взять, чем мужчину. Она объяснила ему на итальянском языке,— изучала его все два месяца нашей поездки по Италии, как, впрочем, и я,— что мы, двое французов, которым не повезло с транспортом, а нам надо во Флоренцию, и, если они согласятся взять нас с собой, это будет очень любезно с их стороны. Он сразу же согласился. Я сел рядом с ним, чтобы лучше видеть дорогу. Жаклин разместилась сзади. Я сидел у окна, что, если угодно, почти естественно, и она не обиделась на меня. По крайней мере, я так думал. Она покорно заняла место сзади вместе с рабочими. Послеполуденное солнце накалило воздух до тридцати шести градусов в тени, а в машине, накрытой брезентом, было настоящее пекло. Но я знал, что Жаклин хорошо переносит жару. За несколько минут грузовичок набился до отказа. Мы двинулись. Я взглянул на часы: ровно шесть.
Дорога на выезде из города была запружена машинами и велосипедами. Наш водитель на чем свет стоит клял велосипедистов, кативших прямо под колеса нашего грузовичка, несмотря на его беспрерывные сигналы. В детстве он два года провел во Франции — это первое, что он мне сказал, и поэтому кое-как говорил по-французски. И ругался по-французски — для меня. И крепко ругался. Но не только из-за велосипедистов. Во Флоренции он не нашел работу и вынужден ездить сюда за семьдесят пять километров. Для рабочих сейчас настали трудные времена. Это не жизнь. Все так дорого. Зарплата очень низкая, так не может долго продолжаться. Первое, что надо сделать,— это сменить правительство. Надо его сбросить, а потом ликвидировать теперешнего президента. Когда он произносил фамилию президента, то в бессильной ярости потрясал кулаками, при этом машина управлялась только силой праведного гнева и отчаяния. Машина делала резкие повороты, ветер врывался внутрь, и брезент начинал хлестать по крыше. Но никого из пассажиров это не волновало. Я подумал, что, вероятно, так происходит каждую среду, что шофер всегда бывает в раздражении при выезде из Пизы и что виной тому злосчастные велосипедисты. Но мне не было страшно. Успокоенный и довольный, что все-таки скорей всего попаду сегодня во Флоренцию, я слушал водителя.
Мы уже отъехали от Пизы и приближались к Касине. И тут я услышал сзади приглушенные вскрики — вскрики Жаклин. Рабочие на свой манер принялись ухаживать за ней. Их игриво-веселые возгласы говорили сами за себя. Шофер тоже услышал их.
— Если хотите,— сказал он, несколько смутившись,— ваша жена может сесть рядом со мной.
— Совсем не обязательно.
Он с удивлением посмотрел на меня и улыбнулся.
— У нас мужчины очень ревнивы. А во Франции меньше, да?
— Без сомнения.
— Перед отъездом они пропустили несколько стаканчиков. Сегодня день зарплаты. Вы ничего не имеете против них, правда?
Это казалось ему странным.
— Вполне естественно,— сказал я,— когда женщину обнимают мужчины, особенно, если они выпили.
— Здорово, что вы не ревнуете. Я бы так не смог.
Рабочие смеялись. Жаклин оскорбленно вскрикнула. Водитель удивленно посмотрел на меня.
— Они живут совсем одни,— сказал я,— подолгу не видят женщин, и мне доставляет некоторое удовольствие, что другие… ну, вы понимаете…
— Вы долго женаты, наверное, так ведь?
— Мы давно знаем друг друга, но не женаты. Собираемся пожениться. Она этого хочет. Ей кажется, что будет счастлива, если мы поженимся.— Мы оба рассмеялись.
— Большинство женщин думает так.
Обычно люди, довольные собой или слишком просто смотрящие на жизнь, раздражали меня. Но его я воспринимал спокойно.
— Любовь,— заметил он,— как и все другое, не может длиться вечно.
— Она очень любезна.
— Вижу,— ответил он, смеясь.
Проехали Касину. Дорога стала немного свободнее. Ему явно хотелось поболтать. Он задавал мне обычные вопросы.
— Вы первый раз в Италии?
— Первый раз.
— И долго вы уже здесь?
— Пятнадцать дней.
— Ну и как вы находите итальянцев?
Последний вопрос он задал мне провокационным тоном, с каким-то детским вызовом. Затем стал ждать ответа, внезапно приняв замкнутый вид и нарочито внимательно ведя машину.
— Я недостаточно хорошо еще знаю их,— сказал я,— но, тем не менее, мне кажется, что их трудно не любить.
Он улыбнулся.
— Не любить итальянцев,— продолжал я,— значит не любить человечество.
После этого он полностью расслабился.
— Очень много всякого говорят об итальянцах в связи с войной.
— Люди много думают и говорят о войне,— ответил я.
Я устал. Но он, конечно, не понял этого.
— А Пиза, правда, очень красивый город?
— О да, очень красивый.
— К счастью, главная площадь не пострадала от бомбардировок.
— К счастью.
Он повернулся и посмотрел на меня. Я сделал усилие, чтобы ответить, и он это заметил.
— Вы устали.
— Немного.
— Жара… и нелегкий путь.
— Да, это так.
И все же ему хотелось поговорить. Он стал рассказывать о себе, в течение целых двадцати минут у меня не было необходимости ему отвечать. Он говорил, что заинтересовался политикой сразу после освобождения, особенно после того, как вступил в заводской комитет в Пьемонте. Это был самый лучший период в его жизни. А когда комитеты разогнали, он вернулся в Тоскану. Но сожалеет о Милане, потому что ему было там хорошо. Он много говорил о заводских комитетах и о том, что с ними сделали англичане.
— Отвратительно, что они ликвидировали их, ведь так?
Комитеты имели для него большое значение, и я ответил, что это ужасно. Он снова начал говорить о себе. Теперь он каменщик в Пизе. Грузовик принадлежит лично ему, появился у него после освобождения, и он очень дорожит им. А в Пизе сейчас многое надо восстанавливать.
Беспрестанно разговаривая, он не забывал, когда мы проезжали через деревни, притормаживать, чтобы я мог видеть церкви, памятники и надписи мелом на стенах: VIVA IL PARTITA COMUNISTA! [1]
Я очень внимательно смотрел на все, что он мне показывал, и тот старался ничего не пропустить.
Мы приехали в Понтедеру. Он снова заговорил о своем грузовичке. Чувствовалось, что он очень дорожит им.
— Что вы хотите? Я должен был вернуть его товарищам из комитета?! Ну уж нет, я оставил его себе!
Он очень хорошо видел, что это не вызывает у меня возмущения.
— Я должен был, но не смог этого сделать. Водил его целых два месяца и не мог расстаться с ним.
— Многие поступили бы так же.
— Я говорил себе: у меня никогда в жизни не будет другого,— и не мог расстаться с ним, можно сказать, украл его. Ну и что, украл, но не жалею об этом.
Он объяснил мне, что, да, этот драндулет едва выжимает шестьдесят километров, но все же он очень доволен им. Машины — его страсть. Если как следует заняться клапанами, грузовичок сможет ехать и под восемьдесят, но он все никак не выберет времени заняться этим. И все же грузовик хорошо служит ему. Летом можно отправиться на нем с приятелями на рыбалку на берег Средиземного моря в маленький портовый городок. Это гораздо дешевле, чем ехать на поезде.
— Где это? — спросил я.
— Это Рокка.
Там у него родственники. Это недалеко. Можно бы ездить туда каждую неделю, но с бензином пока туго, и поэтому удается выбираться через две недели. В последний раз он был в Рокке на прошлой неделе. Там встретил очень богатую американку и еще удивился: что она делает в этом забытом Богом уголке? А прибыла туда на великолепной яхте, которая стояла на якоре у пляжа. Он видел, как она купается. Изумительная женщина!
— До сих пор я верил, когда говорили, что американки менее красивы, чем итальянки. Но эта была так красива! Я просто никогда не встречал более красивой женщины.— И добавил по-итальянски: — Bellissima! — Она прекраснейшая из всех!
Затем он рассказал о Рокке. В сущности, почему бы не поехать туда, если есть время? Чтобы увидеть настоящую Италию, совсем не обязательно ездить по городам. Надо посмотреть один-другой город, а потом ехать в деревню. А Рокка — как раз такое место, где можно увидеть, как живут простые итальянцы. Этот народ так страдал, а работает, как ни один другой народ, вы увидите, как он добр. Сам он хорошо знает свой народ — его родители были крестьяне — и очень любит его. Он говорил об этом с гордостью. Да, да, если есть время, надо непременно съездить в Рокку. Там только одна маленькая гостиница, но ему с женой очень нравится это место.
Он сказал мне:
— Представляете, с одной стороны море, с другой — река. Когда море сильно штормит, или когда оно чересчур теплое, или просто хочется разнообразия, можно купаться в реке. Там очень чистая вода, а гостиница стоит прямо на берегу реки.
Он говорил мне об этой реке, о гостинице, о горах, окружающих долину, о подводной охоте.
— Если никогда не занимался подводной охотой, то невозможно себе представить, какое это удовольствие. В первый раз я боялся, а теперь не могу обойтись без нее. Кругом такая красота, а под тобой проплывают рыбы, и такая тишина, просто трудно передать.
Он рассказывал о народных гуляньях, о фруктах — «лимоны такие огромные, словно апельсины».
Доехали до Сан-Романо, откуда открывался вид на долину реки Арно [2]. Небо окрасилось в медный цвет. Солнце уже клонилось к закату, неярко освещая верхушки холмов, сплошь засаженных масличными деревьями. Возле опрятных маленьких домиков возвышались кипарисы. Пейзаж мне показался тошнотворно-сладким.
— Вы из этой части Тосканы? — спросил я его.
— Из этой долины,— ответил он,— но с другой стороны Флоренции. Но моя семья теперь в Рокке. Мой отец любит море.
Солнце исчезло за холмами, и долина освещалась теперь только серебристым светом Арно. В этом месте река не была широкой. Ее студенистая поверхность, мягкие, многочисленные извивы и зеленовато-голубой цвет придавали ей сходство со спящим животным. Нежась в крутых высоких берегах, река текла неторопливо и привольно.
— Как красив Арно,— сказал я.
Даже не заметив этого, он перешел на «ты».
— А чем ты занимаешься?
— Служу в Министерстве по делам колоний,— ответил я.
— И тебе нравится твоя работа?
— Ужасно не нравится.
— А что ты там делаешь?
— Снимаю копии с актов рождения и смерти.
— Понимаю. И сколько же лет ты этим занимаешься?
— Восемь.
— Я,— сказал он, помолчав мгновение,— не смог бы, наверное.
— Нет. Ты не смог бы.
— Но быть каменщиком трудно: зимой холодно, летом жарко. Но все время снимать копии я бы не смог.
— И я не могу.
— Однако ты это делаешь.
— Я это делаю. Вначале думал, что помру от такой работы, но делаю ее. Ты хорошо знаешь, что значит работа…
— Ты и теперь думаешь так?
— Что от этого можно помереть? Да, но другому, не мне.
— Должно быть, ужасно все время снимать копии,— сказал он медленно.
— Ты и представить себе этого не можешь.
Я произнес это в шутливом тоне. Можно было подумать, что так не должно быть или что это моя обычная манера говорить о жизненных неурядицах.
— Но ведь это очень важно — работа, которой занимаешься. Нельзя делать что попало.
— Очень даже можно,— сказал я,— кто-то же должен делать это, почему бы не я?
— Нет, нет,— ответил он,— почему именно ты?
— Я пытался делать что-то другое, но не смог ничего найти.
— Лучше сдохнуть с голоду. На твоем месте я бы лучше подох от голода.
— Всегда страшно остаться без работы. И еще стыд, ну, я не знаю…
— Есть что-то, что стыднее делать, чем не делать.
— Мне хотелось стать велогонщиком, путешественником — не получилось. В конце концов, я поступил в Министерство по делам колоний. Мой отец был колониальным чиновником, и это было проще для меня. В первый год я говорил себе, что это ненадолго, так, шутки ради, во второй год я уже думал, что так продолжаться больше не может, потом наступил третий год, а потом… Ну вот, ты знаешь…— Ему доставляло видимое удовольствие, что я разговорился.— Во время войны мне было хорошо. Я был в группе телеграфистов. Научился взбираться на телеграфные столбы. Это опасно, меня могло убить током, я мог упасть, и все же был счастлив.— Мы посмеялись.— Когда настал момент удирать, я находился на самом верху телеграфного столба. Мои товарищи убежали без меня, но не в ту сторону, куда следовало. Когда я спустился, их и след простыл. И я убежал один, но в другом направлении. Мне повезло.
Он хохотал от всей души.
— Да! Война… Но иногда смеются и над войной. А потом,— спросил он через мгновение,— во время Сопротивления?
— Я был в Виши с министерством.
Он замолчал, как будто ждал дополнительных разъяснений.
— Я делал фальшивые документы для скрывшихся евреев.
— Понял. И это тебе не надоедало?
— Никогда. Только после войны, из-за того, что я три года провел в Виши, меня понизили в должности.
— А твои евреи не могли сказать, что ты им помогал, нет?
— Так и не смог найти ни одного из них,— усмехнувшись, ответил я.
— И все-таки ты покорился? — Он искоса посмотрел на меня, подумал, что я вру.
— Ну, я не слишком занимался поисками. Я и так остался бы в этом учреждении…
— И все же…— добавил он. Он мне не верил.
— Это правда,— улыбнулся я ему,— мне нет смысла врать тебе.
— Я тебе верю,— сказал он наконец.
Я рассмеялся.
— Обычно я часто вру. Но не сегодня. Бывают такие дни, как сегодня.
— Все врут,— сказал он, подумав.
— Вру всем — Жаклин, моим начальникам… У меня даже образовалась привычка, потому, что часто опаздываю в контору. А так как я не могу сказать, что работа мне отвратительна, придумал себе болезнь печени.
Он засмеялся, но как-то невесело.
— Это не называется врать.
— Когда нужно поговорить о чем-нибудь, я всегда говорю об этом. Моя печенка — предмет, о котором я больше всего люблю говорить, иногда целыми днями описываю, как она ведет себя. В министерстве вместо приветствия меня спрашивают: «Ну, как твоя печень?»
— А она тебе верит?
— Не знаю, она мне не говорит об этом.
Он задумался.
— А политикой ты интересуешься?
— Интересовался, когда был студентом.
— А теперь совсем не интересуешься?
— Все меньше и меньше. Теперь совершенно не интересуюсь.
— Ты был коммунистом?
— Да.
Он надолго замолчал.
— Я слишком рано начал,— сказал я,— надоело…
— О, понимаю.— Он опять замолчал, а потом внезапно предложил: — Поехали в Рокку на выходные?
Я понял, что он хотел сказать. Жизнь иногда так тяжела — он хорошо это знал,— и надо время от времени ездить в Рокку, чтобы делать ее чуть-чуть приятной.
— Отчего бы не съездить? — сказал я.
— Не знаю почему, но я люблю Рокку,— заметил он.
Мы добрались до Эмполи.
— Здесь есть стекольный завод,— сообщил он.
Я сказал, что нахожу город красивым. Он не стал распространяться о нем, он думал о другом, думаю, обо мне. Мне было хорошо, и я чувствовал себя довольным. Он возил многих людей между Пизой и Флоренцией, но на меня он смотрел как на приятеля. Я не имел привычки быть довольным собой. Когда иногда со мной случалось подобное, ничто так меня не удручало, и мне требовалось не меньше недели, чтобы войти в колею. Для меня легче выйти из похмелья.
— Ну, поехали в Рокку, ты должен ее увидеть.
— У меня еще осталось десять дней отпуска,— ответил я,— можно и поехать.
Машина шла теперь на пределе своих ограниченных возможностей — почти шестьдесят километров в час. Жара совсем спала, и с наступлением вечера поднялся свежий ветер, должно быть, он пришел из района, где началась гроза. Запахло влагой.
Мы поговорили еще — о нем, о работе, о зарплате, о его жизни, о жизни вообще. Рассуждали о том, что может сделать мужчину счастливым — работа, любовь или что-либо другое.
— Ты мне сказал, что у тебя нет приятелей, я не понимаю. Приятели должны быть, разве нет?
— Может быть, и должны, но среди коллег по министерству у меня их нет, а у Жаклин тоже никого нет, она никого не знает.
— А ты?
— У меня есть старые друзья по факультету. Но я их больше не вижу.
— Странно.— Он был вежливым человеком, но почти уже не верил мне.— Думаю, приятелей всегда можно найти.
— На войне у меня было много хороших знакомых. Но теперь, мне кажется, друзей так же трудно найти, как я… я не знаю что.
— Как женщину?
— Почти,— сказал я, засмеявшись.
— И все-таки…— Он опять задумался и добавил: — Без друзей я просто несчастен, не могу без них.
Я ничего не ответил. Мне показалось, он пожалел, что ему пришлось сказать так. И тут он очень тихо заявил:
— Думаю, тебе нужно бросить работу.
— Рано или поздно я сделаю это.
Он решил, что я не принимаю всерьез то, что он хотел заставить меня понять.
— Ведь мне все равно, ты знаешь, но мне кажется, ты должен бросить такую работу.
И, помолчав, добавил:
— Твоя жизнь не удалась.
— Уже восемь лет,— сказал я,— жду подходящего момента, чтобы бросить работу.
— Я хочу сказать, что нужно побыстрее бросить твою работу.
— Может быть, ты и прав.
Ветер принес приятную свежесть. Он не ощущал этого, как я.
— Почему ты мне говоришь все это? — спросил я.
— Но ты ведь хочешь услышать все это, разве нет? — тихо сказал он. И повторил: — Твоя жизнь не удалась, и тебе никто не скажет этого, кроме меня.— Он мгновение поколебался и произнес, наконец решившись: — Так же, как и с твоей женщиной. Разве она нужна тебе?
— Я все время сомневаюсь. Но мы работаем вместе, целыми днями вижу ее, ты понимаешь…— Он не ответил.— Иногда вроде бы и нет желания выбраться из дерьма, признаться себе, что твоя жизнь — дерьмо.
Он понимающе молчал.
— Нет,— сказал он твердо. Чувствовалось, что моя ирония не понравилась ему.— Так нельзя.
— Многие поступили бы так же, как я. У меня нет веских причин не жениться на ней.
— Ну, и как она?
— Ты же видишь,— сказал я,— всем довольна. Оптимистка.
— Вижу.— Он скривился.— Я не люблю всегда довольных женщин. Они…— Он подыскивал слово.
— Утомительны,— заметил я.
— Вот именно, утомительны.— Он повернулся ко мне и улыбнулся.
— Часто спрашиваю себя,— сказал я,— что нужно для того, чтобы быть всегда довольным жизнью. Может быть, совокупности всего или лишь нескольких небольших условий…
Он еще раз повернулся ко мне с улыбкой:
— Нужно всего лишь несколько условий, и этого достаточно. Но время от времени требуется еще что-то, разве нет?
— Что?
— Быть счастливым. А любовь нужна для этого?
— Не знаю,— признался я.
— Нет, знаешь.
Я не ответил.
— Поехали в Рокку. Если приедешь в среду, я буду там. Вместе поныряем, поохотимся.
Он замолчал, и больше мы не возвращались к этой теме. Мы доехали до Ластры и выехали из долины Арно.
— Еще четырнадцать километров,— сообщил он, опустил боковое стекло, и свежий ветерок приятно обдувал лицо.
— Здорово,— сказал я.
— После Ластры всегда так, не знаю почему.
Ветер, казалось, подгонял нас. Теперь мы, в основном, молчали. Лишь иногда он объявлял почти крича:
— Еще полчаса, еще двадцать минут, еще пятнадцать минут — и ты увидишь его!
Он хотел сказать — город. Но мог бы сказать и другое, он мог бы сказать — счастье. Так хорошо было сидеть рядом с ним, под ветром, что мне захотелось сидеть так еще не один час. Но ему не терпелось показать мне Флоренцию, и его желание передалось мне.
— Еще семь километров,— прокричал он,— и ты увидишь ее внизу, когда мы въедем на холм.
Он, наверное, в сотый раз проделывал этот маршрут между Пизой и Флоренцией.
— Смотри,— провозгласил он,— она прямо под ногами!
Флоренция сверкала под нами, как перевернутое небо. Затем, поворот за поворотом — и мы спустились вниз.
Но я думал о другом. Я думал о том, что даже если только путешествовать вот так, из города в город и встречать таких людей, как он, то это уже много.
По прибытии мы все вместе выпили белого вина в кафе у вокзала. Жаклин вылезла из-под брезента растрепанная и разве что не изнасилованная. Несомненно, кому-нибудь она могла показаться красивой, но только не мне. Я увидел ее довольное лицо. Она была в прекрасном настроении.
В кафе он снова заговорил о Рокке. Я хорошенько рассмотрел его, пока он говорил,— в машине я видел его только в профиль. Мне показалось, что все рабочие похожи друг на друга, но он не походил ни на кого. И тут он немного смутил меня.
— Надо ехать в Рокку,— опять сказал он,— надо отдохнуть. Наступает самое жаркое время. Что такое восемь дней? Вместе покупаемся в Магре и, если будет время, займемся подводной охотой. У моего двоюродного брата есть маска и трубка. Ну, идет?
— Идет,— сказал я. Жаклин улыбнулась, ничего не понимая. Ей он не предложил ехать в Рокку.

Следующие дни были во Флоренции самыми жаркими в году. Я знал, что такое жара, так как родился и вырос в тропиках, в колонии, читал об этом в литературе, но именно во Флоренции, во время этих бесконечных дней я понял, что такое настоящая жара. Это было единственное событие. Ничего другого не происходило. Жара — и больше ничего, по всей Италии. Говорили, что в Модене [3] сорок семь градусов. Сколько же во Флоренции? Не знаю. На четыре дня город был принесен в жертву тихому пожару, без пламени, без криков. Но столь же опустошительному, как чума или война. Все население было озабочено лишь тем, чтобы выжить. Жара явилась невыносимым испытанием не только для людей, но и для животных. В зоопарке умер шимпанзе. От удушья дохли рыбы. Над Арно распространилось неистребимое зловоние, о чем писали газеты. Покрытие мостовых липло к ногам. Похоже, любовь стала изгнанницей. Ни одного ребенка не зачали в эти дни. Трудно было писать статьи — газеты пестрели лишь крупными заголовками. И собаки отложили случку до лучших времен. Убийцы воздержались от преступлений, возлюбленные сторонились друг друга. Размягченный разум не желал ни о чем размышлять. Личность превратилась в весьма относительное понятие, когда исчез смысл. Сам Господь Бог не предполагал подобного. Словарный запас горожан унифицировался и сократился до предела. На эти четыре дня он стал единым для всех: «Я хочу пить. Так не может больше продолжаться. Раньше такого никогда не было!» В ночь на пятый день разразилась гроза. Кошмар остался позади. И тотчас же каждый человек в городе начал заниматься своим делом. Только не я. Я был еще в отпуске. Для меня эти четыре дня походили один на другой, как братья-близнецы. Я провел их в ближайшем кафе. Жаклин осматривала Флоренцию. Она сильно похудела при этом, но осмотрела все до конца. Уверен, что она увидела все дворцы, все музеи, все памятники, которые только можно увидеть, и которые не осмотреть и за восемь дней. Не знаю, о чем она думала. Но я, сидя в кафе и попивая кофе с мороженым и мятный напиток, думал о Магре. А о чем же думала она? Конечно, не о Магре, скорее, о чем-нибудь противоположном Магре. Но я целыми днями освежал себя Магрой, зная, что в еще более сильную жару в Магре всегда прозрачная прохладная вода. Я повторял это как заклинание. Одного моря мне мало, мне нужна река, река под сенью деревьев. В первый день, выйдя из отеля, я оказался в кафе. После кофе гляссе пройдусь по городу, решил я. Но провел в кафе все утро. Жаклин обнаружила меня там в обед за шестой кружкой пива. Она возмутилась. Как! Первый раз в жизни оказаться во Флоренции и все утро провести в кафе! После полудня, сказал я себе, обязательно попытаюсь пройтись. Мы договорились осматривать город вместе, вернее, каждый сам по себе, а встретиться в кафе. После обеда мы расстались. А я вернулся в кафе, которое находилось возле ресторана. Время прошло быстро. В семь часов вечера я еще сидел там. На этот раз Жаклин увидела стоящий передо мной мятный напиток. Она опять возмутилась. — Если меня сдвинуть с места, сдохну,— сказал я ей. Я ни минуты не сомневался в этом, как, впрочем, и в том, что на следующий день все будет по-прежнему. Суждены нам благие порывы. На следующий день я, правда, сделал необходимое усилие. После завтрака, через час после ухода Жаклин, я вышел из кафе и пошел по улице Турнебуоне. Где же Арно? Какой-то прохожий указал мне направление. Честно говоря, мне хотелось посмотреть на дохлую рыбу, плывущую по поверхности реки. Я подошел к реке и увидел это с набережной. Газеты, как всегда, преувеличивали. Там была рыба, но не так много, как об этом говорили. Что касается Арно, то она имела мало общего с той рекой, которую мы видели по дороге из Пизы, так же, как моя жизнь по сравнению с моей юностью. Дрянь какая-то, струйка воды с дохлой рыбой на поверхности. Мне стало грустно. Это Арно, подумал я, пытаясь настроить себя. Но безрезультатно. Никакого впечатления. Разочарованный, я ушел. Улицы были полны народу, особенно туристов. Все изнывали от жары. Я двинулся за какой-то группой и вышел на площадь. Где же я ее видел? Само собой, на почтовой открытке. Конечно, это площадь Синьории. Я остановился. Она сверкала на солнце. Мысль о том, что ее надо пересечь, буквально подавила меня. Я огляделся. Все туристы пересекали площадь, она того стоила. Даже женщины и дети ходили по ней туда-сюда. Неужели они так отличаются от меня? Я медленно пошел по площади, но случилось непредвиденное: я остановился и сел на ступеньку галереи. Я выжидал. Рубашка медленно намокала и прилипала к телу. Куртка тоже стала медленно намокать и приклеиваться к рубашке. Я стал думать об этом, ибо ни о чем другом не мог больше думать. Воздух, если можно так сказать, отливал всеми цветами радуги, как над кипящим чайником. Сейчас пойду, твердил я себе. Вдруг какой-то рабочий подошел к галерее, остановился в нескольких метрах от меня, вытащил из сумки гаечный ключ и отвернул водопроводный кран, находящийся прямо у моих ног. Сточный желоб наполнился до краев. Я смотрел не отрываясь, и у меня закружилась голова. Вода лилась из крана блестящей струей. Мне захотелось припасть ртом к крану и наполнить его до краев, как желоб. Но в памяти возникли дохлые рыбы. Вполне возможно, что вода из Арно. Пить я не смог, но опять вспомнил о ней, о Магре. С самого приезда во Флоренцию любой предмет, любое мгновение делали желанным мое свидание с ней. Я прямо ощущал ее, и надо было еще немного, самую малость, чтобы заставить меня поехать в Рокку. Очень медленно я шел к ней. С меня довольно этой площади. Больше я не раздумывал. Встал и ушел. Узкими улочками добрался до кафе, где провел все утро. Официант все понял, хотя я не произнес ни слова. — Большой бокал мятной со льдом,— сказал он.— Месье хочет, видимо, этого. Я выпил его залпом. После этого, усевшись на стул, долго исходил потом, до самого возвращения Жаклин. Это была моя единственная прогулка по Флоренции. Потом я не выходил из кафе еще два дня. Единственное существо, с которым я общался, был официант из кафе. Он нравился мне, и поэтому я возвращался сюда снова и снова. С десяти до полудня и с трех до семи я смотрел, как он работает. Иногда он приносил мне газеты. Иногда разговаривал со мной. «Какая жара»,— говорил он. Или: «Кофе гляссе лучше всего в жару. Он утоляет жажду и дает бодрость». Я слушал его и пил все, что он мне советовал. Ему была по душе такая роль. Сидение в этом кафе за напитком, которого я выпивал пол-литра в час, наблюдая за официантом, еще как-то примиряло меня с жизнью. Не то, чтобы я убеждался, что жизнь достойна того, чтобы жить. Нет, конечно нет. Но она казалась мне менее непереносимой. Секрет заключался в полной неподвижности. Я не имел ничего общего с туристами. У них, по-видимому, не возникало потребности пить. Казалось, они обладают какой-то особой тканью — губчатой, что ли, как, скажем, у кактусов, что, видимо, и определяло их желание ходить целыми днями по городу. Я пил, читал, потел и время от времени перемещался в замкнутом пространстве. Я выходил из кафе и шел на террасу. Смотрел на улицу. Поток туристов ослабевал к полудню и усиливался к пяти часам вечера. Потом снова возрастал. Они пренебрегали жарой. Несмотря на наличие особых тканей, они были героями, эти туристы, единственными в городе. Мне стало стыдно перед туризмом. Я покрыл себя позором. Однажды я сказал официанту из кафе: — Ничего не видел во Флоренции. Это возмутительно. Он, улыбнувшись, ответил, что это вопрос темперамента, а не желания, что бывают те, кто может, и те, кто не может. Он совершенно убежден в том, что говорит, уж он-то знает, что такое настоящая жара. И вежливо добавил, что мой случай — наиболее типичный. Меня удовлетворил его ответ, и в тот же вечер я слово в слово повторил его Жаклин. К четырем часам пополудни прошла поливальная машина. Мостовая сразу задымилась, и над улицей поднялись тысячи запахов. Я жадно втягивал их в себя. Они казались приятными и успокаивающими. Я виделся с Жаклин только во время еды. Мне нечего было сказать ей. Ей же — напротив. Она рассказывала о том, что видела или делала в первую половину дня и после обеда. Она больше не требовала от меня никаких действий, но расхваливала прелести Флоренции, надеясь, что подобным образом вызовет у меня желание увидеть их. Она много говорила и все время о таких прекрасных, таких великолепных вещах, которые просто нельзя не посмотреть, и если я не сделаю этого, потеря для меня окажется невосполнимой. Я не слушал ее. Позволял говорить ей столько, сколько она хотела. Многое мог вытерпеть и в ней, и в самой жизни. Я был одним из тех очень уставших от жизни людей, драма которых состоит в том, что они не видят трагизма в своем положении, которое все прочие нашли бы удручающим. Эти люди обычно замечательные собеседники, в том смысле, что дают возможность другим говорить сколько угодно, при этом вовсе не испытывая ни малейшей гордости. И я позволил ей говорить в течение трех дней — два раза в день, утром и вечером. Затем наступил третий день. На третий день, вместо того чтобы пойти на свидание, которое она мне назначила в семь часов в отеле, я остался в кафе. В случае если она не обнаружит меня в отеле, то скорей всего придет в кафе. Обычно я с той или иной степенью охоты ходил к ней на свидания. Но на сей раз не видел в этом необходимости. Как я и предполагал, в половине восьмого она пришла в кафе. — Все-таки ты обманул меня,— заметила она спокойно. Хорошее настроение по-прежнему не покидало ее. — Ты считаешь, что я злоупотребляю твоим терпением? — Немного,— сказала она вежливо. Она не хотела продолжать разговор. Я заметил, что она напудрилась и переменила платье. С девяти часов утра она ходила по Флоренции. — Ты был где-нибудь? — спросила она. — Нет, ответил я,— нигде. — Можно ко всему привыкнуть,— заметила она,— даже к жаре, достаточно сделать небольшое усилие… Вот уже два года каждый день Жаклин требовала от меня сделать небольшое усилие. Время проходило быстро. — Ты похудела,— сказал я. — Это неплохо,— улыбнулась она,— потом быстро поправлюсь. — Ты не должна так уставать. — Но мне хочется побольше увидеть. — Это неправда,— сказал я. Она удивленно посмотрела на меня и покраснела. — У тебя плохое настроение,— сказала она. — Я не прав. Ведь ты первый раз во Флоренции и, конечно, надо воспользоваться этим. — А ты? Почему ты сам никуда не ходишь? — Мне не хочется. — Ты действительно не такой, как другие. — Ну что ты… Просто мне не хочется. — Ты хочешь сказать, что город тебе не нравится. — Я не имею никакого представления о нем. Она помолчала. — Сегодня,— сказала она,— я видела полотно Джотто. — Мне все равно,— сказал я. Она посмотрела на меня, пожала плечами и решила продолжить. — Когда подумаешь, что этот человек жил в 1300 году и раньше, то даже не верится… Она говорила о Джотто. Я смотрел, как она говорит. Мне показалось, ей нравится, что я смотрю на нее, и, похоже, она подумала, что я слушаю ее. Но ей это нравилось. Наверное, несколько месяцев я не смотрел на нее так. Мы вышли из кафе. Она продолжала говорить о Джотто. Взяла меня под руку. Как обычно. Улица обрушилась на меня. Маленькое кафе внезапно показалось мне уголком обетованной земли. И вот в первый раз, с тех пор как я живу с этой женщиной, я спросил себя: зачем? И понял, что не знаю ответа. Мне стало стыдно. А ее рука по-прежнему обвивала мою. Это было как капля, которая переполнила чашу. Даже если не знаешь, какой сложный, извилистый путь проделала капля, чтобы попасть в чашу и переполнить ее, невозможно не думать об этом. И не только не думать — я думаю о ней,— но и позволить переполнить ее. Я позволил Жаклин переполнить мою чашу, пока она говорила о Джотто. На следующий день я сказал ей, что больше не намерен встречаться с ней за обедом. Жаклин удивилась, но не придала этому значения. Она ушла, оставив меня в отеле. Я встал рано, вымылся и тотчас же отправился в кафе. Я знал, что буду делать. Я попытаюсь найти шофера грузовичка. Как всегда, мы немного поговорили с официантом о жаре и о напитках, могущих поддержать бодрость духа. Что-то изменилось во мне. Мне надоело наблюдать, как целыми часами он мечется между столиками, не останавливаясь. Я надеялся, что он, как и в первые два дня, выберет четверть часа, чтобы передохнуть и выпить со мной бокал мятного напитка, но этого не случилось. Тогда я стал подумывать о водителе грузовичка. Выпив две чашечки кофе, я второй раз за все время вышел в город и направился к вокзалу, чтобы отыскать кафе, где по приезде мы пили белое вино. Усилие, которое я не смог сделать, чтобы осмотреть город, я сделал для того, чтобы найти его. Учитывая нестерпимую жару и мою невероятную лень, я приложил титанические усилия. И нашел этот бар. Я объяснил, что мне надо, меня поняли, но сказали, что, к сожалению, все рабочие с нужного мне грузовичка уехали в Пизу и вернутся только в среду. В общем, мне сказали то, что я знал и сам. Может быть, забыл? Не думаю. Нет, я делал вид, что забыл, надеясь на невозможное, пытался пренебречь тем, что хорошо знал, мне хотелось думать, что что-то изменится. Получил то, что хотел. Известие почти привело меня в отчаяние. Когда вышел из бара, я понял, что во всей Флоренции нет никого, с кем бы я мог поболтать и выпить стаканчик вина. Во всей Флоренции только туристы и она, Жаклин. Люди моего типа с удовольствием убивали время, но терпеть не могли решительных действий. Я не сомневался, что есть и другие люди, к которым меня тянуло, но где они? И действительно ли я хотел найти их? Нет, единственное, чего хотел,— это быть одному вместе с ней в целом городе. Я и был один. Целых пять дней и пять ночей. Я потерял всякую свободу. Она завладела всеми моими мыслями, моими днями и ночами. Это как заноза в сердце. Я был сыном колониального чиновника, главы администрации на Мадагаскаре, который каждое утро осматривал своих служащих. Он интересовался даже чистотой их ушей, считая, что гигиена важна не менее, чем величие Франции. На вверенной ему территории сделал обязательным исполнение «Марсельезы» перед началом занятий в школах. Он, превращавший в священнодействие мероприятия по вакцинации населения, отправил тяжело заболевшего мальчика умирать подальше от себя. Издал приказ согнать для работ на плантациях белых пятьсот мужчин. Послал полицейский наряд, чтобы окружить деревню и ударами прикладов выгонять их на работы. А после того, как они высаживались из вагонов для скота за тысячи километров от своего жилья, возвращался домой совершенно разбитый, но довольный собой и заявлял: — Да, разумеется, очень трудно. Но будет непростительной ошибкой, если они узнают историю Франции. Революция научила нас быть несправедливыми. И этот болван, этот ефрейтор, управлявший провинцией с населением в девятьсот тысяч душ, на которую распространил почти диктаторскую власть, был моим единственным воспитателем до шестнадцати лет. Я знал, что постоянно — каждую секунду, каждое мгновение — нахожусь под его неусыпным надзором. Я жил в постоянном ожидании его смерти. Моей самой заветной мечтой к пятнадцати годам стало желание, чтобы моего отца убил наконец один из отчаявшихся туземцев. Оно, это желание, единственное, что давало мне возможность жить, походило на то особое головокружение, которое порой вызывает вид острого ножа, лежащего на кухонном столе. Я страстно желал схватить его и спрятаться в кустах в ожидании отца, который пройдет мимо инспектировать уши своего персонала. Однако во Флоренции во время жуткой жары передо мной не промелькнуло никаких воспоминаний о детских мечтах. Сидя целыми днями в кафе, я думал о ней, о той, с которой был заперт в этом городе. Я ждал ее целыми часами, как безумно влюбленный. Один ее вид переполнял меня отвращением, оправдывая все мои ожидания. Она не только составляла предмет моего несчастья, но и олицетворяла его, являясь совершенным образом, его отпечатком. Ее улыбка, походка, платье — все в ней заставляло торжествовать мои прошлые сомнения. Я наконец хорошо понял это. Она никогда не хваталась за карабин, не инспектировала ничьих ушей, но это не имело для меня значения. Она ела свой легкий завтрак, окуная булочку в кофе с молоком,— и одного этого было достаточно. Я кричал, чтобы она прекратила. Она, удивившись, переставала окунать булочку в чашку; я сразу же извинялся, впрочем, она ни на чем не настаивала. Она была очень маленькой — и этого было достаточно. Она носила платье, была женщиной — и этого было достаточно. Ее самые простые жесты, самые безобидные слова буквально переворачивали меня. И когда она вежливо просила меня передать ей соль, меня прямо-таки ослеплял головокружительный смысл этих слов. За последние пять дней ничто в ней не укрылось от моего внимания. В общем, я подвел итог. Эти пять дней означали для меня больше, чем предыдущие два года. Я открыл для себя многое. Рядом со мной никого нет, кроме нее, этой женщины, с которой я живу но которая совсем не нужна мне. Она — существо другого, особого, прямо противоположного мне типа. Ее неистощимый оптимизм вконец истощил меня. Люди этого типа, как правило, отличаются превосходным здоровьем, их невозможно вывести из равновесия, они обладают неукротимой энергией. Они падки на людей. Они их любят. Люди — главный объект их внимания. Говорят, что за очень короткое время некоторые виды красных муравьев, кажется, из Мексики, обгладывают трупы до костей. У нее привлекательная внешность и зубы ребенка. Она мой муравей уже в течение двух лет. Все это время стирала мое белье, занималась другими мелкими делами с большой тщательностью. У нее и хрупкость муравья, которого ничего не стоит раздавить двумя пальцами. Она всегда рядом со мной, как особый экземпляр муравья. Ее оптимизма хватило бы на всех самых мрачных, терпения — на всех самых лживых, ее удушающих объятий — на самых отвратительных. До последнего вашего вздоха она будет накачивать вас насосом своего оптимизма. И я живу с ней уже два года. И только во Флоренции я обнаружил, что она превзошла все мои ожидания. Неиссякаемым источником — как бы выразиться поточнее? — моей новой страсти к ней явилась, вероятно, страшная жара. Она говорила: «Я люблю жару» или «Мне интересно все настолько, что я забываю о жаре». Я открыл для себя, что это неправда, невозможно, чтобы человек любил такую жару, что это ложь, в которой она жила всегда, оптимистическая ложь. Все интересовало ее постольку, поскольку она решила, изгнав из своей жизни всякое понятие о свободе, что делает настроение опасно переменчивым. К тому же, если бы она засомневалась, действительно ли настолько хороша жара, значит, однажды могла бы усомниться, например, в прочности своих надежд на меня и признать, что они основаны только на желаемом. Она не хочет страдать от того, что мир полон сомнений, которые она считает преступными. А ведь наверняка и у нее бывают мелкие сомнения, и я обнаружил, наконец, я, чемпион по лжи, что ее ложь здорово отличается от моей. — Даже рыбы дохнут отнее,— сказал я ей,— от этой жары. Она смеялась. Самое странное — то, что я обнаружил в ней,— напрямую связано с дохлыми рыбами, наполнившими город зловонием. Она не хотела замечать их. И утверждала, что не чувствует никакого запаха. Тогда как я весь поддался гипнозу этого запаха, воспринимая его как благоухание букета роз. Даже по поводу погоды наши мнения всегда расходились. Она любила любую погоду, чего никак нельзя сказать про меня. Иные погоды вызывали у меня непреодолимое отвращение. Я обнаружил, что даже в моей раздражительности она находила что-то, что внушало ей уверенность и надежду. Мы еще не поженились, шутила она. Я открыл для себя также кое-что еще. Она, например, никогда не чувствует к людям ни снисходительности, ни любопытства, ее никто не раздражает и не возмущает. Я понял, что являюсь ее единственным предпочтением, в то время как единственного снисхождения у нее заслуживает все человечество. Она ему доверяла полностью, но отдельный человек, которому очень плохо, который просто гибнет, для нее не существовал. Ее волновали только проблемы всего человечества. Она всегда говорила только в общем смысле, у нее имелось четкое, ясное видение выхода из любой ситуации и готовность поделиться им с окружающими. Что касается различных преступлений, она не желала ничего знать о них, предпочитая спортивные праздники, в которых с восторгом принимала участие. К занятиям любовью относилась со спокойным удовольствием и после них улыбалась, удовлетворенная и такая же невозмутимая, как и всегда. В министерстве Жаклин любили, ее настроение вечно веселой птички завоевывало ей все возрастающую популярность среди сослуживцев. О ней говорили, что могла бы составить счастье каждому, что она сама доброта, всех понимает и т. п. Однако с самого первого появления Жаклин в нашей конторе моя тоска достигла наивысшего предела. Ибо я не имел решительно ничего общего с этой веселой птичкой, этим бельканто природы, и единственный знал, что она никогда никого не сделает счастливым. Но я больше не испытывал раздражения, чувствовал себя полностью уничтоженным этой женщиной, ее существованием мелкого муравья, задыхающегося от постоянной деятельности. Я извлек для себя тонны открытий. Эти груды золота просто ослепили меня. Однажды, слегка устыдившись такого богатства, я попытался бороться. В своем платье, которое ей действительно шло, она пришла в кафе, чтобы сказать мне, что все не так серьезно. Она бравировала любовью к жаре, которая, казалось, сделает ее еще более нежной. Она подошла к столику и поздоровалась со мной. И тут все мои намерения сразу же улетучились, как дым. Я почувствовал, как что-то поднимается во мне так же, как поднимались из глубины Арно рыбы, лопнувшие от жары. И я еще раз поднялся на поверхность вместе с рыбами, убиенными жарой. Однако самыми плодотворными в смысле моего прозрения оказались ночи, когда мы спали. Я больше не мог отделить ее жара от жара ночного города. Когда она находилась рядом, я утрачивал способность отделить ее от чего бы то ни было — от кровати, от ночи, и это причиняло мне страдания. Нет, я знал, что есть другие создания, тело которых излучает жар, тепло, но это тепло выносимое, братское. Ее тепло носило предательский характер, оно выдавало ее вызывающий, непристойный оптимизм. Спал я плохо, постоянно просыпался, вздрагивал. Одно ее присутствие будило меня, и я долго смотрел на нее в потемках, спящую сном праведницы. Именно тогда каждую ночь я уносился воображением в небольшую деревушку. Передо мной синела большая река. Я нежно произносил ее имя — Магра. Это название освежало мое сердце. Мы были там вдвоем, водитель грузовичка и я. И больше никого вокруг, только мы двое. Она же совершенно исчезла из моей памяти. А мы прогуливались по берегу реки. Все происходило в среду, длинную бесконечную среду. Небо было сплошь затянуто снегообразными облаками. Время от времени мы ныряли, надев маски, и бок о бок плавали в незнакомом мире, зеленом и фосфоресцирующем, среди травы и рыб. Потом мы вылезали на берег, чтобы снова погрузиться в воду. Ни о чем не говорили. Никакие заботы не тяготили нас. Целых три ночи длилась эта удивительная среда. Бесконечная, неиссякаемая. Желания, что я испытывал на берегу реки и в ее глубине, гасили все прочие желания. Я ни разу даже не подумал о женщине. Я не мог представить никакую женщину возле себя на этой реке. Но наступил день, и река исчезла из моей жизни. Но ее присутствие внутри хватало меня за душу. Уже не мог отделаться от мысли, что я и река как-то связаны. Потом снова началась жара. Она попросила меня пойти с ней в музей Святого Марка, где еще не успела побывать. С тех пор, как мною овладела новая страсть к ней, я стал вежливым. Она заполонила меня настолько, что в каком-то смысле я не мог находиться вдали от ее объекта. И музей Святого Марка представился мне одним из тех мест в мире наряду со спортивными стадионами, где я, выждав удобный случай, наконец застигну ее оптимизм на месте преступления. И я с готовностью согласился. И мы отправились вместе. Стоял самый жаркий день из всех дней нашего пребывания во Флоренции. Асфальт буквально плавился и кипел. Мы погрузились в какой-то сироп из кошмаров. В висках стучало, легкие горели. В этот день, наверное, умерло много рыбы. Был тот самый день, когда сдох шимпанзе. А она вышагивала, довольная и радостная, немного впереди меня, дабы направить и поддержать мой внезапный порыв. Шлюха, говорил я себе. Уверенная в своей победе, она время от времени оборачивалась, чтобы убедиться, что я следую за ней. А я понимал, что иду навстречу решающим поступкам, правда, не уточняя, каким. Все могло произойти. Что-то должно случиться, думал я. Я больше не сопротивлялся. Наконец, я решился. А что потом? Я не знал. Во мне поднималось чувство, похожее на вдохновение, меня неотступно преследовали тысячи прожекторов, вырывающихся из пут проклятой нерешительности. Но какими бы расплывчатыми и многочисленными они ни были, от этого они не казались мне менее грандиозными. Напротив, именно в силу их неясности и обилия они представлялись мне особенно значительными. Шлюха, шлюха, повторял я все время. С высоко поднятой головой я шагал к музею, чувствуя радость новой жизни, радость начала. Мы пришли в музей. Несмотря на то, что в этот день я чувствовал себя одержимым моей страстью, она покинула меня, как только я вошел. Все кругом дышало стариной, такой благостной в летнюю жару! Помещение, окрашенное в розово-серые тона и обращенное не в город, а во внутренний сад, было окружено открытой галереей, выложенной красивым бутовым камнем. Форма его создавала впечатление абсолютной простоты, что-то похожее на квадратный колодец. Некоторые, несомненно, предпочли бы другие, более теплые, более декорированные и повернутые в сторону гор или моря, а не простого дворика. Но, по-моему, они все-таки не правы. Его полумрак казался таким насыщенным, как будто перед ним протекала река. Как будто перед его садом текла Магра — река моей мечты. И как только я попал с солнца в эту благословенную тень, она сразу ошеломила меня. — Ну пойдем же. Я поплелся за ней. Она уже выяснила по программке, где находится «Благовещение». Когда мне исполнилось двенадцать лет, отец взял отпуск, и мы два месяца провели в Бретани, где я увидел репродукцию этой знаменитой картины, изображающей ангела. Ее маленькая копия висела над моей кроватью. Иногда у меня возникало смутное желание увидеть, какой же он — я имею в виду ангела — на самом деле. Картина находилась в зале недалеко от входа. Мы сразу же направились туда. Это была единственная картина в комнате. Около десятка туристов в молчании смотрели на нее. И хотя напротив стояло несколько скамеек, никто не сидел. После некоторого колебания я сел. Потом рядом со мной села Жаклин. Я узнал ангела. Я видел его и на других репродукциях, кроме той, в Бретани. Я знал этого ангела так хорошо, как будто еще вчера спал под ним на кровати. — Это прекрасно,— сказала Жаклин. Она, как всегда, сказала не то, что я чувствовал в тот момент. Но она и не могла сказать ничего другого. Я долго отдыхал, сидя напротив картины. Эти четыре ночи, когда я мечтал о реке, я почти не спал. И внезапно ощутил, как смертельно устал. Мои руки, лежащие на коленях, казались свинцовыми. Через дверь проникал зеленоватый свет, окрашенный травой сада. Картина, туристы и я сам купались в этом свете. Это было отдохновение. — Особенно ангел,— прошептала Жаклин мне в ухо. Другие виденные мною репродукции картины не давали мне столь точного ощущения моих каникул в Бретани. Женщину я тоже узнал. Я знал ее такой же молодой. Но еще не знал, нравится она мне или нет. — Это прекрасно,— еще раз сказала Жаклин. Во время моих каникул, помню, я часто задавался вопросом, перед кем еще он мог бы склониться так, как перед ней. — Обрати внимание, она тоже прекрасна,— добавила Жаклин. Внезапно я решил сказать, что очень хорошо знаю этого негодяя, этого ангела. Что знаю его давно, с детства. О столь незначительной детали своей жизни я мог бы поведать первому встречному, вообще кому угодно, лучше тому, кто ничего обо мне не знает, кому я ничем не обязан, скажем ей. И все-таки, стоит ли говорить ей об этом? Пожалуй, нет, я чертовски устал. Просто не смог произнести ни слова. Все во мне сопротивлялось моему решению. Рот было открылся, но неожиданно язык онемел, и ничего не получилось. Я малость удивился. — Но ангел особенно,— повторила Жаклин. Я попытался еще раз, но тщетно. Я так и не решил произнести это немудреное слово, будто он — мой лучший приятель. Господи, ведь это так просто. Внезапно мне пришло в голову, что у меня нет никого, к кому бы я мог просто запросто обратиться, и, в свою очередь, нет никого, кто бы мог обратиться ко мне по-дружески! Я бы рассказал, что, когда был маленьким, два месяца кряду, каждый день, смотрел на изображение этого ангела, что он почти стал моим приятелем, все время находился рядом со мной. Пока я гостил в Бретани, он висел над моей кроватью. Но я не сказал ничего ни ей, ни никому другому. И мне захотелось обратиться к нему. Я бы сказал ему: «Ты помнишь?» Но он, конечно, ничего не помнил. Теперь солнце освещало только картину, и казалось, что ее охватил огонь. Чувство обиды, что никто не знает о моем давнем — с самого детства — знакомстве с ангелом, переполняло меня. Я сидел на скамейке очень долго, гораздо дольше, чем того заслуживала картина, наверное более получаса. Ангел, конечно, торчал рядом со мной. Я смотрел на него уже машинально, почти не видя, и обдумывал свое новое открытие. Из меня медленно выходила глупость. Я сидел неподвижно, помогая ей покинуть меня. А потом у меня возникло желание пописать, и я пошел в туалет. Когда мужчина писает, он совершает это священнодействие с большим тщанием, старается сделать это как можно лучше, оставаясь сосредоточенным до самой последней капли. Не являлся исключением и я. Я старался выписать мою глупость до последней капли. После чего успокоился. Эта женщина подле меня медленно обретала тайну. Я не хотел ей ни малейшего зла. За полчаса я повзрослел. И теперь, став по-настоящему взрослым, я принялся вновь рассматривать ангела. В профиль. Он оставался безучастным, ибо это была живопись. Он смотрел на женщину. Женщина — тоже живопись — смотрела только на него. Через полчаса Жаклин шепотом сказала: — Надо посмотреть еще кое-что. Музеи закрываются рано. Я знал, что она сказала так лишь потому, что не подозревала, как давно я знаю ангела, ведь я так и не сообщил ей ничего. Но я не сдвинулся с места. Мне не хотелось уходить. Ангел просто сиял, он горел от солнца. Трудно было определить, кто он, мужчина или женщина, да и какое это имело значение… Скорее всего он был тем, кого хотели в нем видеть. Его спину украшали великолепные, мягкие крылья. Мне хотелось рассмотреть его получше, пусть бы он немного повернул голову и поглядел на меня. И поскольку я почти физически погрузился в картину, мне это не показалось бы невероятным. В какой-то момент мне почудилось даже, что он подмигнул мне. Несомненно, это просто игра света и тени. Я стал приглядываться, но больше ничего не повторилось. С тех пор, как попал в раму, он ни разу не посмотрел ни на одного туриста, озабоченный лишь тем, чтобы наилучшим образом выполнить порученную ему миссию. За всю вечную жизнь его интересовала единственная женщина. Может быть, у него просто не существовало другой части лица. И если бы он вдруг невзначай повернул голову, чтобы посмотреть на меня, он мог оказаться одноглазым с лицом тонким, как пленка. Но это всего лишь произведение искусства. Прекрасно оно или нет, я не знаю, на этот счет у меня нет собственного мнения. Но прежде всего это произведение искусства, и слишком долго его не рассматривают. Подмигивал ли он еще кому-нибудь за четыре века существования? Его нельзя ни унести, ни сжечь, ни обнять, ни поговорить с ним. Чего же ради смотреть на него так долго? Мне надо встать со скамьи и продолжать жить. А чего ради, сидя в грузовичке, я смотрел на другой профиль, профиль того шофера, который учил меня, как быть счастливым? Я мечтал о нем каждую ночь. Где-то он сейчас? Наверное, в Пизе, весь вымазанный строительным раствором. Неожиданно сильная боль в области желудка пронзила меня. Я знал эту боль. Я испытывал ее уже дважды: один раз в Париже, другой — в Виши. Я понял, кто такой ангел. Водитель грузовичка, этот предатель. Боль усиливалась, сжигала меня, и я знал, что она уйдет только со слезами. Но зачем же плакать? — спрашивал я себя все время. Я надеялся, что, найдя причину этого странного желания, я избавлюсь от него и боль пройдет сама собой. Но вскоре она стала невыносимой, и я не мог больше рассуждать. Я сказал себе: если тебе хочется заплакать, заплачь. Значит, так надо. Потом ты поймешь зачем. Раз ты мешаешь себе заплакать, стало быть, ты нечестен с самим собой. Ты никогда не отличался правдивостью, даже наедине с собой, и, если ты хочешь быть честным, нужно начинать прямо сейчас, немедленно. Эти слова, поднявшиеся во мне откуда-то изнутри, нахлынули на меня, как высокий прибой, и накрыли с головой. Каждый плачет на свой манер. В комнате раздался глухой стон, похожий на мычание теленка, который хочет вернуться к себе в стойло, к матери корове. Ни одна слезинка не выкатилась из моих глаз, но мычание продолжалось довольно долго. В последовавшей затем тишине я услышал: — Вот и покончено с министерством.— Наверное, их произнес я. Жаклин вздрогнула. Вздрогнули туристы. Но она быстро овладела собой, быстрее, чем туристы. Боль исчезла. — Ты действительно не такой, как все,— сказала она. И хотя подобное поведение совсем не свойственно мне, она не задала мне ни одного вопроса. Она просто взяла меня за руку и повела в другую комнату с такой поспешностью, как если бы «Благовещение» угрожало моему рассудку. Я послушно последовал за ней. Теперь я вообще стал послушным. Ибо на этот раз твердо уверовал, что больше никогда не вернусь в министерство. А она вернется. Это ясно как день. И оттого, что я стал внезапно честным — честными становятся только внезапно, как те, что сходят с ума,— то остаться в министерстве вместе с ней — я не разделял эти вещи,— значит продолжать оставаться нечестным. Я не желал оставаться ни в министерстве, ни с ней. Нет, я уже не смог бы поступить нечестно ни с кем, даже с ней. И чего ради, в силу каких таких убеждений я должен нечестно поступать с самим собой? Перед нами одна за другой проплывали картины. Я шел осторожно как автомат из опасения растерять спокойную уверенность, в которой пребывал. Я чувствовал себя легко и покойно. Жара больше не мучила меня. В первый раз за долгие годы, подумав о том, что во время войны мне удалось ускользнуть от немцев, испытал некоторое уважение к собственной персоне. Я не любил прежде вспоминать о военном периоде своей жизни, никогда не говорил ни с кем об этом. Теперь я хорошо знал, что не сошел с ума, когда плакал перед картиной. Ведь такие картины, как «Благовещение», встречаются нечасто, и странное явление, происшедшее со мной, было вызвано произведенным на меня впечатлением. Казалось, ничего не предвещало моего расставания со стабильной должностью редактора второго класса Министерства по делам колоний. Для того, чтобы решиться на это после восьми лет работы, требовался героизм. Я пытался сделать это сотни раз, но мне всегда не хватало решимости. Меня кто-то заставил, я подчинился чьему-то приказу, понял, что просто теряю время в попытках установить, кто направил меня. Я знал, что больше никогда не вернусь в министерство. Жаклин не замечала, по крайней мере на мой взгляд, что я не уделяю фрескам ни малейшего внимания. Она шла впереди меня, а я — за ней. Она останавливалась перед каждой. — Смотри,— говорила она, оборачиваясь ко мне,— как это прекрасно. О любой она говорила: «прекрасно», «очень прекрасно», «великолепно» или «необыкновенно». Я послушно смотрел на фрески. Иногда на Жаклин. Еще вчера, не выдержав ее банальных восклицаний, я бы просто убежал из музея. Сейчас же с любопытством разглядывал ее, ибо всего лишь час назад хотел ее убить. Но теперь больше не ощущал в себе такого желания. Более того, я и думать забыл о каких-то недобрых намерениях по отношению к ней. Но чего мне действительно хотелось, так это отпустить ее к другим, таким же, как она, оптимистам, выпустить ее, как рыбку в море. В следующие дни я думал о ней только со всей честностью, желая лишь добра. Но особого добра — такого, какого сам я не смог бы ей дать. Я собирался покинуть ее через некоторое время и потому хотел, чтобы она еще меньше сомневалась в себе, но наконец поняла бы: человеческого счастья не так просто достигнуть, как она считала до сих пор. Мне хотелось как-то поддержать ее, облегчив ей будущую жизнь. Это было все, что мог сделать для нее. На второй день после происшествия в музее я сказал: — С тех пор, как мы здесь, мы ни разу не были в городе вместе. Ты уходила одна, а я сидел в кафе. Хоть однажды давай вместе посидим в кафе. Я повел ее в кафе, чтобы поговорить. Придется потратить немного времени, дабы не утратить уже достигнутого. Я решил, что и так потерял уже слишком много и что она потеряет гораздо меньше. Я сказал, что привел ее в кафе, чтобы поговорить о вещах, которые считаю очень важными. Если она будет плакать после нашего расставания, решил я, то пусть утешением для нее явится воспоминание о словах, которые я собирался произнести. По ее взгляду, ставшему внезапно испуганным, ибо она не воспринимала ничего из того, что я ей говорил, я понял, что она спрашивает себя, что же произошло. Но меня это не касалось, я делал то, что должен был сделать. На следующий день мы опять сидели в кафе. Я заявил ей, что больше не в состоянии переносить жару Флоренции, что водитель грузовичка рассказывал мне о Рокке, много рассказывал, и я намереваюсь туда поехать. Если она не хочет ехать, может остаться во Флоренции. Пусть думает она. Для меня это решенное дело — я еду в Рокку. Она смотрела на меня тем же взглядом, что и вчера,— вопросительным и, может быть, даже немного встревоженным. Целый год, наверное, я не говорил с ней подобным образом — по-дружески и так долго. Однако какой бы встревоженной ни казалась, она, конечно, попробует отговорить меня от моих планов. Ведь у нас оставалось всего четыре дня от отпуска, разумно ли покидать Флоренцию и ехать неизвестно куда? Я повторил, что это дело решенное. — Почему на море? — недоумевала она.— Море везде одинаковое. Во Флоренции тоже есть море. Я заметил, что так думаю не только я, что море не везде одинаковое, она может оставаться во Флоренции, если хочет, я же поеду на море. Она ничего не ответила. Я перестал говорить, и наше обычное молчание успокаивало ее. Но уже вечером в отеле она объявила, что тоже поедет в Рокку. Она сказала, что поедет не из-за меня, а просто чтобы быть со мной. Теперь я ничего не ответил. Она не помешает мне в Рокке, подумал я. Даже наоборот, мне будет легче выбрать момент, чтобы объявить ей о моих планах. Она бы все время купалась в море, где же купаться, как не в море, а я бы — только в Магре. Если бы возникла необходимость, я бы три дня кряду, а то и три ночи, нырял в Магре в ожидании, когда же наконец она сядет в поезд. Мне казалось более надежным дожидаться желанного момента, купаясь в реке, чем сидя в номере гостиницы. Во-первых, из-за жары, а кроме того, мне казалось, что это облегчит нам расставание друг с другом. Буду плавать в Магре, когда она сядет в поезд. Я уже видел себя укрывшимся в прохладных глубинах Магры, как в самом надежном блиндаже. Только там буду чувствовать себя в безопасности. Но не в номере отеля. В нашу последнюю ночь во Флоренции, на пятую ночь жары, разразилась гроза. С девяти вечера до полуночи в городе дул горячий ветер, сверкали зигзагообразные, ослепительные молнии и мгновенно вслед за ними раздавались оглушительные громовые удары. Улицы опустели. Кафе закрылись. Но дождя все не было. Некоторые уже отчаялись и потеряли всякую надежду на него. Но дождь пошел в полночь, он примчался со скоростью курьерского поезда. Я не спал, я ждал его. Как только он начался, я встал и подошел к окну. Потопный ливень невероятной силы обрушился на всю Тоскану и на умерших от жары рыб. Я видел, как на другой стороне улицы, а потом и повсюду зажигались окна. Люди просыпались, чтобы увидеть долгожданный, животворный дождь. Жаклин тоже проснулась и встала рядом со мной у окна. Но ее не волновал дождь. — Теперь станет прохладнее,— проговорила она тихо,— может быть, останемся во Флоренции? Тогда я сказал ей то, чего не говорил в кафе: — Я должен поехать в Рокку. — Не понимаю,— помолчав, заметила она. — Я еще сам не совсем понимаю почему,— сказал я,— но когда попаду туда, то пойму и скажу тебе. — Ты уверен, что поймешь, когда попадешь туда? — Уверен,— ответил я. — У тебя всегда странные идеи,— она попыталась улыбнуться,— а я постоянно следую за тобой. — Ты очень любезна. Она ничего не ответила. Она еще немного постояла у окна, а потом внезапно, будто зрелище дождя стало для нее непереносимо, метнулась к постели. А я продолжал стоять у окна. Она позвала меня: — Иди ложись. Я не ответил и продолжал стоять, словно не слышал. Вот уже много дней я не прикасался к ней. Сначала из-за жары, но потом после случая в музее понял, что должен беречь силы для будущего, к которому внутренне готовился. — Ну иди же, ложись,— чуть более нетерпеливо позвала она. — Я смотрю на дождь. — И долго ты собираешься смотреть на него? — Не знаю, но хочется еще посмотреть. Больше она не обращалась ко мне. Может, она начала переживать. Из глубины ночи поднялась забытая свежесть, и люди после длительного отчаяния, удивляясь, чувствовали, что способны радоваться жизни. Я еще долго стоял у окна. Думал о ней, а затем о Рокке. Я думал о реке, видел себя в ее прохладной глубине. Вокруг меня плавали стаи рыб. Дни все время стояли пасмурные. Был четверг. Он собирался приехать в Рокку в субботу, через два дня. Еще очень долго. Если бы он находился во Флоренции, мы гуляли бы с ним под дождем. Рядом с вокзалом много кафе, открытых всю ночь. Мне сказал об этом официант из кафе, где я провел почти все дни во Флоренции. Мы бы выпили, поболтали. Но он был далеко. Надо дождаться среды. Набраться терпения. Я долго стоял у окна, так долго, как, наверное, никогда в жизни. Я курил, думал о реке и о нем, в первый раз с чувством необыкновенной легкости представив, что уже уволился из министерства.

Но попасть в Рокку оказалось не так-то просто. Сначала надо было поездом доехать до Сарцаны, а оттуда добраться автобусом. Первая часть путешествия была очень тяжелой. Жара уже спала, но в поезде стояла ужасающая духота. Жаклин удалось сесть через час после отъезда из Флоренции. Но я всю дорогу проторчал у двери тамбура. Все время мы ехали порознь. В Сарцану мы прибыли в пять часов вечера. Автобус отправлялся только в семь. Я пошел гулять по городу, Жаклин молча сопровождала меня. На улице нам встречались в основном одни женщины. Мужчины работали на военном заводе в Ла-Специи и ко времени нашего приезда еще не закончили работу. Сарцана — маленький городок с узкими улицами, почти лишенный зелени, с бедными домишками, открытыми настежь и сгруппированными таким образом, чтобы каждому досталось больше тени. Но всего в нескольких километрах от Сарцаны находилось море — это чувствовалось в воздухе,— и оно служило единственным неиссякаемым источником счастья для жителей городка в их далеко не легкой жизни. Весь город мы обошли быстро, всего за полчаса. После этого я предложил Жаклин что-нибудь выпить в ожидании автобуса. Она согласилась. Я выбрал кафе на большой площади рядом с автобусной станцией и железнодорожным вокзалом. Мы провели там целый час за кофе и пивом, по-прежнему в молчании. На залитой солнцем площади играли дети. К половине седьмого на станцию пришел трамвай, заполненный мужчинами. Это был очень старый трамвай, ржавый от морского воздуха. Дети немедленно прекратили игры, из домов вышли женщины и стали смотреть на выходящих из трамвая мужчин. В течение получаса площадь оглашалась возгласами приветствий, криками, смехом и страшным грохотом трамвайных вагонов. — У нас осталось всего четыре дня отпуска,— сказала Жаклин. Она пожаловалась, что от трамвайного шума у нее разболелась голова. Достав из сумочки таблетку аспирина, она проглотила ее, запив водой. Автобус пришел одновременно с еще одним трамваем. Как и трамвай, он весь проржавел от времени. Мы оказались единственными пассажирами на станции. От Ла-Специи несколько километров автобус шел по ровной, хорошей дороге, потом она круто пошла вверх, и с ее самой высокой точки мы увидели реку. Это была Магра. Дорога повернула к морю и стала уже и бугристее. Но это не имело значения. Она шла вдоль реки. Река была широкой и спокойной. На правом берегу тянулись холмы с деревнями на склонах, на левом лежала равнина, засаженная оливковыми деревьями. Поездка длилась очень долго. Когда мы достигли конечной цели нашего путешествия, уже совсем стемнело. Автобус остановился у траттории, которая — я уже знал это — выходила окнами на реку. Я очень долго смотрел в ту сторону, в полную темноту. Я так много думал об этой реке, целых шесть дней и шесть ночей, больше, чем я думал за всю свою жизнь о чем-нибудь или даже о ком-нибудь. Кроме всего прочего, я собирался сделать это темой моих разговоров с Жаклин, по крайней мере, до той минуты, пока не отойдет вместе с ней ее поезд. Это то, что должно было круто изменить мою жизнь. Короче, я ждал целых десять лет, чтобы приехать на берег этой реки. Я все вглядывался в темноту и, хотя глаза мои устали, не мог оторваться от этого занятия. В гостинице нас встретил пожилой человек. Он назвался Эоло. — Как ветер? [4] — спросил я. — Как ветер,— ответил он. Он говорил по-французски. Я сказал ему, что мне посоветовал приехать сюда один молодой человек,— имени которого я не знаю, он каменщик, работает в Пизе. У него есть зеленый грузовичок, и он раз в две недели на выходные приезжает сюда к родственникам… Эоло подумал немного, а потом понял, кто это. Он пригласил нас в беседку гостиницы и принес ветчину с пирожками, извинившись за скудность трапезы, ибо ничего другого не нашлось. Постояльцы уже отобедали и теперь собираются прогуляться или к морю, или по берегу реки. Почти все ожидали начала танцев. Мы с интересом слушали, что он говорил, и молчали. Он тоже замолчал. Однако пока мы ели, сидел неподалеку и, заинтересованный нашим утомленным видом и молчаливостью, рассматривал нас. После еды я попросил у него комнату и бутылку пива. — Я так устал,— сказал я ему,— что буду пить прямо в постели. Он понял, что нам нужна комната на двоих. Я не стал возражать. Мы пошли следом за ним. Комната оказалась узкая. В ней отсутствовал даже водопровод. Над кроватью висел полог от комаров. Когда он вышел, Жаклин сказала: — Все же было бы лучше остаться во Флоренции. Я подумал, что, действительно, может, стоит рассказать, почему меня занесло в эту забытую Богом деревушку на берегу моря. Но как? Я не знал, да и не хотел знать. Я сказал ей только, что мы удачно добрались сюда. Поняв, что я очень устал и мне трудно даже говорить, она оставила меня в покое. Я выпил свое пиво. А затем, будучи не в силах даже помыться, лег и сразу же уснул. Проснулся я, должно быть, часа через два. Во время жары такое со мною случалось каждую ночь. Вздрагивая, я просыпался по нескольку раз за ночь с ощущением, что спал очень много и чувствуя себя вполне выспавшимся. Заснуть снова было трудно, почти невозможно. В бутылке еще оставалось немного пива. Я допил его, встал и подошел к окну, как делал это во Флоренции. На другой стороне реки гремела музыка — танцы были в самом разгаре. Я больше не чувствовал усталости. Луны я не видел, вероятно, она скрывалась там, за горой. Ночь казалась более светлой, чем тогда, когда мы приехали. Одно окно комнаты выходило на реку, другое — на море. Со второго этажа хорошо просматривались окрестности, особенно устье реки. Немного левее устья вырисовывался белый корпус корабля со слабо освещенной верхней палубой. Видимо, яхта американки. Море выглядело спокойным, лишь его поверхность в месте впадения реки шевелилась мелкой, почти прозрачной рябью. Лента блестящей пены отмечала место встречи реки и моря. Мне всегда очень нравились пейзажи такого типа: мысы, дельты, слияния рек, а особенно устья, места впадения реки в море. Все деревни на берегу были ярко освещены. Я посмотрел на часы — еще нет одиннадцати. Снова лег. Вместе со мной под полог, где я не спал со времени моей жизни в колонии, проник комар. Он не говорил мне, что здесь есть комары. Похоже, здесь много комаров. Из-за реки. Но меня это не волновало. Жаклин крепко спала, повернувшись ко мне лицом. Во сне она казалась очень маленькой, еще меньше, чем в жизни. Ее ровное дыхание ласкало мне руку. Я закрыл глаза, попытавшись уснуть. Но рядом со мной зажужжал комар, и я понял, что не смогу уснуть. Я не мог включить свет, чтобы попытаться убить его, не разбудив Жаклин. От одной мысли, что я посреди ночи бодрствую в постели рядом с ней, мне хотелось бежать из этой комнаты без оглядки. От стыда и, если угодно, от страха. Мне стало стыдно и страшно, что я и она вот уже два года являемся супружеской парой. Мне было легче думать, что у меня есть выбор, что я не могу уснуть либо из-за комаров, либо из-за танцев, звуки которых хорошо слышны в комнате. Выбрал танцы. Издали мне казалось, что это не танцы, а большой веселый бал со множеством красивых женщин. И не слышал больше ни комаров, ни дыхания Жаклин, но лишь музыку, доносившуюся с другой стороны реки. Я лежал без движения и изо всех сил старался думать о приятных безобидных вещах, но только не о ней, не о реке. Пытался почти час, потом стал припоминать, когда, в какой день начался этот ад. Я стал считать баранов на лугу, хорошо понимая, что иногда это заводит очень далеко. У меня всегда отмечалась любопытная склонность к арифметическим действиям. Начав с баранов, я перешел к другим волнующим меня объектам. Сколько дней осталось до конца отпуска, до отъезда Жаклин? Сколько денег у меня в наличии? Сколько месяцев, недель и дней я смогу прожить на эти деньги? Сколько дней фактически я провел вместе с Жаклин? А в министерстве? А в бюро, где всегда пахнет дерьмом? Восемь лет, три месяца и шесть дней. С Жаклин я пробыл два года, три месяца и два дня. Послышались звуки самбы, ее уже играли сегодня. Сколько лет мне до пенсии? Двенадцать. Немного больше, чем я уже проработал, на четыре года больше. У меня вспотел лоб. А какой будет моя пенсия, если я больше не буду работать? Точно не знал, но, думаю, она составила бы половину от обычной. Стоит ли требовать ее или наплевать? И надо ли в моем возрасте забивать себе голову такими вещами? Внезапно я вспомнил, что три дня назад, во Флоренции, в самую жару мне исполнилось тридцать два. И то, что я полностью забыл о своем дне рождения, подействовало на меня удручающе. Опять заиграли самбу. Нет, решил я, не буду требовать пенсию, пропорциональную годам моей службы в министерстве. Отмечу свой день рождения и плевать хотел на все остальное. Ведь скоро я совершенно забуду свои прежние заботы, расчеты с пенсией и прочую ерунду. Все равно брошу Париж, Жаклин и службу. Музыка прекратилась. Послышались аплодисменты. Потом возобновилась, будто специально для меня. Я опять стал жертвой адских расчетов. Мозг не мог отделаться от неразрешимых вопросов. Принимая во внимание продолжительность человеческой жизни, могут ли мне отказать в пенсии, пропорциональной десятой части жизни? Другими словами, стоит ли работать, то есть тратить попусту жизнь? Особенно когда уже перевалило за тридцать? Холодный пот прошиб меня от этих размышлений, но все же я так и не смог решить для себя, стоит ли тратить жизнь, чтобы заработать на нее? Впрочем, что могли мне сказать бесплодные расчеты? Какие цифры, какая пенсия компенсируют восемь лет жизни, проведенной в министерстве? Конечно же никакие. Может, есть смысл отыграться за напрасно потраченные годы? И ради этого пожертвовать аперитивом и сигаретами? Очень долго я не мог отделаться от подобных мыслей. Потом пришло решение. Тихонько, чтобы не разбудить Жаклин, встал, оделся в темноте и вышел из комнаты. Ночь встретила меня освежающей прохладой. Спокойная, широкая река извивалась среди оливковых рощ. На противоположном берегу ярко светилась танцевальная площадка. Танцевали повсюду. Летом люди, живущие у моря, ложатся поздно. И они правы. Стоя на берегу реки, я смотрел на танцующих. Все расчеты выскочили из головы, моим вниманием целиком овладел деревенский бал. Танцевальная площадка, расцвеченная огнями, издали казалась пылающим костром. Когда люди одиноки среди общего веселья, им хочется встретить таких же одиноких. Трудно перенести одиночество, если кругом музыка и свет. Я заметил, что излишне напряжен. Это показалось мне странным. Нет, я не испытывал желания найти какую-нибудь женщину. Вероятно, так действовала на меня музыка. А может, рикошет того, что я забыл о своем дне рождения. Или отместка за интерес к пропорциональной пенсии? Но ведь я давно не думал ни о дне рождения, ни о пропорциональной пенсии. Мои прошлые пропущенные дни рождения никогда не действовали на меня таким образом, посмеивался я над собой, да и пропорциональная пенсия должна была возыметь обратное действие. Тогда что же это? Не исключено, что желание встретить кого-нибудь? Поговорить с кем-нибудь? Или отчаяние перед тщетностью попыток кого-нибудь встретить? Я остановился на последнем объяснении. Впрочем, это не представлялось мне таким уж важным. С четверть часа, наверное, я еще походил, подышал свежим воздухом, глядя на залитый светом противоположный берег реки, когда неожиданно почти столкнулся со старым Эоло. — Добрый вечер, месье,— сказал он. Он шел по берегу реки и курил. Я обрадовался встрече. Я никогда не любил стариков, их нудные беседы действовали мне на нервы, но в эту ночь я бы не отказался поговорить даже со столетним маразматиком. — Жарко,— сказал он.— Вам жарко под пологом, нет? — Да,— ответил я,— плохо спится, когда так жарко. — Я сплю без полога. Все-таки не так жарко. Теперь я так стар, что комары не хотят больше пить мою кровь. В отраженном от реки свете я хорошо видел его лицо, сплошь испещренное тонкими морщинами. Когда он смеялся, его щеки подпрыгивали, глаза светились и он становился похож на старого, порочного ребенка. — Я не знаю, чего они ждут. Уже три года, как обещали насыпать вон там под горой ДДТ. Обещали, обещали, и все никак… Он мог бы говорить о чем угодно. Я слушал его с таким вниманием, будто все, что он говорил, являлось для меня особенно важным. — Но не только комары,— сказал я,— еще музыка мешает спать. — Понимаю,— ответил он,— в первый день она действительно мешает, но завтра вы уже привыкнете. — Конечно. — И все же,— он лукаво посмотрел на меня,— мне кажется, музыка не может мешать. — О нет,— сказал я,— не может. — Вот увидите, вы быстрее привыкнете к музыке, чем к комарам. — Без сомнения,— ответил я.— Это мелочь по сравнению с тем, что творится в колониях, вновь заговорил я о комарах. — Вы приехали из колонии? — Я родился и вырос там. — Брат моей жены долго жил в Тунисе. Он держал там бакалейную лавку. Мы немного поговорили о колониях, потом вернулись к комарам. Эта проблема интересовала его. — Один-единственный комар,— сказал я,— может отравить всю ночь. — Думаете, об этом не знают в Сарцане? Все они знают. Но в Сарцане нет комаров, и они все время забывают. — Ведь казалось бы так просто. Один полив ДДТ — и все кончено. — Они там, в мэрии Сарцаны, ничего не хотят делать. — Мы ехали через Сарцану. Очень приятный маленький городок. — Не знаю, насколько он приятный,— сказал он, раздражаясь,— лучше бы они побольше занимались своими делами там, в Сарцане.—Он немного смягчился.— Вы находите, что там красиво? Занятно… Обычно никто так не считает. Единственное, что там хорошо, так снабжение. Каждую неделю мы ходим туда на барже по Магре. Раз уж я начал, мне пришлось поддержать разговор. — Большое движение по Магре? — спросил я. — Достаточное,— ответил он.— Со всей долины привозят сюда персики. На судах персики портятся меньше, чем на поезде или в автомобиле. — И откуда их привозят? Он показал пальцем на отдаленную точку противоположного берега: — Оттуда. Из Виаджеро. И оттуда,— он показал на другую точку другого берега,— из Ла-Специи. Самые лучшие персики везут по реке, а те, которые на конфитюр,— машинами. Мы поговорили о персиках. Потом вообще о фруктах. — Я слышал, что ваши фрукты славятся на всю Италию. — Да, они лучше многих. Но персики из Пьемонта лучше наших. А самое замечательное у нас — это мрамор. — Молодой человек, о котором я говорил вам, рассказывал мне. Там живет его отец, только я не знаю где. — В Марина ди Карраре,— сказал он.— Если вы пойдете по пляжу, то через три километра попадете в Марина ди Каррару. Это порт мрамора. Оттуда все время отходят корабли, груженные мрамором. — Он мне говорил, что здесь, у вас, живет его двоюродный брат: он занимается подводной охотой. — Да, его двоюродный брат живет здесь, но на другой стороне, не на море, а на реке. Он торговец фруктами. Но их деревня не такая красивая. Вот Марина ди Каррара действительно красива. — Он должен приехать в субботу. Мы собираемся вместе поохотиться в реке. — Не понимаю,— сказал он,— в этом году все словно с ума посходили от подводной охоты. — Если никогда не плавал под водой, то, действительно, невозможно представить себе, как это красиво. Кругом необыкновенные цвета. А под вами и над вами проплывает рыба. Но самое главное — это ощущение удивительного покоя. — А вы, я вижу, тоже любитель подводной охоты? — Никогда не пробовал,— ответил я, улыбнувшись,— но собираюсь в субботу, вместе с ним. Мы помолчали немного, подыскивая темы для разговора. Он снова заговорил о мраморе. — Когда будете в Марина ди Карраре, то увидите — весь порт забит мрамором, ждет вывоза. — Он мне не говорил о мраморе. Каррарский мрамор очень дорогой? — Нет, очень дорогой транспорт. Мрамор тяжелый, но хрупкий. Здесь мрамор недорогой. У нас все похоронены под мраморными плитами.— Мы одновременно улыбнулись, подумав об одном и том же.— Здесь даже раковины на кухне мраморные,— добавил он. Затем от мрамора мы как-то незаметно перешли к путешествиям. Он никогда не был в Риме, бывал только в Милане, где и видел персики из Пьемонта. Но его жена ездила в Рим. Один раз. — Специально, чтобы увидеть дуче; так делали многие женщины Италии. Как нам тогда говорили, это действовало как талисман. Ему нравились французы. Он узнал их еще в 1917 году. Но думал, что французы ненавидят итальянцев. — Чего только не придумают люди во время войны,— сказал я. Он согласился со мной. — Но ведь нас заставили сбрасывать бомбы на нашу северную сестру. Разве это можно забыть? Видимо, он страдал от каких-то своих воспоминаний. Я перевел беседу на другое. — А что вы делаете здесь так поздно? Неужели просто гуляете? — Мне тоже танцы мешают уснуть,— сказал он,— когда устраиваются балы, я всегда гуляю. Заодно приглядываю за самой младшей из моих дочерей, за Карлой. Она очень поздно появилась у нас, ей всего шестнадцать. Если я лягу, она удерет на танцы.— Он, должно быть, очень любил Карлу. Он улыбался, говоря о ней.— Ей только шестнадцать. Нужно присматривать за ней. Мало ли что может случиться. — Но все-таки,— заметил я,— иногда ей надо развлечься. И потом, как же ей выйти замуж, если она не будет ходить на танцы? — Посмотрите на нее днем,— сказал он,— она ходит за водой по десять раз в день вместо положенных пяти, но я ей разрешаю. Вы еще увидите других моих дочерей, они уже три года ходят на танцы, но все никак не выйдут замуж. Чувствовалось, что он весьма озабочен тем, чтобы поскорее выдать их замуж, особенно старшую. Я заметил, что, как только он стал мне говорить о своих дочерях, я опять напрягся. Меня охватило некоторое волнение. Что же мне все-таки надо? — с тоской думал я. — Иногда появляются женихи, но этот — беден, тот — ленив, к тому же большинство мужчин теперь боятся жениться. В Италии слишком мало зарабатывают. И все хотят Карлу, но не других,— добавил он. Теперь я вполуха слушал его, я опять стал смотреть на танцы. Может, стоит туда пойти. — Наверное, это потому, что она совсем не думает о замужестве,— продолжал Эоло,— а только о танцах. А ее сестры думают о замужестве. А мужчины всегда чувствуют это. — Всегда,— сказал я,— вы правы. — Но все мужчины предпочитают Карлу. И американка тоже очень симпатизирует Карле. — Мне уже говорил об этой американке водитель грузовика. Вы ее тоже знаете? Конечно, он знает ее. Она всегда питается в траттории. Ей нравится, как готовит его жена. Ее кушанья считаются лучшими во всей долине. Завтра я увижу американку в траттории. Он не сказал мне, красивая ли она, потому что это, несомненно, не интересовало его, а может, просто его слабое зрение не позволяло ему судить об этом. Но он сказал, что она очень славная. Что очень богата. И одинока. Она приехала отдохнуть здесь. Ее яхта стоит на якоре рядом с пляжем. Да, он видел ее. Красивая яхта, на ней семь человек экипажа. Но она путешествует не для своего удовольствия. Говорят, чтоона пытается найти кого-то, какого-то мужчину, которого знала раньше. Странного мужчину. Странная история. Но она очень славная, очень любезная… — Такая же простая, как Карла. Они хорошо понимают друг друга. Иногда они ходят вместе на колодец. Иной раз она обедает с моряками из своей команды. Они с ней на «ты» и зовут ее по имени. — И она совсем одинока? — спросил я.— Вы уверены, что у нее нет мужчины? Говорят, она красива. — Она ищет этого человека, поэтому не может иметь другого мужчину. Разве не так? Пока она ждет того, кого ищет, проходит жизнь… Казалось, он затрудняется говорить о подобных вещах. — Ну… то есть у нее нет какого-то определенного мужчины, одного и того же, это точно. Но моя жена… вы знаете, каковы эти женщины, так вот она говорит, что у нее есть мужчины, что время от времени у нее бывают мужчины. — Женщины все видят, они хорошо чувствуют такое. — Она говорит: сразу видно, что эта женщина не может обойтись без мужчин. Но она сказала это без неприязни, наоборот, ей очень нравится американка. Она любит ее так же, как если бы она была бедной. — Бывает такое,— сказал я.— В общем, это женщина, с которой легко. — Если хочешь,— ответил он,— можно сказать, что с ней легко. Моя жена говорит, что ей достаточно быть в море со своей командой, вполне достаточно. — Понятно,— резюмировал я,— забавная история. Мы не знали, о чем еще говорить. Он посоветовал мне сходить на танцы. Даже предложил перевезти меня на своей лодке. Я согласился. Он заговорил о реке. Потом снова перешел к танцам и дочерям. С улыбкой предупредил, что я сейчас их увижу. — А вообще-то,— добавил он,— если им не суждено найти на танцах мужей, то пусть хоть развлекутся, ведь жизнь не очень-то веселая. А потом,— он выказал некоторое раздражение,— почему бы все же им не найти когда-нибудь мужей, ведь находят же их другие. — Кто организует эти балы? — поинтересовался я. — Муниципалитет Сарцаны. Единственное доброе дело, которое делает этот дурацкий муниципалитет. Сюда приходят рабочие из Ла-Специи, именно за них выходят замуж девушки из окрестных мест. Он высадил меня на берег. Я угостил его сигаретой. И он отправился обратно приглядывать за своей Карлой.

Танцы проходили возле реки, на площадке из дощатого настила, уложенного прямо на сваи. Площадка была огорожена тростниковой изгородью, украшенной венецианскими фонариками. Люди танцевали и снаружи, прямо на земле перед входом. Я постоял немного снаружи, но так как здесь не на чем было сидеть, вошел и осмотрелся, пробежав взглядом по лицам присутствующих. В глубине души теплилась надежда, что я увижу его, вдруг в эту неделю он приехал раньше из Пизы. Но надежда оказалась тщетной. Здесь не было никого, даже отдаленно напоминавшего его. Неожиданно на меня навалилась усталость. Я сел за столик, на котором стояло четыре стакана с лимонадом, и стал ждать окончания танца, чтобы пригласить какую-нибудь девушку. Много пар кружились в быстром танце и около двадцати мужчин, как и я, сидели в одиночестве. Я чувствовал необходимость побыстрее найти кого-то поговорить. Танец — думаю, самба — закончился, чтобы тотчас же смениться другим. Никто не сел. Я пообещал себе, что при первой же возможности подкачусь к какой-нибудь девице. Мне это очень нужно. И девице наверняка тоже. У меня, правда, имелась девушка, на другой стороне реки, та, которая спала сейчас в душном номере гостиницы, но она больше не в силах удерживать меня. Она мало чем отличалась от той, с которой я собирался познакомиться здесь, кроме того, что не могла уже удержать меня. Первый раз я увидел ее в Виши, куда во время войны переехало наше министерство. Три дня я украдкой наблюдал за ней. Затем мне в голову пришла мысль — одна из тех, которые часто посещали меня тогда. Вот уже шесть лет я мечтаю уйти из этого бардака, но слишком ленив, чтобы приложить к этому какие-то усилия. Изнасилую-ка я эту маленькую редакторшу. Она будет кричать, ее услышат, и меня уволят с работы. В одну из суббот после обеда, когда, как обычно, мы были вдвоем, я исполнил задуманное. Но, видимо, плохо сработал. Она, должно быть, долго ждала мужчину. Таким образом, мой столь ловко задуманный проект провалился, положив начало субботней привычке. Так прошло два года. Больше я не испытывал ни малейшего желания спать с нею. Откровенно говоря, с ней я никогда не получал особого удовольствия. Но иногда мне казалось, что я, как и все остальные, создан для того, чтобы любить. Но мне ни разу не удавалось полюбить кого-нибудь. И я давно свыкся с подобной несправедливостью. Завтра я заставлю ее страдать. Она будет плакать. Но это уже неизбежно, как неизбежно после ночи наступает рассвет. Я полностью исчерпал свои внутренние силы для нее. Слезы, пожалуй, придадут ей новое очарование, единственное, что может еще нравиться мне. Сначала она, конечно, не поверит в серьезность моих намерений. Но потом… Танцевавшие женщины вновь напомнили мне ее. Она сейчас одна в комнате, скорее всего, спит, а может, проснулась и теряется в догадках, где же я. Я позволил ей приехать в Рокку, но еще ничего не говорил о своих планах. Может, я все еще сомневался? Думаю, нет. Завтра она примется плакать, но во мне родилась уверенность, что мне удастся сказать ей все. Ее отчаяние будет искренним. Она уедет вся в слезах, а я останусь здесь. До самого последнего момента для всех мы будем семейной парой. И вдруг я поймал себя на совершенно безумной мысли: я пожалел, что не взял ее с собой на танцы. Чтобы танцевать с ней? Не знаю, вряд ли. Нет, думаю, чтобы лучше понять друг друга и поговорить в подходящей обстановке. Я бы сжал ее в объятиях и сказал: — Я остаюсь в Рокке, потому что не могу больше так. Нам необходимо расстаться, ты знаешь это не хуже меня. Мы не подходим друг другу, мы оба такие, что умрем от голода посреди всех яств мира. Зачем продолжать? Не плачь, ты видишь, я сжимаю тебя в объятиях. Я почти любил тебя. И это чудо свершило наше расставание. Постарайся осознать, насколько это необходимо. И тогда наконец мы поймем друг друга так, как еще никто не понимал. Я произносил эти прекрасные речи с таким воодушевлением, что больше не видел никого вокруг. И все же я знал, что, когда буду смотреть в ее слепые от слез глаза, ни за что не смогу сказать ничего подобного: Но неважно, ведь речь уже произнесена; она подкрепила меня в сознании несправедливости жизни и смерти. Кончилась самба. К столику, за которым я сидел, подошли четыре молодые девушки. Очень быстро я выбрал одну из них, ту, которая смотрела на меня. Опять заиграла музыка, на этот раз плохо исполняемый блюз. Я пригласил ее танцевать. Я должен был спросить ее кое о чем. — Вы случайно не дочь Эоло, который держит гостиницу на той стороне реки? Нет, это не она. — Я рад, что нашел вас здесь,— сказал я,— мне так одиноко. Она казалась польщенной. Я был единственным французом на танцах. — Когда вы вошли, я сразу поняла, что вы ищете молодую девушку, с которой можно было бы провести вечер,— сказала она. Я не возражал ей. — Я один. Я приехал сегодня. — Понимаю. Совсем один в Италии? — Да. Вероятно, я чувствовал бы себя более одиноким, если бы на другом берегу реки, в номере маленькой захолустной гостиницы, не спала она, тоже одинокая. Однако я более одинок. Ведь она любит меня, а я ее нет. Но расставание с кем бы то ни было всегда противоестественно. Я прожил с нею много ужасных дней. И знаю, что никто не сможет заменить мне ее, что, как это ни парадоксально, союз таких несовместимых друг с другом людей, унылый и нелепый, вдруг показался мне естественным. — Я не люблю одиночества,— сказала девушка. — А я, можно сказать, не так уж и одинок. Со мной здесь моя жена. Сейчас она спит в гостинице. Но мы собираемся расстаться. Танец закончился. Мы сели рядом возле бара. Она задумалась. — Это всегда очень трудно,— осторожно произнесла она. Я видел, что она сгорает от желания задавать мне вопросы, но из скромности ждет, что я сам заговорю. Должно быть, она из тех девушек, кого интересуют душещипательные истории. — Она хорошая,— начал я,— и красивая. Мне не в чем упрекнуть ее. Но мы не созданы друг для друга — в этом все дело. Подобное случается со многими. Когда он вернется в Пизу, думал я, я останусь в Рокке у старого Эоло. Поеду в Сарцану смотреть, как приходят старые трамваи. Это как раз то, что я собирался делать. Я больше не хотел ни на что смотреть издали. Лето в самом разгаре, и я не желал пропускать его теперь. Мне не надо возвращаться во Францию, потому что отпуск заканчивался. Пусть бы постояла знойная жара; в ней есть какая-то особая прелесть, которой я не чувствовал раньше. Стоит ли писать начальству в Министерство колоний по поводу пропорциональной пенсии? Такое письмо нелегко составить, но, надеюсь, что солнце, море и река подвигнут меня на это. Скоро мы займемся подводной охотой и целых два дня будем нырять в реке. Затем стану дожидаться следующей субботы. В Рокке теперь я знал старого Эоло. Останусь здесь и познакомлюсь еще с кем-нибудь. Я не должен больше оставаться один, одиночество тяготит меня, ведь может произойти все что угодно. Я хорошо знал себя. Я слаб и способен на малодушный поступок. — Вы не слишком-то разговорчивый,— заметила девушка. — Наверное,— ответил я,— мне немного грустно из-за этой истории. — Понимаю. А она знает, что вы собираетесь бросить ее? — Я говорил ей один раз. Но сомневаюсь, чтобы она приняла это всерьез. Рокка и лето помогут мне. Он тоже поможет. А себя я боюсь как чумы. Уже много лет за мной утвердилась репутации слабовольного человека. — Так бывает всегда,— сказала девушка, в плохое никогда не хочется верить. Наверное, вы часто говорите ей то, что потом не исполняете. Мне было просто разговаривать с ней. Все могли судить о том, что происходит со мной, о моей трудной ситуации. Впрочем, ведь я не рассказывал ничего особенного, только мою личную историю. — Нет, я думаю об этом с самого начала, с тех пор, как познакомился с ней, но сказал ей об этом только один раз. — В таком случае она должна поверить. — А она не верит. Она задумалась. Если и было в ее жизни что-то серьезное, так это любовные истории. — Тогда что же она думает? — Она думает, что это просто манера говорить с ней. Она снова задумалась. — Может, вы все же не решитесь на это? — сказала она.— Ведь она знает вас. — На что? — Ну, бросить ее. — Конечно, ничего нельзя знать наверное до последнего момента, но думаю, что сделаю это. Она еще раз помолчала, внимательно глядя на меня. — Интересно,— произнесла она наконец.— Хотя вы еще и не уверены, что скажете ей, но скорей всего вы сделаете это. — Я тоже так думаю, точно не знаю почему, но думаю так. Никогда в жизни не принимал подобных решений, вообще никогда не принимал серьезных решений. — Вначале,— сказала она,— вы понимаете, что не можете быть абсолютно уверены в том, что выполните обещание, данное себе. А затем успокаиваетесь и исполняете то, на что решились. — Да, вы правы. В общем-то, все очень просто. Она будет собирать чемоданы, а я — смотреть, как она это делает, потом она сядет в поезд, а я стану смотреть, как он отходит. Надеюсь, у меня хватит сил не пошевельнуть пальцем. Мне так хочется сказать себе: не двигайся, не двигайся. Вот и все. Она очень ясно представила себе нарисованную мной картину. Она видела меня в комнате, видела чемоданы, поезд. Помолчав, сказала: — Вы не должны оставаться в комнате, когда она будет собирать чемоданы, вам нужно уйти на это время. — Да,— ответил я,— чемоданы — это ужасно, их начинают собирать по любому поводу, особенно после ссоры. — Точно,— согласилась она,— но бывают случаи, когда их укладывают не потому, что собираются уезжать, а чтобы попугать. Все женщины хотя бы раз в жизни из-за ничего принимаются укладывать свой чемодан. И делают они это для того, чтобы их удержали. — Она — смелая женщина и просто так этого не сделает. — Понимаю. И представляю, как она будет себя вести. — Я уйду из комнаты, вы правы. Я мог бы пойти поплавать в Магре и не появляться, если понадобится, три дня, ведь она все время будет надеяться, что я уеду вместе с ней. Она улыбнулась. — Точно, надо чтобы вы ушли совсем. Несомненно, она бы с удовольствием еще поговорила на эту тему, но поняла, что я не склонен продолжать. — Потанцуем? — предложила она и встала. Я последовал за ней. Танцевала она хорошо. Какое-то время мы танцевали молча. Но вскоре она нарушила молчание. — Интересно,— начала она,— в подобных историях я обычно на стороне мужчин, против женщин, сама не знаю почему. Может, потому, что женщины всегда хотят удержать мужчин, и хороших и плохих. Они и не предполагают, что что-то может измениться. — Я создал ей невыносимую жизнь,— сказал я,— и всегда был неласков с ней. — А она, наверное, очень порядочная,— продолжала она,— и никогда не изменяла вам. Такие женщины, очень порядочные и слишком серьезные, хуже всех. Они вовсе даже и не женщины. Потом она захотела пить, и, перестав танцевать, мы подошли к бару. Поданное нам кьянти оказалось теплым, но она, кажется, и не замечала этого. Она любила выпить. Я в первый раз внимательно рассмотрел ее. Лет двадцати пяти, довольно обычное лицо с несколько размытыми чертами, крепкое тело и очень красивая грудь. Мы выпили кьянти и опять пошли танцевать. — Чем вы занимаетесь? — спросил я. — Я продавщица,— ответила она,— в Сарцане. Иногда прихожу сюда потанцевать. Замужем. Мой муж моряк. Между нами уже давно ничего нет, но в Италии трудно развестись. Развод стоит очень дорого, надо ехать в Швейцарию. Я пыталась начать экономить, но потом отказалась, посчитав, что это займет у меня пятнадцать лет. И теперь живу, как живется. Возле нашего столика столпилось много народа. Их привлекал проигрыватель. Завели знаменитую самбу. Ей нравится эта музыка? Нравится. В этом году она в моде в Италии и во всем мире. Мне нравилась эта девушка. Я спросил, как ее зовут. — Кандида,— ответила она, улыбнувшись. — У тебя много поклонников? — Хватает. Но я на всю жизнь останусь продавщицей и женой этого моряка. Единственное, о чем я жалею, так это о детях. Больше ни о чем. — Когда тебе кто-нибудь нравится больше, чем другие, ты пытаешься удержать его? — Я делаю все, чтобы удержать его. — Ты плачешь? Умоляешь? — Я плачу, я умоляю,— сказала она, засмеявшись,— но потом появляется другой, который начинает умолять меня. — Не сомневаюсь,— сказал я. Мы еще потанцевали около часа, все время болтая, а затем посреди танца я увлек ее с площадки. Когда мы вышли на берег реки, луны уже не было и стояла темная, беззвездная ночь. Моя спутница засыпала на ходу. — Я ложусь очень поздно,— сказала она,— а встаю рано и работаю целый день. Поэтому быстро засыпаю. — Конечно,— согласился я.— Я понимаю. Тебе надо идти спать. Кандида сообщила, что у нее здесь стоит велосипед и что сейчас она поедет домой. Я выразил желание снова увидеть ее. Она не возражала и дала мне свой адрес в Сарцане. Обратно я вернулся на пароме. Эоло все еще прогуливался по берегу. Ему явно хотелось поговорить со мной, но у меня слипались глаза. Я попросил у него комнату с одной кроватью для одного. Он совсем не удивился. Направляясь с ключом в отведенный мне номер, я прошел мимо комнаты Жаклин: ни единого лучика света не проникало из-под двери. Она все еще спала. На следующий день я проснулся поздно. Жаклин ждала меня внизу, в беседке. Что случилось? Она узнала от Эоло, что ночью я переменил комнату. Я сослался на жару и невозможность спать вдвоем в маленькой душной комнате. Она поверила или сделала вид, что поверила. Мы вместе позавтракали. Она пребывала в прекрасном настроении. В сущности, совсем неплохая мысль — приехать сюда отдохнуть немного. В ее словах не слышалось иронии. Я сказал, что собираюсь пойти искупаться в Магре. Что за блажь, когда рядом море? — удивилась она. Я не позвал ее с собой. Она ушла на пляж, взяв с меня обещание после Магры прийти к ней. Жара была почти такая же, как во Флоренции. Но здесь это не имело никакого значения. Я долго купался. Эоло дал мне лодку, и время от времени я вылезал из воды и отдыхал в лодке, лежа вытянувшись под солнцем. Потом снова входил в воду. А после гулял по берегу и греб в лодке против течения. Но сильное течение затрудняло мои действия, и я быстро уставал. Впрочем, один раз мне удалось перебраться на другой берег, и я увидел танцплощадку, совершенно пустую, и чуть дальше место, где мы сидели с Кандидой. Очень мало домов выходило окнами на реку, в основном к реке спускались фруктовые сады, обнесенные изгородью. Перед каждым, рядом с сооруженными мостками, стояли лодки, которые крестьяне загружали фруктами. По мере того, как солнце поднималось выше, все вокруг оживлялось. Уже нагруженные лодки с грузом, закрытым брезентом от солнца, шли к морю. Магра оказалась в точности такой, как он описал. Ее прозрачные, прохладные воды манили к себе, вызывая непреодолимое желание нырнуть в их глубины и оставаться там так долго, как только возможно. После целой недели, проведенной на строительных лесах в Пизе, под адским солнцем, он, конечно, может оценить все это лучше, чем я. Мне ведь особенно не от чего отдыхать, кроме как от дурного прошлого, лжи и ошибок. Но этот тяжелый груз камнем лежал у меня на душе, и, как только я выходил из воды, у меня начинало щемить сердце в тревоге за будущее. В воде же, наоборот, я напрочь забывал обо всем, жизнь казалась мне легкой и приятной, а будущее представлялось вполне приемлемым и даже счастливым. У меня возникло желание опять сходить на танцы. Хотелось, чтобы появились другие приятели, похожие на него, хотелось познакомиться с другими девушками. То, что сказала мне Кандида, укрепило меня в моем решении. Она считала, что я должен ее оставить. Надо позволить ей уехать. Это совершенно необходимо. Я должен беспрестанно твердить себе, что не хочу, что не имею права жить так, как жил до сих пор. Я должен держаться за простоту такого решения и не менять его ни на какое другое. Моя жизнь рано или поздно изменится. В Италии легче, чем где бы то ни было в другом месте, найти людей, готовых просто поговорить с вами, в чем-то помочь, потратить свое время. Я плавал в реке, постоянно удивляясь этому открытию, как бы пережевывая его, и пообещал себе, что, если мне не удастся изменить свою жизнь, я просто-напросто покончу с собой. Как альтернатива перед моим мысленным взором предстали два образа: я, садящийся в поезд, и я — мертвый. Я предпочел увидеть себя мертвым. Глаза того, который садился в поезд, вселяли в меня больший страх, чем закрытые глаза мертвеца. Уже одно из исполненных обещаний сделалось для меня одним из самых отрадных в жизни: это река, солнце, вино, как и его участие. Пора было идти на пляж к Жаклин. Возможно, я и не пошел бы, если бы вдруг не вспомнил про американку. У меня появилось желание увидеть ее, смутное желание, которое вот уже десять дней я пытался побороть и которое теперь уже не желал преодолевать. Конечно, познакомиться с американкой трудности не представляет, но пока мне хотелось только увидеть ее. И вовсе не из-за ее красоты, о которой мне говорили, а, скорее, из-за образа жизни, который она вела. А кроме того, я всегда любил корабли. Даже если не увижу ее, то посмотрю хоть на яхту. В этот час все, должно быть, на пляже. Но предстоящий разговор с Жаклин тяготил меня. Я отвел лодку Эоло и направился к пляжу, и сразу же увидел, что американки там нет. Все, кроме Эоло, говорили, что она очень красива, и я легко убедился, что на пляже нет женщины, отвечающей этой характеристике. Несколько человек, в основном постояльцы нашей гостиницы, которых я уже видел утром за завтраком, купались и загорали на берегу. Но ее яхта стояла на якоре в двухстах метрах от устья, точно напротив того места, где купались люди. Как только Жаклин увидела меня, она побежала навстречу. — Все в порядке? Ты уже искупался? — Да. Она улыбнулась и почти слово в слово повторила все, что уже говорила мне утром: этой ночью она искала меня по всей гостинице, она встала всего лишь за час до того, как проснулся я, старый Эоло сказал, что я среди ночи пришел к нему и попросил другую комнату (он не сказал, что я был на танцах); она решила не будить меня и т. д. Она и за три дня не наговорила столько. Вот фонтан! — подумал я и пожалел, что привез ее в Рокку. По поводу моего перехода в отдельный номер я нашел оправдание, которое не пришло мне в голову утром: мол, ночью я вспомнил о своем дне рождения, и это вызвало у меня бессонницу, а иногда, особенно ночью, в собственный день рождения хочется побыть одному. — Ах, дорогой мой! — запричитала она,— и я тоже не вспомнила о твоем дне рождения! Вот уж фонтан, так фонтан! Надо будет сегодня же сказать ей все. На ней была голубая майка, потерявшая первоначальный цвет и форму, ее она надевала в прошлом году. Может быть, все-таки и ее жара заставила уехать вместе со мной из Флоренции? Несмотря на свое бодрое настроение, она выглядела усталой и похудевшей. — Пойди искупайся,— предложила она. Я пошел по тропинке под палящим солнцем по направлению к морю, но длительное купание в Магре освежило меня настолько, что я вполне мог переносить солнце на пляже. Нет, мне не хотелось снова купаться. А Жаклин вернулась к игре в волейбол, которую прервала, завидев меня. Она играла с каким-то молодым мужчиной, постоянно вскрикивая, смеясь, в общем, изо всех сил стараясь, чтобы я подумал, что ей очень весело. Играла она плохо и без конца оглядывалась на меня. Я смотрел вдаль, полуприкрыв глаза, но все же видел Жаклин. Когда она поворачивалась ко мне спиной, я смотрел на яхту. Она сияла такой ослепительной белизной, что на нее невозможно было смотреть долго. В глазах начиналась резь, как от удара хлыстом. Однако я смотрел и смотрел на нее до тех пор, пока не перестал видеть ее. Только тогда закрыл глаза. Но видел ее и с закрытыми глазами. Большое двухпалубное судно длиною метров в тридцать шесть до оцепенения подавляло меня. Я заметил, что проходы вдоль бортов окрашены в зеленый цвет, а оснастка годится только для спокойного моря. Я так долго смотрел на яхту, что глазам стало больно, и я почувствовал, как из них потекли слезы. Но мне, человеку отнюдь не избалованному такими видами, эта режущая боль в глазах чем-то даже нравилась. Время от времени на палубе появлялись мужчины. Они взад-вперед ходили вдоль бортов. На флагштоке не было никакого вымпела. Обычно его поднимают. Это что, простая небрежность? На борту яхты выделялась надпись, сделанная красивыми буквами: «Гибралтар». Между мной и судном пробежала Жаклин, но очень быстро; она не помешала мне. Белизна яхты казалась беспощадной. Стоявшая неподвижно на якоре в голубом море, она своим покоем и величием напоминала одинокую скалу. Она постоянно живет на ней, говорили мне, весь год. Но на палубе ни разу не промелькнул женский силуэт. Яхта в море не отбрасывала тени. Жара стояла ужасающая. Было что-то около полудня. Жаклин перестала играть в мяч и, крикнув, что больше не может, бросилась в воду. Я вспомнил обещание, данное себе, купаться только в реке; ну, пусть это будет в последний раз, уверил я самого себя. Вскоре, вероятно из-за солнца, я уже не думал о разговоре с Жаклин, я мечтал вернуться в гостиницу и выпить аперитив. Я выпью его со старым Эоло, подумал я. Эта мысль показалась мне единственно стоящей за сегодняшнее утро. Я долго восстанавливал в памяти все аперитивы, виденные мною в меню, чтобы решить, какой предпочесть. Это занятие развлекло меня. В конце концов я остановился на дилемме: пастис или водка, разбавленная ледяной водой. Пастис — это великолепно, я с наслаждением представил себе, почти ощутил, как ароматная жидкость течет прямо в желудок. А водка, скорее, вечерний напиток. Пастис, волнующий, радужный с молочным оттенком лучше пить днем. А водка — такая замечательная вещь, что мне всегда жалко разбавлять ее. А пастис не жалко, его не пьют без воды. Я собирался задуматься о собственном здоровье. Но это потом, позднее. Пока я размышлял о пастисе, мне пришла в голову странная мысль. Почему бы не наняться на яхту драить медяшки? Но я прогнал эту мысль, опять подумав о пастисе. Тот, кто не испытал желания выпить пастис после купания, тот не знает, что такое настоящее утреннее купание в Средиземном море. Умеешь ли ты чистить металлические части? А кто не умеет? Нет, кто не знает силы желания выпить пастис в жару после купания, тот никогда не ощущал бессмертия своего бренного тела. И тут мной овладело беспокойство. Я никогда не любил пастис. Два или три раза я пробовал его, но не испытывал большого удовольствия. Я всегда предпочитал обычную водку. Чего это вдруг мне захотелось пастис, ведь я не любил его. Может, попробовать еще разок? Если я попытаюсь объяснить это самому себе, меня хватит солнечный удар. Я помотал головой, чтобы освежить ее и попытаться понять себя. Бывают ли случаи, что от солнечного перегрева сходят с ума? Через некоторое время я пришел к выводу, что нет ничего патологического в желании выпить пастис и чистить судовые медяшки. Чувствовал я себя вполне нормальным. Я прилег на песок. Но вышедшую из воды Жаклин встревожила моя странная поза, и она подошла ко мне. — Что с тобой опять? — поинтересовалась она. — Ничего,— ответил я,— солнце чуть-чуть подействовало. Думаю, надо пойти выпить пастиса. — Пастис? Но ты никогда не любил пастис.— Она вдруг стала агрессивной.— Тебе еще и аперитив? — Настоящий современный мужчина,— заметил я,— всегда пьет аперитив. Она внимательно посмотрела на меня. — Что с тобой? — снова спросила она. — Если некто одним восхитительным ясным утром, полный здоровья и сил, возвратился с охоты к своей семье, но прежде чем войти в пещеру и обрести счастье, вдохнул полной грудью свежий запах лесов и рек и спросил себя, чего же ему еще не хватает для полного счастья, кроме жены, и прочего, если он уже мечтал об аперитиве до того, как тот был изобретен, то этот тип был реальный гениальный Адам, первый, кто предал Бога, и кровный брат нам всем.— Я замолчал, исчерпав себя. — Чтобы рассказать это, ты заставил меня приехать в Рокку? — сказала она и, не дождавшись моей реакции, продолжила: — Поверь мне, ты не должен больше оставаться на солнце. — Нет, не яблоком искушал их змей. На землю упало гнилое яблоко. Наш Адам нагнулся за гнилым яблоком, вдохнул его запах, и тот понравился ему. В гнилом, забродившем, червивом яблоке начал образовываться кальвадос, и он открыл… алкоголь. Ему не хватало только этого, ибо он был умным. — Прошу тебя,— умоляла Жаклин,— ты должен пойти в воду и смочить затылок. — Ты действительно так думаешь? С этими словами я побежал к морю, окунулся и тотчас же выскочил. Желание выпить пастис крепло. Но я не сказал об этом Жаклин. — Тебе лучше? — Все нормально, я просто шучу. — Не часто на тебя находит такое,— сказала она,— я даже забеспокоилась. Но говорят, что солнце здесь ужасное.— Через мгновение она добавила с извиняющимся видом: — И потом я хотела попросить тебя пойти со мной в камыши. Хочу позагорать голой. Я согласился, и мы, карабкаясь по дюнам, направились в сторону камышей. Они были сухие, черные и настолько густые, что заглушали даже шум моря. Жаклин расстелила полотенце и сняла с себя майку. Я лег на землю достаточно далеко от нее. Я думал о перно [5], только чтобы не думать о медяшках. По крайней мере я старался не думать об этом. — Что с тобой происходит? — спросила Жаклин.— Вот уже несколько дней ты сам не свой. Я чем-нибудь виновата перед тобой? — Нет, не то,— сказал я,— думаю только, что нам надо расстаться. Слева над нами высились белоснежные гряды Каррарских гор. С другой стороны на холмах, по контрасту с ними, деревушки казались мрачными за своими каменными стенами, виноградниками и инжирными деревьями. Она молчала. А я подумал, что белая пыль, которую я видел на улицах Сарцаны, была, вероятно, мраморной пылью. — Я не понимаю,— сказала она наконец. Прежде чем ответить, я выждал несколько мгновений. — Нет, ты понимаешь. Когда она уедет, подумал я, пойду посмотреть на карьеры каррарского мрамора. — Но почему, почему вдруг ты решил так? — Это не вдруг. Я тебе говорил еще до Флоренции, в музее. — В музее,— произнесла она со злостью,— ты говорил о министерстве. — Да, но для меня это одно и то же. Я остаюсь в Италии. — Но почему? — спросила она испуганно. Может быть, она тоже пойдет со мной в карьер смотреть, как добывают мрамор. — Я не люблю тебя. И ты знаешь это. Я услышал всхлипывание. Один всхлип. Она ничего не ответила. — Ты тоже больше не любишь меня,— сказал я как можно теплее. — Это невозможно,— воскликнула она,— что я сделала? — Ничего. Я не знаю. — Так нельзя,— вскричала она,— мне ничего не понятно. Жара усиливалась. — Ну? — кричала она. — Я остаюсь в Италии,— сказал я. Она помолчала немного, а потом сказала убежденно: —Ты сумасшедший.— Затем она продолжила, но уже другим тоном, вызывающе: — А можно узнать, что ты собираешься делать в Италии? — Не знаю. Пока останусь здесь. А потом — не знаю. — А я? — Ты возвратишься… Она овладела собой и перешла в наступление: — Я не верю тому, что ты говоришь. — Придется поверить. И тут она расплакалась, беззлобно и тихо, как будто долго ждала моего признания. Зная, что когда-нибудь услышит его, всеми силами отгоняла от себя это знание. Камыш, не пропуская ни малейшего ветерка, стоял неподвижно. Я весь покрылся потом, вспотели даже складки век и волосы. — Лжецу нельзя верить,— сказала она, все еще плача,— я не могу тебе верить. — Теперь я вру намного меньше. А что, тебе хотелось бы, чтобы я врал в такой момент? Она меня не слушала, продолжая плакать. Затем проговорила сквозь рыдания: — Ты всегда был лжецом. Я потратила жизнь на лжеца. Я не мог ничего возразить на это. Надо подождать. Я не видел яхту с тех пор, как мы забрались в камыши. Мне очень хотелось видеть ее. Она придавала мне силу и надежду. Я почувствовал, что пора уходить. — От лжеца,— продолжала Жаклин и, помолчав, добавила,— и труса… всего можно ожидать.— Ее тон стал угрожающим.— Это точно. Я медленно, почти незаметно, приподнимался. И вот из-за камышей опять появилась сверкающая белая яхта. Между яхтой и мной, в десяти метрах от нас, я увидел лежащую женщину. Она загорала. Я сразу же понял, что это американка. — Ты можешь говорить, что хочешь,— сказала Жаклин,— но я знаю, ты вернешься в Париж. Ты слишком труслив, уж я-то знаю тебя… Я ничего не ответил. Я просто не слушал ее. Я смотрел на женщину. А она не видела нас. Она лежала, положив голову на руку. Другая рука покоилась на груди. Ноги были слегка согнуты, она казалась спящей. Должно быть, жара была ей нипочем. — Что опять с тобой? — спросила Жаклин. — Ничего,— ответил я наконец.— Если хочешь, можно вернуться, вместе выпьем перно. Должно быть, я выглядел совершенно растерянным. Она рассердилась: — Ты не любишь перно,— сказала Жаклин,— не надо врать, умоляю тебя. Женщина открыла глаза и посмотрела в нашем направлении, но не увидела нас. Я боялся, что она услышит нас, и заговорил тише: — Но я действительно хочу перно, я сам удивляюсь. Ее гнев внезапно прошел. — У меня есть лимоны,— сказала она с какой-то кротостью,— ложись. Не хочу уходить вот так, не поговорив как следует. Надо поговорить. — Не думаю, что надо еще говорить,— сказал я,— сейчас давай вместе выпьем аперитив, это лучше, чем разговаривать. — Ну, ложись,— протянула она,— что ты там делаешь? Может быть, она заметила, что я куда-то неотрывно смотрю. — Ложись же наконец,— вскричала Жаклин,— говорю тебе, у меня есть лимоны, я разрежу сейчас один. Спокойное, влажное лицо, растрепанные волосы говорили, что американка действительно спит. Ее рука поднялась с груди и легла на глаза. Красива ли она? Но я плохо видел ее. Она лежала, повернувшись к морю. Да, она очень красива. — Да ты слышишь меня в конце концов или нет? И так как я даже не пошевелился, она встала, чтобы посмотреть, что так привлекает мое внимание. Жаклин держала в руке купальную шапочку, на которой лежали две половинки только что разрезанного лимона. И увидела ее. Шапочка выпала из рук, и две половинки лимона покатились по земле. Она не произнесла ни слова. И даже не подобрала лимоны. И снова легла. Я тоже лег следом за ней. Мне больше нечего было сказать. Все случилось само собой, я просто позволил этому случиться. Я взял половинку лимона, которая упала возле меня, и выжал ее прямо себе в рот. Мы молчали. А над нашими головами, над нашей ужасной жизнью светило солнце. — Ты смотрел на нее? — спросила наконец Жаклин. Ее голос звучал теперь по-другому, хрипловато-медлительно. — На нее. Пока ты говорила, я смотрел на нее. — Я говорила не для себя, а для тебя.— Она взяла полотенце и накрылась им.— Слишком жарко. Это была неправда, но что еще она могла сказать? Я почувствовал к ней теплое дружеское чувство. Мне показалось, что ей холодно. Я избегал смотреть на нее, но хорошо видел, как она дрожит. Попытался найти подходящие слова, чтобы как-то утешить ее, но не находил их. Повисло тягостное молчание. В воздухе ощущалось присутствие женщины, я думал только о ней. И Жаклин знала это, она должна была знать, что если меня и мучит что-то, так это то, что я не могу встать, чтобы снова увидеть ее. Я мог смотреть на эту женщину, больше того — хотел этого, в то время как Жаклин страдала. Она поняла теперь, что я не солгал. И теперь эта очевидность еще объединила нас. Она погрузилась в свою боль, как корабль, подорвавшийся на мине, погружается в море. Мы вместе стали свидетелями события, которого невозможно избежать. И по меньшей мере несколько минут солнце безжалостно освещало правду нашей жизни. Оно жгло так сильно, что вызывало настоящую боль. Но Жаклин, лежа совсем обнаженной под своим полотенцем, все сильнее дрожала Я был не в состоянии что-либо сделать для нее. Да и что мог сделать, ведь сам я не страдал. Мучился только от того, что не имел возможности встать. Единственное, что я был в силах сделать для нее,— еще немного потерпеть это обжигающее солнце. — Ты хочешь остаться здесь? — спросила она наконец. — Скорей всего,— ответил я. Внезапно она опять разозлилась, но теперь это уже ничего не значило. — Есть более важная причина? — усмехнулась она. — Успокойся,— сказал я,— потрудись успокоиться и понять. — Бедняжечка,— насмехалась она,— бедненький мой. — Я же сказал тебе: думаю, что останусь здесь. Она больше не слушала меня, лишь повторяла то, что уже говорила: — Твое основное качество — ты большой трус, И я не верю в то, что ты сказал. Даже если ты сам уверен, я знаю, что ты не способен на решительный поступок. — Думаю, что на сей раз способен. Я очень убежденно произнес последнюю фразу. Ее гнев сразу пропал. — Если это из-за министерства,— внезапно просяще сказала она,— я тоже могу уйти оттуда, мы найдем что-нибудь подходящее. — Нет, ты не уйдешь из министерства. — А если уйду? — Ты останешься. Что бы ты ни говорила, что бы ты ни делала, я больше не могу. Она снова начала плакать. Женщина встала. На ней была зеленая майка. Ее стройное тело возвышалось над нашими головами на фоне неба. Она направилась к морю. Увидев ее, Жаклин перестала плакать и замолчала. Я больше не мог переносить солнечного жжения. Я понял, что терпел его только потому, что ждал, пока она встанет и пройдет передо мной. — Пойдем искупаемся,— предложил я. Она опять стала просить надтреснутым голосом: — Ты не хочешь, чтобы мы еще поговорили? — Нет, это лишнее.— Я надел майку.— Пойдем искупаемся вместе,— снова предложил я, стараясь изо всех сил придать голосу теплоту.— Это то, что у нас получается лучше всего. Она опять заплакала, но на этот раз беззлобно. Я взял ее за плечи: — Дней через восемь ты внезапно увидишь, ты начнешь думать, что, может быть, я прав. А потом постепенно будешь становиться намного счастливее. Со мною ты не была счастлива. — Ты мне противен,— сказала она и отстранилась.— Оставь меня. — Ты не была счастлива. Пойми по крайней мере, что ты не была счастлива со мной. Мы вышли из камышей. На пляже несколько постояльцев гостиницы еще играли в мяч. Они кричали на разные лады, таким образом комментируя игру. Я слышал их выкрики все время, пока мы находились в камышах. Они кричали еще и потому, что песок жег им ступни и они не могли стоять на месте. Две молодые женщины, лежа под тентом, громкими возгласами одобряли или подтрунивали над ними в зависимости от того, как проходила игра. Мы тоже бегом побежали к морю, так как песок невыносимо жег ступни. Пробегая мимо игроков, я перехватил мяч и на лету перебросил его одному из них. После долгого лежания на солнце вода в море показалась ледяной, и у меня сразу перехватило дыхание. Море казалось почти таким же спокойным, как Магра, но все же легкие волны робко набегали на берег. Через некоторое время вслед за нами в воду бросились игроки в мяч. На пляже не осталось ни одного человека. Я неподвижно лежал на спине. Недалеко от меня пыталась плыть кролем Жаклин. Я вспомнил, что она никогда долго не переживала, вот и сейчас она с удовольствием плыла кролем, яростно била ногами по воде, нарушая спокойствие моря. Все остальные лежали на спине, как я. Яхта стояла на якоре между горизонтом и морем. А недалеко от нее плавала женщина. Я снова подумал о медяшках как о возможном будущем. Я больше ничего не боялся, я оставался в Рокке. Это решение пришло ко мне внезапно. Я принял его в одно мгновение. Все мои прежние решения казались мне пустяковыми.

Возвратившись с Жаклин в отель, я заказал пастис. Эоло сказал мне, что пастиса нет во всей Италии, но у него есть в запасе несколько бутылок специально для клиентов-французов. Я пригласил его выпить вместе с нами. Мы сели за столиком на террасе. Но не успел я покончить с пастисом, как вошла она. — Американка,— тихо сказал Эоло. Я прошептал ему на ухо, что уже видел, как она принимает солнечные ванны. — Ах-ах! — воскликнул он, морща дряблые веки. Жаклин ничего не слышала. Широко раскрыв глаза, она смотрела на женщину. Я пил второй бокал пастиса. Американка сидела на другой стороне террасы и курила, потягивая вино, которое ей принесла Карла. Теперь я рассмотрел ее хорошо. Ее никто не знал. Я тоже не знал ее. Я не знал ее, но никогда не сомневался, что она существует. Я узнал ее. Я допил второй пастис и почувствовал себя слегка опьяневшим. — Я хотел бы еще одно перно,— сказал я, обращаясь к Эоло. Услышав французскую речь, она повернула голову в нашу сторону. Потом отвернулась. — Очень крепкий этот пастис,— заметил Эоло. Она пока еще не замечала моего существования. — Я знаю ее,— сказал я. Последние дни я жил с ощущением особой значительности происходящего, но и с ощущением тяжести. Ее появление все перевернуло во мне. — Но все-таки,— начал Эоло,— третий… — Вам не понять,— перебил его я. Он засмеялся, ничего не понимая. Жаклин с ужасом посмотрела на меня. — Ты говорил, что не любишь пастис,— засмеялся Эоло. — Нет, не люблю,— сказал я. Эоло, продолжая смеяться, внимательно посмотрел на меня. Мне показалось, что она тоже посмотрела на меня. Но в этот момент я не смотрел на нее. — Что понять? — Жаклин кашлянула, и сразу же вслед за этим раздался всхлип. Жаклин отвернула голову, в ее глазах стояли слезы. Все, должно быть, слышали ее всхлип, кроме Эоло. — Ничего,— ответил я,— речь идет об аперитиве. Эоло велел Карле принести мне еще один пастис. Карла принесла. Теперь надо было говорить о чем-нибудь. — У вас тут винограда на целый сезон,— сказал я. Эоло поднял голову и посмотрел на беседку. Она тоже машинально подняла голову. — Да, на всех хватит,— сказал он. Огромные гроздья винограда теснили друг друга. И солнце, падающее на беседку, просвечивало сквозь зеленую массу винограда. Освещенная этим виноградным светом, в черном трикотажном пуловере и черных брюках, закатанных до колен, она смотрелась великолепно. — Я никогда не видел ничего подобного,— продолжал я начатую тему. Жаклин смотрела на нее пристальным, несколько суровым взглядом. А та, казалось, ничего не замечала и держалась уверенно и спокойно. Это меня занимало. — Когда он поспеет, все равно остается зеленым. Его надо попробовать, чтобы узнать, созрел он или нет. — Интересно…— Я засмеялся и почувствовал, что по-хорошему пьян. Но Эоло еще ничего не заметил. Жаклин тоже. Ее, впрочем, это не слишком интересовало.— Прямо как с людьми. — Что? — спросил Эоло. — Бывают такие, что остаются зелеными на всю жизнь. — Молодыми? — уточнил Эоло. — Нет,— ответил я,— дураками. Спокойно, уговаривал я себя. Держись в рамках. В моей жизни бывали моменты, как сейчас, когда мне очень хотелось смеяться. — Только я ем виноград. Дочери не любят его. Но для меня одного винограда слишком много. Гости тоже не считают его достаточно спелым. — Однако,— сказал я,— гроздья очень красивы. Карла, прислонившись к входной двери, слушала отца, глядя на него с нежностью и нетерпением. Я старался не смотреть на американку. — Даже Карла не любит этот виноград,— продолжал Эоло,— она утверждает, что от него ей становится холодно. Я старался не смотреть на нее. Я просто приказывал себе. Довольно много времени я пренебрегал ее существованием. — Ты, правда, не любишь виноград? — спросила она Карлу. Ее голос был так же красив, как и глаза. Нет, она не американка. Она говорила по-итальянски с французским акцентом. — Я ем его, чтобы доставить отцу удовольствие,— сказала Карла,— но на самом деле я не люблю его. Никто, кроме меня, не заметил, что я интересую Карлу больше, чем другие. Может быть, только Жаклин. — А моя жена любит этот виноград. Мы посадили его, когда поженились. Тридцать лет назад. Возвращались клиенты. Пришли два охотника с подводными ружьями. Они попросили у Эоло два стакана кьянти. Он велел Карле обслужить их. — Каждый год,— сказала Карла, занимаясь клиентами,— повторяется одна и та же история. Когда мы были маленькими, нас силой заставляли есть этот виноград. — Вечно ты недовольна,— сказала она Карле. — Не в этом дело,— возразила Карла,— но почему надо заставлять? Она ничего не ответила. Казалось,беседа сейчас прервется. Но нет. Эоло волновал только виноград, и очень волновал. — Виноградную лозу дал мне сосед. Но ошибся в сорте, хотел дать другую. Я заметил это через семь лет, и у меня не хватило духу вырвать лозу. — Когда посадишь растение и оно растет, конечно, жалко… — Да, да,— охотно подтвердил Эоло,— как же можно вырвать… Всякий раз, когда я начинал говорить, у меня возникало неудержимое желание смеяться, которому я изо всех сил сопротивлялся. Жаклин все страдала. — Тебе нравится виноград, который ты хочешь купить в субботу в Сарцане? — Нравится, раз я выбрала его,— ответила Карла. Карла покраснела. Вероятно, речь шла о какой-то тайне, известной лишь им двоим. — Я бы охотно выпил еще,— произнес я. — Нет,— сказала Жаклин очень тихо, но твердо. — Почему нет? — спросил я. — Никакой другой сорт винограда не вьется так, как этот. Моя терраса известна во всем крае,— сказал Эоло. По-настоящему его слушала только Карла. — Когда виноград поспел, его надо есть,— изрек я. — Только я и ем его,— откликнулась Карла. — Вечно ты недовольна,— повторила она. — Вы всегда говорите так,— заметила Карла. — Когда я думаю,— сказал Эоло,— что этот бедный виноград плодоносит каждый год уже тридцать лет, а его выбрасывают… Я сам ем даже больше, чем могу, но я не могу съесть все. Карла разнесла аперитивы и снова прислонилась к двери в ожидании, когда мать позовет подавать завтрак. Она находилась недалеко от ее стола. Эоло чуть опьянел. — Весь виноград я не могу съесть один,— продолжал он. — Каждый год все начинается снова, все повторяется,— сказала Карла. Она получала удовольствие от того, что разговор крутился вокруг нее. Это было заметно. Когда она начинала говорить, то всегда краснела. Но я видел, что на меня она обращает больше внимания, чем на других. — Есть вещи,— заметил я,— к которым нельзя привыкнуть. — Я ем его в таком количестве, что каждый год целых две недели меня мучают колики. — Ну вот,— смутилась Карла,— кто же говорит о коликах перед едой? — По моим наблюдениям,— сказал Эоло,— колики полезны для здоровья. — Посмотрите на него,— обратилась Карла к посетителям. — Нужно же говорить о чем-нибудь,— бросил я. Я рассмеялся. Она тоже. Мне уже почти не удавалось не смотреть на нее. Жаклин ничего не слышала и поочередно оглядывала всех нас. Сначала ее, потом меня. Она была очень бледна. — Каждый год,— сказала Карла,— он рискует умереть из-за винограда. За пятнадцать дней он худеет на три кило. Скоро опять наступит это время. — Колики помогают мне,— заявил Эоло,— они понижают давление. А потом, я не хочу, чтобы весь виноград пропал. — Вы правы,— сказал я. — Даже с риском для жизни? — спросила она. — Да,— ответил я. Эоло удивленно посмотрел на меня. Я был совершенно пьян. Жаклин подняла на меня глаза; они смотрели неприязненно и зло. Некоторое время все молчали. Эоло посмотрел на мои пустые стаканы. Потом я услышал, как она спросила Карлу таким тоном, в котором чувствовалось намерение переменить тему разговора: — Ты была на танцах вчера вечером? — Что вы! Он всю ночь ходил взад-вперед перед домом. — В тот вечер там был еще один,— сказала она. Она взглянула на меня, но так быстро, что никто, кроме меня, этого не заметил. — Я знаю,— сказала Карла. Эоло слушал их с некоторым интересом. Мне больше не хотелось смеяться. — А если бы мы пошли туда вместе, он разрешил бы тебе? — спросила она. — Не знаю,— ответила Карла, посмотрев на отца. Эоло рассмеялся. — Я уже говорил, с вами — нет. И тут я насторожился. Мое сердце билось очень сильно. — Я могу сопровождать Карлу на танцы,— предложил я. Лицо Жаклин исказилось от гнева. Гнев, конечно, облегчит ее страдания. Я больше ничего ей не должен. Карла удивленно посмотрела на меня. А она, как мне показалось, без удивления. — Стало быть, так, да? — сказал Эоло. — Это доставило бы мне удовольствие,— галантно произнес я. Жаклин тихо застонала. — Еще не знаю,— засомневался Эоло,— я скажу вам сегодня вечером. — Для меня — ничего,— закричала Карла,— а сестрам все, что захотят. Она, похоже, уже понимала все очарование своей вспыльчивости и нарочито усилила ее, непримиримо глядя на своего отца. Она погладила ее по волосам. Карла не шевельнулась, продолжая смотреть на отца недобрыми глазами. — Вот видишь,— сказала она Карле тихо,— отец разрешает пойти. — Ну да, а вечером,— прошептала та в ответ,— скажет, что не пустит. — Целый час,— пообещал я,— она будет танцевать только со мной. — Не знаю,— стоял на своем Эоло,— я скажу сегодня вечером. — Видите, какой он ужасный,— крикнула Карла. Ее позвала мать. Завтрак был готов. Карла встала, оттолкнув свой стул, и исчезла в коридоре. Как только она ушла, все замолчали. Вскоре она вернулась в сопровождении сестер; они несли подносы с тарелками, на которых дымилась рыба под шафрановым соусом. Все принялись за еду. Завтрак длился очень долго. Нас обслуживала Карла. Эоло пошел на кухню помочь жене. Больше никто не разговаривал. Но мне мучительно хотелось говорить, говорить. Нет, не говорить. Кричать. И я точно знаю о чем: мне просто необходимо попасть на корабль. Эта навязчивая идея завладела мною с самого начала трапезы. Сегодня я был пьян. Три раза, не чувствуя себя в состоянии удержаться от желания закричать, я вставал из-за стола, чтобы уйти. И три раза взгляд Жаклин усаживал меня на место. Думаю, что она смотрела на нас обоих. А я делал тщетные попытки не смотреть на нее, смутно понимая, что сейчас это опасно для меня. Я изо всех сил старался удержаться, чтобы не закричать. Ел я мало, но пил много вина. Я пил его, как воду, стакан за стаканом. И пьянел все больше. Даже если бы я закричал, у меня не получилось бы ничего, кроме нечленораздельных звуков, например «ях-х-с», нечто лишенное смысла, что никому не прояснило бы моих намерений, но что могло бы способствовать потере того небольшого шанса, который, я надеялся, у меня был. Последний завтрак со мной Жаклин провела, глядя на меня с нескрываемым отвращением. Если мне не изменяет память, она мало ела. Мое поведение, должно быть, лишило ее аппетита. Мы не разговаривали, она смотрела на меня, я пил. Иногда, правда, она отворачивалась от сидящих на террасе и сопровождала тихим, злым смехом каждый новый стакан, за который я принимался. Так повторялось несколько раз. Но я был настолько пьян, что ее реакцию воспринимал спокойно, скорее как знак взаимопонимания, чем враждебности. И чем больше я пил, тем в более радужном свете казалось мне все происходящее вокруг. Когда подали сыр, я уже ни минуты не сомневался, что хочу уйти в море на яхте. Это казалось мне настолько простым и естественным, что стоит только попросить, когда протрезвею, и дело сделано. Само собой, все, конечно, поймут, как необходимо мне попасть на яхту. Я собирался уехать отсюда только на яхте. Я опять увидел ее, ослепительно белую, на фоне ярко-синего неба. Министерство колоний навсегда ушло из моей жизни. Мое опьянение объяснялось не только количеством выпитого мной вина, в большой степени оно явилось формой защитной реакции. Я отдавал себе отчет в том, что надо быть осторожным; ты спросишь у нее об этом только на трезвую голову… Жаклин все время ухмылялась, как будто догадывалась о разрабатываемом мною плане. И я, в свою очередь, улыбался ей дружески и с пониманием. Но я, пожалуй, недооценил ее: в конце завтрака она схватила стакан и бросила его в меня. Стакан упал на пол и вдребезги разбился. Я спокойно собрал осколки, прикладывая огромные усилия, чтобы не упасть. Это длилось достаточно долго. Когда я выпрямился, моя голова кружилась, и я не знал, что мне делать. То ли во всеуслышание рассказать свою историю, призвав всех в свидетели, и просить, чтобы она наняла меня на яхту, или просто подняться в свою комнату. Я поразмыслил и понял, что не могу пока ни того, ни другого. — Ты не протрезвел еще? — спросила меня Жаклин, думая, наверное, что я заснул. — Да, я протрезвел от своей жизни.— И довольный собственным юмором, развеселился. Но она сделала такие страшные глаза, что я сразу же произвел свой выбор: решил подняться к себе в комнату. С очень серьезным видом я прошел через беседку. Ее стол стоял на другом конце, возле входной двери. Не дури, не дури, приказывал я себе, не вздумай упустить свой шанс, не будь дураком. И я благополучно избежал вероятности быть разбитым о рифы собственной глупости — я даже не поглядел на нее. Если бы я посмотрел на нее и встретил ее ободряющий взгляд, я заорал бы так громко, что, наверное, обратил бы в бегство всех сидящих в беседке. И когда я очутился на лестнице, ведущей на второй этаж, то поздравил себя хоть с маленькой, но победой. Я пробыл в комнате совсем недолго, должно быть не более десяти минут, как вошла Жаклин. Кажется, я даже заснул, сваленный с ног пастисом и вином, но она разбудила меня. Она вошла без стука, тихо притворила дверь, не поворачиваясь и согнувшись — как женщины в фильмах, когда они с пулей в животе и тайной в душе делают свои последние шаги к полицейскому участку, чтобы облегчить свою совесть,— подошла к камину и прислонилась к нему. — Подлец,— произнесла она шепотом. Когда она еще раз повторила это, я окончательно проснулся. — Подлец. Подлец, подлец… Определение, данное Жаклин, казалось мне справедливым. Она разряжалась как ружье. Она открывала рот, и из него вылетали слова, одинаковые, как пули. Видимо, ей это было необходимо. — Подлец, подлец… Произнеся это слово необходимое количество раз, она внезапно успокоилась. Ее глаза потускнели, и она сказала: — Неужели ты думаешь, что твоя история с виноградом может кого-нибудь обмануть? Убожество. — Успокойся,— сказал я, чтобы сказать что-нибудь. — Неужели ты думаешь, будто никто не заметил, что этим ты хотел удивить ее. Глупец. Я никогда не видел Жаклин такой. Передо мной была другая женщина. Сейчас она уже ни на что не рассчитывала и не надеялась. — И так унизить меня, так унизить,— кричала она. — Успокойся,— тупо твердил я. — А людям наплевать на тебя,— зло бросила она, и после короткой паузы добавила со смешком: — И она плевала на тебя. Я сразу же протрезвел, с интересом слушая ее. И она это видела. — На что ты надеешься, идиот? — Она немного поколебалась и в завершение, как бы решив добить меня, сказала: — Нет, ты на себя давно в зеркало смотрел? Меня охватило желание встать и посмотреть на себя в каминное зеркало. Но еще совсем сонный, я удовлетворился тем, что провел руками по лицу, дабы убедиться, что оно у меня на месте. Мне показалось, что я должен как-то защитить себя. — При чем тут мое лицо? — сказал я немного уязвленный. — Нет, на что ты надеешься, скажи мне? Я отвечал ей неохотно, и ее больше раздражал мой тон, чем смысл слов. — Я хотел бы наняться на яхту,— сказал я. — Наняться к ней на яхту? Это еще зачем? — Не знаю, да это и неважно. — Что ты будешь делать на яхте, ты, который только и делал всю жизнь, что держал в руках конторские бумажки? — Не знаю,— повторил я,— это неважно. — Почему ты думаешь, что она возьмет тебя на яхту? Она берет к себе мужчин только затем, чтобы переспать с ними. — Ты преувеличиваешь,— миролюбиво возразил я,— не только поэтому. — Думаешь, найдется какая-нибудь дура, кроме меня, которая будет заботиться о таком кретине, как ты? Нет, ты видел себя, посмотри на свою рожу, ты видел ее? Я встал, чтобы увидеть свою рожу в зеркале камина. А для вящего эффекта я незаметно принял бравый вид. Она заорала: — Подлец! Наверное, ее было слышно во всей гостинице. — Да, я немного подлец,— сказал я,— извини меня. В ее искаженном гневом лице я увидел что-то свойское. — Ты вернешься со мной,— орала она,— ты поедешь со мной. Неужели она еще надеется? Я почувствовал, что могу поразвлечься. И все же я прервал ее. — Нет,— сказал я,— я останусь. Что бы ты ни говорила, что бы ты ни делала. Внезапно она успокоилась. Она угрюмо смотрела на меня, вдруг отдалившись и думая о чем-то своем. После длительного молчания она заговорила, но как бы сама с собой. — Два года я таскалась за тобой и тащила тебя. Чтобы ты пошел в министерство, чтобы вовремя поел. Стирала твое белье. Твои рубашки всегда были такими грязными, а ты даже не замечал этого. Я слушал ее внимательно, но казалось, что она не обращает на меня никакого внимания, а говорит лишь для себя. — А сам я не ел? — Благодаря мне ты не заболел туберкулезом. — А мои рубашки, это правда? — Все замечали это, кроме тебя. И в субботу, вместо того чтобы пойти в кино…— Она не могла продолжать. Закрыв лицо руками, она разрыдалась.— … я тебе их стирала. Теперь я начал мучиться. — Ты не должна была этого делать,— сказал я. — И что тогда? Я должна была ничего не делать, чтобы ты заболел туберкулезом? — Может быть,— сказал я,— это было бы к лучшему. И потом, ты могла бы относить рубашки в прачечную. Впрочем, это давало тебе возможность ощутить, что ты любишь меня. Она не слушала. — Два года,— причитала она,— два года жизни пропало даром. — Почему же пропало,— сказал я,— хоть так и говорится, но это же неправда. — Ну и что я получила в результате? — В жизни вообще теряется много времени,— продолжал я,— и если бы все принялись страдать из-за этого, всем надо было бы покончить с собой. Она задумалась. Ее лицо погрустнело. Она не только больше ни на что не надеялась, но даже успокоилась. Я не мог вынести этой тишины и заговорил: — Во время каждого отпуска я надеялся, что произойдет чудо, и я найду в себе силы не возвращаться в министерство. И ты знаешь это. Она подняла голову и чистосердечно спросила: — Это правда? Министерство и я — одно и то же для тебя? — Нет,— ответил я,— одно и то же — моя жизнь и министерство. Ведь ты же не мучаешься, работая в нем. А я не знаю, отчего у меня так. — Интересным может быть все,— сказала она,— даже министерство. И даже ты, по существу, никчемный человек, глупец из глупцов, был интересен для меня в течение двух лет. Она сказала это очень убежденно, без тени злости. — Я что, самый глупый в министерстве? — Так говорят. — И как же тебя угораздило? — спросил я. Я был искренен, как и она, и Жаклин поняла это. Но ничего не ответила. Она так и стояла у камина. — Не знаю,— сказала она наконец совершенно обычным голосом. — Я никогда не задумывался об этом. Ты очень сильная. Она бросила на меня недоверчивый взгляд, но увидела, что я настроен по-доброму. — О нет…— сказала она и, немного поколебавшись, продолжила: — Я привыкла к тебе, вот и все, а кроме того, я надеялась… — На что? — На то, что ты изменишься. Мы помолчали, а потом Жаклин спросила естественным тоном: — Чудо, о котором ты говорил, эта женщина? — Нет, чудо то, что мне удалось бросить министерство. Я решился еще во Флоренции, я не знал тогда этой женщины. — Но когда ты увидел ее, ты еще больше укрепился в своем решении. — Не знаю, это трудно понять. Но когда я узнал, что она здесь на собственной яхте, я сказал себе, что есть какой-то шанс, что она возьмет меня к себе. — Мужчины, которые рассчитывают на женщин, чтобы выпутаться из трудного положения,— подлецы,— убежденно заявила она. — Есть и такое мнение. Я его никогда не придерживался. В сущности, почему так считается? — Подлецы и трусы,— продолжала она, не слыша меня,— это и не мужчины вовсе. — Возможно,— сказал я.— Но мне все равно. — Настоящий мужчина понял бы. — Я решил остаться еще во Флоренции, я не знал ее тогда. — И что, ты будешь чистить палубу? — Я не так честолюбив, как раньше. Она в изнеможении рухнула на кровать. А затем сказала медленно, отчеканивая каждое слово: — Никогда бы не подумала, что ты сможешь так низко пасть. Я снова лег. — Я был подлецом тогда, когда столько лет оставался в министерстве,— сказал я наконец,— даже с тобой, ты права, был подлецом. А в общем-то я был несчастлив! — А я, ты думаешь, я была счастлива? — Если бы ты чувствовала себя несчастной, ты не могла бы стирать мои рубашки. — И ты думаешь обрести счастье, драя палубу? — Не знаю. Корабль — это место, где нет бумаг и ведомостей. — Глупец, я думаю, в счастье ты понимаешь столько же, сколько и во всем остальном. — Под счастьем ты часто понимаешь счастье всего человечества. — Я верю в счастье. — О да,— улыбнулся я,— но в труде и в достоинстве. Она поднялась, как всегда, уверенная в себе и непоколебимая. Мне больше не хотелось говорить с ней. Она сделала вид, что собирается уходить, потом остановилась и сказала уставшим голосом: — Наиболее сильное впечатление на тебя произвели деньги этой шлюхи, разве не так? — Возможно,— хмыкнул я,— может быть, и так. Она еще раз направилась к двери, но опять остановилась. Ее лицо ничего не выражало, как будто все смыли слезы. — Так что, это правда? Все, конец? — Ты должна попробовать быть счастливой. Мне стало очень тоскливо. Я не думаю, что когда-нибудь она будет счастлива, впрочем, какое мне до этого дело. — В таком случае я уеду вечерним поездом. Я не ответил. Немного поколебавшись, она добавила: — А история с яхтой — правда? Ты действительно хочешь уйти на ней? — Но это один шанс из тысячи. — А если она не захочет взять тебя с собой? — Мне все равно. Она положила ладонь на ручку двери. Я смотрел только на ее руку, которая никак не решалась сделать последнее усилие. — Ты проводишь меня на поезд? — Нет! — закричал я.— Нет, мотай отсюда, я тебя умоляю. Она посмотрела на меня мертвым взглядом. — Мне жаль тебя,— сказала она и вышла из комнаты. Я подождал, пока хлопнет входная дверь. В тишине послеобеденного отдыха она хлопнула очень сильно. Я встал, взял туфли в руки и спустился по лестнице. Подойдя к входной двери, надел туфли и вышел. Был час сиесты, что-нибудь около двух часов. Все отдыхали. Деревня как вымерла. Наступило время самой сильной жары. Я пошел по дороге вдоль реки в направлении от моря, к садам и оливковым плантациям. Я еще не протрезвел, в голове шумело, мешая мне полностью осознать все происшедшее. Только одна ясная мысль билась в глубинах мозга — уйти как можно дальше от гостиницы. Наконец-то я стал свободным мужчиной, развязавшимся с женщиной, которую не любил, и не имеющим никаких других обязанностей, кроме как сделаться счастливым. Но если бы этого мужчину спросили, почему он решил оставить свое Министерство по делам колоний, он вряд ли бы ответил что-либо вразумительное. Я только что порвал с миром счастья, которое состоит в достоинстве и труде, ибо всегда чувствовал себя несчастным в этом мире. Короче, моя судьба не зависит теперь ни от кого, кроме меня самого; отныне мои дела касаются только меня одного. Вино жаром бросилось мне в голову, и мне стало совсем плохо. Я остановился и попытался вызвать рвоту. Но мне не удалось. Никогда не мог заставить себя это сделать, равно как и умерить свои желания — известный недостаток моего воспитания, из-за которого часто попадал впросак. Я повторил попытку, но снова безрезультатно. Тогда я заставил себя уйти еще дальше. Я шел очень медленно, двигаясь с большим трудом, как умирающий. По всему моему телу вместе с кровью циркулировало вино, и я должен носить его в себе до тех пор, пока мне не удастся наконец полностью освободиться от него, выписать вместе с мочой. Нет, мне нужно остановиться, чтобы вино начало выходить из меня; я буду делать это до тех пор, пока не уйдет поезд, буду ждать, чтобы вынести эту свободу. Потому что я был опьянен еще и вином свободы. Я слушал, как мое сердце проталкивало через себя эту блевотину и гнало ее аж до самых пяток, горящих от ходьбы. Шел я долго, может быть час, уходя в глубь оливковых рощ, чтобы понадежней спрятаться. Я остановился только тогда, когда, обернувшись, больше не увидел гостиницы. В нескольких метрах от реки стоял платан. И я растянулся в его тени. Я испытывал такую тяжесть во всем теле, как будто я уже мертв, мертв в мире счастья — в свободе и труде. Но спасительная тень платана, словно специально созданная для мертвых моего типа, пришла мне на помощь. И я уснул. Когда я проснулся, тень платана уже больше не служила мне защитой, отодвинувшись на несколько метров от меня, неумолимо совершая свое вечное движение. Не знаю, как долго я спал, но по меньшей мере половину того времени, что я проспал, я провел на самом солнцепеке. Я был трезв. Сколько сейчас может быть времени и ушел ли поезд? Я забыл и женщину, и яхту, и свободу. Я думал только о той, которая уехала или собирается уезжать. Эта мысль вдруг потрясла меня. Я пытался вновь призвать на помощь те разумные доводы, которые заставили меня расстаться с ней сегодня утром, но теперь они уже не звучали так убедительно, не оправдывали ужаса ее отъезда. Но я знал: мне необходимо пережить этот ужас во всех его проявлениях. Я забыл взять с собой часы и не ориентировался во времени. Я все еще ждал. Мне казалось, что слишком рано и она не успела уйти. И я все ждал, ждал. Солнце село, а я все ждал. И когда я уже совсем было потерял надежду, я услышал свисток, доносящийся с городского вокзала, резкий и печальный. Только один поезд отходил из Сарцаны во Флоренцию. Я не мог ошибиться, этот был тот самый, ее. Я поднялся и вернулся в гостиницу. Эоло остановил меня в коридоре. — Синьора уехала,— сказал он. — Я уже слышал,— ответил я,— ведь мы собирались расстаться. И все же я решил не идти на вокзал. — Понимаю.— Эоло помолчал.— На нее было больно смотреть. — Она ничего не просила мне передать? — Она просила передать вам, что уезжает сегодня вечером. И это все. Я очень быстро поднялся в мою комнату. Думаю, что плакал уже до того, как добрался до кровати. Наконец-то я выплакал все свои слезы, которые не мог выплакать до сего времени, так как не чувствовал свободы. Плакал за все десять лет.

Когда Эоло постучал в дверь, было уже очень поздно. Он приоткрыл дверь и просунул голову внутрь комнаты. Он улыбался. Я пригласил его войти. — Все за столом,— сообщил он,— уже очень поздно. — Я не очень голоден, но, пожалуй, не стоит отказываться от обеда из-за того, что произошло. Он подошел ко мне, улыбнулся и сел у меня в ногах. — Жизнь трудна,— сказал он. Я предложил ему сигарету и вспомнил, что не курил с самого завтрака. Мы закурили. — В поезде, наверное, очень жарко,— полувопросительно, полуутвердительно произнес я. — Но в поездах весело. В Италии все разговаривают, и время проходит быстро. Больше ему нечего было сказать. Он ждал. — Теперь я уж и не знаю, зачем это сделал,— сказал я,— мне кажется, будто я убил ее, просто так. — Она молодая. Вы не убили ее, вы оба как будто говорили на разных языках. — Мы не понимали друг друга,— сказал я,— ни один, ни другой, но ведь это не причина… — Вчера вечером, когда вы вышли из комнаты, я ее видел. А может, когда вы пришли, сейчас не помню. Мне захотелось засунуть два пальца в рот и освободиться от всей мерзости, которая еще во мне оставалась. Ни о чем больше не говорить, спать. — Пойдемте обедать,— позвал Эоло. — Я так устал. Он задумался, потом, как будто вспомнив что-то, широко улыбнулся мне. — Я доверяю вам Карлу на танцы, идите. Я улыбнулся ему в ответ. Казалось, ему должны все улыбаться. — Я совершенно забыл. — Я уже сказал ей, она ждет. — И все же я так устал,— попытался я отвертеться. Он медленно заговорил: — Она молоденькая, можно сказать маленькая, это многих привлекает, у нее хорошее здоровье, это тоже важно. Надо идти на танцы. Они кончатся, когда поезд войдет на территорию Франции. — Спускаюсь,— сказал я. Он торопливо встал и вышел из комнаты. Я дал ему время предупредить Карлу, вымыл лицо, аккуратно причесался и спустился вниз. На террасе сидело много народу, больше чем за завтраком. Многие собирались идти на танцы и начали свой вечер с доброго обеда. Она тоже находилась там. Она увидела, что я один и сильно припозднился с обедом. Мне показалось, что она немного удивлена. Через некоторое время после моего появления из коридора вышла Карла. Она улыбнулась мне широко и смущенно. Я собрался с силами, и мне удалось улыбнуться ей с понимающим видом. Стол уже был накрыт на двоих. Карлу никто не предупредил. — Синьора спустится сейчас? — спросила Карла. — Нет,— ответил я,— она уехала. Она услышала. И посмотрела на меня так, что я понял: если я захочу, то смогу уйти на яхте. Один шанс из тысячи. Я его получил. Я выпил два стакана кьянти, один за другим. Она смотрела, как я пью, и, видимо, ждала, когда кьянти начнет действовать на меня. Вскоре подействовало. Я почувствовал, как оно разливается по моему телу, голове, и отдался его власти. Она напудрилась, на ней было черное платье, как будто тоже собралась на танцы. Она была необыкновенно прекрасна и желанна. Вновь прибывшие в гостиницу, которые еще ничего не знали о ней, все время восхищенно смотрели на нее, тихо переговариваясь. А она смотрела на меня. Один раз я оглянулся, чтобы убедиться, что она смотрит на меня, а ни на кого-то другого позади меня, но там никто не сидел. Нет, на этой стороне террасы не было никого, кроме меня. Я выпил еще один стакан кьянти. Эоло, сидя возле входной двери, тоже смотрел, как я пью, смотрел с симпатией и беспокойством. Он что-то тихо сказал Карле, и она поспешно принесла мне тарелку с пирожками. — Отец,— произнесла она тихо,— сказал, что вы должны есть, он сказал, чтобы вы не пили много. И, сильно смутившись, быстро ушла. В проходе ее остановила женщина. — Я пойду с тобой на танцы,— сказала она ей. Я немного поел, а потом выпил еще один стакан кьянти. Перед моим мысленным взором неотступно мелькал поезд, несущийся в ночи, и я пил, чтобы стереть эту картинку из памяти. У меня болело все тело, лицо горело, оттого что я долго спал под солнцем. Вино было хорошим. Она почти неотрывно смотрела на меня. Наши столы стояли рядом. И вдруг я почувствовал необходимость сказать ей что-нибудь, потому что наши столы находились в непосредственной близости и мы все время смотрели друг на друга. — Мне нравится вино,— сказал я ей. — Хорошее вино,— тихо ответила она.— Мне тоже нравится.— И добавила: — Вы что, идете сегодня на танцы? — Конечно,— сказал я,— он не отпустит Карлу только с вами. Она улыбнулась. Надо было дождаться, когда Карла закончит работу. Она и обедала, и пила вино, держа сигарету в пальцах. После того как мы обменялись несколькими словами, я не знал, что еще сказать, понимала ли она это? Она начала читать журнал. А я попытался не пить слишком много. Потом наступил тот самый момент. Эоло велел Карле идти переодеться. Карла мгновенно исчезла и через пять минут возвратилась в красном платье. Эоло встал. — Пошли? Мы втроем вышли вслед за ним. Он перевез нас на другую сторону реки. Он немного ворчал, но по-доброму. — Вы привезете ее через час? — спросил он меня. Я обещал ему. Если он и ворчал, все равно пребывал в хорошем настроении и ни о чем не жалел. Перевезя нас, он сразу же уехал обратно, чтобы закончить дела за Карлу. — Как всегда,— пробурчал он. Карла засмеялась и сказала, что ему приходится делать это два раза в год. Она протянула Карле руку, а я пошел рядом с ней. Я заметил, что она немного выше Карлы, но не очень, не выше меня. И это меня почему-то успокоило. Мы сели за маленький столик, единственный еще свободный. В самом углу, достаточно далеко от оркестра. Карлу почти сразу же пригласили танцевать. Мы остались вдвоем, она и я. В этот вечер я еще машинально обвел глазами площадку, нет ли его здесь. На следующий день я уже забыл о его существовании, и когда увидел его на пляже, то едва узнал. Но сейчас его не было здесь. Я заметил Кандиду, танцевавшую с кем-то. Она не видела меня. — Вы кого-то ищете? — И да и нет. С нашим столом поравнялась Карла. Танцуя, она смеялась. Эоло оказался прав, для нее не имело значения, с кем танцевать, она танцевала, как ребенок, и так хорошо, с такой грацией, что мы улыбнулись. — Жалко уводить ее отсюда,— сказала она. Я стал думать, как ответить ей. Но ничего не придумал. Кандида увидела меня вместе с ней, она, тоже танцуя, прошла мимо нас. Огорчилась ли она? Не знаю, скорее удивилась. Приблизившись к нашему столу, она на секунду остановила своего партнера и наклонилась ко мне. — Она уехала,— сказал я ей. Она удалилась от столика, не переставая смотреть на нас и, может быть, пытаясь понять, почему мы оказались вместе. — Вы ее искали? — спросила она. — Нет, одного молодого человека. Она оказалась любопытной. Показав на Кандиду, поинтересовалась: — А она? — Я танцевал с ней вчера вечером. Я пригласил ее потанцевать. Мы встали. И как только она оказалась в моих объятиях, а ее рука в моей, я понял, что не смогу танцевать. Я не понимал, что играют, никак не попадал в такт, мне не удавалось приноровиться к ней, ни даже слушать ее. Я пытался. Но не мог слушать более десяти секунд. Я остановился. — Не получается,— сказал я,— я не могу танцевать. — Что же теперь делать? — спросила она. Ее голос звучал очень приветливо. Никто еще не говорил со мной таким тоном. Я опять попытался, но нет, ничего не получалось. Нас толкали. Она смеялась. Я не мог танцевать не потому, что хотел ее. Нет, я уже забыл, что значит хотеть женщину. Но она совершила ошибку, а я даже не знал, как предупредить ее. Она не понимала, что делает, ведь через минуту-другую, я был уверен, она разберется во мне и сразу же уйдет. Мои руки дрожали, я чуть не лишался сознания, чувствуя в своих руках ее тело, и испытывал невыносимый страх, как перед выбором — смерть или жизнь. Тогда я заговорил, чтобы предупредить ее хотя бы звуком своего голоса, чтобы на всякий случай показать, кто я. Мне хотелось сказать ей тысячу всяких вещей, но я мог говорить только о ее яхте, о «Гибралтаре». — Почему такое название, почему «Гибралтар»? Мой голос дрожал, как и все во мне. У меня возникло чувство, что, произнеся эти слова, я снял с себя огромный груз. — О,— сказала она,— это слишком долгая история. Даже не глядя на нее, я знал, что она улыбается. — У меня много времени. — Я знаю, я слышала, что вы сказали Карле. — Я полностью располагаю собственным временем. — Вы хотите сказать, что все время — ваше? — Вся жизнь. — Я не предполагала, я думала, она просто уехала пораньше вас. — Она уехала навсегда. — Сколько лет вы были вместе? — Два года. Все стало проще. Я начал танцевать лучше и почти перестал дрожать. Выпитое вино внезапно оказало мне неплохую услугу. — Она добрая,— добавил я,— но мы не понимали друг друга. — Сегодня утром за столом я хорошо видела это. — Мы совсем разные, а она добрая. Она улыбнулась. В первый раз мы посмотрели друг другу в глаза. — А вы не пожалеете? — Ее голос звучал слегка иронично. — Не знаю, я очень устал. Я танцевал все лучше и лучше. Руки больше не дрожали. — Вы хорошо танцуете,— заметила она. — Так почему «Гибралтар? — спросил я еще раз. — Потому. Вы знаете Гибралтар? Внезапно мне стало очень просто с ней. — О нет.— Я отрицательно качнул головой. Она немного помолчала. — Я рада,— сказала она наконец,— что встретила вас.— Мы опять улыбнулись друг другу.— Гибралтар прекрасен. О нем всегда говорят как об одном из важнейших стратегических пунктов в мире, но никогда не упоминают, что там красиво. С одной стороны — Средиземное море, с другой — Атлантика. Они совсем разные. — Понимаю. Такая же разница, как в здешнем ландшафте? — Он не похож ни на что другое. Африканский берег просто изумителен: ровное плато с остроконечным пиком прямо в море. — Вы часто проходили через Гибралтар? — Часто. — Сколько раз? — Думаю, раз шестнадцать. На испанском берегу, с другой стороны, более спокойно. — Но ведь не потому, что там очень красиво… — Не только поэтому,— прервала она. Похоже, ей не хотелось рассказывать мне, что так притягивает ее на Гибралтаре.— Из-за нее вы столько выпили за завтраком? — Отчасти из-за нее, а в основном, думаю, из-за неудавшейся жизни. Танец закончился. И мы все втроем опять оказались за столиком. — Ты довольна? — спросила она Карлу.— Ты очень хорошо танцуешь. — Но я очень редко танцую,— ответила Карла.— И как ни жаль, но мне надо отчаливать.— Потом, внимательно посмотрев на нее, спросила: — А ты вернешься? Она рассеянно смотрела в темноту, затем медленно зажгла сигарету. — Может быть,— ответила она.— Если я и вернусь, то только затем, чтобы увидеть тебя, чтобы убедиться, что ты счастлива, что ты удачно вышла замуж. — О, я еще молодая. И потом… не надо возвращаться только из-за этого. — Вы собираетесь уходить отсюда? — спросил я. — Завтра вечером. Я вспомнил, как Эоло говорил, что она из тех женщин, с которыми легко. — Вы не можете задержаться еще на один день? Она опустила глаза и сказала извиняющимся тоном: — Это трудно. А вы надолго в Рокке? — Не знаю еще, наверное, надолго. Опять заиграла музыка. Карлу снова пригласили. — Теперь можно все время танцевать. — Это вы о чем? — Ведь вы уезжаете. Она не ответила. — Расскажите мне о вашем судне,— попросил я,— о «Гибралтаре». — Боюсь, это будет рассказ не о судне. — Мне говорили, что эта история связана с мужчиной. Он из Гибралтара? — Нет. На самом деле он ниоткуда. Может быть,— добавила она,— я смогла бы отправиться в путь послезавтра. Что я себе вообразил? В открытом море, говорил Эоло, ей было достаточно своих моряков. Мои руки больше не дрожали, чувствуя ее тело, и я не терял рассудка.— Вы больше не с этим мужчиной? — Нет. — Вы его оставили? — Нет, он…— сказала она и тихо добавила: — Ладно, послезавтра. — От кого это зависит? — От меня. — У вас, что, точное расписание? — Это необходимо,— она улыбнулась.— Точный график должен быть не только у приливов и отливов. — Конечно, особенно в Средиземном море. Она засмеялась. Я стал думать о мужчине, который мог оставить такую женщину. И ничего не понимал. Мы больше не разговаривали. — А вы, почему вы бросили эту женщину? — спросила она едва слышно. — Я уже говорил вам, что не было особенно веской причины. — И все же что-то лежало в основе? — Я не любил ее. Я ее никогда не любил. Закончился очередной танец. К столику подошла разгоряченная танцем Карла. — Мне так жаль, что вы уезжаете,— сказала она. Наверное, эта мысль не покидала Карлу: даже танцуя, она думала об этом. — Ты мне очень нравишься,— сказала она Карле. Она бросила на меня быстрый взгляд, а затем снова повернулась к Карле. Но я продолжал думать о мужчине, который бросил такую женщину. — Тебе надо выйти замуж,— продолжала она разговор с Карлой.— Не поступай, как твои сестры. Побыстрей выходи замуж, но только после того, как убедишься в нем. Карла задумалась и покраснела. — Отец говорит, что выйти замуж трудно, но выбрать, должно быть, еще труднее.— И она опять немного покраснела. — Послушай, надо, чтобы ты сама его выбрала. — О! — сказала Карла,— я не смогу. — Сможешь. — Я хочу пить,— сказал я, вставая,— пойду раздобуду где-нибудь выпить. Я пошел в бар и вернулся с тремя стаканами кьянти. Пока я ходил, Карла ушла танцевать. И я выпил ее кьянти. — Пойдемте еще потанцуем,— предложил я. — Вы так любите танцевать? — Нет, но ведь надо же танцевать. Она нехотя встала. Думаю, ей больше хотелось поговорить. — Почему вы не скажете мне, чтобы я отвязался от вас? — Потому что не хочу, чтобы вы отвязались от меня. И тогда, осмелев от кьянти, я попробовал покрепче прижать ее к себе. — Не надо,— сказала она. Образ мчащегося в ночи поезда окончательно исчез из моей головы. Я хотел ее. Это пришло откуда-то издалека. Из давно забытой зоны мозга, из недр моего тела. — Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о нем. Эта женщина сегодня была со мной, а завтра она уедет. Я желал ее, именно такую. — Он был, если хотите, просто моряк. Он болтался в маленькой шлюпке посреди пролива, когда мы заметили его с борта яхты. Он подавал сигнал бедствия, и мы взяли его на борт. Вот так это начиналось. — А сколько продолжалось? — Несколько лет. — А почему он подавал сигналы бедствия? Она заговорила голосом рассказчика: — Он бежал из Иностранного легиона за три дня до того. Пробыв там три года и поняв, что ему ни за что не выдержать оставшиеся два года, он бежал на шлюпке, которую ему удалось украсть. В ее голосе звучала теплота. Воспоминание о нем вызывало в душе этой женщины неиссякаемую нежность. — Зачем он поступил в Иностранный легион? — Его разыскивали,— ответила она просто и как-то обыденно,— за убийство. Я не слишком удивился. — Вам, должно быть, очень нравятся люди, подающие сигналы бедствия? Она отстранилась, испытующе посмотрев на меня. Я выдержал ее взгляд. Я привык теперь даже к ее красоте. — О нет! — сказала она, пожалуй, чуть смущенно.— Не только. — Я никогда никого не убивал. — Это не так-то легко,— улыбаясь заметила она,— но всякое может случиться… — Но сегодня вечером вряд ли мне представится такой случай. Хотя, нет, в восьмилетием возрасте я убил из карабина голубя. И это все. Она от души рассмеялась. Как же она была хороша! — Как вы прекрасны! Она улыбнулась, ничего не ответив. — И вы взяли его на борт,— продолжил я,— и стали его кормить? Я уверен, что он почти умирал от жажды и голода, нет? — Каждый может убить,— сказала она. — В общем, идеальная история с терпящим бедствие,— резюмировал я. — Если вам так хочется, пусть будет идеальная история с терпящим бедствие.— И, немного помолчав, спросила: — Можно узнать, чем вы занимаетесь? — Министерство по делам колоний, служба регистрации актов гражданского состояния. Я снимаю копии со свидетельств о браке, рождении, смерти. После каждого акта о смерти я мою руки. Зимой от этого у меня бывают трещины на руках.— Она засмеялась, приблизив свое лицо к моему.— В конце года делают статистический обзор числа запрашиваемых актов о рождении и проводят сравнительный анализ. Результаты оказываются довольно интересными. Сколько запрашивали в этом году, а сколько в том… Если она засмеется, подумал я, она останется еще на один день. Она засмеялась. Я продолжал: — Эти статистические сведения вывешивались в конторе. Не знаю, может быть, находились люди, которых они интересовали. — Но их всегда запрашивали или бывали годы, когда этого не происходило? — Никому так и не удалось раскрыть эту тайну. Правда, лично я заметил, что в високосные годы запрашивают чаще копии актов о рождении. Я даже сделал доклад на эту тему, но он никому не понадобился. Я сильнее прижал ее к себе, мне не хотелось разговаривать. — Почему вы говорите об этом как о своем прошлом? Вы ведь в отпуске? — Более чем. Тем временем народу поприбавилось и танцы достигли своего апогея. Даже в проходах между столиками теснились танцующие, но никто не жаловался. Оркестр играл из рук вон плохо. — Как? Вы бросили работу? Очевидно, она что-то поняла, чего-то не поняла, но, во всяком случае, старалась разобраться. — Поставьте себя на мое место,— сказал я. — Я больше не мог делать эти копии, просто не мог. У меня даже нет собственного почерка. — Когда вы бросили работу? — Чтобы быть точным, сегодня утром во время завтрака. Еще точнее — когда подали сыр. Она не смеялась. Я сильно прижал ее к себе. — О! — произнесла она,— я не знала… — Вам же нравятся люди, терпящие бедствие, разве не так? — Почему бы нет… Танец закончился. Но оркестр несколько раз играл одну и ту же мелодию, и мы танцевали долго. — Мне так нравится здесь,— с этими словами к нам подскочила раскрасневшаяся Карла,— но я хочу пить. Лимонаду. — Надо сходить за ним,— сказала она. — Я схожу,— с готовностью согласился я.— Два коньяка для нас? — Как хотите. Уже поздно. Народу было столько, что мне с трудом удалось пробиться к бару. Я выпил один коньяк у стойки и два принес на столик вместе со стаканом лимонада. Карла буквально опрокинула его в себя и ушла танцевать. Мы выпили по коньяку и тоже пошли танцевать. — Вы, действительно, любите танцевать? — спросила она. — Да уж, просто не могу пропустить ни одного танца. — Эоло отпустил ее только на один час,— сказала она, понизив голос,— а мы здесь уже больше часа. — Нет, часа еще не прошло. — Через час за мной должен прийти катер. — Ну вот видите, нужно еще чуть-чуть подождать. Будем танцевать. Мой голос дрожал, но не от страха. Я поцеловал ее волосы. — Расскажите мне,— попросил я,— о моряке из Гибралтара. — Потом, что за навязчивая идея… — Я немного пьян.— Она натужно засмеялась. Ей надоело танцевать в таких условиях.— Я считаю, что Италия прекрасна. Мы помолчали. Я снова вспомнил о Жаклин и опять увидел поезд, в котором была страшная жара, а он все мчался и мчался в ночи. Он несколько раз вставал перед моими глазами, и мне никак не удавалось избавиться от этого образа. Я немного ослабил объятия. Она посмотрела на меня. — Не надо думать о ней,— сказала она. — Сейчас очень жарко в поездах, я думал об этом. — Она была очень разгневана утром, во время завтрака. — Должно быть, я заставил ее страдать в это утро. — Она поняла, почему вы покинули ее? — немного помолчав, спросила она. — Ничего она не поняла. Наверное, я плохо объяснил ей. — Не надо больше думать об этом. Правда, мне кажется, не надо больше думать об этом. — Но она ничего не поняла. — Кто не прошел через это? — Она говорила несколько менторским тоном, оставаясь при этом такой очаровательной, такой нежной, какой не была со мной ни одна женщина.— А что вы собираетесь делать? — Всегда нужно что-то делать. Разве не бывает в жизни так, что ничего не надо делать? — Как-то я пыталась ничего не делать, это невозможно. Все кончается тем, что надо чем-то заниматься. — А он? Чем занимался он? — Убийцам проще,— улыбаясь сказала она.— За них решают другие. У вас есть какие-нибудь соображения на этот счет? — Никаких. Ведь я всего несколько часов назад оставил министерство. — Действительно. И вы пока ничего не знаете. — Вы правы,— сказал я,— однако… — Что? — Мне хотелось бы находиться на свежемвоздухе. Она удивилась, а потом рассмеялась. — На свете не так уж много профессий для свежего воздуха. Танцы следовали один за другим, и мы даже не садились. Так и ждали стоя, когда опять заиграет оркестр. Мы замолкали на это время. Начался новый танец. — Есть морские профессии,— сказал я и засмеялся. — Правда,— она тоже засмеялась,— но там в основном ремесла, их надо знать. Я собрался с духом и выпалил: — Не всегда. Например, чистка медяшек. Дело нехитрое. Его все умеют делать.— Без сомнения, она видела мое волнение, но ничего не ответила. Я больше не смел смотреть на нее.— Конечно, на судне не так уж много медных частей, чтобы держать для этого человека. — Ну не знаю.— Помолчав, она добавила: — Я об этом никогда не думала. — Знаете, я сказал это просто так, для смеха. Она не ответила. Я не мог больше танцевать. — Еще коньяку? — спросил я. Мы перестали танцевать. Протискиваясь через танцующих, пробрались к бару. Молча выпили коньяк. Я больше не смотрел на нее. Опять пошли танцевать. — Это в самом деле ужасно — ваше министерство? — Люди склонны преувеличивать. — Время от времени нужно отдыхать от своей работы. Чем бы ты ни занимался. Я опять начал надеяться. — Я регулярно брал отпуск и честно отдыхал. Для меня мысли об отпуске были, что мысли о Божьей благодати.— И, помолчав, добавил: — Забудьте то, что я сказал, умоляю вас. Танец кончился. Пот ручьями стекал по лицу Карлы. Я хотел, чтобы она забыла про медяшки. — Ты опять хочешь пить,— сказала она Карле,— пойди купи лимонад. — Я схожу,— предложил я. — Нет,— возразила Карла,— я пойду, я привыкла, и мне нравится заказывать лимонад здесь. К тому же я сделаю это быстрее вас. Взять еще два коньяка? Карла исчезла в толпе. Она смотрела ей вслед. — В ее возрасте я тоже подавала лимонад. — Лучше, если вы уедете завтра. А медяшки — это потому, что я чуть-чуть перебрал. Забудьте то, что я сказал.— Она посмотрела на меня, но снова ничего не ответила.— Даже если бы мне предложили драить эти медяшки, я бы не согласился. Я слишком много пью, и вот результат: болтаю совсем не то, что думаю. — Я уже забыла.— Затем она сказала совершенно другим тоном: — Когда я была, как Карла, я делала то же самое и тоже подавала лимонад. Она помолчала, а затем спросила: — И долго вы пробыли в вашем министерстве? — Восемь лет. Она опять надолго замолчала. — Вы сказали, что в возрасте Карлы тоже подавали лимонад в кафе? — Да, мой отец держал кафе в Пиренеях. В девятнадцать лет я нанялась на яхту и обслуживала в баре. Мечты юной девушки. Боюсь, у Карлы тоже могут появиться такие мысли. Мы разговаривали сидя. Я подумал, что она забыла про медяшки. — Это все та же яхта? — спросил я. — Все та же,— ответила она, сделав извиняющийся жест: мол, видите, куда вы меня завели. На ее губах играла загадочная и обворожительная улыбка, которая, судя по всему, сохранилась у нее с шестнадцатилетнего возраста. — А почему же вы оставались там целых восемь лет, если это так ужасно? — Что за вопрос. Из-за трусости и лени. — Вы уверены, что больше не вернетесь туда? — Уверен. — Вы можете быть уверены после восьми лет работы? — Конечно. Вы же уверены в своей яхте, которую хорошо знаете? — Да. Когда не знают как следует, чем бы заняться, хотят наняться матросом,— сказала она, вставая, и, повернувшись ко мне, добавила: — Еще один танец, и мы должны проводить ее. Я не ответил. Она внимательно посмотрела на меня и очень тихим голосом произнесла: — Если хотите, можно найти выпить что-нибудь на судне. Катер ждет у мостков на пляже. — Нет, потанцуем еще. — Нет? — Она рассмеялась. — Я должен отвезти Карлу. Прошло несколько секунд. — Вы находите меня полностью растерявшимся? — Не совсем, а потом мне почти все равно. Нет, сегодня утром за аперитивом, не знаю почему… — Я уверен, вам импонируют люди, находящиеся в полной растерянности. — Не исключено,— сказала она, на этот раз с каким-то детским смущением,— может, у меня к ним слабость. — Я бросил Жаклин потому, что ее ничего не могло вывести из равновесия. А мы похожи. — Кто знает, должно быть, похожи. Некоторое время мы танцевали молча. Я не помню, чтобы когда-нибудь в жизни испытывал такое сильное влечение к женщине. — А можно и вас, в свою очередь, спросить, чем вы занимаетесь? Она на мгновение задумалась. — Я ищу кое-кого. Я путешествую. — Его? — Да. — Вы занимаетесь только этим? — Только этим. Это огромная работа. — А что вы делаете здесь? Тоже ищете его? — У меня тоже иногда бывает отпуск. — Понимаю,— сказал я. Теперь я все время целовал ее волосы. На нас смотрели, в том числе и Карла. Но, похоже, ее мало волновало внимание окружающих, как, впрочем, и меня. — Забавно,— усмехнулся я,— все это очень забавно. — И правда. Почему же мы не уходим? — И все же,— повторял я,— все это смешно. Забавная история. — Не только. — Надо идти,— сказал я. Мы закончили танец. Она пошла за Карлой. — Отец скорей всего уже ждет тебя,— сказала она,— надо ехать. Карла удивленно и, как мне показалось, неодобрительно посмотрела на нас обоих, по-видимому, потому что видела, как я целовал ее. — Что с тобой? — спросила она. — Ничего,— ответила Карла. — О,— сказала она,— не глупи, не надо так. — Я устала,— смутившись, произнесла Карла. — Тем более,— улыбнулась она,— не будь такой. Мы повезли Карлу в лодке, которую я нанял. Пока мы ехали, она полулежала на передней скамье лодки, вдалеке от меня, видимо стесняясь присутствия Карлы. И Карла заметила это. — Извините меня,— сказала ей Карла. Она, ничего не ответив, обняла девушку. Эоло поджидал нас у дверей гостиницы. Я извинился за опоздание. Он ответил, что это неважно, и поблагодарил нас. Я сказал ему, что провожу ее до самого катера. Может быть, он поверил. Мы вышли на дорожку, ведущую к пляжу. Музыка с танцплощадки звучала все тише. Вскоре мы уже не слышали ее. Мы увидели яхту. Ее палуба была освещена и пустынна. Я знал, чего она ждала. Однако пропустил ее вперед и пошел за ней следом. Когда мы подошли к пляжу, я остановил ее, повернув к себе лицом, и с восторгом поцеловал. — Ты любишь его. — Я не видела его три года. — И что же? — Думаю, он будет нравиться мне всегда, и если я найду его… — Ты очень хочешь найти его? — Не знаю,— выговорила она медленно,— но я знаю твердо, что какое-то время могу не вспоминать о нем.— Немного поколебавшись, она добавила: — Но даже если я забываю о нем, то не забываю, что ищу его. Ее глаза немного затуманились, словно она приглашала меня проникнуться этой тайной и ждала, что я сумею объяснить ее. — Если это так, значит, ты встретила большую любовь, нашла ее, единственную, в открытом море. В этот момент я поклялся себе не пытаться больше ничего выяснять до тех пор, пока — кто знает — не настанет день и я не увижу продолжение или конец этой истории. — Может быть, так, а может, по-другому.— Чтобы сказать эти слова, она приблизилась ко мне и опустила голову. Я взял ее голову обеими руками и заглянул ей в глаза. — Мне еще не приходилось встречать женщин, любящих моряков из Гибралтара. — Ну и как? — Как раз то, что мне нужно. В те секунды, когда мои губы касались ее губ, я почти терял сознание от счастья. — Я очень рада, что ты приехал. Я смеялся. — А было много других, которые не приехали? Она тоже рассмеялась от всей души, но ничего не ответила. Мы продолжали путь к мосткам, где нас поджидал катер. Уже показались его сигнальные огни. — А тебе никогда не надоедает искать его? — спросил я. — Бывает. Иногда я чувствую себя немного одинокой,— ответила она и, поколебавшись, совсем просто сказала: — Очень давно. — Понимаю… Она засмеялась. Потом мы вместе. Потом опять двинулись вперед. В катере спал матрос. Она разбудила его. — Я заставила тебя ждать,— очень мягко произнесла она. Он ответил, что это не имеет никакого значения, и спросил хорошо ли она развлекалась. — Надо думать, хорошо,— сказал я и, ткнув себя пальцем в грудь, добавил: — Если она пробыла там два часа вместо одного. Я был пьян. Матрос засмеялся и она тоже. Я так и не протрезвел за весь день. Не испытывая ни малейшего стеснения, я уселся в катер, решив оставить для других беспокойство о моральных нормах. Пока мы добирались до яхты, я слышал, как она говорила матросу, что отплытие откладывается, но я решил, что это никак не связано со мной.

Не знаю, какой вспоминается ей наша первая ночь. Надеюсь, что такой. …Она почувствовала, как, не разжимая объятий, он соскользнул чуть ниже и приник губами к соску ее левой груди. Сначала поцелуй был нежным, но потом губы раскрылись, чтобы вобрать как можно больше нежной плоти. Она чуть слышно охнула, ее пальцы почти конвульсивно зарылись в его волосы. Все ее существо охватило пьянящее, сводящее с ума желание. Но он не торопился приблизить желанный миг. По-прежнему прижимая губы к ее груди — теперь правой,— он с восхитительной целеустремленностью пробежал пальцами по самым укромным уголкам ее тела. И наконец остановился на упругих колечках волос интимного треугольника. Она не вскрикнула лишь потому, что во рту у нее пересохло, а горло свела легкая судорога… И вот они уже вместе — совсем вместе. Он все еще был очень осторожен. И тогда к ней вернулся голос: — Дальше!.. Иди же дальше!.. Ритм движений его тела теперь был неподвластен сознанию. Она ответила ему тем же — встречным движением, которым руководила лишь некая природная, раз и навсегда заложенная в человеке сила. Так продолжалось долго — или лишь один миг? — пока они одновременно не затрепетали в конвульсиях завершающего наслаждения…

До нее я не знал женщин. В эту ночь Жаклин осталась очень далеким воспоминанием, которое больше не доставляло мне страданий.

Из каюты мы вышли к полудню. Спали мы очень мало и чувствовали себя уставшими. Жара стояла такая, что она захотела искупаться. Мы взяли небольшой катерок, чтобы поехать на пляж, который находился примерно в двухстах метрах от яхты. Не успели мы отъехать, как она прыгнула в море, я за ней. Купались мы долго, но плавали мало. Мы ныряли, неподвижно лежали на спине, а потом выбрались на пляж, чтобы погреться на солнце. Позже, когда жара стала невыносимой, мы опять вернулись в море. Наступило время завтрака, и на пляже не осталось никого, кроме нас. Когда мы уже вышли из моря и улеглись рядышком на горячий песок, я вдруг увидел мужчину, идущего с противоположной от Рокки стороны, из Марина ди Каррары. Я узнал его только тогда, когда он подошел совсем близко. Я напрочь забыл о нем. Он узнал меня и ее тоже. Конечно, он узнал эту женщину, о которой говорил, что она прекрасна и одинока. И остановился, пораженный. Он долго смотрел на нас, а потом резко изменил направление своего движения, желая, видимо, обойти нас. И тут я вскочил. — Здравствуй,— закричал я. Он не ответил. Она открыла глаза и увидела его. Я бросился к нему, не зная, что сказать. — Здравствуй,— повторил я. — А где твоя жена? — спросил он. Он так и не поздоровался со мной. — Уехала,— ответил я.— Все кончено… Он еще раз посмотрел на нее. Она загорала, лежа в нескольких метрах от нас. Она могла слышать, о чем мы говорим. Но ее отсутствующий вид свидетельствовал о том, что ее абсолютно не интересует наш разговор. — Я не очень хорошо понимаю,— сказал он. Должно быть, я выглядел очень счастливым. Я не мог удержаться от смеха, разговаривая с ним. — Здесь нечего понимать. — А твоя работа? — С ней тоже покончено. — И ты решился на такое за несколько дней? — Этого оказалось достаточно. Ты сам говорил, что это возможно, а я не поверил. Теперь, когда все произошло, я понял, как ты был прав. Он покачал головой. Он не понимал. Он еще раз взглянул на нее и, не произнося ни слова, посмотрел на меня вопросительным взглядом. — Она уезжает сегодня вечером. Я просто встретил ее здесь. И мы еще долго стояли, глядя друг на друга. Он продолжал качать головой с неприязненным любопытством. — Поверь мне,— сказал я наконец. Я не мог объяснить, чему он должен поверить. — Вот так,— повторил он медленно,— за несколько дней?.. — Вот так это и произошло,— сказал я.— Я не верил, но это случилось. Он казался смущенным. Мы не знали, о чем говорить друг с другом. — До свидания. — Я остаюсь в Рокке,— сказал я,— до скорого… Он ушел. Но вместо того чтобы продолжать свой путь, он повернул обратно. Я долго смотрел ему вслед. И вдруг понял, что он уже видел меня, когда приходил в тратторию старого Эоло, он, вероятно, был там вчера, чтобы взять маску для подводной охоты у своего двоюродного брата. И он, наверное, обиделся, что я забыл о нашей договоренности понырять вместе. На секунду у меня возникло желание догнать его. Но я не сделал этого. Я вернулся и лег рядом с ней. — Ты знаешь кого-то из местных? — спросила она. — Это водитель грузовичка, на котором мы ехали из Пизы во Флоренцию. Мы должны были сегодня вместе заняться подводной охотой. Он не осмелился напомнить мне, а я совершенно забыл. Она села и посмотрела, как он уходит. — Так надо позвать его. — Нет,— сказал я,— не стоит. Она засомневалась. — Не стоит,— повторил я.— Я увижу его позже. Я думал о нем на протяжении восьми дней, целыми днями, и вот сегодня совершенно забыл. Мы оба рассмеялись. — Ты сказал, что я уезжаю сегодня вечером. Ты ошибся — завтра вечером. — Еще не скоро,— улыбнулся я. Мы вернулись на судно, чтобы позавтракать. Потом снова пошли в каюту и оставались там целую вечность. На этот раз, думаю, мы оба наконец поверили, что разделяем чудо любви друг к другу. Ее руки требовательно и нежно легли на мои плечи, лаская и удерживая. И я ни на миг не отпускал ее из своих объятий, будто опасаясь, что она исчезнет. Я шептал нежные слова и слышал в ответ ее страстный шепот. И в этих словах, и в каждом движении наших сплетенных тел было неизбывное желание отдать себя — всего-всего! — другому. Впрочем, «другому» — не то слово: в эту ночь мы были одним, единым существом. Когда мы проснулись, солнце садилось. Поднялись на палубу. Небо пылало, и карьеры Каррары сверкали белизной. Дымились трубы Монте-Марчелло. Пляж перед нами расстилался длинной плавной дугой. На пляже расположились несколько отдыхающих — клиенты Эоло и матросы из команды «Гибралтара». Мы были одни на борту. — Тебе грустно? — спросила она. — Если спать после обеда,— сказал я, улыбаясь ей,— всегда грустно просыпаться. С судна все выглядит совершенно по-другому. — Совершенно. Но если все время смотреть отсюда, хочется в конце концов посмотреть на все с другой стороны. — Несомненно. На пляже играли в мяч. До нас доносились крики и смех. — Уже поздно,— сказал я. — Посмотри, как красиво,— сказала она. Сумерки уже начали зарождаться под еще ярким небом. — Уже поздно. Через двадцать минут наступит ночь. Я не люблю этого времени суток. — Если хочешь,— сказала она мягко,— можем пойти в бар выпить что-нибудь. Я не ответил. Я долго смотрел на нее, пока она спала. Мне было немного страшно. — Я должен возвращаться. — Я пообедаю с тобой,— спокойно предложила она. — Это может удивить Эоло. Как ты к этому отнесешься? — усмехнувшись, спросил я. — Не знаю. — У тебя часто меняется настроение. — Что это значит? — Я не могу еще полностью разобраться. По-видимому, за два дня слишком много произошло. Может, выпьем немного? — Это можно. В баре есть все что угодно. Мы пошли в бар. Выпили по два виски. Я не привык пить виски. Первая порция пошла у меня с трудом, но вторая — хорошо. А она, судя по всему, привыкла к виски и пила его молча и с удовольствием. — Виски — это очень дорого,— сказал я,— мне редко приходится пить его. — Очень дорого. — Ты много пьешь его? — Пожалуй. Я не пью ничего другого из алкоголя. — Тебе не стыдно? Три тысячи франков за бутылку? — Нет. Разговор становился каким-то вымученным. Мы чувствовали себя очень одинокими на борту. — И все же виски — это здорово. — Вот видишь. — Правда, хорошо. Отчего же должно быть стыдно? Он любил виски? — Наверное. Мы мало пили его.— Через дверь бара она смотрела на море, ставшее уже почти черным.— Мы одни на борту. — Ты заблуждаешься,— сказал я смеясь,— с нами те, которые вызывают у нас желание выпить. Ты вызываешь у меня желание выпить еще. — Отчего это так? — Как знать? Если угодно, от серьезности отношения к жизни. — А разве я не серьезно отношусь к жизни? — Серьезно. Но можно быть серьезным по-разному. — Не понимаю. — Я понимаю не больше. Полагаю, это уже виски, ну ничего. Она улыбнулась, встала, налила мне еще и приблизилась. — Очень трудно обойтись без того, к чему привык. — Очень трудно. Она села рядом. Нам хотелось забыть, что мы совсем одни. — Когда я буду богатым, я всегда буду пить виски. Она посмотрела на меня, а я смотрел на пляж. — Как странно,— сказала она,— я так рада, что встретила тебя. — Действительно, это странно. — Да. — Это большая любовь. Мы посмеялись. Затем я встал и вышел на палубу. — Я хочу есть,— сказал я,— пошли к Эоло. — Надо подождать ребят из команды. У них катер. А то придется добираться вплавь… Мы стояли на палубе. Она стала посылать сигналы матросам. Один из них завел катер и поехал за нами. Перед тем как идти к Эоло, мы прогулялись по пляжу, с той стороны, где не было купальщиков. — Если у тебя есть время,— попросил я, расскажи мне эту историю. — Это долго,— ответила она,— это очень длинная история. — И все же мне бы очень хотелось, хотя бы в сокращении. — Посмотрим,— сказала она,— как-нибудь потом. Эоло удивился, увидев нас вдвоем. Я не был в гостинице с тех пор, как отправился на танцы вчера вечером, и он прекрасно знал, что я с ней. Увидев нас, Карла сильно покраснела. Я не считал нужным объяснять ей что-либо. Она разговаривала с Карлой так же, как накануне, разве что менее охотно. Мне же не хотелось говорить ни с кем, кроме нее, поэтому я молчал. Она выглядела уставшей, но я находил ее еще более прекрасной, чем накануне, несомненно потому, что она устала из-за меня. Она рассеянно разговаривала то с Эоло, то с Карлой, чувствуя на себе мой взгляд. Мы много ели и много пили. Когда мы пообедали, она очень тихо попросила меня вернуться вместе с ней на яхту. Танцы уже начались. Раздавались звуки той же самбы. Когда мы оказались одни на тропинке, ведущей к пляжу, я страстно поцеловал ее. И она первая заговорила о том, о чем я надеялся поговорить с ней на следующий день. Она спросила об этом как бы в шутку, но в этой шутке присутствовала доля настойчивости: — Ну как, ты еще не раздумал чистить медяшки? — Я уж и не знаю. — Женщины моряков из Гибралтара перестали тебе нравиться? — спросила она смеясь. — Я, должно быть, говорил о них, вовсе не зная их. — Они такие же, как и все прочие. — Не совсем. Во-первых, они очень красивы. Во-вторых, они всегда недовольны. — А еще? — А еще, как мне кажется, они принадлежат всем и никому, и поэтому к ним очень трудно приспособиться. — Думаю, то же самое можно сказать о большинстве женщин. — Безусловно, но с этими уже не ошибешься. — Если я правильно поняла, тебя беспокоит отсутствие, как бы поточнее выразиться, надежной формы страховки? — Да, у меня ее нет. Но когда в чем-то уверен, то нет нужды обеспечивать себя страховкой. Она улыбнулась своим мыслям. — Несомненно, но неужели опасения такого рода могут помешать сделать то, что хочется? Я не ответил. Тогда она сказала еще раз, пожалуй, даже с большей настойчивостью в голосе: — Если ты действительно такой свободный, как говоришь, почему бы не попробовать? — Не знаю,— ответил я,— но почему нет, в самом деле? Она отвернулась и несколько смущенно произнесла: — Только не надо думать, что ты будешь первым. — Мне бы и в голову не пришло ничего подобного. Она замолчала, а потом снова заговорила: — Я сказала тебе, чтобы ты не подумал, что поступаешь как-то необыкновенно. — И много их было? — Было. Я ищу его уже три года… — И как ты поступаешь с ними, когда они тебе надоедают? — Выбрасываю их в море. Мы засмеялись, но не очень весело. — Если хочешь,— сказал я,— чтобы решить это, подождем до завтра. И мы снова пошли в ее каюту.

И снова проснулись поздно. Когда мы вышли на палубу, солнце уже палило вовсю. День полностью повторял вчерашний, хотя какое-то отличие было заметно, чувствовалось, что скоро отплытие. Мы позавтракали в баре сыром и анчоусами. Выпили кофе и вино. Опять мы остались одни на борту и, даже завтракая, не могли забыть об этом. Пока мы ели, она несколько раз смотрела на часы и казалась немного обеспокоенной, ибо хорошо понимала, что я сам не знаю, чего хочу. — Если ты не пойдешь на яхту, что будешь делать? — Найду чем заняться. Я разрешил слишком много проблем за последнее время,— я засмеялся,— чтобы не решить еще одну. — Что это еще за одна? — Кто же все-таки моряк из Гибралтара? — Я же тебе говорила, убийца, ему было двадцать лет. — А еще? — Ничего кроме этого. Когда ты убийца, то остается только это, особенно в двадцать лет. — Мне хотелось бы, чтобы ты рассказала мне его историю. — Нет никакой истории. Когда в двадцать лет становишься убийцей, больше нет истории. Нельзя ни идти вперед, ни отступать, ни добиться успеха, ни потерпеть неудачу. — И все же, я хочу, чтобы ты рассказала мне его историю, хотя бы вкратце. — Я устала,— сказала она,— нет никакой истории. Она откинулась в кресло. Она действительно устала. Я встал налить ей стакан вина. — В Италии ты не найдешь никакой работы,— сказала она,— тебе придется вернуться во Францию, и ты снова начнешь делать копии в своем министерстве. — Нет. Ни за что. Я больше не спрашивал ее. Солнце осветило полбара. И она снова заговорила: — Понимаешь, ему дважды грозила смертная казнь. К таким мужчинам, кроме особой любви, испытываешь, как бы это сказать, особую верность. — Понимаю. — А ты вернешься в Париж. Опять вернешься к ней и в министерство, и все начнется сначала. — Теперь расскажи совсем чуть-чуть о себе,— попросил я. — У меня не так уж много времени,— сказала она и добавила: — Думаю, самое лучшее для тебя — пойти со мной на яхте. Я хочу сказать, именно в твоем положении. — Посмотрим.— Я неопределенно пожал плечами.— Расскажи мне. — У меня нет других историй, кроме как о нем. — Я тебя умоляю. — Я тебе уже говорила,— начала она,— что детство мое прошло в деревне недалеко от испанской границы. Мой отец держал кафе. Нас было пятеро в семье, я — старшая. Клиенты всегда были одни и те же, таможенники, контрабандисты, летом иногда туристы. Однажды ночью, когда мне было девятнадцать лет, я уехала в Париж в автомобиле одного посетителя. Там я прожила год. И узнала все, что обычно узнают в таких случаях: ремесло продавщицы в «Самаритене», голод, ужин, состоящий из одного сухого хлеба, ночные попойки, расплату за эти попойки, свободу, равенство и братство. Может показаться, что это много, однако это — ничто, если рядом нет существа, которое может тебя понять. Через год я насытилась Парижем и уехала в Марсель. Мне было двадцать, и мне хотелось работать на яхте. Все мое представление о море и путешествиях связывалось с белоснежными парусами и яхтами. Профсоюзы предложили мне только одно место — барменши. Я приняла его. Корабль отправлялся в кругосветное путешествие, которое должно было продлиться целый год. Мы вышли из Марселя через три дня после того, как я нанялась. Одним сентябрьским утром. Мы взяли курс на Атлантику. Через несколько часов после выхода матрос заметил в море что-то необычное. Хозяин взял бинокль и увидел человека в лодке. Он греб по направлению к нам. Мы остановили двигатели, спустили веревочную лестницу. На палубу взобрался матрос. Он сказал, что хочет пить и очень устал. Он еще говорил что-то. Когда я пытаюсь вспомнить его голос, я вспоминаю какие-то его слова. Все, что он говорил, приобрело потом определенное значение. Потом он потерял сознание. Его привели в чувство с помощью уксуса и пощечин. Затем дали хлебнуть спирту. После этого он уснул прямо на палубе. Пока он спал, я, часто проходя мимо, смотрела на него — он лежал рядом с баром. Кожа у него на лице была обожжена и висела клочьями, руки изодраны до крови веслами и изъедены морской водой. Должно быть, несколько дней он выжидал удобного случая похитить лодку и еще несколько дней ждал корабль, который подобрал бы его. На нем были брюки цвета хаки, знаешь, такого уголовного цвета, от военной формы. Выглядел он года на двадцать два, но уже успел стать преступником. И еще до того, как он проснулся, я уже знала, что люблю его. Вечером, после того, как он немного поел, я зашла навестить его в каюте. Я зажгла свет. Он спал. Он еще находился там, далеко, в том кошмаре, и не мог не только представить себе, что перед ним стоит женщина, охваченная желанием слиться с ним, но и хотеть этого. Но я желала его. Мы познали друг друга, и вскоре он совсем поправился. Он спрашивал меня, не для того ли я вернула его к жизни, чтобы он поскорее освободил каюту. Я разуверила его. Так это началось. И продолжалось шесть месяцев. Хозяин дал ему работу на судне. Прошло много недель. Он никому не рассказывал о себе, в том числе и мне. Я даже не знала его имени. По прошествии шести месяцев, когда мы стояли в Шанхае, как-то вечером он сошел на берег поиграть в покер и не вернулся. — И ты до сих пор не знаешь, кого он убил? — Он задушил американца на Монмартре. Об этом я узнала гораздо позже. Он одолжил у него деньги, играл с ним в покер и проиграл. Но он задушил этого американца не для того, чтобы отобрать у него свои деньги, его толкнула на это не потребность в деньгах. Нет, он сделал это без всякой причины, сам не зная почему. И он убил его, того американца, по прозвищу Нелсон Нелсон. Я стал хохотать. Она тоже засмеялась. — Вот так, убив короля шарикоподшипников, он стал убийцей, он стал только убийцей, и никем другим. — Я всегда думал, что убийство должно иметь практическую сторону. — Ситуация может быть разной, убивают, не только когда грозит голодная смерть. — А что же любовь? — Он не любил меня. Он вполне мог обойтись без меня и без кого бы то ни было. Говорят, что, если вы потеряли близкое существо, мир опустел для вас, но бывает по-другому. Если вам недостает целого мира, никто не сможет его заменить. Но он был, как и все, как ты. Ему нужна была Иокогама, Большие бульвары, кино, выборы, работа — все. А что я, всего лишь женщина. — Короче, это был некто, который ни о чем никому не рассказывал. — Ну не совсем. Он кое о чем рассказывал, но в основном все скрывал. Иногда я говорила себе, что если не придумала его полностью, то выдумала многое о нем. Его молчание носило необычный характер, я просто не могу описать его. А его обаяние казалось невероятным. Он не считал свою участь трагической. Он даже не думал о ней. Его интересовало все. Он спал, как ребенок. На судне никто никогда не осуждал его. Поколебавшись немного, она сказала: — Знаешь, когда я ощущала исходящую от него безгреховность, когда видела его спящим рядом со мной, я знала, что никогда не забуду его. — Это сильно изменило тебя. — Сильно.— Она засмеялась.— Думаю, это кардинально изменило мою жизнь. — А я всегда полагал, что лучше, когда человек задумывается о совершаемых поступках, чем просто существует бездумно. — Да. Он не сомневался, что совершил много несправедливого, в то время как другие постоянно сомневаются и ставят под вопрос собственные предрассудки. — А покер? — спросил я. — Он прекрасно играл. Как-то в воскресенье вечером ему вдруг захотелось сыграть в покер. И он сел играть с несколькими ребятами из команды. Несмотря на свою молодость, игрок он был превосходный. Но он давно не играл, с тех пор как совершил преступление. Сначала он выиграл. Затем, уже глубокой ночью, начал проигрывать. Я смотрела на него все время, пока шла игра. Он как-то преобразился, играл по-крупному, создавалось впечатление, что деньги жгли ему руки. Проигрывая, ни капельки не огорчался. Он проиграл намного больше, чем выиграл, почти всю месячную зарплату. С какой-то отрешенной радостью он швырял деньги на стол, как будто это именно то, что он должен был сделать. Что было общего у него с другими мужчинами? Деньги? Женщины? Нет, не женщина, а женщины. Я мало значила для него. И в тот воскресный вечер поняла, что скоро потеряю его. Мы уже прошли Атлантику, Острова, Панаму, выйдя в Тихий океан, прошли Гавайи, новую Каледонию, Зондские острова, Борнео, Малаккский пролив. А затем, вместо того чтобы идти по намеченному маршруту, мы сделали полукруг по Тихому океану. До этого мы почти не отклонялись к югу. Один раз зашли на Таити и один раз в Нумеа, но это вызывалось необходимостью, например, чтобы купить крем для бритья и что-то еще. Он проиграл зарплату, однако за рейс кое-что скопилось. Ведь мы почти не сходили на берег, тратили очень немного, и, когда корабль прибыл в Шанхай, у него оставалось еще немало денег. В Шанхае он сказал, что хочет поиграть в покер и скоро вернется. Я прождала его всю ночь и весь день. Искала его повсюду. Поэтому Шанхай — единственный город, который я хорошо знаю. Но я не нашла его. Возвратилась на судно, думая, что он уже вернулся. Но я ошиблась. Я искала его столько, что у меня больше не было сил опять идти в город. Моих сил хватало лишь на то, чтобы ждать его на борту. Я пошла в свою каюту и легла. Через иллюминатор видела трап. Я не отрываясь смотрела на трап и не заметила, как уснула. Мне тоже было двадцать лет, и я не страдала бессонницей. На рассвете, когда я проснулась, корабль находился уже далеко от Шанхая. Я проспала всю ночь. Он так и не вернулся. Потом я стала подозревать, что хозяин яхты приказал ему сойти с судна, пока я спала. Позже я спросила его. Он ответил отрицательно. Но я все-таки не поверила ему, хотя он все равно бы ушел и сделал бы это если не в Шанхае, то в любом другом месте. — И ты захотела умереть. Ты подумала, что так просто — открыть дверь каюты и броситься в море. — Я не умерла, как видишь. Я вышла замуж за владельца яхты. Она замолчала. — Налей мне стакан вина.— Я пошел исполнять ее просьбу. Она продолжала: — Понимаешь, мы никогда не говорили, что любим друг друга. Кроме самого первого вечера, когда я пришла к нему. И тогда он сказал мне это, возможно от удивления или от удовольствия. Конечно, надо же было что-то сказать шлюхе. Он мог это сказать и от полноты ощущения жизни. Но я, которая так беззаветно любила его, никогда больше не говорила ему об этом. Мы молчали шесть месяцев. Меня до краев переполняли слова любви к нему, но я не могла произнести ни одного. Она опять замолчала. Я встал и пошел на палубу. Она позвала меня. — Так трудно,— сказала она,— делать то, что ты хочешь, как говорится, взять и изменить свою жизнь. Это требует известной смелости. — А что потом? — спросил я. — Когда? — После Шанхая. — Я сказала тебе. Хозяин яхты поехал разводиться в США. Его жена дала согласие, потребовав громадной компенсации. Мы поженились сразу же после развода. Он назвал яхту моим именем. Я стала богатой женщиной. Начала появляться в свете. Я даже брала уроки грамматики. — Ты еще не думала разыскать его? — Эта мысль захватила меня намного позже. Я вовсе не собиралась выходить за него замуж, не преследовала эту цель, нет конечно. Но когда у меня возникла эта мысль, я подумала, что было бы хорошо найти его. Хотя эта роскошь стоит очень дорого. — И, выйдя замуж, ты приобрела привычку спать с кем угодно? Она замолчала, озадаченная и шокированная моим вопросом, а потом сказала, как бы оправдываясь: — Я пыталась несколько раз быть верной, но мне это не удавалось. — Не надо было даже пытаться,— засмеялся я. — Я была молодой, а жизнь на яхте веселой. Чтобы заставить меня забыть его, он каждый вечер устраивал танцевальные балы… — Море,— сказал я,— матросы на мачтах… — Да,— она улыбнулась,— но для этого недостаточно балов… — Несомненно. — Потом посреди блестящего великолепия балов я думала о мужчинах, которые, находясь в трюме, слушали музыку вечеров, закатываемых специально для того, чтобы заставить забыть одного из таких, как они. Иногда я скрывалась от него в трюме и… обманывала его. Однажды… Она замолчала и посмотрела на часы.— У меня больше нет времени. — Если захочешь, найдешь. Ты куда-то спешишь? Она опять улыбнулась. — Однажды он принял постыдные меры предосторожности. Он велел поставить решетчатое заграждение между верхней палубой и остальной частью яхты. Он высадил на берег тех приглашенных, которые неуважительно отзывались обо мне. — Что же они говорили? — Думаю, они говорили: «Гони природу в дверь, она все равно влезет в окно». Мы засмеялись. Потом она снова продолжила: — Наконец мы остались вдвоем на верхней палубе. Я обещала ему не выходить за решетку и собиралась исполнить обещание, хотя, видя, до какой крайности он дошел, опасалась за его рассудок. Но могло ли это изменить что-то? Проходили недели, месяцы. Все свое время я проводила за чтением книг, лежа под солнцем на шезлонге. Я была как во сне. Но именно в это время я накапливала силы, которых должно хватить мне на всю оставшуюся жизнь. Время от времени, чтобы доставить ему удовольствие, я интересовалась, что за гавань видна вдали, каковы координаты этих мест, какова глубина возле вон тех скал… Потом опять принималась за чтение. И делала это добросовестно. Я думала, что такое существование единственно возможно в моем положении. Муж тоже, кажется, поверил в это, что и усыпило его бдительность. И вот однажды у нас возникли какие-то сложности с мазутом, что вынудило нас зайти в Шанхай. Как ты понимаешь, отложить этот заход не представлялось никакой возможности. И вот там я пробудилась навсегда. В гавань мы пришли ранним утром. Мы уже встали и читали, сидя за нашими решетками. Я прекратила чтение и стала смотреть на город, где так долго его искала. А он, сидя рядом со мной, видел, что я не могу оторваться от вида этого города. Он тоже перестал читать. В полдень я попросила у него разрешения выйти погулять по городу. Но он сказал мне: «Нет, ты не вернешься». Я ответила, что его уже давно нет в Шанхае, что он не должен опасаться, я только прогуляюсь немного и вернусь не позже чем через час. Но он сказал: «Нет, даже если его там уже нет, ты все равно не вернешься». Тогда я попросила дать мне в сопровождение кого-нибудь из членов команды. Но он ответил: «Нет, у меня ни к кому нет доверия». Тогда я поинтересовалась, по какому праву он поступает так жестоко с женщиной. Но он сказал, что для «моего же блага» имеет право помешать мне совершить безумный поступок. Больше я ничего не просила у него. Я видела, что он очень страдает, но видела также, что он ни за что не уступит. Мы даже не позавтракали. И каждый на своем шезлонге ждал отплытия. Он прекрасно понимал, какое чувство бушует во мне, что я готова убить его, но это не казалось ему ненормальным, ему было все равно. Время тянулось медленно. Наступил вечер. Город покрылся мраком. Но мы все сидели в ожидании отхода судна. Он следил за мной, а мне хотелось убить его. Город ярко светился огнями. Их фосфоресцирующий отблеск достиг палубы, где мы сидели. И сейчас я как будто вижу лицо мужа, освещенное этим светом. Я сделала последнюю попытку, предложив ему сходить в город вместе со мной. Но он отклонил ее: «Нет, убей меня, но я не могу». Судно отчалило к одиннадцати часам. Прошло еще много времени, пока город совсем растворился в ночи. Не знаю, почему я рассказываю тебе это. Наверное, потому что именно с этого дня ко мне вернулась надежда, я хочу сказать, что поняла: я смогу оставить мужа, и, может быть, наступит день, когда я начну жить другой жизнью. Какой? Никогда не можешь точно представить, можно только ощущать, ну — как сказать? — более разнообразной, что ли. И вот тогда, начиная с того страшного дня, когда мрачные сумерки опустились на Шанхай, как ни странно, моя жизнь с мужем начала потихоньку налаживаться. Я поняла, что смогу в любую минуту легко бросить его, и время пошло быстрее. И тем не менее мне понадобилось три года, чтобы решиться на это. Трусость, как ты говоришь. Но если ты долго ждал, чтобы сделать то, на что решился, это еще не говорит, что ты не в состоянии этого сделать. Я сделала это, но спустя три года. Один год я провела в Париже. Когда он говорил мне о будущем, я всегда улыбалась. Ведь если бы я верила в наше совместное будущее, я бы не смогла ему улыбаться. Я была очень мила с ним. Верил ли он, что я забыла моряка из Гибралтара? Может быть. Думаю, что он верил в это всего лишь год. — А потом? — Мы как-то виделись. Даже два раза. С разрывом в четыре года. Во второй раз я даже спала с ним. — Ты действительно не теряла времени… — Да, не теряла. Она замолчала. Время опять потянулось, как бывает всегда, когда вспоминаешь о нем. Солнце опускалось. Я курил. Внезапно она взглянула на часы и пошла в бар поискать чего-нибудь выпить. Она протянула мне стакан вина. — Давай выпьем,— предложила она. — Странная история. — Ничего странного, история, как и многие другие. — Я говорю не только о твоей,— сказал я. Она вздрогнула, но сразу же овладела собой. — Если ты так говоришь, значит, решил остаться… — Я очень боюсь этого. — Не надо. — Всегда чего-то ждешь, надеешься на какое-то чудо. — Но если тебе в самый подходящий момент бросают спасательный круг, надо ли задумываться, что это значит… — Это правда. Стоит ли рассуждать, то это или не то… Она прервала меня. — Можно никогда и не узнать…— начала она. — Успокойся,— сказал я,— все хорошо, все хорошо. — Я хочу сказать,— медленно произнесла она,— ведь никогда не знаешь, что должно произойти. — Нет,— сказал я,— но все равно успокойся. Она посмотрела на меня с сомнением. — Так в чем же дело,— спросила она,— в чем? — В остальном. Она полностью расслабилась и, рассмеявшись, встала. — Стоит только захотеть, и дело сделается. — Достаточно только захотеть…— начал было я. — Значит, идешь с нами? Уже слышался звук запускаемого двигателя. Матросы раскатывали паруса. — Иду. Внезапно она стала какая-то другая. Наверное, потому, что нам было так хорошо вдвоем на этом судне. Она вышла из бара и пошла к матросам. Я слышал, как она вежливо просила их поторопиться с отходом. Потом возвратилась. — Нужно послать кого-нибудь заплатить Эоло и забрать твои вещи. — Пусть они останутся,— сказал я, смеясь. — Думаю, это глупо. — Знаю. Если хочешь, можно сказать Эоло, чтобы он сохранил мой чемодан. Она снова вышла. Было семь часов. До самого отхода я оставался в баре один. Около получаса. Якорь подняли, когда уже спустилась ночь. Я вышел из бара и облокотился на поручни. И целую вечность стоял так. Как только мы отчалили, я увидел Карлу, бегущую по пляжу. Она махала чем-то похожим на носовой платок. Мы все дальше отходили от берега, и вскоре она стала почти неразличима. Устье Магры надвое делило пляж. Мраморные горы обрамляли пейзаж сверкающей массой. Они долго еще белели на горизонте. Она часто проходила за моей спиной. Но ни разу не встала рядом. Но каждый раз, когда она проходила, я хотел обернуться и сказать ей что-нибудь. Но не мог решиться. Однажды она заговорила рядом со мной с двумя матросами по поводу какого-то расписания. Корабль продвигался в спокойном и теплом море, как лезвие ножа в спелом фрукте. Море выглядело гораздо темнее неба. Возможно, она хотела, чтобы я заговорил с ней. Например, спросил о том, что нам предстоит, или как-то прокомментировал свой отъезд, или сказал что-нибудь о темноте ночи, моря, или о ходе яхты, или, может быть, о чувствах, которые я испытывал, оказавшись на этом судне после восьми лет, проведенных в Министерстве колоний за бессмысленным занятием — копированием актов о рождении, в полном неведении о существовании таких женщин, как она, посвятивших жизнь поискам моряков из Гибралтара. Она, вероятно, ждала, что я поделюсь с ней своими впечатлениями, но с того момента, как мы отошли, у меня не возникло никакого впечатления и не создалось мнения ни о чем, даже о закате солнца. Четверо матросов, как и я, облокотившись на поручни, смотрели на удаляющийся итальянский берег. Временами они украдкой поглядывали на меня. Конечно, их разбирало любопытство, но я не чувствовал недоброжелательности в их взглядах, им просто хотелось получше разглядеть того, кого она взяла на борт в этот раз. Один из них, маленький брюнет, улыбнулся мне. А затем, так как он стоял всего в двух метрах от меня, заговорил со мной. — Такое море, как сейчас, одно удовольствие,— сказал он с итальянским акцентом. Я согласился. Да, действительно, удовольствие. Судно шло все быстрее и быстрее. Уже скрылось из виду устье реки, о нем напоминала только гряда белеющих холмов. На другом берегу зажглись огни. Я машинально считал матросов. Здесь, на палубе, их четверо. Двое в машинном отделении, один — рулевой. Значит, всего семь человек. Один или два на камбузе. Обычно экипаж насчитывает девять человек. Стало быть, полный комплект. Я — лишний. Между ней и ими. Хотя я понимал, что между ней и ими всегда был один лишний, и никогда больше. Внезапно наступила ночь. Теперь не было видно даже холмов. Берег превратился в сплошную линию огоньков, тонкую линию на горизонте, которая разделяла небо и море. И только когда исчезла эта линия огоньков, она подошла ко мне. Она тоже смотрела на меня с любопытством, но не так, как матросы. Мы улыбнулись друг другу, не говоря ни слова. На ней были те же черные брюки и черный трикотажный пуловер, что и в Рокке, но теперь она надела берет. Прошло два дня, как я узнал ее. События развивались стремительно. Я знал уже то, что скрывалось у нее под одеждой, успел полюбоваться на нее спящую. Но многое теперь изменилось. Когда она подошла ко мне, я снова стал дрожать, как в первый раз, на танцах. Все началось как бы заново, я не успел привыкнуть к ней, не мог спокойно видеть, как она подходит ко мне,смотреть на нее. Она все время смотрела на меня каким-то косым, избегающим взглядом. Видимо, она никогда не отличалась прямым взглядом. А в этот вечер еще менее. Сколько можно вот так стоять, наверное думала она, облокотившись на поручни, почти неподвижно, ведь прошел уже почти час. Однако она ни о чем не спросила. Первым заговорил я. — Ты надела берет. — От ветра. — Но ветра нет. Она улыбнулась. — Ну и что же. Это привычка. Иногда я забываю снять его, когда ложусь спать, и так и засыпаю в нем. — Он идет тебе. — Иногда,— продолжала она,— я сплю прямо в одежде и часто не расчесываю волосы. И даже не моюсь. — Многие имеют аналогичные привычки,— сказал я. В море, спокойном и темном, плясали, отражаясь, межпалубные огни. Ее рука прикоснулась к моей, но глаза были прикованы к какой-то точке в море. — Но ты хоть ешь? — спросил я. — Ем,— она засмеялась,— у меня прекрасный аппетит. — Всегда? — Надо, конечно, есть поменьше, но забыть помыться легче, чем забыть поесть. Наконец мы посмотрели друг другу в глаза. Нам обоим хотелось рассмеяться, мы находились в какой-то эйфории, я видел это по ее глазам, но мы не засмеялись. И тогда я сказал: — Ну вот, мы и отчалили. Она улыбнулась. — Это проще всего! — Она помолчала минуту. Она уже не смотрела на море.— Ну и каковы твои впечатления? — В ее голосе слышалась некоторая неуверенность. — Да, это произвело на меня впечатление. — А как у тебя с аппетитом? — спросила она через мгновение. — Все в порядке,— ответил я.— Я бы не возражал… — Пойдем поедим. Она засмеялась таким же смехом, как и тогда, когда я сказал, что еду. И я пошел за ней в столовую-бар. Я уже знал этот бар. С прошлых времен здесь остались только люстры, ковры, библиотека. Но чувствовалось, что сюда уже никогда не приглашали гостей. Помещение это больше напоминало караульное отделение, чем бар. Он был оборудован со всеми удобствами, но без особого вкуса. Бывшая столовая для команды, смежная с трюмом, теперь не использовалась по прямому назначению; члены команды обедали вместе с ней. Точного времени обеда не существовало. За стол садились между семью и десятью часами вечера. Обед, состоящий из двух блюд, постоянно подогревался на электрической плите. Каждый обслуживал себя самостоятельно. На полке над баром всегда имелся сыр, фрукты, банки с анчоусами, маслинами и другие консервы. В вине, пиве и крепких напитках недостатка не ощущалось. Я заметил в углу пианино, а над ним скрипку, висящую на стене. Она села в кресло к столу. Я сел напротив. За другим столом, рядом с нашим, обедали трое. Когда мы вошли, они посмотрели на меня, не прерывая разговора. Я узнал маленького брюнета, который заговорил со мной на палубе. Он снова улыбнулся мне. Она встала, подошла к плите и вернулась с двумя тарелками. Она не обращала внимания на взгляды моряков, устремленные на меня. Проходя мимо них, она бросила: — Ну как, порядок? — Порядок,— отозвался маленький брюнет. В тарелке лежали две жареные рыбы, у них изо рта торчал укроп. Рыбы тоже удивленно смотрели на меня. — Ты будешь это есть? — спросила она.— Если не хочешь, есть другое. Я хотел именно это. Вилкой я отделил головы обеих рыб и положил их на край тарелки. Потом положил вилку. Она смотрела, что я делаю. Я чувствовал на себе взгляды матросов, и это немного смущало меня. Нет, не потому, что они смотрели недружелюбно, скорее наоборот. Но я не привык быть объектом чьего-либо любопытного внимания. Это портило мне аппетит. Я подумал, она притворяется, что ничего не замечает. После того как я положил вилку, она спросила, выждав некоторое время: — Тебе не нравится? — Куда мы идем сейчас? Она мягко улыбнулась и повернулась к трем матросам. Они тоже улыбнулись, безо всякой неприязни, даже дружелюбно. — В Сет. Я хочу сказать, для начала в Сет. — Я так и думал,— заметил один из них. — Тебе не нравится рыба,— сказала она, я дам тебе сейчас другое блюдо. Я очень любил рыбу, но предоставил ей возможность делать то, что она считала нужным. Она вернулась с чем-то дымящимся в тарелке. — А почему в Сет? Она не ответила. Моряки также ничего не ответили. Я поднялся со своего места, поскольку увидел, как один из матросов подошел к бару и налил себе вина. Я сделал то же самое. Выпив стакан у стойки, я спросил, обращаясь ко всем: — А почему в Сет? Моряки опять ничего не ответили. Они решили, что мой вопрос обращен к ней. — А почему бы нет,— сказала она, оборачиваясь к морякам. Но я не заметил в их глазах согласия, напротив, чувствовалось, что они не одобряют этого решения. Я продолжал ждать. Она повернулась ко мне и тихо сказала: — Позавчера я получила письмо из Сета. Как только она произнесла это, моряки ушли. Мы остались вдвоем. Но совсем ненадолго. Пришел еще один матрос, убрал со столов и помыл стаканы. Он с любопытством поглядывал на меня. Ел я плохо. Она все время следила за мной, как и два дня назад, в траттории. — Ты не хочешь есть? — спросила она. — Да. Я сегодня не очень голоден. — Наверное, мы оба устали. Обычно я всегда хочу есть, но сейчас нет. — Наверное, устали. — Но если ты не ешь из-за того, что мы идем в Сет,— сказала она,— ты не прав. — Когда ты получила письмо? — Перед тем как идти на танцы. — Уже после завтрака? — Да, через час после того, как ты ушел в свою комнату,— она улыбнулась, избегая моего взгляда.— Я не получала ничего уже два месяца, а это — прямо как будто специально. — От кого оно? — От одного греческого моряка, Эпаминондаса. У него очень богатое воображение. Он прислал мне уже три письма за два года. Но чтобы не обидеть его, я не могу проигнорировать его письмо. У меня сразу пропал всякий аппетит. И она сказала с некоторой насмешкой в голосе: — Два Эпаминондаса на меня одну — это слишком. Поешь хоть чуть-чуть. Я немного поковырял вилкой. — Ты всегда ищешь только в портах? — В портах больше шансов найти, чем во внутренних городах. И не в Сахаре. И не в маленьких гаванях, а в больших. Знаешь, в устьях больших рек. — Поговори со мной,— попросил я. — В такие города заходят крупнотоннажные суда. Они часто служат приютом для беглецов,— сказала она и с улыбкой добавила: — Ешь, пока я говорю. — Продолжай. — Я много думала. Много лет моя голова только этим и занята. Только в больших портовых городах он в относительной безопасности, там можно затеряться среди других. Ведь хорошо известно, что с портами всегда связаны какие-то тайны. Ее голос звучал одновременно и робко и дерзко, как будто, она предупреждала меня, что все может оказаться ошибкой. — Я часто видел в кино,— сказал я,— что лучший способ для человека спрятаться — это раствориться среди себе подобных. — Да,— она улыбнулась,— в Сахаре, как ты понимаешь, нет полиции, но там также нет и тех, кого она ищет. Ну вот…— Она выпила свое вино и продолжила: — Плохо, если ты единственный, кто оставляет свои следы. Еще более худший тайник, чем Сахара,— леса. — Иногда мне кажется, что ты все же немного сумасшедшая. — Нет,— сказала она и после небольшой паузы продолжила: — Только в городах моряки из Гибралтара могут чувствовать себя в относительной безопасности.— Она легко поднялась со своего места и двинулась по направлению к бару.— Налью тебе еще немного вина. Всякий раз, когда она производила какое-то действие,— ела, подносила к губам стакан, вставала,— я с удовольствием смотрел на нее. Она вернулась, держа в обеих руках по стакану вина. — Единственная возможность для моряков из Гибралтара — это затеряться среди тысяч прохожих,— сказала она и тихо добавила: — Это итальянское вино. Я выпил. Вино оказалось, действительно, замечательным и мне понравилось. Я доставил ей этим удовольствие. — Ну и приключения,— сказал я смеясь. — Рассказ будет долгим. — Говори, сколько сможешь. — Только так человек, который скрывается, может как бы возродиться для нового существования в новых условиях. Ездить на метро, ходить в кино, спать в борделях или на скамейках в скверах, прогуливаться в относительном спокойствии. — Значит, вся твоя жизнь посвящена теперь поискам моряка из Гибралтара? Она встала и, ни слова не говоря, подошла к бару налить мне новый стакан вина. В помещение вошли парни, которых я еще не видел, и принялись разглядывать нового пассажира. Я пил свое вино. Я уже почти привык, что меня так пристально рассматривают. А она смотрела на меня, как всегда, чуть насмешливо и нежно. — Не так уж долго я ищу его.— И тихо, вроде и не обращаясь ко мне, спросила: — И как часто ты собираешься допрашивать меня? — Мне трудно перестать слушать тебя,— ответил я. Она еще раз встала, подошла к бару и вернулась со стаканом вина. — Будет лучше,— сказал я,— если ты принесешь сюда всю бутылку. — Действительно,— рассмеялась она,— я как-то не подумала. В своем лихом берете она напоминала моряка. Волосы падали ей на шею, выбиваясь непокорными прядями. Когда я выпил и этот стакан, она сказала: — Ты большой любитель вина.— Я ничего не ответил.— Я хочу сказать, что у тебя всегда хорошее настроение, когда ты пьешь вино. Она наклонилась надо мной, как будто то, что она сказала сейчас, имело особое значение. — Всегда,— сказал я.— Говори дальше. Она ожидала другого ответа, но ничем не выказала своего раздражения. — И только в таких портовых городах им легче не оставлять следов. Вернее, их следы запутываются и теряются в других следах, честных и бесчестных, даже если в них пытается разобраться полиция. Я почти не слушал ее. Я просто смотрел на нее. И она хорошо понимала то, что выражали мои глаза. — Как ты знаешь, в больших портах полиция менее проворная, чем в других местах, но более многочисленная и свирепая. Она ограничивается только наблюдением за иммигрантами, предпочитая это делать издалека, она беспробудно ленива. Моряки слушали с некоторым удивлением. Но в основном они были согласны с ней. — Это правда,— сказал один из них.— Они скорее оставят тебя в покое в Тулоне, чем в Париже. — И потом,— развивала она тему дальше,— в некоторых случаях гораздо спокойнее чувствуешь себя, когда море рядом, так ведь? — Она хотела, чтобы я вступил в разговор.— Когда у тебя нет семьи, вещей, документов, дома, полиция просто не знает, что делать; к тому же все это, так необходимое честным обывателям, становится обузой для таких, как он, ведь это не перенесешь на судно, а только там они чувствуют себя в своей тарелке. — Абсолютно во всех случаях,— заметил я. И засмеялся. Она тоже. А потом и моряки.— Даже в том случае,— добавил я совсем тихо, если не знаешь, сможешь ли заработать на жизнь. Она снова засмеялась. — Даже в этом случае,— заметила она. — А потом,— добавил моряк,— когда ты в Марселе, ты уже немного и в Диего. — Стоит только наняться помощником кочегара на первое отходящее судно. — Тем более что иногда корабль отходит внезапно,— сказала она,— и это одно из достоинств портов. Летом много туристов приходят поглазеть в гавань. Но что они знают об этих местах? — Вижу, у тебя большой опыт преступного прошлого,— смеясь обронил я. Не обращая внимания на мою реплику, она продолжала: — Но обычно от глаз любопытных скрыты маленькие улочки, проходные дворы, которые дают прекрасную возможность убежать от преследования. Есть много обманчивого в приморских городах… — Ну и что же дальше? — Больше я не выхожу на берег. Яхта все та же. Изменено только название. Зачем сходить на берег? Кому надо, увидит яхту, разве не так? Это больше, чем я… — Прекрасно придумано,— согласился я. Моряк включил радио. Передавали плохой джаз. — Возьми, пожалуйста, сыр. Я встал и пошел за сыром. Она тоже встала. — Больше я не хочу говорить,— сказала она. — Покажи мне, где моя каюта? — попросил я. Она перестала есть и посмотрела на меня. Я ел сыр. — Конечно,— сказала она мягко,— я сейчас покажу тебе. — Я хочу есть. Не съесть ли мне фрукты? — Она не взяла себе фрукты и опять пошла за вином.— Скажи-ка…— Она снова наклонилась надо мной. Берет упал у нее с головы. Было уже поздно. — Что тебе сказать? — Тебе нравится море? Я хочу сказать… Тебе не хуже здесь, чем в другом месте? — Еще не знаю,— сказал я, неожиданно для самого себя засмеявшись,— но думаю, что понравится. — Пойдем, покажу тебе твою каюту. Мы спустились в твиндек [6]. На юте находилось шесть кают. Четыре из них были заняты. Она зашла в шестую, с левого борта, которая, видимо, долго пустовала. В ней стояла единственная кушетка. Каюта соседствовала с ее собственной. Зеркало в каюте давно не протиралось. Умывальник был покрыт тонким слоем угольной пыли. На кушетке отсутствовала постель. — Давно в ней никто не жил,— заметил я. Она прислонилась спиной к двери. — В ней почти никто не жил,— сказала она. Я подошел к иллюминатору. Из него было видно море, а не межпалубное пространство, как я подумал. Я подошел к умывальнику и отвернул кран. Сначала потекла ржавая вода, потом почище. Я сполоснул лицо. И почувствовал себя так же, как тогда, когда проснулся под платаном в ожидании отхода поезда с Жаклин, как будто я опять получил солнечный удар. Она следила за моими движениями. — Похоже, у тебя солнечный удар,— сказала она. — Нет, это было тогда, когда я ждал, чтобы отошел поезд. Я долго лежал на солнце. — Позавчера ты был очень пьяным за завтраком. Ты встал и хотел идти, но не мог и все время садился. Но выглядел ты очень счастливым. Я не могу припомнить, чтобы у кого-нибудь когда-нибудь видела такое счастливое лицо. — Я действительно чувствовал себя в высшей степени счастливым. — После завтрака я поискала тебя вокруг траттории. Мне хотелось снова увидеть тебя. Я чувствовала, что ты не привык быть счастливым. Ты и сам удивился. — Это все вино. Я очень много выпил. Из-за этого я и получил проклятый солнечный удар. — Тебе не следовало мыться. Надо смазать лицо кремом. Вода освежила меня, но когда я попытался вытереться, то обнаружил, что до кожи не дотронуться. Она болела от ожога. Тогда я опять сполоснул лицо. Казалось, что кожа на лице расцарапана. Уже два дня у меня болело лицо. — Пойду принесу тебе крем. Она вышла. На несколько минут в каюте стало тихо как в могиле. Я больше не споласкивал лицо. Я ждал. И в этой тишине отчетливо услышал вибрацию винта и плеск воды о корпус судна. Мне следовало бы удивиться, но я не чувствовал удивления, оттого что ее больше не было в каюте. Но она очень быстро вернулась. Я помазал кремом лицо, снова вымылся и опять намазал лицо. Она легла на кушетку, положив руки под голову. Я повернулся к ней. — Ну и приключение,— сказал я, рассмеявшись. Мы надолго замолчали. — Ты не очень разговорчив,— заметила она. — Он тоже был не болтлив, разве не так? — В Париже он немного говорил со мной. Но ведь это не повод. — Нет. Но я не убийца. И однажды я все расскажу тебе. Но сейчас мне надо прийти в себя. — И все-таки очень глупо оставлять вещи. Внезапно она рассмеялась, вспомнив что-то. — Был у меня один…— начала она. Она замолчала, покраснев. — Что это значит? — Извини, я бываю не права,— сказала она, опустив глаза и задумавшись.— Был один,— она улыбнулась,— который поднялся на борт с очень большим чемоданом. Я подумала, что у него просто нет маленького. Но чемодан был просто огромный. На следующий день он появился на палубе в белоснежных брюках. Еще через день в белой шапочке с козырьком. Матросы прозвали его «господин начальник вокзала». Потом он уже и сам тяготился такой жизнью и хотел сойти на берег, снял с себя свою каскетку, но было уже поздно. — Вот видишь,— сказал я,— значит, у меня нюх. Она засмеялась, и я вместе с ней. — А другие тоже приносили что-нибудь с собой? — Нет,— ответила она. Бывают случаи, когда не хочется иметь то, к чему всю жизнь стремился, равно как и не хочется потерять то, что больше не желаешь иметь. Но ее не мучили такие проблемы. У нее имелись свои трудности, отличные от моих. В свою каюту она вернулась очень поздно, глубокой ночью, намного позже, чем этого требовала моя роль рядом с ней.

Остаток ночи я почти не спал. Я проснулся около десяти часов и отправился в столовую выпить кофе. Там завтракали два матроса. Мы поприветствовали друг друга. Я видел их накануне за обедом. Казалось, они привыкли к моему присутствию на борту. Выпив кофе, я вышел на палубу. Солнце стояло уже высоко. Вместе с легким бризом веяло необыкновенной радостью. Выйдя на палубу, я тотчас прислонился к двери бара, поскольку меня просто ослепила сверкающая синева моря. Я обошел по палубе все судно. Ее нигде не было, она еще не встала. Я прошел на нос и увидел там маленького брюнета, который улыбался мне вчера. Он занимался починкой канатов, развлекая себя песней. — Хорошая погода,— заметил я. — У нас в Сицилии,— сказал он,— море всегда такое. Я устроился рядом с ним. Его звали Бруно. Бруно обрадовался возможности поболтать. Он сообщил, что нанялся на яхту два месяца назад, в Сицилии, заменив матроса, который высадился в Сиракузах. А до этого он служил юнгой на торговом судне, которое перевозило апельсины из Сиракуз в Марсель. — Совсем другое дело — плавать на яхте. Здесь почти нечего делать, и иногда я сам придумываю себе работу.— Он показал на связку канатов. Яхта скользила вдоль берега — узкой ровной полосы с зеленевшими на горизонте холмами. — Корсика? — спросил я. — Ска-а-а-жете! Еще Италия. Он показал пальцем на берег. Впереди виднелся большой город с трубами вдали. — Ливорно,— сказал он. — А где Сет? — Сет — это с другой стороны,— заметил он.— Но на море так хорошо, что она наверняка захочет продлить удовольствие. — Мы отклонились в сторону после того, как прошли Пьомбино,— сказал я. — Скорее всего мы сейчас на уровне Неаполя,— по-прежнему смеясь, ответил он. Я взял небольшую веревку и машинально намотал ее себе на руку. — Позавчера я видел вас на танцах,— произнес он вдруг. У меня создалось впечатление, что он нечасто видел таких, как я. — Я познакомился с ней всего три дня назад.— Он бросил на меня несколько смущенный взгляд и промолчал.— Я здесь так,— объяснил я,— пережидаю… — Ясно. Он любил поболтать. Он поведал мне, что знает историю моряка из Гибралтара. Ему рассказывали ребята из команды. Все это достойно восхищения, но он не понимал, почему тот убил американца и почему она ищет его таким способом. — Она говорит, что ищет его, как будто можно найти кого-нибудь вот так, путешествуя по всему миру. По-моему, это одни разговоры. — Тогда чем объяснить, что она путешествует из порта в порт? — Да, конечно, это трудно объяснить, но, может быть, она просто путешествует. — Так он убил американца? — Одни говорят, что это американец, а другие — что это не американец. Много всего говорят… — А в общем, какая разница, кто он, американец или там англичанин… — И правда,— сказал Бруно, улыбаясь,— по-моему, она это делает от скуки. — На судне, мне кажется, больше заскучаешь, все время одна. Его лицо приобрело одновременно веселое и смущенное выражение. — Все время одна она не всегда. Возможно, она иногда скучает, но больше о чем-то другом, чем о нем.— Я не возражал. Это приободрило его.— Но рано или поздно она прекратит поиски. Не будет же так продолжаться всю жизнь. Никто не может постоянно жить на судне. Тот, кого я сменил, говорил мне, я ему не поверил, но теперь и сам вижу. Он объяснил, что она очень много платит матросам, в три раза больше, чем обычно, за гораздо меньшую работу. Это, конечно, здорово, но по прошествии двух, трех, шести месяцев все уходят от нее, особенно молодые. Хотя остаются с ней в самых лучших отношениях. — Нельзя все время искать и не находить, это невозможно.— И в замешательстве он добавил: — Вы сами увидите. Ничего не делать за такие деньги тоже оказалось трудно. Приходим куда-нибудь, совершенно непонятно, по какому признаку, ну иногда где-то бывает какое-то сообщение, но это редко. Так вот, приходим куда-нибудь, бросаем якорь и ждем. Чего? Того, что он узнает яхту и придет на борт. Потом он рассказал, что один раз пришли в Виареджо, где долго стояли, ничего не делая. Только смотрели, как другие матросы разгружали судно, прибывшее с сыром. И больше ничего. — Но для нее,— сказал я,— все по-другому. Что она будет делать, если оставит судно? — Придумает что-нибудь,— ответил Бруно,— это все разговоры. — Да, наверное. — Но наступит день, не сегодня — завтра, вот увидите, когда ей осточертеет все это. — А как вы думаете, есть у нее какой-то шанс? — На что? — Найти его. — Спросите у нее сами,— сказал он с досадой в голосе,— если это так интересует вас. — Да нет. Я просто так спросил. Мы снова заговорили о моряке из Гибралтара. — Я не верю в эти россказни. Якобы это был необыкновенный роман. И будто бы она получает от кого-то письма и телеграммы. Его где-то видят, но его нигде нет. — Это лучше, чем ничего,— сказал я. — Но ничего нельзя знать точно. — Да ничего толком никто и не знает. Но ведь на земле столько мужчин, миллиарды.— Я помолчал, потом продолжил: — И все же есть люди, которые знают, что она ищет его, значит, не одна она его ищет. Ей помогают. — Думаю, что во всех самых крупных портах мира знают, что она его ищет. Но может, он не хочет, чтобы она его нашла. Неужели ей самой не приходит это в голову? — Полагаю, она тоже подумывает об этом,— сказал я. Но собственная судьба волновала его больше, чем все остальное. Он уже хотел уволиться с судна. — После Сета,— сказал он,— я увижу, чем смогу заняться. Но ребята говорят, что я обязательно вернусь обратно, что все возвращаются. Сначала уходят, а потом возвращаются. Наверное, это странно, но все ее матросы возвращаются. Проходит месяц, два, и они снова приходят наниматься на яхту. Рулевой, например, возвращался три раза. Эпаминондас, тот, которого мы увидим в Сете, уже третий раз придет сюда. — Но она-то понимает, что они уходят? — О, что же ей не понимать… — Она вам не очень нравится? Он удивился. — Нет, это не так, хотя я, действительно, думаю, что она насмехается над людьми. — У меня не сложилось такого впечатления. — А у меня сложилось,— сказал Бруно,— и я ничего не могу с этим поделать. И по-видимому, я уйду отсюда в Сете. Мне вдруг захотелось, чтобы она услышала все, о чем мы говорили здесь. — Всегда надо делать то, что хочется делать,— сказал я. — Иногда, я даже не знаю почему, но мне бывает немного стыдно, да, именно так, находиться на этом судне. — Надо найти то, от чего не будет стыдно. Я оставил его и, отправившись на твиндек к ее каюте, стал ждать. У меня не было другого желания, кроме как ждать. Я вспомнил, как хотел чистить медяшки, и эта мысль показалась мне смешной и наивной. Что я могу делать здесь? Я столько лет работал в мрачном помещении конторы, что могу позволить себе больше ничего не делать, а только ждать, когда женщина выйдет из своей каюты на солнечную палубу. Многие мужчины хотели бы быть на моем месте. Я рассматривал мое теперешнее положение как компенсацию за многолетний тягостный труд. Наконец она вышла из каюты. Подошла ко мне. И я вынужден был закрыть глаза, как в то утро, когда увидел море. Она находилась в прекрасном расположении духа. Ее переполняла какая-то детская радость. — Скоро придем в Ливорно,— сказала она. Позже я понял, что ее всегда занимали расстояния между портами и ей нравилось называть их по мере приближения. Видимо, ей казалось, что таким образом они сокращаются: ведь она путешествовала уже три года. — А когда будем в Сете? — спросил я. Она улыбалась, вглядываясь в морскую даль. — У нас есть время,— ответила она. Я тоже смотрел по направлению ее взгляда. Вдалеке показался Ливорно. — Но ведь тебя ждут в Сете, разве нет? — Я предупредила Эпаминондаса. — Когда? — Вчера вечером, перед отходом. — Ты не очень серьезна,— заметил я, сделав неудачную попытку рассмеяться. — Да, я такая. Стоит ли говорить об этом из-за одного-то раза, что это изменит? Мы помолчали. Она держала в руках карту, и я попросил показать мне ее. Эту складную карту, обернутую прозрачной пленкой, она заказала в Южной Америке. На ней были обозначены только контуры континентов, но с предельно точными очертаниями берегов и точками поселений. Она показала мне Рокку — маленькую точку, затерянную среди тысяч других на итальянском побережье. На ней также были указаны морские глубины и течения, а континенты были пустыми и белыми, как и моря. Карта имела вид перевернутого атласа мира, как бы негатива Земли. Она говорила, что знает ее наизусть. — Думаю, что знаю каждое место, где бывала, так же хорошо, как и тот, кто живет там,— сказала она. Мы лежали на шезлонгах, лицом к бару. Все мужчины на борту что-то делали. Я составлял единственное исключение. И время от времени эта мысль свербила меня. — Если хочешь, в следующей гавани мы сойдем на берег,— предложила она. Она надела солнцезащитные очки и смотрела на море, дымя сигаретой. Она умела это делать — сидеть и курить, читая или не читая, просто ничего не делая. — Расскажи мне о других,— попросил я. — Ты опять будешь заставлять меня рассказывать? — По вечерам,— сказал я с некоторой неуверенностью,— тебе не хочется говорить. — Что тебе другие? — Тебе не хочется о них говорить? — Нет, но я хочу, чтобы ты объяснил, почему тебе хочется знать о них. — Во-первых, потому, что я любопытен, а во-вторых, пожалуй, потому, чтобы я не думал, что являюсь единственным в своем роде. Мы оба засмеялись. — Среди них были всякие. Я совершила много ошибок. — Вот мне и хотелось бы знать, какие ошибки ты совершала. — От самых грубых до самых смешных,— вздохнула она,— но иногда я думаю, что, если бы не было этих ошибок, это была бы не я… — Если бы никого не брала с собой? — Конечно. Было время, когда я могла взять на судно кого попало, как ты говоришь. — Я не сказал, кого попало. — Я хочу сказать, людей, которые не подходили мне. — Но были и такие, которые подходили тебе больше, чем другие? На этот раз она не засмеялась. — Кто знает? — Начинай,— поторопил ее я,— был один, который… — Был один, который с самого первого дня прочно расположился в каюте, он уже устроился. Он поставил на полку любимые книги, кажется полное собрание сочинений Бальзака. Над умывальником разложил туалетные принадлежности. Среди них я заметила несколько флаконов королевской лаванды «Ядли». Когда он увидел, что я удивлена, он стал объяснять, что не может обойтись без лавандовой воды «Ядли». Что не уверен, удастся ли найти ее во время путешествия, и на всякий случай запасся несколькими флаконами.— Она засмеялась.— Вот мои ошибки. — А еще какие? — О, если рассказывать обо всех, мне надо выпить еще! — Подожди… Я побежал в бар и вернулся с двумя порциями виски. Она выпила свою. — Обычно,— сказала она в некотором замешательстве,— я просила их помочь мне в поисках. Они говорили, что согласны. И всегда соглашались уехать. На три дня я их оставляла в покое, чтобы они как следует подумали. Через три дня я замечала, что они ничего не поняли. Я выпил свое виски. — Однако необходимо суметь все понять, даже если тебе не оставляют на это трех дней. Мы засмеялись. Она развеселилась больше меня. — Они спрашивали: «Что надо делать? Я готов на все, чтобы помочь тебе». Но если мы предлагали поставить подметки на обувь всего экипажа, они отказывались, заявляя, что это не то, что от них требуется. — Не выпить ли нам еще? Она никогда не отказывалась от выпивки. Я опять пошел в бар и опять принес два виски. — Продолжай. — Был еще один. Как только он поднялся на борт, то сразу установил свой собственный график жизни. Здоровье, говорил он, это регулярность во всем. Каждое утро он делал зарядку на верхней палубе. Я потягивал свое виски. — Как-нибудь я напишу тебе американский роман,— сказал я. — Почему американский? — Из-за виски. Виски — это так по-американски. Давай дальше. — Потом был еще один, который оставался на судне три недели. Очень молодой, очень бедный и очень красивый. Он не имел почти никаких личных вещей, не говоря уж о белых штанах или одеколоне. Но он никогда не смотрел на море, а из каюты выходил только в случае крайней надобности. Он читал Гегеля. Однажды я спросила его, интересно ли это. Он ответил, что философия — единственный настоящий капитал. И добавил, что если бы я смогла прочитать это, то многое бы поняла в себе самой. Это показалось мне, ну не знаю… неоправданной самоуверенностью, что ли. Он много читал, говорил, что вряд ли ему когда-нибудь в жизни еще представится такой случай и будет столько свободного времени. Я дала ему много денег, столько, что он сможет, не работая, целый год читать Гегеля. Он мог бы до сих пор оставаться на борту… Она допила виски. — Мы опьянеем,— сказала она. — Чуть больше, чуть меньше, какая разница? — Ну и ну, никогда я еще не брала с собой такого пьяницу. — Никогда? — Можно сказать,— ответила она смеясь,— что такую ошибку я еще не совершала. — Такие, как эта, еще впереди,— тихо смеясь, сказал я. — Так можно сделать карьеру, сплошь состоящую из ошибок. — Продолжай… — Было много и других. Я тебе говорю только о самых забавных. Был такой, который в первый же вечер заявил: «Ну, расскажи мне, что это за история с сумасшедшим?» Я спрашиваю: «Какая история?» А он мне: «Ну, об этом моряке из Гибралтара?» А мы еще даже не вышли из порта, там он и узнал все. Она смеялась так, что даже потекли слезы. Она подняла свои солнечные очки и вытерла глаза. — Другой,— она уже не могла остановиться,— на третий день вышел с фотоаппаратом. «Это „лейка“,— сказал он мне.— У меня есть еще „роллейфлекс“ и небольшой „цейс“, не самый современный, но мне нравится больше остальных». И он прогуливался по палубе то с «роллейфлексом», то с «лейкой», то с «цейсом» в ожидании, как он говорил, интересных морских явлений. Он хотел сделать альбом морских видов. Я молчал. Пусть она говорит сколько хочет. — Самый ужасный был тот, который верил в Бога. Он утверждал, что истинная суть вещей не видна с земли, ни даже с моря, ее вообще трудно увидеть. Я сомневалась в этом, никто из команды его тоже не поддерживал, но он каждый день расспрашивал всех о личной жизни. Тем не менее я думаю, что Лоран заметил что-то раньше меня. Однажды я напоила его допьяна. И он начал говорить. Он говорил, говорил, я подбадривала его, и в конце концов он сказал, что Моряк из Гибралтара убийца, что он несчастный человек, он вызывает жалость, и молиться за него — значит быть угодным Богу. — И что ты сделала? — Ничего особенного. Я очень рассердилась в тот раз. — Ты уверена, что какие-то вещи кажутся не такими, какими они являются на самом деле? — Не всегда,— она поколебалась,— я знаю, что мой долг не выбирать, не раздумывать и не поступать с оглядкой и предосторожностями. Я допил второе виски. Сердце мое учащенно билось, вероятно, из-за виски и из-за того, что мы очень долго лежали на солнце. Внезапно она расхохоталась. Она что-то вспомнила. — А был один, который в первый же вечер сказал: «Уедем, дорогая, забудь этого человека. Ты сама делаешь себя несчастной».— И она опять расхохоталась.— Другой отличался редким аппетитом. Он не страдал его отсутствием еще на земле, но на борту аппетит стал у него просто невероятный. Он считал, что мы очень мало едим, и между завтраком, обедом и ужином постоянно ходил на камбуз и ел бананы. Здоровьем его Бог явно не обидел. Он обожал эпикурейскую жизнь и хотел перенести ее на борт судна. — Ты прямо коллекционируешь их,— усмехнулся я. — Другой, тоже очень милый, как только мы отчалили, сказал: «Ой, за нами следует косяк рыбы». За нами действительно следовал косяк сельди. Ему объяснили, что это отнюдь не редкое явление, что один раз в течение восьми дней нас преследует стая акул. Но он думал только о селедках. Он прямо помешался на них. Он очень хотел, чтобы остановили судно и он мог бы поймать несколько рыб на удочку. Она замолчала. — Продолжай. — Больше нет забавных. — Ну давай про не очень забавных,— засмеявшись, сказал я таким тоном, что она все поняла. — Ах да, забыла еще одного. Того, который все мечтал, чтобы на судне блестели медяшки, он любил свежий воздух и медяшки. И всю свою жизнь ждал… — Чего? — спросил я. — Не знаю, чего ты ждал? — Того же, что и все. Чего ждут все остальные? — Моряка из Гибралтара,— засмеялась она. — Вот именно,— сказал я,— один я бы никогда не нашел его. Мы помолчали. А потом я неожиданно вспомнил о том, который сказал ей: «Уедем, дорогая, забудь о нем»,— и расхохотался. — О чем ты думаешь? — спросила она. — О том, который сказал тебе: «Уедем, дорогая». — А о том, который мечтал только о селедках? — А что им было делать? Все время обшаривать биноклем горизонт? Она подняла очки и посмотрела на море. А потом сказала очень просто и доверительно: — Я и сама не знаю. — Они не были серьезными людьми. — О! — улыбаясь, произнесла она,— это то самое слово, и ты нашел его. — Я так и понял. — Что именно? — Что не следует приносить с собой фотоаппаратуру, одеколоны, произведения Бальзака и Гегеля. А также коллекцию почтовых марок, кольцо с выгравированными инициалами, рожок для надевания обуви, утюг, хороший аппетит, привязанность к бараньему рагу, заботу о семье, оставленной на берегу, мысли о собственном будущем, воспоминания о невеселом прошлом, страсть к рыбной ловле, желание жить по распорядку, любовную привязанность, собственный опыт, морскую болезнь, чрезмерную болтливость, равно как и чрезмерную молчаливость. Она слушала, глядя на меня круглыми глазами. — И это все? — Разумеется, я забыл кое-что. Потому как, предубежденный против всего вышеперечисленного, уж и не знаю, что еще надо или, напротив, не надо, чтобы остаться на этой яхте, и можно ли вообще остаться на ней. — Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь,— смеясь сказала она.— Если ты будешь описывать все это в американском романе, никто ничего не поймет. — Я хочу только, чтобы что-то поняли люди, находящиеся на этом судне. Это уже много. Невозможно, чтобы все всё понимали. Невозможно, да и не нужно. — Я никогда не замечала,— сказала она,— что люди, находящиеся на этом судне, обладают особой проницательностью. — И все же у них должна быть совершенно особая проницательность.— Я выпил целых два виски, не имея привычки к этому напитку.— Короче, ты красивая шлюха. Это ее совсем не покоробило. — Пусть так, если тебе хочется. Шлюха. — Я думаю, что это правда. — Я тоже так думаю,— произнесла она и улыбнулась. — Ты действительно не можешь обойтись без… этих ошибок? — Она смутилась, опустила глаза, не отвечая на мой вопрос.— Это, наверное, он зародил в тебе особую потребность в этих ошибках? — Наверное. — Это усложняет жизнь. — Но если никогда не делать ошибок, жизнь станет совсем невыносимой,— сказала она с грустью. — Говоришь как по-писаному,— усмехнулся я.

После полудня я долго не выходил из своей каюты, лежа на кушетке и находясь под действием выпитого виски. Мне очень хотелось спать, но, как только я растянулся на койке, сон улетучился. Я попытался читать. Но и это мне не удалось. Та единственная книга, которую я мог бы читать, еще не была написана. Тогда в раздражении я бросил книгу на пол. Затем уставился на нее, и меня охватил смех. Половина ее страниц перевернулась, и при желании в лежащей книге можно было увидеть существо, которому только что набили морду. Она, должно быть, спала. Эта женщина спокойно спала после двух виски, забыв обо всех. О том, который хотел ловить селедку, о том, который уговаривал ее бросить все и уехать с ним, и даже, наверное, о том, который читал Гегеля. Я лежал, и меня разбирал смех, на меня иногда находило такое. С большой вероятностью мое веселье объяснялось тем, что передо мной опять встал вопрос о будущем. Что я буду делать после небольшого — я в этом не сомневался — срока передышки? У меня, как и у многих, имелась привычка задумываться о собственном будущем. Но очень быстро мой брат, озабоченный навязчивой идеей выловить несколько селедок, занял мое воображение. Мне захотелось побольше разузнать о нем, мне нравились люди такого типа. Наверное, он чувствовал себя не в своей тарелке, находясь наедине с женщиной и пустынным горизонтом. Еще бы, посреди Тихого океана, в восьми днях хода до ближайшей гавани, могут охватить необоснованные страхи. Однако сам я не очень боялся. Я долго лежал, думая обо всех этих историях. Затем я услышал ее шаги. Она постучалась и вошла. В сущности, я не переставал ее ждать. Она сразу же увидела книжку, лежащую на полу. — Я заснула,— сообщила она и подняла книгу.— Ты бросил книгу? — Я не ответил. А она добавила озабоченно: — Может, тебе все уже наскучило? — О нет, не надо делать преждевременных выводов. — Если ты не любишь читать, то я почти уверена, что скоро тебе все надоест. — Не начать ли мне читать Гегеля, а? Но она не засмеялась, а замолчала. Потом опять заговорила: — Ты уверен, что тебе не наскучит такая жизнь? — Уверен. Возвращайся в свою каюту. Она не слишком удивилась. Но и не вышла. Я смотрел на нее молча. Слова и жесты не значили ничего. Потом опять попросил ее уйти. На этот раз она ушла. Я тоже вышел, сразу же вслед за ней, и направился к Бруно, который все так же сидел и распутывал канаты. Я уселся прямо на палубу рядом с ним. Он был не один. Рядом с ним находился другой матрос, который перекрашивал лебедку. Я дал себе слово иногда по вечерам лежать на палубе. Нередко мечтал об этом в своей прежней жизни — спать на палубе судна. И еще: мне необходимо чаще бывать в одиночестве. Чтобы больше не ждать ее. — Вы устали? — полувопросительно, полуутвердительно заметил он. Я засмеялся. Бруно улыбнулся. — Эта женщина утомила меня.— Другой матрос совсем не улыбался.—А кроме того,— продолжал я,— я много в жизни работал. И первый раз ничего не делаю. Оказывается, это очень изнурительно. — Я говорил вам,— сказал Бруно,— что эта женщина утомляет. — Все утомляют,— добавил другой матрос. Я видел его вчера в столовой. На вид ему было около тридцати пяти, и он чем-то напоминал цыгана. Он показался мне наименее говорливым из всех. Она сказала, что он на корабле больше года и, кажется, пока не собирается уходить. Бруно отошел, и мы остались вдвоем. Прямо против нас садилось огромное багровое солнце. Он продолжал красить лебедку. Она называла его Лоран. Накануне в столовой он смотрел на меня скорее с симпатией, чем с любопытством. — У вас уставший вид,— сочувственно произнес он. Но его тон отличался от тона, каким сказал об этом Бруно. В его голосе не звучало вопроса. Я ответил ему, что да, устал. — Что-то новое всегда утомляет. Мы помолчали. Он все красил и красил свою лебедку. Медленно спускались сумерки. — Мне очень нравится на этом судне,— сказал я. — Чем ты занимался раньше? — Работал в Министерстве колоний, в отделе гражданских актов. Я работал там восемь лет. — И чем ты там занимался? — Копировал акты о рождении, смерти. Целый день. — Ужасно,— сказал он. — Ты не можешь себе представить. — Теперь все изменилось,— сказал он. — Ради такой жизни.— Я засмеялся.— А ты? — спросил я его в свою очередь. — Понемногу занимался всем. Но ничем постоянно. — Это самое то… — Да. Мне тоже нравится на этом судне.— У него были очень красивые смеющиеся глаза. — Забавно,— сказал я.— Если бы я прочитал эту историю в книге, я бы не поверил. — Ее историю? — Да. — Она — романтическая женщина. Он засмеялся. — Да, романтическая.— Я тоже засмеялся. Мы поняли друг друга. Сумерки сгущались. Судно все время шло вдоль итальянского берега. Я показал ему на светящийся над морем пар. — Ливорно? — Нет. Я не знаю. Ливорно уже прошли,— сказал он и добавил тоном знатока: — Похоже на то, когда подходишь к Сету. — Похоже,— смеясь повторил я и после паузы продолжил: — Она богатая. Он перестал смеяться и ничего не ответил. — Это правда,— сказал я еще раз,— она богатая. Он перестал красить и пробурчал немного грубовато: — Что ты хочешь от нее? Чтобы она все отдала бедным маленьким китайцам? — Нет, конечно. Ну я не знаю, как-никак эта яхта… Он прервал меня. — Думаю, это лучшее, что она могла сделать. Почему бы нет? — И он продолжил наставительным тоном: — Может быть, это одна из главных удач в мире, когда человек может делать то, что хочет. — Ах,— сказал я смеясь,— прямо исторический случай. — Если тебе хочется, можно выразиться и так, исторический случай. На горизонте стояло огромное солнце. Мгновенно оно стало красным. Поднялся легкий ветерок. Говорить больше было не о чем. Он опустил свою кисть в банку со скипидаром, потом закрыл ее и закурил сигарету. Мы оба посмотрели на берег, загоравшийся вечерними огнями. — Обычно, когда она получает сообщение, то не делает заходов в промежуточные порты. Он посмотрел на меня. — Это небольшой крюк,— заметил я. — Я-то ничего не имею против этих заходов. Я решил переменить тему разговора. — А Ливорно,— спросил я,— недалеко от Пизы? — Двадцать километров. Ты был там? — В Пизе, да. Всего восемь дней назад. Она здорово разрушена. Но площадь, к счастью, уцелела. Там стояла невыносимая жара. — Ты был в Рокке с женщиной,— сказал он.— Я видел тебя у Эоло. — Да. Она вернулась в Париж. — Ты правильно сделал, что пошел с нами. — А что будет после Ливорно? — Пьомбино. Там мы наверняка сделаем остановку. — Мне надо бы взглянуть на карту. Он опять внимательно посмотрел на меня. — Это странно, но я думаю, что ты останешься с нами на яхте. — Я тоже так думаю,— ответил я. И мы оба засмеялись, словно это была удачная шутка. Потом он ушел. Сумерки все сгущались. Я знал ее уже четыре дня и три ночи. Я не желал идти к себе. Мне хотелось увидеть несколько портов, которые мы пройдем до наступления полной темноты, и посмотреть, как спустится ночь. Сумерки окутали палубу и море. А небо долго оставалось светлым. Я постоял еще немного, а потом, сломленный усталостью,лег прямо на палубе и провалился в глубокий, но тревожный сон. Проснулся я, наверное, через час. Мне хотелось есть. Я пошел в столовую. Она была там. Она улыбнулась мне, и я сел рядом с ней. Лоран тоже был там. Он дружески кивнул мне. — У тебя такой смешной вид,— сказала она. — Я уснул прямо на палубе, я никогда еще не спал так. — Ты все забыл? — Все. А проснувшись, ничего не понял. — Больше ничего? — Совсем ничего. — А сейчас? — А сейчас я хочу есть. Она взяла мою тарелку и встала. Я пошел за нею в бар. Там еще оставалась жареная рыба и баранье рагу. Я положил себе рагу. — Если ты в море, это отнюдь не означает, что надо все время есть рыбу,— прокомментировал я свой выбор. Она засмеялась. Я почувствовал, что изрядно проголодался. Она наблюдала, как я ем, стараясь делать это незаметно. — Свежий воздух,— изрек я,— способствует аппетиту. Она снова засмеялась. У нее было очень хорошее настроение. Поговорили с матросами о том о сем. Одни из них изъявляли желание попасть в Сицилию, прежде чем идти в Сет. Другие, принимая во внимание жару, предпочитали отклониться к северу на широту Пьомбино. Никто не говорил о том, что будет после Сета. Обед закончился. Я вышел на палубу. Она подошла ко мне. — Боюсь пропустить все это.— Я указал на расстилающиеся перед нами просторы.— К тому хочется сойти на берег и увидеть это вблизи. — Я искала тебя и нашла возле лебедки. Ты спал, и я не стала тебя беспокоить. Я показал на точку, сверкающую на берегу. — Кверчинелла,— сказала она. — Пойдем посидим в шезлонгах. Я принесу тебе виски. — Мне не очень хочется рассказывать.— Она посмотрела на меня умоляющим взглядом. — Ну,— я был непреклонен,— придумай что хочешь, но надо, чтобы ты рассказывала. Мы подошли к шезлонгам. Она со вздохом села в один. А я направился за виски и быстро вернулся обратно. — … Это продолжалось шесть месяцев? — Что об этом рассказывать… — Ты вышла замуж за хозяина яхты, стала богатой, прошли годы… — Три года,— поправила она. — Потом ты встретила его… — Я встретила его. Я встретила его именно тогда, когда начала думать, что забыла его и что уже могу жить не только воспоминаниями о нем. Внезапно она повернула голову ко мне и замолчала. — Что бы ни случилось,— сказал я,— никогда не надо отчаиваться. Она выпила свое виски. Потом отвела взгляд от меня и долго в молчании смотрела в сторону итальянского берега. Я не торопил ее, зная, что она заговорит, когда сочтет нужным. Она опять повернулась ко мне и сказала с мягкой иронией: — Если ты будешь рассказывать об этой встрече в твоем американском романе, не забудь написать, что она имела для меня большое значение. Когда я увидела его, мне стало совершенно ясно то чувство, которое он мог питать ко мне, я поняла, что мне надо встретить кого-то еще, что я должна искать новых встреч… — Кого же ты хотела встретить? — Не знаю. Этого я не знаю. — Я скажу тебе. — Это не из области литературы. Просто мне необходимо было пройти через это, чтобы что-то понять. — Об этом я тебе тоже скажу.— Она улыбнулась.— Все понятно. Я тебе скажу и об этом,— повторил я. — Это произошло зимой в Марселе. Мы пристали к берегу, чтобы немного развлечься. Была ночь, около пяти утра. В это время ночи длинные и темные. Наверное, эта ночь походила на ту, шесть лет назад, когда он совершил преступление. Тогда я еще не знала какое, кроме того, что тот, кого он убил, был американцем. Нас было четверо. Мой муж и наши друзья. Мы провели ночь в кабаре, на маленькой улочке, которая спускается прямо к площади Канебьер. Встреча стала возможной только потому, что автомобиль мы поставили не на этой маленькой улочке, а на площади. Просто потому, что там не оказалось места. И вот, когда мы шли к автомобилю, встретили его. Мы вчетвером вышли из кабаре. Было пять часов утра. Светлые кружки от фонарей, горящих рядом с кабаре, поглощались густым мраком черной, безлунной ночи. Я могу повторить все подробности, предшествующие этой встрече. Вслед за нами кабаре закрылось. Мы последними покинули его. Мы всегда бываем последними. И конечно, самыми праздными. Я просто была прожигательницей жизни, которая каждый день не просыпалась раньше полудня. Кругом — ни души. Марсель совсем опустел. И вот мы спускаемся по узкой улице к автомобилю. Наши друзья шли впереди нас. Предрассветный холод торопил их, и они шли быстро. Мы не прошли и пятидесяти метров, как увидели, что какой-то мужчина повернул на улочку с площади Канебьер и поднимается навстречу нам. Он шел быстро. В руках держал небольшой чемоданчик, видимо совсем легкий. При ходьбе чемоданчик прямо-таки болтался у него в руках. Одет был легко, не по сезону, на нем не было даже плаща. Я остановилась. Удивившись, муж спросил меня: «Что случилось?» Но я не могла ничего ответить. Словно пригвожденная к месту, я смотрела, как он приближается. Помнится, муж повернулся и, в свою очередь, стал смотреть на него. Но не узнал его. Он тоже, конечно, сыграл известную роль в жизни мужа, но тем не менее муж не узнал его издалека и терялся в догадках, что помешало его жене идти и говорить. Наши друзья тем временем продолжали путь и не заметили, что мы отстали от них. Он на какую-то долю секунды задержался на месте, огляделся и внезапно направился к нашим друзьям стремительным шагом. Подойдя к ним, он остановился. И стал что-то быстро говорить им. Мы с мужем находились где-то в нескольких метрах от разыгравшейся сцены. Я не слышала всего, что он говорил, я расслышала только первое слово. Он спросил: «English?», произнеся это громко, вопросительно. Остальное он говорил тихо. В одной руке он держал чемоданчик, а в другой что-то небольшое, похожее на конверт. Его лицо отличалось бесстрастностью. Прошло несколько секунд, пока наши друзья поняли, о чем идет речь. Неожиданно тишину пустынной улицы взорвало мерзкое ругательство. Я расслышала его четко. «Мотай отсюда и побыстрее!» — закричал один из наших друзей. В этот момент мой муж наконец-то узнал его. И улыбнулся ему. А тот, никак не прореагировав на улыбку, двинулся дальше. Проходя мимо нас, он остановился и сразу узнал меня. Мы не видели друг друга три года. На мне было вечернее платье, а сверху меховое манто, красивое и дорогое. Я заметила, как он смотрит на меня. Он перевел глаза на мужчину, стоявшего рядом со мной, и узнал его. В глазах у него мелькнуло удивление, но это продолжалось недолго. Он снова посмотрел на меня и улыбнулся. А я не могла улыбаться. Я не отрываясь смотрела на него. Одет он был по-летнему. Старый костюм болтался на нем как на вешалке. Верхняя одежда — куртка либо плащ — отсутствовала. Однако в этот зимний предутренний час он не выглядел замерзшим. Казалось, что он несет с собой лето. Его красота, как в тот первый день, когда я увидела его спящим на палубе, поразила меня. После Шанхая я иногда сомневалась, такой ли он на самом деле, каким я помнила его. Мои сомнения не имели под собой никакого основания. Его взгляд все так же будоражил чувства. Все взгляды, которые останавливались на мне потом, казались плоскими и невыразительными. Судя по всему, он давно не посещал парикмахера. Но он не мог рисковать жизнью. Он очень похудел, стал почти таким же худым, как тогда, когда появился на нашей яхте. Чувствовалось, что он голодает, что он голоден, и этот голод сродни голоду бездомного животного. Я узнала его, несмотря ни на что, несмотря на худобу и на все прочее, впрочем, я узнала бы его из миллионов по одним только глазам. И когда он улыбнулся мне слегка извиняющейся улыбкой, как бы прося прощение за свой уход тогда, в Шанхае, мне хотелось крикнуть: «Да, я узнала тебя!» В его улыбке не ощущалось никакого стыда, равно как и ни капли горечи, но только неукротимая свежесть молодости. Он забыл о своем чемодане и о его содержимом, о причине своего нахождения в этот час на этой улице, о холоде и голоде. Он испытывал радость от встречи со мной. Но первым заговорил не он и даже не я. А муж. Затянувшееся молчание, очевидно, терзало его своей многозначительностью. И он решил нарушить его. С тех пор как женился на мне, он, должно быть, постоянно думал о неизбежности нашей встречи. Думал ли он о том, как она произойдет и что за этим последует, кто знает? Но мысль о неотвратимости нашей встречи, конечно, преследовала его. И тем не менее он не придумал ничего лучшего, чем спросить: «Вы больше не плаваете?» Все-таки он был очень неуверенный в себе человек. Не получив ответа, муж потоптался на месте и стал медленно удаляться от нас, почему-то пятясь. Так странно передвигаясь, он натолкнулся на дверь подъезда какого-то дома и прислонился к ней. Я решила, что ему плохо. Пожалуй, я не далеко ушла от истины: муж сделал это, чтобы не упасть. И тут он спросил меня: «Ну как?» — «Все нормально».— «Я вижу». Я улыбнулась. Иногда, не в самые лучшие дни — а таких у меня было предостаточно,— мне мерещилось, будто он уже взят и отбывает наказание, иногда мне самой хотелось убить его. Но я отбрасывала от себя эти мысли. Нет, нет, это настоящий мужчина, гордость всего мужского сословия. Он, познавший всю глубину и трагедию жизни, имел право на жизнь! И конечно, достоин гораздо лучшей участи! Что еще приключилось с ним? В какой водоворот затянуло его? Женщины, голод, холодные ночи, покер, удары судьбы — жизнь била и крутила его, чтобы затем, через несколько лет, подвести к встрече со мной? Я слегка устыдилась своей жизни. Он улыбался, как бы говоря — вижу. Он мог бы сказать: «Молодец, не упустила случай!» А мне бы не хотелось услышать от него такое. Движением головы я показала на его почтовые открытки: «Давай их мне». А он, пользуясь отсутствием нашего хозяина, который все еще стоял, прислонившись к двери подъезда, очевидно мучимый жестокой реальностью, тихо сказал мне: «Здравствуй». Он сказал это так, что я поняла — он помнит все. И опять, как когда-то, я закрыла глаза, чтобы без слов сказать ему, что для меня все осталось по-прежнему, будто и не было этих трех лет разлуки. Так продолжалось несколько секунд. Но этих нескольких секунд мне хватило, чтобы обрести все чувства, которые когда-то владели мной. Я открыла глаза. Он неотрывно смотрел на меня. Мне удалось взять себя в руки. Я сказала ему еще раз: «Давай все, я возьму». В этот момент подошел мой муж. Казалось, он не заметил этого. Он согнул ногу и положил чемодан на колено. Ветхий покоробленный чемодан, наверное, был таким же старым, как и его одежда. Он, должно быть, таскал его за собой уже немало времени. Он открыл его и вытащил оттуда с десяток конвертов, аналогичных тому, что он держал в руке. Рядом с конвертами я заметила в чемодане кусок хлеба. Кроме конвертов и хлеба, в чемодане больше ничего не было. Он аккуратно сложил все конверты и протянул их мне. «Вот, возьми»,— сказал он. Я взяла их и положила к себе в муфту. Они просто заледенели. И я подумала, что и хлеб, видимо, тоже такой же ледяной. По всей вероятности, он не смог купить ничего, кроме хлеба, потому что все имевшиеся у него деньги потратил на конверты. И тут мы услышали. «Долго вы еще?». Мы оба как будто очнулись. «Нет, только маленькая просьба…» Но муж не так понял его. Он вытащил из кармана пачку тысячефранковых банкнот и бросил их в его открытый чемодан. Деньги попали на хлеб, полностью закрыв его. Денег было много. Он смотрел на них пару секунд, а потом так же аккуратно, как конверты, стал складывать, только более медлительными движениями. И тогда я сказала ему: «Наверное, ты убил американца за гораздо меньшую сумму, так ведь?» Я почувствовала, как муж взял меня под руку и потянул за собой. Я с силой высвободилась. Он оставил меня. «Да, за гораздо меньшую,— сказал он весело,— там не было и половины». Он закончил складывать банкноты и, поставив чемодан на землю, протянул деньги моему мужу. «Нет, возьми их»,— потребовала я. «Ты смеешься»,— вежливо ответил он. Я сказала, что они ведь нужны ему, очень нужны. «Не надо»,— твердо произнес он, продолжая держать деньги в вытянутой руке. «Бери,— настаивала я,— он их не считает». Он внимательно посмотрел на моего мужа. «Зачем вы это сделали?» — «Затем чтобы вы оставили ее в покое»,— бросил муж дрогнувшим голосом. Они не отрываясь смотрели друг на друга. «Не надо было так делать». Мой муж ничего не ответил. Он уже жалел о своем легкомысленном жесте. «Это в их правилах,— сказала я,— чтобы быть уверенным, что ты мне ничего не должен. В противном случае он не считал бы себя честным человеком». «Она моя жена». Я и сейчас помню его искренний, умоляющий голос. «Нет,— сказал он,— этого не надо делать». А у меня из головы не выходил ледяной кусок хлеба. И я крикнула: «Не надо возвращать, положи их в чемодан».— «Это невозможно». Он был спокоен и немного удивлен. «Считай, что эти деньги даю тебе я».— «Это невозможно, я не могу их взять, ты хорошо знаешь».— «Я не хочу, чтобы ты возвращал их».— «А я не могу взять их». Чувствовалось, что он по-прежнему удивлен. Я спросила его: «Что еще мог бы он сделать для тебя, скажи?» — «Не надо ничего».— «А я? Я вышла за него замуж, что я могу сделать?» Он посмотрел на меня. Вероятно, в ту минуту он понял многое, то, над чем раньше, может быть из-за лени, не задумывался. «Анна,— сказал он мне,— я не могу ничего взять от тебя».— «Ты не думай, это не оплошность, он хотел что-то сделать для тебя». И тут его чемоданчик, стоявший на земле, внезапно раскрылся, и я снова увидела кусок хлеба — и больше ничего. Теперь и мой муж увидел. Он не спешил брать протянутые ему деньги. «Я прошу вас,— сказал мой муж,— возьмите их». «Это невозможно. Ты сама говорила: делают то, что могут. Я не могу». Тогда я в первый раз произнесла, нет, прокричала то, что он никогда не слышал от меня. Что я люблю его. Он замолчал. Он уже не говорил больше, что не может взять деньги. «Нужно взять эти деньги, потому что я люблю тебя». Сказав это, я побежала прочь. Муж последовал за мной. Когда я обернулась в первый раз, то увидела, что он не пытается догнать нас. Он смотрел нам вслед. Он так и стоял с вытянутой рукой, в которой была пачка денег. Когда я обернулась во второй раз, в конце улицы, то не увидела его, он уже ушел. Я увидела его только спустя два года. Она замолчала. — А что потом? — О! Потом в моей жизни не случилось ничего значительного. Мы догнали наших приятелей. Нашего разговора они не слышали, разве что мои крики, и ничего не поняли. Но они заметили, что мы купили конверты, от которых они отказались, и очень удивились. «И вы купили эту гадость?» — спросил приятель. «Тем самым вы поощряете порок»,— добавила его жена. Я спросила, о каком пороке идет речь, но никто не смог ответить. И я почувствовала себя в одной связке с ним — одинокой и непонятой. Я держала в муфте, прижимая к себе, пакет с конвертами. Теперь я знала, что люблю его, как в первый день. «Мы знаем этого продавца»,— сказал муж. «А-а,— протянул приятель,— тогда другое дело…» Я спросила, какое другое, но мне также никто не ответил. «Это — матрос,— объяснил мой муж,— и он шесть месяцев служил на „Анне“». Я улыбнулась его объяснению. «Нет, ошибаешься, на „Кипре“».— «Да, правильно,— поправился он.— Яхта называлась тогда „Кипр“». Затем он с небрежной легкостью поведал, что матрос, кажется, из Гибралтара. Я возразила, сказав, что скорее не из Гибралтара, а из Шанхая, хотя точно никто не знает откуда. «Странный тип»,— пожал плечами приятель. И я почему-то согласилась с ним. Я иногда бываю удивительно непоследовательной. Я не боялась проявить неосторожность. Ведь я так же, как и наши приятели, не знала, кто он и откуда. Впрочем, в ту минуту я не могла сдержать себя, молчать было трудней, чем говорить. И я рассказала то, что знала и чего еще не знал мой муж, что он, этот матрос, совершил в двадцать лет преступление, убив в Париже американца. В общем, я рассказала не больше того, что знала сама. Тогда наш приятель что-то вспомнил. Он спросил меня, сколько времени прошло с момента преступления. Я ответила, что пять или шесть лет. И тогда он рассказал, что примерно в это время в Париже было совершено преступление, которое наделало много шуму. Писали, что преступник, по всей вероятности, очень молод, а его жертвой стал известный американский промышленник, Нелсон Нелсон, король шарикоподшипников. Я спросила: «В самом деле, шарикоподшипников?» Эти шарикоподшипники почему-то до безумия развеселили меня. Я расхохоталась. Я не смеялась так, наверное, года три. И никак не могла остановиться, невзирая на то, что наши друзья, разинув рты от удивления, смотрели на меня. С трудом справившись с собой, сквозь слезы смеха, я едва выговорила: «Как это мило». «Что?» — спросил муж. «То, что он бы королем именно шарикоподшипников». Муж холодно заметил, что не видит в этом ничего смешного. Я, впрочем, тоже не видела в этом ничего смешного, но смеялась так, что не могла идти дальше. «Преступление так и осталось загадочным,— продолжал приятель мужа.— Случилось это вечером на Монмартре. На темной и узкой улице Нелсон Нелсон сбил на своем «роллс-ройсе» молодого человека. Ехал он быстро. Молодой человек не успел отскочить, и крылом автомобиля ему пробило голову. Американец послал кого-то помочь юноше, и тот вместе с шофером втащил его в автомобиль. Они решили отвезти пострадавшего в ближайший госпиталь. Когда же приехали в больницу, в автомобиле обнаружили труп американца. Его задушили, да так, что он не успел издать ни единого звука. А шофер ничего не заметил. Исчез портфель Нелсона Нелсона. Как говорят, с большой суммой денег». Я начала расспрашивать приятеля, чтобы узнать подробности, но он больше ничего не мог вспомнить. Мы вернулись в отель. Однажды во время его сна я обнаружила у него на голове, под волосами, шрам и очень удивилась этой странной отметине, этому знаку «роллс-ройса», который остался ему на память на всю жизнь, но я ничего не сказала ему о своей находке и не стала ни о чем расспрашивать. Возвращение было тягостным. Муж сказал, что живет в постоянной надежде, и в который раз повторил, что не мог тогда остаться в Шанхае. Я только констатировала, что создала ему невыносимую жизнь. В первый раз я посчитала бессмысленным утешать его напрасными обещаниями и вселять напрасные надежды. Я хорошо помню, как однажды, выбрав время, заперлась в своей комнате. Я разделась, задернула шторы и легла. Только тогда я взяла конверты и один за другим раскрыла их. Их было десять. Каждый содержал десять фотографий и две почтовые открытки, которые были стянуты тонкой резинкой наподобие аптечной. Во всех десяти конвертах находились одинаковые фотографии и почтовые открытки. У меня возникло ощущение, будто я получила массу цветов от него. Фотографии на тонкой бумаге, видимо, были выдраны из книжки и носили непристойный характер. На почтовых открытках была изображена Эйфелева башня и Лурдская пещера во время паломничества. На следующий день мы возвратились в Париж. Три дня и три ночи с замиранием сердца я ждала телефонного звонка от него. Он бы позвонил, если бы захотел. Ему не составляло никакого труда найти наш телефон в любом справочнике. Он просто мог бы открыть телефонную книгу и поискать фамилию бывшего владельца «Кипра». Я же не имела ни малейшей возможности разыскать его. Я ждала три дня и три ночи, но он так и не позвонил. Я, конечно, нашла объяснение этому, решив, что с теми деньгами, которые оказались у него в руках, он наверняка предался прежней страсти — игре в покер. Этот человек никогда не мог довольствоваться тем, что имеет. Находясь возле меня, он изнывал от невозможности отдаться игре. И в этой кажущейся неверности и отсутствии воли таился глубокий смысл — он был всегда верен себе. Началась война. Прошло еще четыре года. И я опять встретила его. Через четыре года. Она замолчала. Я пошел за очередным стаканом виски. Лоран был в баре. Он играл в карты с другим матросом. Когда я вернулся на палубу, она стояла у поручней и смотрела на берег. Я протянул ей виски. Судно шло вдоль пустынной набережной какой-то пристани, едва освещенной. — Кастильончелло,— сказала она,— а может быть, уже Росиньяно. Яркий свет огней нашей палубы затруднял мне видимость, я хотел получше ее разглядеть, как будто я боялся упустить что-то важное. — Тебе надо чаще говорить,— сказал я. И улыбнулся ей. — Нет,— ответила она с натянутой улыбкой.— Я много думаю об этом. — Но когда тебя просят рассказать, ты всегда рассказываешь? — Иногда, но всякий раз рассказываю что-нибудь другое. — А тем, кого ты берешь с собой, ты тоже рассказываешь? — Нет, я рассказываю тем, кому хочу. Невозможно все рассказывать всем. Иногда я говорю, что совершаю кругосветное путешествие. У меня возникло острое желание увидеть ее рядом, и я не мог противиться ему. — Подойди ко мне,— сказал я. Мы пошли в мою каюту. Она легла на койку, растерянная и усталая. Я сел рядом с ней. — Я устаю много говорить. — Догадываюсь,— сказал я,— но это хорошая усталость. Она удивилась, но осталась лежать с закрытыми глазами. — А с ним ты говорила когда-нибудь так долго? — Он любил только удачу. Но чтобы сохранить нашу любовь, я прилагала массу усилий. Чтобы придать ей видимость взаимной. — Думаешь, его волновала твоя любовь? — Скорей, напротив, оттолкнула его. Вероятно, он полагал, что я жду от него каких-то доказательств и внимания, может быть, это и вынудило его сбежать. — Наверное, он всегда таким образом скрывался от любовных историй,— я улыбнулся, хотя было не очень-то весело. — Не знаю,— сказала она. Она внимательно посмотрела на меня, ожидая, что я скажу еще что-нибудь. Я встал, открыл иллюминатор и вернулся на свое место. — Но ты была счастлива,— сказал я,— хотя бы шесть месяцев. — Это было давно.— Помолчав, она добавила: — Что ты хочешь этим сказать? — Не знаю. Когда у нас будет стоянка? Я увидел, что понемногу она выходит из своей истории. — Завтра,— сказала она,— в Пьомбино. Если хочешь, мы спустимся на берег. — Пьомбино так Пьомбино. — В последнее время я стала с удовольствием сходить на берег в разных портах, но тем не менее я не могла бы жить без судна. — Не вижу причин, почему бы нам не сойти на берег. — А ты,— спросила она,— ты был счастлив? — Наверное, был иногда, но точно не помню.— Она ждала, что я объясню это.— Я занимался политикой первые два года работы в министерстве. Думаю, что тогда я был по-настоящему счастлив. Но только тогда. — А потом? — А потом я перестал заниматься политикой. А больше и не было ничего. — И ты никогда не был счастлив по другой причине?.. — Должно быть, был, я же сказал тебе. То из-за того, то из-за другого. Иногда я чувствовал что-то похожее на счастье даже в самых трудных ситуациях.— Я засмеялся. Но она не смеялась. — А с ней? — Нет. Никогда, ни одного дня. Она смотрела на меня, и я хорошо видел, что она уже вышла из своей истории. — Ты не слишком разговорчив,— мягко сказала она. Я встал и, как вчера, начал споласкивать лицо водой. Обожженная кожа на лице уже не так горела и не причиняла мне такой боли, как вчера. — Нельзя одновременно рассказывать и слушать. Но когда-нибудь я тоже расскажу тебе свою историю. Каждому есть что рассказать. — О чем? — Увидишь, моя жизнь — тоже захватывающая история. — Тебе сейчас плохо? — Нет, все кончено. Мне уже не плохо. Больше ни о чем не хотелось говорить. Я взял сигарету и не спеша закурил. После некоторого колебания она спросила: — Что с тобой стряслось после обеда? — Все из-за виски,— сказал я,— я не привык к нему. Она встала. — Ты опять хочешь, чтобы я ушла в свою каюту? — Нет, не хочу,— ответил я.

На следующее утро мы увидели Пьомбино. Спал я плохо, но тем не менее проснулся очень рано. Опять стояла прекрасная погода. Я взял в руки путеводитель по Италии, который валялся на столе в баре. Пьомбино значился в нем как важный металлургический центр Италии. Несколько минут я поговорил с Бруно. Скоро небо затянется облаками, заявил он, начнутся первые грозы. Но другой матрос, который тоже находился в баре, уверенно возразил ему, сказав, что время гроз еще не наступило. Она вышла на палубу к одиннадцати часам, когда все суетились в ожидании причала. Она напомнила мне, что мы собирались позавтракать на берегу, потом куда-то ушла, наверное в свою каюту. Я еще около часа стоял на палубе. Приход яхты привлек внимание всех бедных детишек порта. Лоран и два других матроса нетерпеливо ходили по набережной, дожидаясь подвоза цистерны с мазутом. Время от времени Лоран обращался ко мне. Он говорил просто так, ни о чем. Я увидел ее издалека. Она надела новое платье. — Я читала,— сообщила она, подойдя ко мне. — Ну-ну,— в моем тоне звучали недоверчиво-насмешливые нотки. Как бы смутившись, она заметила: — Ты тоже должен читать. — Не испытываю никакого желания.— Я смотрел на детей. Она не стала продолжать тему. — Пойдем на берег? — Пойдем. Мы вышли на набережную и отправились на поиски ресторана, что оказалось долгим и трудным делом, ибо Пьомбино редко посещался туристами. Улицы располагались под прямым углом друг к другу, новые и унылые, почти лишенные деревьев, со стандартными жилыми домами, большей частью выстроенными из щебня. Иногда попадались фруктовые и мясные лавки. Нам пришлось пройти довольно большое расстояние, прежде чем мы отыскали ресторан. Небо сплошь заволокло низкими белыми облаками, но жары это не уменьшило ни в какой степени. Похоже, Бруно знал, что говорил. Повсюду сновали дети. Они подбегали близко, чтобы посмотреть на нас, а потом, засмущавшись, отбегали к своим матерям, одетым в черную одежду, выдубленную морем, и недоверчиво смотревшим на иностранку. Наступило время обеда. В воздухе пахло чесноком и рыбой. Наконец на углу, на пересечении двух улиц, мы нашли маленький ресторанчик без террасы. Внутри оказалось прохладно. За столом обедали двое рабочих. У стойки бара три клиента, одетых получше, пили кофе. Столы были из серого мрамора. Хозяин сказал, что у них нет ничего особенного: густой овощной суп — минестроне, салями, яичница, но, если мы не торопимся, он сможет приготовить пирожки. Это нас вполне устраивало. Она заказала вино. Густое, почти фиолетового цвета, вино не отличалось высоким качеством. Единственное его достоинство, с моей точки зрения, состояло в том, что оно было ледяное, так как его только что принесли из погреба, и пилось хорошо. Мы выпили каждый по два стакана. — Вино не лучшего сорта,— сказал я,— но очень свежее. — А мне нравится это вино. — От него бывает плохо. — Коварное, ты хочешь сказать? — засмеялась она. — Да, коварное. Поговорили о винах. Я подливал ей и себе. Потом хозяин принес минестроне. Но мы съели всего несколько ложек. — Когда очень жарко, то не хочется есть горячего. Она раскраснелась то ли от вина, то ли от царившей снаружи духоты. Я согласился с ней. С выпитым вином ко мне пришла усталость: я уже давно не высыпался, с тех пор как познакомился с ней. Но это была странная усталость, какая-то абстрактная, она не вызывала желания спать. Процесс еды создавал во мне такие же трудности, как четыре дня назад после купания в реке вечером на террасе траттории. Я все время смотрел на Анну. Ее лицо было таким, как тогда, в первый день, когда я увидел ее в зеленоватом свете виноградных гроздей. Она ела чуть больше меня. Тоже, наверное, усталость и вино. Я заказал еще один графин вина. — Иногда,— сказал я,— не могу остановиться; опять хочется вина. — Понимаю. Но мы скоро будем совсем пьяными. — Это то, что надо. Хозяин принес салями. Мы поели немного, беря кружочки колбасы прямо с подноса. Потом он принес салат из помидоров. Они оказались теплыми. Должно быть, их принесли прямо с лотка из соседней овощной лавки. Салат мы тоже почти не ели. К нам подошел хозяин. — Вы ничего не едите,— сказал он по-итальянски,— вам не нравится? — Нам очень нравится,— ответил я,— но от жары у нас нет аппетита. Он спросил, не сделать ли нам омлет, сказав, что это будет быстро. Я заказал очередной кувшин вина. — А есть вы еще будете что-нибудь? — спросил хозяин. — Нет, мы уже кончили,— сказал я. Мы немного поговорили о том о сем. О хозяине, который нам обоим казался очень симпатичным, о его жене, красивой женщине, вязавшей в углу. А потом, конечно, я попросил ее продолжить свой рассказ. Но она не спешила. — Мне хотелось бы знать, чем кончилась эта история,— сказал я,— о женщине моряка из Гибралтара. Но ее не надо было просить. Мы больше не ели, а только пили и пили. Говорить было не о чем, кроме как о жаре. И тогда она сама — я больше не просил ее — стала рассказывать о своей жизни в Лондоне. О лондонской скуке. О том, как после их встречи в Марселе она больше не могла забыть о нем, чему, несомненно, способствовала лондонская тоска. Потом кончилась война, было заключение мира, освобождение узников концентрационных лагерей, а потом наступило это воскресенье — за все дни, предшествующие ему, в ее жизни не произошло ничего значительного,— когда она решила вернуться в Париж. Уехала после обеда в отсутствие мужа, которому оставила письмо. Неожиданно она прервала свой рассказ. — Я пьяная, это все вино. — Я тоже, ну и что из этого? О чем ты написала мужу в письме? — Точно уже не помню, наверное, о дружеских чувствах, которые я питаю к нему. Я написала также, что знаю о страданиях любви, но не могу жить больше только для того, чтобы избавиться от них. Что я, несомненно, любила бы его, если бы судьба — я так и написала,— судьба не приковала меня таким странным образом к моряку из Гибралтара.— Она скорчила гримаску. — Это была роковая история. — Продолжай. — Я приехала в Париж. И в течение трех суток целыми днями просто повсюду гуляла. Так много я не ходила со времени Шанхая, то есть пять лет до того. Через три дня, сидя утром в кафе, увидела в журнале, который валялся на столе, несколько строк о моем муже. Он покончил с собой. «Лондонский герой кончил свои дни» — так была озаглавлена заметка в разделе великосветской хроники. Но самое ужасное не это. Самое ужасное, что первое, о чем я подумала: теперь, может быть, мой моряк из Гибралтара прочтет эту заметку. Потом решила сама дать о себе знать. Оставила за собой номер в отеле еще на три дня, заплатив за пользование телефоном. В тот же день я дала информацию в газеты и три дня не выходила из своей комнаты. Консьержка, приносившая еду, сочувствовала мне со слезами на глазах. Она тоже прочитала газету и так понимает меня, бедняжечку, разделяет мое горе. В газете уточнялось, что он покончил с собой по причине слабой психики, что его нервы, и без того подточенные войной, не выдержали. Я дала моряку из Гибралтара три дня на то, чтобы успеть прочитать газеты и приехать в Париж увидеться со мной. Короче, на то, чтобы удостовериться, что он жив. Я лежала и читала, зная, что, если он не позвонит, я покончу с собой. Я обещала это себе, что позволяло мне почти не думать о случившемся в Лондоне и о моей вине. Я умоляла судьбу вернуть мне его и дала ей на это три дня. Вечером второго дня он позвонил. Она опять замолчала. — А потом? — в нетерпении спросил я. — Мы провели вместе пять недель, а потом он уехал. — Так же, как… раньше? — Так, как раньше, не могло быть. Мы были совершенно свободны. — Расскажи. — Однажды он сказал, что любит меня. Ну вот… а потом как-то вечером я попросила его рассказать о Нелсоне Нелсоне. Мы уже говорили об этом немного раньше, когда наша яхта подобрала его, но как-то несерьезно, чуть ли не в шутку. А в тот вечер я повторила ему то, что знала от приятеля мужа. Что, когда он был молодым, его сбила машина, его собирались доставить в больницу, что хозяин этой машины — старый, толстый, богатый американец, которого он задушил. Он совсем не удивился. И кое-что уточнил в этой истории. Когда его втащили в машину, американец сказал ему: «Раны на голове всегда сильно кровоточат». Но ему показалось, что тот смотрит на него насмешливо. Он спросил, какой марки этот автомобиль, а американец ответил, что это «роллс-ройс», и снисходительно улыбнулся. Затем сразу же снял свой плащ и вытащил из жилета большой бумажник. Открыл его. И он ясно увидел его содержимое при свете газовых уличных фонарей. Американец вытащил из бумажника пачку тысячефранковых билетов и начал медленно их пересчитывать. У него сильно текла кровь, мешая видеть, но он знал, что американец пересчитывал деньги. Тысячи франков… Он помнил его пальцы — белые и жирные. Две тысячи. Слегка поколебавшись, он взял третий билет, а затем, уже после заметного колебания, и четвертый. Остановившись на четырех тысячах, американец положил оставшуюся пачку обратно в бумажник. И в этот момент он его убил. Больше мы об этом не говорили. Она замолчала и посмотрела на меня насмешливо, но доброжелательно. — Тебе не очень-то нравится эта история,—сказала она. — Это не имеет значения. Я хочу знать все. — Вернее, не история, а он. Он тебе не нравится? — Думаю, нравится. Мне нравятся моряки из Гибралтара.— Она улыбаясь слушала меня, и в ее взгляде я не видел упрека.— Но я остерегаюсь людей с невероятной судьбой, как бы предназначенных свыше для чего-то особого. Я хочу, чтобы ты поняла меня.— И, выдержав паузу, добавил: — И даже таких избранников судьбы. — Он здесь ни при чем,— мягко произнесла она.— И даже не знает, что я ищу его. — Ты хочешь жить с самой большой любовью на Земле. Мы посмеялись. Оба уже порядком опьянели. — А кто не хочет так жить? — спросила она. — Конечно, все хотят,— сказал я.— Но жить с такими типами, как он… — Он не виноват, что его любят без убедительных на то оснований. — Конечно, не виноват, но что это за убедительные или неубедительные основания? Думаю, людей любят не по тем или иным причинам и основаниям. — Но если тебе не нравятся такие люди, почему хочешь дослушать эту историю? — Потому что мне нравятся именно такие истории. — Лживые? — Нет, если хочешь, нескончаемые. Скверные ситуации. — Мне тоже нравятся такие истории. — Вижу,— засмеялся я. Она тоже засмеялась, а потом спросила: — Почему они нравятся тебе? — Пока он делал свою головокружительную карьеру, я протирал штаны в Министерстве по делам колоний, наверное поэтому. — Не думаю, что поэтому. — Он напрочь затмевает меня,— пошутил я. — О нет. Но этот человек, умудряясь вываляться во всей грязи мира, смотрел на этот мир глазами ребенка. Мне кажется, его должны любить все… — Именно такого, какого ты из него сделала… Она внимательно слушала. — Какого? — Поборника справедливости.— Она ничего не сказала, внезапно посерьезнев.— Но ты не можешь понять, что это за человек. — Это убийца, но он совсем одинок, затерян в мире. И значит, не надо его искать? — Я не сказал этого, все может быть так или не так… — Если он и поборник справедливости,— сказала она, помолчав немного,— то он и сам не знает об этом. — Зато ты знаешь,— сказал я.— Ты придумала его, не догадываясь сама. Рассказывай дальше. И она начала неохотно: — Больше не происходило ничего особенного. Он говорил мне, что много лет у него не было женщин, разве что случайные. Что он мечтал отыскать меня с момента нашей встречи в Марселе. Правда, оставалось неясным, почему он хотел отыскать меня и почему не отыскал. С тех пор как мы снова оказались вместе, он стал считать, что жизнь прекрасна. То есть я хочу сказать, что он очень быстро вспомнил, что корабли существуют для того, чтобы покидать берег. Я разбудила в нем желание уехать, но это была моя естественная роль рядом с ним, я сама ее выбрала. Во Франции он находился уже четыре года, во время войны участвуя в движении Сопротивления, а после — промышляя некоторое время на черном рынке. Когда мы встретились, он стал регулярно питаться, обрел свою обычную роль и начал поговаривать о том, чтобы уехать. Он считал, что полиция будет разыскивать его еще года два, но все равно предпочитал жизнь, полную скитаний, той, которую вел эти четыре года. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что во время войны все порты закрыты, а суда должны стоять на приколе. В общем, я его нашла для того, чтобы сразу потерять. Государственные границы были для него тем, чем для других решетки тюрьмы. С тех пор как сбежал с «Кипра», он успел три раза обогнуть земной шар. Я шутила, что, если так будет продолжаться и дальше, Земля покажется ему слишком маленькой. Он смеялся и отвечал, что пока еще не страдает от малости Земли, его успокаивает тот факт, что она круглая. Ему очень нравилось, что Земля круглая. Для тех, у кого нет дома,— а он относился к людям, не имеющим дома,— круглая форма Земли, с его точки зрения, вариант оптимальный. Он никогда не говорил, где собирается сойти на берег. Он говорил только о будущих путешествиях. Мы не жили вместе. В целях безопасности, будто для меня война все еще продолжалась, я снимала не больше чем на неделю комнату в разных отелях. Одевалась я тоже очень скромно. Я даже не сказала ему, что муж оставил мне все свое состояние. Мгновенно начавшийся дождь хлестал в стекла ресторанчика, где мы сидели. Она закурила и принялась смотреть на дождь. — Тогда ты, конечно, была уверена, что не притронешься к этому состоянию? — Уверена,— сказала она.— Я даже начала искать работу. — И не нашла? — Я не умела печатать на машинке. Нашла место платной партнерши для танцев в ночном клубе и больше ничего. Но отказалась от него. — Понятно. — Я много искала, но больше ничего не нашла. — Ведь очень трудно забыть, что у тебя есть яхта и состояние,— сказал я.— И однажды ты вспомнила об этом. — В определенных случаях можно и забыть. Но не в моем положении.— Она опять посмотрела на дождь и улыбнулась.— Нет, я, конечно, не героиня. С другой стороны, если бы я отказалась от яхты, это могло бы успокоить мою совесть, но ни в коей мере не стало геройством.— И очень тихо, тоном признания, добавила: — Я знаю, что во всем мире существует общее мнение по поводу яхт. Знаю, что они имеют скандальную славу. И вот появилась яхта, такая же неприкаянная, как и я сама, не знавшая что делать. — В моем американском романе,— сказал я,— ты постоянно прогоняешь людей с яхты и увозишь других… Все говорят: эта женщина… на этой яхте… — Что? — Эта бездельница… Эта праздношатающаяся… — А еще что? — Эта болтушка… — О! — сказала она и покраснела. — Анна…— Она наклонилась ко мне, опустив глаза.— На чем мы остановились? Ах да, ты искала работу, продолжай. — С меня довольно, я устала. — Об этом я и говорю, надо побыстрее закончить. — Я искала работу. Но у меня не было времени заняться этим серьезно и найти ее наконец. Он опять уехал. Почему? Из-за того, что произошло между нами? Даже не знаю, как тебе сказать?.. Это продолжалось пять недель. Я и не предполагала, что такое возможно. Пять недель вместе с ним. Каждый день он уходил куда-то. Куда? Кто знает? Но он возвращался каждый вечер, и каждую ночь все начиналось сначала. Он возвращался очень голодным. Я знаю, мне, вероятно, следовало бы оставить его подыхать с голоду, но я никогда не решилась бы на это. Он и так слишком много голодал в своей жизни. Однажды он опять начал играть в покер. Он сам сказал мне об этом. Я ходила на рынок, занималась хозяйством, готовила еду. Иногда мы гуляли вместе по бульварам. Я ждала его. Иногда я встречалась, но без него, со старыми друзьями своего мужа. Они приглашали меня куда-нибудь. Но моя неизбывная тоска и скорбь якобы по мужу являлись прекрасным поводом отказываться от всех приглашений. Однажды я встретила тех приятелей, которые знали о его существовании, тех, которые видели его тогда в Марселе. Они расспрашивали меня о новостях, но я отвечала, что нет ничего нового. Никто не подозревал, как я счастлива и как несчастна. Он тоже искал работу. Один раз. Он ходил в страховую компанию. Я достала ему подложные документы. И он стал коммивояжером. К концу второго дня он перестал есть. Этот человек не привык к аду обыденной жизни, когда надо каждый день ходить на работу. И у меня хватило мужества прекратить эту комедию. Он опять начал играть в покер. А я снова жила только одной надеждой. Однажды он явился пьяный. И стал разворачивать передо мной свои планы. «Я увезу тебя в Гонконг, в Сидней. Мы отправимся вдвоем на корабле»,— говорил он. Я некоторое время верила ему, верила в такую возможность, надеясь, что, может быть, он останется со мной. Хотя всегда твердо знала, что он никогда не остепенится и не сможет жить по-другому, мне хотелось, чтобы он говорил так. Я позволяла ему верить в то, что я считала несбыточным, но я любила в нем все — его ошибки, заблуждения, иллюзии. Иногда он задерживался, и я, волнуясь, ждала его. Прошло пять недель. Однажды газеты объявили о наборе команды на сухогруз, который должен был отплыть из Марселя. Я помню, он назывался «Мушкетер» и направлялся за кофе на Мадагаскар. За первым объявлением последовало второе, а затем третье. Двадцать торговых судов ждали отправки из всех уцелевших портов Франции. Он перестал играть в покер, неподвижно лежал на кровати и, не мигая, глядел в потолок, курил и пил все больше и больше. Я желала его смерти. Как-то раз он сказал мне, что поедет в Марсель «посмотреть, что там происходит», и предложил мне поехать вместе с ним. Я наотрез отказалась. Я не хотела больше оставаться с ним. Я желала его смерти. Чтобы обрести наконец покой. Он и не думал уговаривать меня. Сказал, что вернется за мной либо пришлет открытку, чтобы я смогла приехать к нему. Я согласилась. И он уехал. Она опять замолчала, и я опять налил ей вина. Дождь утих. В маленьком зале стояла такая тишина, что можно было расслышать дыхание друг друга. — Ты уверена,— спросил я,— что за эти пять недель ты ему, ну… как сказать… не наскучила немного? — Не знаю,— ответила она и добавила с некоторым удивлением: — Думаю, дело не в этом.— Я ничего не сказал, и она продолжила: — Даже если бы я и надоела ему, это не имело бы никакого значения… — И все же,— заметил я улыбаясь,— это обычное дело… — Не понимаю. — Я хочу сказать… Я очень хочу, чтобы ты избавилась от своего наваждения. Она смотрела на меня как ребенок, непонимающими глазами, и в то же время я заметил, что она чуть-чуть смутилась. — Я думаю,— сказала она,— сколько бы раз я ни находила его, он будет со мной не больше пяти недель.— Она задумалась, а потом добавила уже другим тоном: — Пожалуй, каждые три или четыре года я смогу встречаться с ним и быть счастливой в течение пяти недель. — Он тебе позвонил? — Да, он позвонил мне. — И сказал: я хочу тебя видеть. — Мне труднорассказывать. — Но тебе же хочется рассказывать,— произнес я как можно мягче,— а мне хочется слушать, что ты рассказываешь. Ну давай. Итак, он сказал: «Я хочу тебя видеть». — Да, он назначил мне свидание в кафе на авеню Де Орлеан. Я взяла чемодан и ушла из номера. Я села в кафе лицом к зеркалу, в котором отражался вход. Помню, что когда я взглянула в это зеркало, то, конечно, смешно, но я не узнала себя,— я увидела… — …Женщину моряка из Гибралтара,— подсказал я. — Я заказала коньяк. Он пришел через некоторое время после меня, наверное минут через пятнадцать. Я увидела в зеркале, как он входит, останавливается и ищет меня глазами. Заметив меня, он улыбнулся мне немного смущенной и даже виноватой улыбкой. Как только он появился из вращающейся двери, я почувствовала пронзительную боль в сердце. Я узнала эту боль. Она посещала меня всегда в связи с ним; в первый раз я испытала ее, когда увидела его на палубе «Кипра», всего черного от мазута, блестевшего на солнце. Но в кафе я потеряла сознание. Думаю, мой обморок длился не дольше, чем ему потребовалось, чтобы дойти от двери до моего стола. К реальности меня вернул его голос. Он сказал такое, чего я ни разу не слышала от него. Его голос звучал немного надтреснуто. Раньше я никогда в жизни не теряла сознания. Когда открыла глаза и увидела его, наклонившегося надо мной, то едва поверила в это. Помню, взяла его за руки. И тогда он повторил: «Любовь моя». Как странно и неожиданно прозвучало это признание! Я смотрела на него — он выглядел не так, как во время нашей последней встречи. На этот раз он был лучше одет, почти в новый элегантный костюм. Он был без плаща, но с шарфом на шее. Но, видимо, он опять недоедал, так как сильно похудел. «Скажи что-нибудь»,— попросил он. Я не знала, что сказать. Чувствовала себя совершенно разбитой. Я смотрела на него и думала, что для того, чтобы увидеть его, я убила своего мужа. Мне стало это совершенно ясно именно в тот момент, но не испугало меня. Меня потрясло только, что я так люблю его. А он, грубо повторив: «Ты должна говорить»,— больно взял меня за руку. Я сказала: «Мне больно». Это были первые слова, которые я произнесла, но точнее не могла бы выразиться. Он отпустил мою руку и, улыбаясь, стал смотреть на меня, приблизив свое лицо к моему насколько возможно, и мы поняли, что нам нечего бояться. Что даже смерть, которая теперь стоит и всегда будет стоять между нами, не имеет значения. Он спросил меня: «Ты оставила его?» Я утвердительно кивнула. Он удивленно посмотрел на меня, как, наверное, не смотрел никогда. Я помню неоновый свет в кафе, такой яркий, что нам казалось, будто мы сидим под светом прожекторов. Его вопрос о муже поразил меня. Он спросил еще: «Почему именно сейчас?» Я объяснила, что больше не хочу жить в Лондоне. Он опять взял мою руку и сжал ее. Его рука была холодной, потому что он пришел с улицы и у него не было перчаток. Он сказал: «Мы долго не виделись». Его рука лежала на моей, и я отчетливо поняла, что я в его полной власти, ничего не надо делать и все мое счастье, равно как и несчастье, зависит только от этого человека. Я сказала ему, что в любом случае, рано или поздно, сделала бы это. Он взял бокал шампанского и одним глотком осушил его. Я продолжала: «Он часто впадал в уныние, его поддерживали только бесконечные развлечения…» Он прервал меня: «Замолчи. Чудно, что я захотел тебя увидеть». Больше мы не смотрели друг на друга. Мы откинулись на спинку сидений и смотрели на вход, отражавшийся перед нами в зеркале. Кафе постепенно заполнялось. Становилось шумно. По радио передавали патриотические песни. Чувствовалось, что наступил мир. Я сказала: «Вообще-то наш брак был довольно странным, непохожим ни на что другое». Он ответил, что находился в Тулузе и узнал об этом из газет. Не знал, в Париже ли я, но все же приехал туда. Я сказала, что мне ничего не оставалось делать, кроме как выйти замуж. Но он продолжал о своем. По его словам, когда он вернулся в порт, «Кипр» уже полчаса как ушел. Всю войну с самой встречи в Марселе он не переставал думать обо мне. «Потерял ли я что-то? Я приобрел. Когда я уехал, я только приобрел». Он засмеялся немного смущенно. «Ну что ж…» — вздохнула я и тоже засмеялась. «Ты не веришь?» — «Я знала, что это произойдет не в том, так в другом порту». Сам он не думал так, играл в покер и не следил за часами. А когда один из игроков упомянул о времени, он бросил карты и помчался к причалу. Я сказала ему: «Ты ужасный человек».— «Даже если бы я успел к отходу, что изменилось бы?» Я не ответила. Я вспомнила кое-что и сказала ему: «Ты знаешь, его звали Нелсон Нелсон, и он был королем шарикоподшипников». Он остолбенел от удивления, его глаза расширились. Потом он разразился хохотом. «Нет… и несколько раз повторил: — Король шарикоподшипников». Я заметила, что если бы он читал газеты, то бы знал. «Но я же скрывался, откуда мне знать?» И опять стал смеяться, уже не глядя на меня; я тоже не могла удержаться от смеха. Он спросил: «Ты уверена?» Я сказала, что уверена, но не абсолютно, кто может придумать такое — «король шарикоподшипников?» Он восхищенно повторял: «Нелсон Нелсон»,— и вновь хохотал как безумный. Мне нравилось смотреть на него… «Голова почти на плахе, а я еще в состоянии смеяться»,— сказал он. «Твоя голова уже давно должна была скатиться на тело короля подшипников». Мы опять закатились от смеха. «Это точно, а также на короля дураков,— и, переводя дыхание, добавил: — Пожизненное заключение за убийство короля дураков. Ах! Если бы я знал — это король дураков…» — «Что бы ты сделал?» Он определенно не знал, но позволил бы ему спастись. Короля шарикоподшипников не убивают — это слишком серьезно. Когда он успокоился, я сказала, что мои друзья тогда отказались от его товарища [7]. Наш разговор шел по параллелям. «Даже если бы я прибежал вовремя, что из того?» Я объяснила ему: никогда не искала беспечной, благополучной жизни, твердой зарплаты, развлечений и всего остального. Он сказал, что хорошо знает это, но, бывает, теряешь все в мгновение ока. А потом медленно и раздельно произнес, что только после Шанхая понял… и начал подыскивать слово. Я прервала его: «После того, как ты дал мне фотографии в Марселе, что помешало тебе найти меня, тоже покер?» — «Нет». Оказывается, на следующее утро еще до открытия он уже торчал на почте, заказал Париж и очень долго ждал связи. А когда ему дали Париж, нажал на рычаг. Вот и все. Нет, он очень хотел позвонить. Ведь эти годы у него не было женщины. Я никогда не требовала других объяснений. Подождав немного, я спросила: «А теперь»? — «Я снял комнату в отеле.— Я покраснела, когда он внимательно посмотрел на меня.— Только для того, чтобы встретиться с тобой. Как ты прекрасна!» И, помолчав, добавил, что всегда стремился ко мне и хотел только меня. Вот и все. — Что? — Внезапно он подошел ко мне, одним движением распахнул мое пальто и оглядел меня с ног до головы. И все началось сначала. — А ты? — Я сказала ему, что он подлец. Он улыбнулся и ответил: «Но ведь ты вновь обрела молодость, незабываемый запах угольных бункеров и фантастические картины океанов, которые постоянно предстают перед твоим мысленным взором. И неоновые огни кафе, столь беспощадные сейчас, стали таким жарким солнцем, что ты даже покрылась потом». И все началось сначала. Я опять заказал хозяину графин вина. — Извини меня,— вставил я,— но тебе нравится рассказывать все это. — А ты хочешь, чтобы я рассказывала что-то другое? — Я не ответил. А она с грустью добавила: — Ты прав, мне хочется рассказывать обо всем этом. — А что было потом? — Я уже сказала тебе. Мы провели вместе пять недель, а потом он уехал. — А после того, как он уехал? — Это уже не так интересно,— ответила она, пытаясь улыбнуться.— Я оставила Париж и сняла комнату в деревне. Совсем пала духом. Прошло три недели, мне могло прийти письмо от него, а я не хотела возвращаться, твердо знала — письма не будет. Я пыталась взять себя в руки. Но в конце концов я все-таки поехала в Париж. Никакого письма, конечно, не было. Я осталась в Париже всего на два дня, после чего снова вернулась в деревню, надеясь, что смогу прожить там долго. Но пробыла всего восемь дней и опять уехала. Я переезжала из города в город, продвигаясь к югу, к испанской границе, и, совершенно не желая того, оказалась совсем недалеко от моей родной деревни. Я сняла комнату в местной гостинице и провела в ней целый день до вечера. Я вспомнила братьев и сестер, которых оставила совсем маленькими. Может, меня мучили угрызения совести? Вечером я пошла в бистро. И все узнала. Дома было четверо — отец, мать, брат и сестра. Отец спал на стуле. Мать вязала чулок. Сестра мыла посуду. Брат сидел за стойкой в ожидании клиентов, читая «Паризьен либере». Сестра постарела, брат вырос и потолстел. Читая, он все время зевал. Я не зашла, мне вполне хватило, что я увидела их. У меня не возникло ни малейшего желания говорить с ними, что-то объяснять. Я уехала на следующий день. В Париж. Дом моего мужа пустовал, консьержка всплакнула, разговаривая со мной. Это была чувствительная женщина. «Я все время думаю о бедном господине»,— сказала она. Для меня не было никакой корреспонденции. Сад выглядел мрачным и запущенным. В моей комнате несколько стекол оказались выбитыми. Я заплатила консьержке, предупредив, что уезжаю в деревню, но скоро вернусь. Я пошла к себе в комнату и не выходила из нее до вечера. А вечером я сделала то, на что никогда бы не решилась днем. Позвонила старым друзьям мужа, тем, которые были с нами тогда в Марселе, и договорилась о встрече с ними. Они пригласили меня к себе. Их голоса по телефону — я разговаривала с обоими — показались мне противными, но все равно я пошла к ним. Они очень старались проявить участие и всем своим видом выражали мне сочувствие. Я едва это выдержала и очень быстро ушла, а на следующий день уехала из Парижа на Лазурный берег. Там сняла комнату с балконом, выходящим на море. Купалась по несколько раз в день. И в первый раз мне не захотелось никуда ехать. Я не знала, чем бы мне заняться. Так прошел месяц. Затем понемногу я начала сожалеть о том, что сделала,— не поехала за ним в Марсель и дальше. Вот и все. А потом однажды вспомнила о яхте, и у меня родилась мысль разыскать его. И еще раз попытаться хотя бы на некоторое время связать с ним — пусть в его отсутствие — свое существование. Как только ко мне пришло такое решение, вопрос о том, чем бы заняться, отпал, и я воспряла духом. Я поехала в Америку, отрегулировала все вопросы, связанные с получением наследства, привела в порядок яхту и отчалила. И вот уже три года ищу его. Но еще не напала на след. Я плеснул ей вина, остаток вылив себе в стакан. Мы молча допили, а затем закурили. — Вот,— сказала она,— больше нечего рассказывать. Я подозвал хозяина и попросил счет. Затем предложил ей пройтись по городу, прежде чем возвращаться на судно. Она безразлично пожала плечами, не отказываясь, но и не соглашаясь. Мы встали и вышли из ресторана. После дождя стало прохладнее. Должно быть, прошел очень сильный ливень, улицы были все еще мокрые, а в выбоинах дорожного покрытия стояли лужи. Теперь город казался намного приятнее. Дети носились по лужам с веселыми криками. Она смотрела на них с большим удовольствием, чем утром. Возможно, ее настораживало мое молчание — временами она украдкой бросала на меня недоуменные взгляды. Но это не отражалось на ее приподнятом настроении. Мы оба шли легко и весело, несмотря на выпитое вино и усталость. Перед тем, как сойти на берег, она назвала Лорану точное время отплытия. Мы уже просрочили час отдыха, но нас не занимала такая безделица. Мы все дальше углубляясь в город в направлении, противоположном порту, через полчаса оказались на людной улице с массой магазинчиков по обеим сторонам, вдоль которой гремели старые трамваи. Я заговорил первым. — Это напоминает мне маленький городок Сарцану, недалеко от Рокки. — Я была там как-то раз вместе с Карлой. — Такие городки мне почему-то нравятся. Мне вообще нравится все непривлекательное, заброшенное. — А что еще? — Заброшенные городки, трудные ситуации. Но отнюдь не роскошные города, не привилегированное положение и прочая исключительность.— Я улыбнулся. — Может, ты преувеличиваешь? — О нет! В чем-чем, а в этом-то я уверен. Поколебавшись немного, она спросила: — Ты мог бы объяснить почему? — Не знаю, наверное, таково свойство моего характера,— ответил я.— И кроме того, это способ чувствовать себя комфортнее, что ли. Но не исключено, что есть и другое объяснение. — Ты не знаешь какое? — Мне и не хочется знать. Она не стала спорить. Я сжал ее руку и сказал: — Я рад, что поехал. Она бросила на меня подозрительный взгляд, несомненно виной тому был тон, каким я это произнес, но ничего не ответила. А я сказал: — Если хочешь, на следующей стоянке опять пойдем вместе в город. — Как хочешь.— Она расслабилась и добавила с улыбкой: — Но мне больше нечего будет рассказать тебе. — Всегда найдется о чем поговорить. — Ты думаешь? — Она широко улыбнулась. — Уверен. У всех есть что рассказать, разве не так? — Знаешь,— сказала она медленно,— всякое случается в жизни. Вдруг мы встретимся с ним на углу следующей улицы? — Все возможно,— ответил я.— И даже на борту яхты, поджидающей нас. — Да,— она уже не улыбалась,— так всегда, когда ищешь. — Знаю. Но, уверен, моряк из Гибралтара — понятливый человек. Некоторое время мы шли молча. — Странно,— сказала она,— но я никогда не задаю себе вопроса, что я буду делать, если найду его. — Никогда? — Почти никогда. — Всему свое время. — Я не могу загадывать так далеко — дальше того времени, когда найду его,— сказала она,— того момента, когда увижу его. — Но теперь истек срок давности. Он свободный человек, ведь так? — Да, и он другой человек. — А ты продолжаешь искать его как человека вне закона, в портах, где полно преступников,— я усмехнулся почти как Бруно, когда тот считал, что его улыбка мудра и иронична. Она согласилась со мной. — Не имеет смысла искать одновременно повсюду. Мы вышли с торговой улицы и направились на окраину города, которая постепенно переходила в кукурузные поля. — Ты не находишь, что пора возвращаться? — заметил я. Мы снова прошли город из конца в конец, на что потребовалось не больше двадцати минут, и пришли в порт. Незадолго до нашего прихода она спросила: — Когда ты собираешься мне рассказать то, о чем решил рассказать? — Я расскажу все, когда пожелаешь. И не буду прерываться. Мы пришли на пристань. Матросы едва сдерживали свое недовольство. — Это уж слишком! — сказал Лоран.— Я ломаю голову, зачем ты составляешь расписание… Но на самом деле он пребывал в хорошем настроении. Она попросила прощения за опоздание. — Я тоже над этим ломаю голову,— засмеялась она,— потому что это чрезвычайно серьезно. Она ушла вместе с Лораном по направлению к бару. При этом они заговорили о чем-то, в чем я плохо разбирался. Я направился на палубу к лебедке и лег на свое обычное место. Вероятно, из-за позднего времени никого из членов команды не было в этой части палубы. Яхта отошла почти тотчас же. Она медленно отчалила от набережной и, набирая ход, удалилась от нее. Когда мы оказались за пределами рейда, вместо того, чтобы повернуть на юг, мы неожиданно развернулись и опять пошли вдоль итальянского берега. Через некоторое время я увидел перед собой остров Эльбу. Она не поставила меня в известность по поводу своих намерений, и поскольку я не ожидал такого поворота событий, мне стало смешно, и я рассмеялся. Но потом, видимо, она отдала приказ повернуть на север, к Сету, где ее ждали Эпаминондас и моряк из Гибралтара. Я полагал, что она могла бы предупредить людей. Судно начало набирать скорость. Понемногу остров Эльба скрылся из виду, оставшись с левой стороны на юге, который мы покидали. Скорость движения яхты все нарастала. Она шла, я думаю, с максимально возможной скоростью. По всей видимости, она хотела наверстать время, которое потеряла, рассказывая мне историю моряка из Гибралтара. Я видел кругом одно безбрежное лазурное море. Солнце зашло. Но на этот раз я не смог наблюдать наступление ночи. Когда я уснул, небо было еще светлым. Мы удалялись от Италии.

Когда я проснулся, она сидела рядом со мной. Уже совсем стемнело. — Я тоже заснула,— сказала она и добавила: — Ты не хочешь поесть? Должно быть, я спал долго и глубоко, и за это время забыл о ее существовании. Но мгновенно вспомнил о ней, как только услышал ее голос. Из-за темноты было плохо видно. Я приподнялся, обнял ее и уложил рядом с собой. Сделав резкое движение, как бывает иногда при пробуждении, я сильно прижал ее к себе. Трудно сказать, сколько времени мы пролежали так, тесно прижавшись друг к другу в темноте. — Что с нами происходит? — спросила она очень тихо. — Ничего.— Я сразу же отпустил ее. — А все-таки? — Ничего. Я слишком крепко спал. Когда я окончательно проснулся, мы, обнявшись, направились в столовую. Она смотрела широко раскрытыми глазами, удивленно и как будто ничего не понимая. Хотя, думаю, она поняла, что произошло. В столовой находился Лоран и другой матрос. Они уже поели и разговаривали. — При таком ходе,— объявил другой матрос,— мы совсем скоро будем в Сете. Лоран ничего не ответил. Она что-то сказала ему, рассеянно и нехотя. Об Эпаминондасе. Матрос, его звали Альбер, посоветовал ей взять на борт Эпаминондаса. Но ни он, ни Лоран не напомнили ей о его письме. — Да,— заметил Альбер,— не найдется другого такого, как Эпаминондас! Она согласилась с ним, обещала взять Эпаминондаса с собой и быстро прекратила разговор на эту тему. Наши взгляды встретились, и мы оба одновременно опустили глаза. Нам не требовалось что-либо говорить. Это не осталось незамеченным. Лоран и Альбер, мельком взглянув на нас, быстро вышли из столовой. Как только они ушли, появились два других члена команды. Один из них включил радио. Передавали новости о восстановлении Италии. Из кармана брюк она вытащила карандаш и написала на бумажной салфетке: «Приходи». Я рассмеялся. И очень тихо сказал, что ночами это невозможно. Она не стала настаивать, попрощалась с обоими матросами и ушла. Я вышел из бара почти сразу после нее и пошел к себе в каюту. У меня не оставалось сил даже лечь. В зеркале я увидел кого-то, кусающего носовой платок, чтобы не завыть. Не успел я войти в каюту, как она пришла вслед за мной. — Почему нельзя ночами? — спросила она. Я не ответил.— Что с тобой? Что мешает тебе быть со мной каждую ночь? — Через несколько дней,— ответил я. Наверное, потому, что смотреть на нее любил больше всего остального. — Если бы я знала, я бы тебе тоже сказала, что совершаю кругосветное путешествие.— Эта реплика рассмешила нас обоих. Она села на край моей койки, обхватив колени руками.— Обычная история, но ты едва ли поймешь. — Не думаю, даже если это и обычная история. И она улыбнулась слегка насмешливо. Испытывая неудобство от сидения на краю койки, сбросила свои сандалии на пол. — Ну так что? — Это не из-за какой-то там истории. А потому, что очень утомительно… Она опустила глаза и, как и я, посмотрела на свои обнаженные ноги. Мы долго молчали, а затем она спросила самым обычным тоном: — Скажи, что с нами происходит? — С нами ничего не происходит. Я произнес это немного грубовато. Она опять улыбнулась. — Я сказала тебе, что сразу же уснула, но это неправда. Я не могла уснуть. — Ну что ж,— сказал я,— прекрасный повод лечь сегодня пораньше. Она не отреагировала. — Знаешь, есть большая разница между тем, о чем сказано, и тем, о чем умолчали. — Теперь узнал от тебя. Но не знаю, что кроется за этим. — А я знаю,— улыбнулась она и, поразмыслив, добавила: — Тебе надо найти какую-нибудь работу на судне. — Я собираюсь ловить селедок на удочку.— Но она не засмеялась.— Иди к себе в каюту. Однако она не тронулась с места, как будто я ничего не сказал, обхватила голову руками и села так, словно собиралась просидеть здесь целую вечность. Мне хотелось закричать. — Да, точно,— тихо сказала она,— есть большая разница. Часто вещи понимаешь заново. — Ты глупышка. Она подняла голову и произнесла со спокойной иронией: — Но мы можем поговорить друг с другом? — Поговорим,— сказал я,— создадим маленькую семью, временную и ни к чему не обязывающую. Возвращайся к себе. — Я сейчас уйду,— мягко произнесла она,— не надо так. — Как-нибудь, когда ты перестанешь быть такой дурочкой, расскажу тебе интересную длинную историю, у которой не будет конца. — Какую? — А какую ты хочешь услышать? Она опустила глаза. А я заставил себя задержаться у двери, чтобы не пойти к ней. Она хорошо поняла это и потребовала: — Нет, сейчас, расскажи сейчас. — Пока еще слишком рано, но скоро я тебе все расскажу. А кроме того, я научу тебя способу избавиться от него. — Избавиться от него? Никто в мире не сможет научить меня ничему подобному. — Я уверен, что смог бы научить тебя. А теперь возвращайся в свою каюту. Она встала, покорно взяла свои сандалии и ушла к себе. Я взял одеяло и отправился спать на палубу.

Меня разбудила утренняя свежесть. Мы только что обогнули Корсику, было, наверное, около пяти часов утра. Ветер доносил запах тропических кустарников. Я остался на палубе до восхода солнца. Постепенно аромат кустарников пропал. Потом я пошел в свою каюту и в полудреме промаялся до наступления дня. Затем встал, умылся и вышел на палубу. Ее увидел только в обед. Она выглядела спокойной и даже веселой. Но избегала говорить со мной и старалась, чтобы мы не оказались наедине в баре. Я с сожалением вспоминал, как мы обедали вместе за одним столом. Как же наша теперешняя ситуация выглядела в глазах членов команды? Быстро пообедав, я вышел из бара и пошел искать Лорана. В этот день он нес вахту в рулевой рубке. Мы поговорили о том, о сем. Но не о ней. О моряке из Гибралтара. О Нелсоне Нелсоне. Я провел с ним около получаса, а потом пришла она и, как мне показалось, удивилась, застав меня там, но виду не подала. Первый раз, с тех пор, как я узнал ее, она произвела на меня впечатление праздной дамы. Она села у ног Лорана и вмешалась в наш разговор. Мы поговорили о Нелсоне Нелсоне и все вместе посмеялись. — Говорят,— сказал Лоран,— он имел привычку выплачивать своим жертвам хорошую пожизненную ренту, вследствие чего прослыл гуманистом. Но будучи прежде всего деловым человеком и ценя время на вес золота, он предпочитал ездить на большой скорости, периодически кого-нибудь давя, а не ползти со скоростью черепахи. Он подсчитал, что так обойдется дешевле. — Ну и воображение у тебя,— сказала она смеясь. — Я где-то прочитал об этом,— сказал Лоран.— В его активе было двадцать пять задавленных, и он не очень-то беспокоился по поводу моряка из Гибралтара. — И все же просчитался,— вставил я. — О да,— продолжала смеяться она,— это только подтверждает сказанное. — Ты меня восхищаешь,— заметил Лоран. — Тоже мне дилемма! — сказал я.— А разве все остальные не поступают подобно Нелсону Нелсону? Если как следует вдуматься. И мы все втроем рассмеялись, особенно она и я, при этом не забывая, что если бы не Лоран, нам было бы не до смеха. — А желание найти его,— сказала она,— это попытка решить дилемму. — А разве кто-нибудь знает, что бы делал бедный Нелсон Нелсон, явись он в мир во второй раз,— задумчиво произнес Лоран. — Это не довод,— сказала она.— Полагаю, я думала над этим. Еще раз умереть — это единственное, что ему оставалось. Он многое успел в своей жизни, сделал уйму шарикоподшипников, был их королем. Все транспортные средства мира двигались на шарикоподшипниках Нелсона, разве не так? Значит, Земля, вращаясь вокруг своей оси, сделала круг воображаемой жизни Нелсона Нелсона. Для того, чтобы он умер невоображаемой смертью. — Сегодня ты в ударе,— констатировал Лоран. — Почему бы ему не сказать, например, так: «У меня достаточно шарикоподшипников, и в знак великодушия я часть выделяю вам, учитывая этот несчастный случай». А он сбежал как заяц.— Она замолчала, закурила сигарету.— Или же,— продолжила она,— он мог бы просто сказать: «Кровь, текущая из вашей раны, заставляет меня страдать». Это не стоило бы ему ничего. А он сбежал как заяц. — Ты бы нашла другое,— сказал Лоран,— я за тебя спокоен. — Только подшипники,— ввернул я. Реплика осталась без ответа.— Так что же это? — спросил я. — Сталь,— ответила она.— Только сталь. То, что идет на подшипники или на яхты…— Она видела, что я жду дополнительных пояснений. Единственный наследник огромного состояния, созданного на стали. — Но пренебрегшего сталью,— добавил Лоран. — Он выбрал море, сбежав от своих, — сказала она,— ты же знаешь, как бывает у богатых…— Она улыбнулась.— Но их всегда объединяла сталь. Это доказывает… — …То, из чего сделана яхта,— продолжил я. — Но уж теперь-то,— заметил Лоран, смеясь,— сталь в надежных руках. Она весело рассмеялась, все время избегая смотреть на меня. — И все же,— сказала она,— не будем уделять такое внимание убийцам. — Убежден, даже если бы не было убийцы, ты бы нашла что-то другое,— произнес Лоран. — Что действительно необходимо,— сказал я,— так это хорошая навязчивая идея. И ничего другого. — Ты о чем? — Она наклонилась ко мне. — Найти хороший предлог,— ответил я. — Для чего? — Чтобы путешествовать, к примеру,— рассмеялся я. Лоран принялся что-то напевать. Разговор иссяк. Она внезапно встала и вышла. А я долго сидел рядом с Лораном. Целый час. Мы молчали, лишь изредка перебрасывались незначительными репликами. Потом я тоже ушел, но не в каюту, а на свое место на палубе рядом с лебедкой. Но не спал. Когда вошел в столовую, она сразу же ушла. И даже не взглянула на меня.

В эту ночь я опять спал на палубе, дабы избежать ожидания ее прихода в каюту. На рассвете, как обычно, проснулся до восхода солнца. Уже целый день я не виделся с нею наедине. Но чувствовал себя таким уставшим, как будто занимался тяжелой физической работой. Я стоял на палубе, облокотившись на поручни. Мы шли вдоль французского берега, причем довольно близко к нему. Передо мной проплывали маленькие деревушки, прибрежные огни освещали море. Но я ни на что не смотрел. Положил голову на поручни и закрыл глаза. Мне не хотелось ни о чем думать, ее образ заполнил все мое существо. Она спала в своей каюте, я представлял ее только спящей. И понял, что не смогу долго сопротивляться, мне необходимо любить ее, говорить с ней. Я долго стоял так, приложив лоб к поручням. Потом взошло солнце. Я пошел в каюту, почти против воли, опьяненный своим воображением, представляя себе, как она спит. По-видимому, долго прождала и в конце концов уснула. На тумбочке у изголовья стояла бутылка виски. Она спала одетая, завернувшись в простыню, сандалии свалились с ее босых ног. Выпила не много, бутылка была наполовину полной. Спала очень крепко. Даже во сне в ней чувствовалась какая-то неприкаянность. Не раздеваясь, я лег на пол, на ковер. Не желая, чтобы она проснулась, я старался не смотреть на нее долго. Я хотел, чтобы она спала. Мне удалось забыться тяжелым сном на некоторое время. Проснулся я раньше ее и, тихонько выйдя из каюты, направился в бар. Я выпил много кофе. Вся команда уже находилась на палубе. Часы показывали девять. Мы прибыли в Тулон. Я спал всего часа четыре. Когда вышел на палубу, то увидел то же ослепительное сияние, что вчера и все дни моего пребывания на яхте. Я никак не мог привыкнуть к такому свету на море.

Я был на берегу все время, пока мы стояли в Тулоне. И не знал, стоит ли мне возвращаться на судно. Но все же поднялся на борт. Несмотря на стоянку, день казался мне нескончаемым. Почти полностью я провел его в своей каюте. Она не заходила ко мне. Увидел ее только за обедом. Она показалась мне такой же спокойной, как и накануне, только в ее глазах проглядывалось что-то похожее на болезненную усталость, которой я никогда не замечал у нее. Кто-то из матросов спросил, не больна ли она, она односложно ответила, что нет. В тот вечер она быстро ушла к себе в каюту. Я тотчас же пошел вслед за ней. — Я ждала тебя. — Совершенно не знаю, чего мне надо. — Тебе надо,— медленно произнесла она,— спать на палубе. Стоя возле нее, лежащей на койке, я почувствовал, что меня охватила дрожь. — Поговори со мной,— попросила она. — Не могу.— Я попробовал засмеяться.— В сущности, я ведь неразговорчивый. Не знаю… — Неважно,— прервала она меня. — Идиотизм какой-то. Похоже, я стал идиотом. На этот раз она попросила, чтобы ушел я. В эту ночь опять спал мало, но уже в своей каюте. И проснулся так же рано, как и в предыдущие дни. После бессонной ночи выпил крепкий и горячий кофе. Для тех, кто плохо спит, на судне всегда имелся хороший кофе. Ко мне подошел Бруно. Он как-то странно посмотрел на меня. — Ты болен,— сказал он. Я стоял, прислонившись к двери столовой. — Все из-за света,— объяснил я,— я не привык. Он показал на берег, широко улыбаясь. — Сет. Мы будем там через полчаса. Надо разбудить ее. Я спросил, почему у него такой веселый вид. — Потому, что меня начинает забавлять все это. В этот момент вошел Лоран и услышал последнюю фразу. — Уже поздно,— недовольно проговорил Лоран. После Сицилии он ходил с мрачной физиономией.— Ты уйдешь в Сете? — Еще не знаю,— ответил Бруно,— может, и останусь. Надо что-то делать. Вскоре она тоже вышла на палубу и подозвала меня. Мы дружески поздоровались, и в первый раз она поинтересовалась, как мои дела. Одета была, как обычно, в брюки и черный пуловер, но еще не причесывалась. Волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Я ответил, что у меня все в порядке, но спал плохо. Больше она ни о чем не спросила. Прямо на ходу выпила две чашки кофе, после чего вышла на палубу и стала смотреть на город. Поздоровалась с Бруно, который продолжал улыбаться. Я знал, что она беспокоилась по поводу Бруно и ей было приятно видеть его улыбающимся. Она тоже заулыбалась. Казалось, они радуются прибытию в город. Смотреть на них доставляло удовольствие. — Ты не останешься в Сете? — Скорей всего нет,— сказал Бруно.— Когда я услышал об Эпаминондасе, мне захотелось познакомиться с ним. — Мне бы хотелось, чтобы ты не бросал нас. Мы были уже в сотне метров от пристани. На берегу стоял человек и махал нам руками. Она, улыбаясь, приветственно подняла руку. Я подошел к ней. — Ты увидишь,— сказала она,— нет другого такого, как Эпаминондас. — Так же, как нет другой такой, как ты,— засмеялся Бруно. Создавалось впечатление, что он пил всю ночь. Она ушла привести себя в порядок и возвратилась, когда судно причалило.

Эпаминондас оказался молодым и красивым греком. По тому, как он смотрел на нее, я понял, что он часто вспоминал о своем пребывании на судне. Первое, что бросилось мне в глаза при взгляде на него, это татуировка на груди, хорошо просматривающаяся из-под расстегнутой рубашки. Четко нарисованное сердце пронзал кинжал. Из-под лезвия крупные капли крови стекали на написанное имя. Оно начиналось с буквы «А». Издалека я не мог прочесть его полностью. А так как он был взволнован встречей с ней, татуированное сердце билось в том же ритме, что и его собственное, и кинжал, пронзивший нарисованное сердце, судорожно подпрыгивал на ране. Должно быть, то была большая любовь. Я горячо пожал ему руку, пожалуй, даже слишком горячо. Она заметила, что я силюсь получше рассмотреть его татуировку, и улыбнулась мне, наверное в первый раз после Пьомбино. Мне даже показалось, что она хотела успокоить меня, вселить в меня уверенность, что мы преодолеем все трудности, что все дело в терпении и доброй воле. После жарких приветствий, особенно с Лораном, с которым они были хорошо знакомы, мы пропустили в баре по стаканчику вина. Несомненно, Эпаминондас предпочел бы побыть наедине с ней, но она настояла, чтобы я остался. Мы выпили бутылку шампанского. Эпаминондас тоже смотрел на меня, но с более сдержанным любопытством, чем я. По всей вероятности, до меня он повидал рядом с ней многих других и уже ничему не удивлялся. Впрочем, я не слишком смущался, что на меня смотрят, как на некое необходимое приложение к женщине. К тому же он быстро удовлетворил свое любопытство и начал рассказ. Эпаминондас сменил род занятий. Он водил теперь машины между Сетом и Монпелье. Во время одной из своих поездок встретил моряка из Гибралтара. Тот тоже, если можно так сказать, сменил род занятий. Он работает на станции техобслуживания на дороге между Сетом и Монпелье. Она улыбалась, стараясь ободрить его. Я тоже. С того момента, как Эпаминондас начал рассказывать, меня не покидало радостно-приподнятое настроение. Рассказывая о станции техобслуживания, он как бы имел в виду, что моряки из Гибралтара вынуждены делать то, что могут, и не всегда то, что хотят, и ничем не отличаются от обыкновенных людей. Эта ультрасовременная станция действует бесперебойно и, вероятно, приносит немалый доход. Моряк из Гибралтара исполняет там должность управляющего и, как говорят, является даже совладельцем. На этот раз его зовут Пьеро. В департаменте все его знают, но никто не знает, откуда он. Он появился там три года назад, вскоре после Освобождения, и носил фамилию Пьеро. Несомненно, это не его фамилия, но так как никто, в том числе и она, не знает настоящей фамилии моряка из Гибралтара, то какая разница? Что может быть более относительно, чем фамилия, своя ли, чужая… Даже его самого, Эпаминондаса, в Сете все прозвали Гераклом. И с комической гримасой он добавил: «Впрочем, без всякого на то основания». Она согласилась с ним. У Пьеро большая клиентура, продолжал Эпаминондас. Что еще? Он француз и, судя по выговору, довольно долго прожил на Монмартре. Пьеро мастер на все руки. По воскресеньям его часто видят разъезжающим на американской машине, которую он купил почти даром и сам привел в божеский вид. Говорят, что у него нет постоянной женщины, но много случайных связей, в основном с клиентками — богатыми, праздными и неудовлетворенными женщинами. Но он не женат и живет один. Однажды Эпаминондас спросил его почему, и Пьеро сказал ему кое-что, что он с сожалением вынужден передать Анне: «У меня была когда-то одна,— Эпаминондас покраснел и громко хохотнул,— но она так прилипла ко мне, что мне не хочется все начинать сначала». Мы посмеялись все вместе. Эпаминондас еще раз извинился. С самой первой встречи Эпаминондас обратил внимание на Пьеро, отметив его необычность. Тогда еще он ничего не знал о нем, но все равно этот человек поразил его. Почему? Он не смог бы сказать точно. Может, из-за его походки, несколько отстраненной, медлительной, как у киногероя? Бесстрашия его как водителя? Успеха у женщин? Одиночества и тайны, которые его окружает? Непонятно, откуда взялся, его никто не знал. Каждый день Эпаминондас проезжал мимо станции Пьеро — возил овощи на рынок в Монпелье. Он проезжал около одиннадцати часов вечера — Пьеро не закрывался до полуночи. Эпаминондас часто останавливался, и они немного болтали друг с другом. Но Пьеро настолько неразговорчив («Тоже удивительно, разве не так?»), что за целые недели удавалось узнать совсем немногое. Тем не менее, складывая отдельные разрозненные сведения, Эпаминондасу удалось составить достаточно четкое представление о Пьеро и его прошлой жизни. В течение шести месяцев он останавливался четыре раза в неделю («Раз надо, значит, надо!») на станции техобслуживания. Когда Эпаминондас узнал, что Пьеро в прошлом моряк, дело пошло быстрее. При каждой новой встрече у них вошло в привычку вспоминать тот или иной уголок мира, где они побывали. Таким образом Эпаминондасу удалось разговорить Пьеро. Тот момент, когда они заговорили о Гибралтаре, оказался решающим. Эпаминондас спросил у Пьеро, бывал ли он в тех местах. «Какой моряк,— ответил Пьеро,— не знает Гибралтара». Эпаминондас согласился с ним. «Как не знать»,— добавил Пьеро. И его улыбка показалась Эпаминондасу многозначительной. Тогда все на этом и закончилось. Эпаминондас решил не торопить событий. Он вернулся к этому разговору только через восемь дней. Конечно, мог бы подождать еще, но его мучило любопытство. «Прекрасное местечко, этот Гибралтар»,— осторожно начал Эпаминондас. «Как сказать,— ответил Пьеро.— Все зависит от точки зрения. Но стратегический пункт великолепный, выше всяких похвал».— «Ведь это необыкновенно красивое место».— «Не знаю, ничего не вижу в нем особенного». Говоря это, он улыбался странной улыбкой, более странной, чем в первый раз. Как описать ее? Есть вещи, о которых нельзя рассказать. Но Эпаминондас заметил, что, когда речь зашла о Гибралтаре, Пьеро оживился, проявив какою-то заинтересованность. «Если возьмешь карту, то на входе в Средиземное море увидишь скалу, и тогда ты поверишь в дьявола,— сказал он потом,— или в Господа, это зависит от настроения». Разве не странно, что пролив ассоциировался у Пьеро с чем-то сугубо личным? Анна поднялась и поцеловала Эпаминондаса. — Скорее всего это именно он,— сказал Эпаминондас, приободрившись. Потом однажды вечером услышал, как Пьеро насвистывает песню Легиона, что в известной степени подтвердило предположения Эпаминондаса. Как-то раз Эпаминондас обнаружил неполадку в динамо-машине и остановился на станции. Случай показался ему достаточно удачным. Пьеро поверил, что поломка произошла только что, и он не может ехать дальше. «Если дело в подшипниках,— успокоил его Пьеро,— я разбираюсь в этом, надо посмотреть». И принялся за работу. Пожалуй, несколько нервозно, посчитал Эпаминондас. Он разобрал динамо. Подшипник оказался расплющенным, и он его заменил. По окончании работы Эпаминондас решил немного поговорить. «Прекрасное изобретение,— сказал Эпаминондас,— если вдуматься, я ничего не понимаю в этом».— «Это как и во всем другом. Надо знать ремесло». Пьеро сделал ударение на слове «ремесло», и Эпаминондас почувствовал какую-то отдаленную связь с убийством Нелсона Нелсона… «Тот, кто изобрел это,— продолжал Эпаминондас,— не король дураков».— «Может, и не король,— ответил Пьеро,— но я хочу спать». Эпаминондас извинился, что задержал его допоздна. Но сделал попытку еще немного поговорить с ним. «И все-таки это чертовски здорово придумано».— «Твои восхищения несколько запоздали. Это придумано двадцать лет назад. И вообще уже десять минут первого». Конечно, это ни о чем не говорит, но в отказе продолжить разговор Эпаминондас видел еще одно доказательство. Он закончил свой рассказ. Это все, что ему удалось узнать, сказал он. Он чувствовал себя обязанным и посчитал, что должен послать телеграмму, дабы любой ценой найти моряка из Гибралтара. Он еще раз извинился, что не смог добыть более убедительные доказательства, ибо, конечно, эти его доводы зиждутся в основном на интуиции, а не на фактах. Но, добавил он, и ими не следует пренебрегать. Я вспомнил, что, по ее словам, это третье послание Эпаминондаса за последние два года. Я поверил ему и в его искренность. Думаю, что и она тоже. Если он и казался немного смущенным, то, наверное, потому что все-таки в его истории была известная неопределенность, и он боялся, что его рассказ не убедил ее. Уставясь в пол, он ждал, что она скажет. Она начала задавать ему обычные вопросы. — Он брюнет? — Брюнет. Волосы немного вьются. — А глаза? — Очень голубые. — Совсем-совсем голубые? — Просто голубые, я особенно не присматривался. Ну да… совершенно голубые. — Ну-ну.— Она задумалась на некоторое время.— Настолько голубые, что ты сразу же заметил это? — Сразу же. Как только я увидел его, сразу подумал: редко можно встретить такие голубые глаза. — Голубые, как твоя рубашка или как море? — Как море. — А какого он роста? — Трудно сказать. Немного выше меня. — Встань. Она тоже встала. Они встали рядом. Анна оказалась выше Эпаминондаса примерно на полголовы. — Я его настолько же ниже, насколько ты меня. Она приложила руку к уху Эпаминондаса и долго глядела. — Было бы странно, если бы ты ошибся,— сказала она наконец, после чего, немного подумав, спросила: — А голос? — Такой, как будто у него легкий насморк. Я хмыкнул. Эпаминондас тоже. Она оставалась серьезной. — Это ты тоже сразу отметил? — Да, я заметил это сразу. Она приложила руку ко лбу. — Ты не разыгрываешь меня? Эпаминондас не ответил. Мы увидели, что она очень побледнела. Это случилось после того, как он сказал про голос. Никто уже не смеялся. — А почему бы и не станция техобслуживания,— тихо произнесла она. Анна встала и заявила, что поедет туда. Она спустилась в трюм через люк, находившийся недалеко от двери в бар. В трюме стояли два автомобиля. Я спустился следом за ней. Эпаминондас, поколебавшись, сошел на пристань, сказав, что предупредит Лорана, чтобы тот открыл панель. В трюме было очень темно. Она не зажгла свет. Внезапно обернувшись, она бросилась в мои объятия. Она сильно дрожала, и я подумал, что она плачет. Я поднял ее голову и увидел, что она смеется. Мы выпили только одну бутылку шампанского, а ей нужно гораздо больше, чтобы опьянеть. Глухой шум, возникший в трюме означал, что заработал зубчатый механизм; Лоран открывал панель. Она так и стояла, прижавшись ко мне, а я никак не мог отпустить ее. Панель начала приоткрываться. В трюме стало посветлее. Мы по-прежнему стояли обнявшись. Она все смеялась, а я не отпускал ее. А так как она закрыла глаза, то не видела, что панель открывается все больше и больше, и сейчас мы окажемся на виду у всех. Я попытался легонько отстранить ее, но мне это не удалось. Два дня мы не спали вместе. А тут над панелью, как отрезанная, появилась голова Эпаминондаса. Я резко оттолкнул Анну. Эпаминондас смотрел на нас. Потом он отвернулся и исчез. Она направилась к одному из автомобилей, который находился в нескольких метрах от выхода из трюма, перед панелью. Чтобы подойти к этой машине, ей пришлось обойти вторую, которая загораживала проход. Она толкнула ее и плашмя упала на крыло. И вместо того, чтобы встать, осталась лежать, обхватив крыло руками. Лоран и Бруно смотрели на нее через открытую панель, затем снова появился Эпаминондас. Она лежала на крыле машины, вцепившись обеими руками в его края, и я подумал, что она отдыхает, ей так нужно… Уменя даже не возникло мысли прийти ей на помощь. Бруно закричал, и тогда я испугался, бросился к ней и снял ее с крыла машины, спросив, не ушиблась ли. Она ответила, что нет. Села в автомобиль и завела мотор, лицо ее казалось сосредоточенным и спокойным. И тогда мне по-настоящему стало страшно. Я громко позвал ее. Может, из-за шума мотора, но создавалось впечатление, что она ничего не слышит. Я крикнул еще раз. Она проехала по панели, которая служила пандусом между полом трюма и берегом, и помчалась дальше. Я побежал за ней, в последний раз прокричав ее имя. Она не остановилась, исчезнув за воротами причала. Я вернулся, сел в другую машину и включил двигатель. Быстро подбежал Лоран, за ним Эпаминондас и Бруно. Они слышали, как я звал ее. — Что случилось? — спросил Лоран. — Поеду за ней. — Мне поехать с тобой? Я не хотел этого. Эпаминондас имел такой вид, будто только что очнулся от долгого сна. Он стоял перед автомобилем. — Ну так что? — сказал Бруно.— Это явилось бы… — Доказательством,— изрек Эпаминондас, показывая на меня с видом одновременно растерянным и гордым. Я крикнул, чтобы он пропустил меня. Лоран взял его за руку и отвел в сторону. Я услышал, что Бруно сказал Эпаминондасу: «Пусть они сами выкручиваются». А Лоран, как мне показалось, обругал его. Я догнал ее на выезде из Сета, на узкой улочке с максимально ограниченной скоростью из-за близости рынка, и поехал вслед за ней. Она не видела меня, ибо все ее внимание поглощала ночная толчея. Вела она машину хорошо — ловко и точно. В какой-то момент я оказался всего в двенадцати метрах от нее. Началась дорога на Монпелье. Она нажала на газ. Ее машина была бесспорно мощнее моей, но все же мне удавалось не увеличивать разрыва больше, чем на двести метров. Я не знал, почему еду за ней, скорее всего потому, что ожидание на яхте представлялось мне невыносимым. Я хорошо видел ее, особенно когда сокращал разрыв в расстоянии до пятидесяти метров. Ее волосы стягивала зеленая косынка; между косынкой и черным пуловером виднелась шея, и мне захотелось задушить ее. Незадолго до цели она увеличила скорость и мчалась так до самой станции техобслуживания. Я не мог столь быстро следовать за ней. Но, к счастью, эта гонка продолжалось недолго. Через пятнадцать минут после выезда из Сета и через семнадцать километров, указанных Эпаминондасом, показались роскошные бензоколонки Пьеро. Под крытым сводом станции уже стояли три автомобиля. Она замедлила ход, развернулась и поставила машину за ними. Я тоже затормозил, развернулся и встал в двух метрах от нее. Она все еще не видела меня, по крайней мере, мне так казалось. Она сидела ко мне спиной, и я все время видел ее затылок между зеленой косынкой и черным пуловером. Она выключила двигатель. В нескольких метрах от нее мужчина, занятый заправкой, смотрел на бензомер. Она привстала с места, посмотрела на него секунды две и почти упала обратно на сиденье. Первый автомобиль отъехал. Мужчина направился ко второму и увидел ее. Он посмотрел на нее продолжительным взглядом. В его взгляде я не заметил узнавания. Конечно, я не мог видеть выражение глаз мужчины. Но, с моей точки зрения, это был заинтересованный взгляд мужчины, обращенный к просто красивой и одинокой женщине, которой он не знал. Он спокойно наполнил бак второй машины, время от времени бросая взгляд на Анну. По моим данным, он не должен был быть таким молодым. Правда, мне не удавалось его хорошо рассмотреть. Между нами находилась Анна, и ее присутствие, казалось, может воспламенить даже воздух. Я видел только бледное лицо, словно опаленное адским огнем. Подошла ее очередь, чего, похоже, она не заметила. Мужчина подошел к ней и сказал, улыбнувшись: — Вас не затруднит немного продвинуться? Он стоял, освещенный солнцем, в нескольких метрах от меня так, что я смог наконец рассмотреть его. И я сразу узнал его. Я узнал моряка из Гибралтара. Я никогда не видел его фотографии и, соответственно, не представлял себе лица этого человека. Но мне и не требовалось никаких ориентиров. Я узнал его, как, никогда не видя, люди узнают, например, море,— интуитивно. Всего за несколько секунд, которые решили все. Мне не требовалось никаких доказательств. Это был не его взгляд, но взгляд всего человечества. В выражении лица мужчины сквозила вселенская покорность судьбе, что безошибочно ощущалось на протяжении нескольких секунд. Она медленно подъехала к колонке, задевая тротуар. За мной встал какой-то автомобиль. Я двинулся вслед за ней, уступая ему место. Она сидела, вцепившись в руль. — Двадцать литров. Я узнал ее голос, хотя едва расслышал его. Мужчина опять обрел лицо. Теперь он смотрел на нее со смесью обычной дерзости, пресыщенности, уверенности в себе и любопытства. Каким образом его лицо могло так измениться или, скорее, возродиться за эти две секунды? Вместо того чтобы отъехать от бензоколонки, она вышла из машины и, повернувшись, увидела меня. Вероятно, знала, что я там, ибо вовсе не выглядела удивленной. На ее лице блуждала улыбка, которой я не знал у нее,— виноватая и потерянная. Она давала понять, что не забыла о моем существовании, несмотря на то что, может быть, нашла его. В ее глазах я прочитал просьбу о прощении. Я сделал значительное усилие над собой, чтобы не позвать ее. Она быстро отвернулась к мужчине. Со спины она выглядела странно одетой. В своих неизменных черных брюках и черном трикотажном свитере. А ее лицо, наверное, должно было теперь заставить его сбежать. Однако он не бежал. — Проверьте, пожалуйста, тормоза,— сказала она. Я не мог понять, почему она хотела остаться. Ведь в течение многих лет у нее были только случайные мужчины, в результате чего у нее выработалась привычка к этой привычке, своего рода верность себе. Мужчина посмотрел на нее с некоторым интересом, но он несколько утратил свою самоуверенность. Похоже, у него мелькнула мысль, что существует какая-то связь между ею и мной. — Встаньте в сторонку. Мне надо сначала обслужить другие автомобили.— С этими словами он указал на клиентов, среди которых был и я. Она опять села в машину и кое-как отъехала в сторону. — Я подожду,— заверила она его. Затем к колонке подъехал я. Я находился совсем рядом с ним. Теперь он ничем не напоминал того мужчину, которого я видел несколько секунд назад. В нем появилось что-то ребяческое, особенно, если забыть то, что значили для нас с ней несколько прошедших мгновений. — Десять литров,— сказал я. Он едва взглянул на меня. Нет, он, конечно, не понял, что произошло. Он рассеянно обслужил меня, торопясь покончить с клиентами, чтобы заняться женщиной. Я выехал на дорогу к Монпелье, оставив ее наедине с ним. До Монпелье оставалось тридцать километров. Машина шла хорошо. Стрелка спидометра неудержимо двигалась вверх. Сто, сто десять. Наконец, сто двадцать. Сколько мог, я удерживался на ста двадцати. А учитывая, что на такой скорости ехал первый раз в жизни, и что дорога не отличалась хорошим качеством, то старался вести машину очень внимательно, полностью отдаваясь этому делу. И только когда мимо проезжал встречный автомобиль, или когда я обгонял другой, или затормаживал перед поворачивающим, передо мной возникала она наедине с мужчиной и ее улыбка, обращенная ко мне. На полпути я остановил машину, не зная, куда себя деть. Возвращаться мне тоже не хотелось. Я закурил и снова ясно увидел ее улыбку, виноватую и потерянную. На лбу выступил пот. Потом я представил себе его. И еще раз. Пытаясь отогнать от себя его образ, попробовал думать о другом. Но мои мысли вертелись вокруг утраченного счастья; я вспоминал ее тело под черным свитером и то, с какой легкостью она его сбрасывает, а потом снова видел ее наедине с мужчиной на станции. Но самым сильным впечатлением оставалась ее улыбка, которая целиком заполонила все мое существо. Я завел машину и двинулся в сторону Монпелье. На краю города снова остановился. Не помню, как долго я сидел в машине, уставившись в одну точку и дав волю воображению. Потом поехал дальше. Добрался до предместий Монпелье, где и зашел в первое попавшееся бистро. Заказал одну порцию коньяка, потом другую, третью, после чего разговорился с хозяином. — Чертовски хорошая погода. Только сейчас под благотворным действием коньяка я ощутил приятную свежесть бистро. — Сентябрь действительно прекрасный месяц,— отозвался хозяин. Неожиданно желание поговорить пропало. После четвертого коньяка я расплатился и направился по дороге, ведущей направо от шоссе, за бистро. Я по-прежнему не знал, что мне делать с собой. Снова остро захотелось увидеть ее такой, какой я увидел ее тогда на пляже, в первый раз, но не имел возможности, пока она не закончит с этим мужчиной там, на станции. Коньяк вызвал целый рой болезненных видений, среди которых самое невыносимое — она, небрежным движением сбрасывающая свой черный свитер. Я все шел. По обеим сторонам дороги валялись плиты, по-видимому, предназначавшиеся для строительства тротуара, которое так и не состоялось из-за войны. Через пятьсот метров я сел на одну из них. Посидел немного. Вдали послышался заводской гудок. Полдень. Мимо не проехала ни одна машина и только изредка велосипедисты. Вдоль дороги стояли окруженные изгородью бедные домишки, рядом с которыми торчали чахлые, уже желтеющие акации. Большая часть домишек была покрыта толем. На проволоке, натянутой между ними, сушилось белье. Звон кастрюль и посуды смешивался с ворчливыми голосами. Жители домишек-бараков обедали. Через некоторое время я заметил, что не один на дороге. Со мной поравнялись двое детей. Старший, двенадцатилетний мальчик, прогуливал в коляске младшего, крутясь возле канавы, где сквозь кучи ржавого железа пробивалась крапива. Позади участок, огороженный мелким кустарником, был превращен в футбольное поле с двумя штангами без сетки; оно тянулось до деревьев, растущих вдоль основной дороги, где сновали автомобили. В воздухе стоял запах гниения. Увидев меня, мальчик замедлил шаг, но катать туда-сюда коляску продолжал. Я заинтересовал его. Младший спал в коляске. Его голова раскачивалась из стороны в сторону. Из носика стекла прозрачная капля и остановилась на бугорке верхней губы. Густые волосы ребенка разметались на изголовье: они падали ему на глаза, отдельные пряди прилипли к векам. Назойливые мухи конца лета садились на его лицо. Босоногий, худой, с тусклыми слипшимися волосами старший мальчик время от времени останавливался и смотрел на меня. На нем была девчачья кофта. Маленькая, недоразвитая, сплюснутая у висков голова болталась на тонкой шее. Они производили впечатление самых заброшенных и бесприютных существ, каких мне когда-либо доводилось видеть. Я не двигался, и мальчик осмелел. Он остановил коляску в нескольких метрах от меня, потом, успокоенный моей неподвижностью, сделал пару шагов по направлению ко мне. Это продолжалось довольно долго. Мальчик смотрел на меня с необъяснимым ужасом и страхом, смешанным с непреодолимым любопытством. Я поднял голову и улыбнулся ему, но, похоже, сделал это слишком резко. Он отпрянул. Я снова застыл в неподвижности, чтобы не повергнуть его в бегство. — Здравствуй,— очень тихо произнес я. — Здравствуй. Мальчик чуть-чуть успокоился. Поглядев на плиту, лежавшую в десяти метрах от меня, он сел на нее. Я вытащил сигарету и закурил. Акация почти не давала тени, было нестерпимо жарко. Я заметил, что мальчишка забыл о своем подопечном, коляска стояла под самым солнцепеком, но ребенок продолжал спать, повернувшись головкой к самому солнцу. — Убери его с солнца,— сказал я. Осознав свою оплошность, он встал и грубо толкнул коляску на другую сторону от плиты. Малыш не проснулся. Затем он опять уселся на ту же плиту, и мы надолго замолчали. — Это твой братишка? Он молча кивнул. Запах сигаретного дыма не забивал запаха гнили, стоявшего в воздухе. Вероятно, ребятишки родились и росли в этом запахе. — Я живу на корабле,— сказал я. Его глаза расширились. Он встал и приблизился ко мне.— Корабль большой, как отсюда до дома,— продолжал я, рукой показав расстояние. Глазами он следил за моим движением. По всей видимости, перестал бояться меня. — Ты капитан? Я непроизвольно рассмеялся. — Нет, капитан не я. Мне очень захотелось коньяку, но я не решался уйти от ребенка. — А я,— заметил он,— люблю самолеты. В его глазах появилась какая-то жадность, почти тягостная. На короткое мгновение он забыл обо мне, предаваясь мечтам о самолетах. Затем вернулся из своих грез, подошел совсем близко и стал рассматривать меня. — Это правда? — Что? — Что ты живешь на корабле? — Правда. Он называется «Гибралтар». — А если ты не капитан, что ты делаешь? — Ничего. Я пассажир. Передо мной пышным цветом цвела крапива. Время шло. Я наклонился, резко сломал один стебель и смял его в руке. Зачем? Чтобы скрутить шею времени, которое я должен переждать. Это мне удалось. Я зажал его в руке, и мне стало очень больно. Услышав смех ребенка, я встал. Мальчик сразу перестал смеяться и отбежал в сторону. — Иди сюда,— позвал я его. Он медленно возвратился, ему хотелось объяснения. — Это научит меня,— сказал я и засмеялся. Он внимательно смотрел на меня. — Ты знал, что она жжется? — Я забыл. Он успокоился. Чувствовалось, что ему хочется, чтобы я остался с ним еще немного. — Мне надо идти. Я желал бы купить самолет, но сейчас у меня нет времени. Как-нибудь вернусь и куплю его тебе. — Твой корабль отходит? — Да, он скоро отходит. Мне надо идти. — А машина у тебя тоже есть? — Тоже. Ты любишь машины? — Не так, как самолеты. — Я должен возвращаться. До свидания. — Ты вернешься? — Вернусь, чтобы купить тебе самолет. — Когда? — Не знаю. — Это неправда. Ты не вернешься. — До свидания. Уходя, я обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на мальчика. Он уже забыл обо мне. Расставив руки на манер крыльев, он изображал летящий самолет. А малыш все спал. Когда я проезжал семнадцатый километр, то не заметил там ничего необычного. Ее машины нигде не было видно. Мужчина сидел на табуретке лицом к дороге и ждал клиентов, читая газету. Я остановил машину чуть подальше и закурил. Затем очень быстро поехал к причалу, где стояла яхта. Прошло около двух часов, с тех пор как мы уехали. Эпаминондас ждал нас, разговаривая с Бруно. Он подбежал ко мне. Учитывая наше долгое отсутствие и тот факт, что она еще не вернулась, он был полон надежд. Бруно, как мне показалось, тоже. — Ну что? — крикнул Эпаминондас. Насколько мог, я деликатно объяснил ему, что, с моей точки зрения, это не то самое. Бруно потерял интерес к ситуации и, пожав плечами, удалился. — Но если она остается там столько времени,— недоумевал Эпаминондас,— разве не для того, чтобы убедиться? — Может быть,— сказал я примирительно,— она хочет убедиться, что это не он. — Что-то я плохо понимаю. Ведь это делается очень быстро: или ты узнаешь человека, или нет. — Я тоже так думаю. Не знаю почему, возможно, дело было в моей физиономии, но Эпаминондас принес мне коньяк. Себе он тоже налил по такому случаю. — И все же,— Эпаминондас возвратился к прерванному разговору,— она преувеличивает. На земле нет двух настолько одинаковых людей, чтобы их можно было спутать, ведь достаточно заговорить. Такого просто не может быть. Я не ответил. Эпаминондас надолго задумался. — Конечно,— продолжил он,— случается, что люди очень похожи, но только если смотреть издали. Я думаю, что в ожидании нас он уже немало выпил, и теперь все его мысли крутились вокруг этого дела. — Заметь,— сказал он,— если она захочет, то этот Пьеро будет для нее моряком из Гибралтара. Достаточно, чтобы она этого захотела. Ладно, надоело в конце концов. Не сегодня, так завтра она вернется. Она скажет, что все так, и все действительно будет так, а кто сможет что-нибудь возразить? — В этом смысле,— согласился я,— все так, никто не сможет ничего возразить. Я предложил ему сигарету. — Я же не единственный в своем роде. Надоело в конце концов… — Все мы,— философски заметил я,— не единственные в своем роде. Все это очень сложно. Его рассуждения приняли другой оборот. — Ну, а если бы она спросила у него о Нелсоне Нелсоне? — В общем-то, все очень сложно. — Ты хочешь сказать,— Эпаминондас усмехнулся,— если Пьеро не Пьеро, он ответит, что не знает Нелсона Нелсона. По моим глазам он понял, что я не слушаю его. Но это не имело для него значения. — Однако,— продолжал он,— такая женщина, как она… как можно не узнать такую женщину? — Не надо преувеличивать. — И все из-за этой станции! — сказал он самому себе.— Предположим, что он и есть моряк из Гибралтара. Владелец ультрасовременной станции техобслуживания, зарабатывает много денег, с полицией у него все на мази, он доволен жизнью. И тут является она и говорит: «Бросай все, вот и я!» — Действительно, я об этом не подумал. — Сможет ли он противиться, нет? Кто знает,— добавил он через мгновение,— если они не станут беседовать часа два. — Как знать. — Но есть какая-то неловкость, что ли,— продолжал Эпаминондас,— он оставил бродячую жизнь, море и все остальное, чтобы пустить корни здесь, чтобы было все, как у других, бензоколонка и прочее… — Ты прав,— согласился я,— все, что ты говоришь, верно… Разговаривая так, мы оба смотрели на пристань. Ее все не было. — Хотя я тоже,— сказал Эпаминондас,— оставил море и сел за баранку. Но я другое дело. Ты понимаешь, я не должен ни перед кем отчитываться. Мне ничего не светит. Грузовик, на котором я езжу, даже не мой. Я всегда могу все бросить и уехать.— Он перестал говорить и задумался, видимо, о своей судьбе.— Поверь мне, только если Пьеро не Пьеро и он подыграет ей в ее желании… Ну, Нелсон и все такое… Ты догадываешься, куда я клоню? — Догадываюсь. Но у него все же оставались сомнения. Он уже терял терпение, ибо еще не видел, как она подъезжает к причалу. — Все мужчины хороши, если их не знать как следует. С женщинами то же самое, но в меньшей степени. К счастью, у него есть шрам на голове. — К счастью,— отозвался я. — Но чтобы порыться у него в волосах, надо время. Не станешь же сразу искать у него шрам на черепе…— Внезапно он громко рассмеялся.— Но правда и то,— сказал он вдруг,— что она быстро ездит! Извини меня, но она очень быстро ездит! — Рекордно быстро,— кивнул я,— это точно. — Но,— он снова стал серьезным,— если она обнаружила шрам, что тогда? Ни в чем нельзя быть уверенным. — Что еще? — машинально буркнул я. — Ты хочешь, чтобы я заткнулся? — Он выглядел обидевшимся. — Прости меня,— извинился я,— ты прав, если он у него есть… Мне хочется немного отдохнуть. Я оставил его и направился в свою каюту. Не прошло и десяти минут, как я услышал шум ее мотора. Эпаминондас громко позвал меня, затем, уже на палубе, окликнул ее. — Ну что? — Увы,— сказала она,— бедный мой Эпаминондас. — Где же ты пропадала целых два часа? — Гуляла. Бедняжечка Эпаминондас. Я поднялся в бар. Оба они уже сидели за столом перед стаканами с виски. Она избегала моего взгляда. — И тем не менее,— проворчал Эпаминондас,— ты все же сомневаешься? — Похоже, я начинаю верить, что можно сомневаться, если хочешь сомневаться. Я сел рядом с ними. Ее волосы немного растрепались на ветру и прядями выбивались из-под берета. — Опять я тебя потревожил из-за ничего,— сказал Эпаминондас извиняющимся тоном. — Никогда не бывает совсем из-за ничего. Чтобы успокоить своего друга, она пошла за бутылкой шампанского. Мне показалось, что у нее счастливый вид. Эпаминондас удрученно смотрел на нее. Я раскупорил бутылку шампанского. Она выглядела так, как если бы долго просидела взаперти в темной комнате и наконец вышла оттуда. — Во всяком случае,— заметил Эпаминондас,— у тебя такой вид, будто это не слишком задело тебя. — Все нормально,— успокоила она его. Она все еще избегала смотреть на меня. Это было очевидно. Заметил ли это Эпаминондас? — Ну что ж, одним меньше, я имею в виду из тех, кто похож на него,— подал и я голос. — Если ты так считаешь,— обратился ко мне Эпаминондас,— еще будет время посмотреть на других. Она засмеялась, и я тоже. — Ты что, находишь это забавным? — спросил Эпаминондас. — Разве я сама не забавна? — Не всегда,— ответил Эпаминондас.— Сегодня ты совсем не забавна. — Может быть,— сказала она.— Хочется поплакать. — Моя вина,— произнес Эпаминондас.— Я заставил тебя пасть духом. — Надо знать, чего ты хочешь. Когда я смеюсь над собой, ты недоволен. Внезапно улыбнувшись, она посмотрела на меня с таким вызовом, что я покраснел. На этот раз Эпаминондас заметил и замолчал. — Всегда ли знаешь, чего хочешь? — спросила Анна меня. — Да,— ответил я,— это всегда знаешь.— Она опять улыбнулась. А я поспешил сменить тему беседы, чтобы удержать Эпаминондаса, который собрался уходить: — Если взялся за дело серьезно, то нужно идти до конца. При этих словах она засмеялась. Затем разлила шампанское по стаканам и заставила Эпаминондаса выпить. — Никогда не будет все сходиться,— вздохнул он.— Всегда будет что-то не то. — И так уже третий раз,— спокойно произнесла она,— по наводке Эпаминондаса. Я выпил шампанское. — Мы сталкиваемся,— сказал я жестко,— с непостижимой тайной сходства людей. Эпаминондас растерянно посмотрел на меня. Анна взглядом успокоила его. — Он хочет сказать,— пояснила она,— что очень трудно точно напасть на след того, кого ищешь. Ты помнишь? Один раз он держал бордель в Константинополе. Другой раз это было в Порт-Саиде. Что он делал в Порт-Саиде? — Был парикмахером,— ответил Эпаминондас.— Там что-то не сходилось, не помню что, не то голос, не то шрам… Но что-то было всегда… — В конце концов,— сказала она, глядя на меня,— здесь, как и во всем другом, надо соблюдать меру. — Мы никогда ничего не добьемся,— заявил Эпаминондас снова, вконец расстроенный. — Конечно, это нелегко. Я тебе говорила, Эпаминондас, что ты видишь всегда слишком много. Она засмеялась, а Эпаминондас виновато опустил глаза, как будто они, действительно, принесли слишком много беспокойства всем. Помолчав немного, он сказал: — Когда ты в самом деле увидишь его и поймешь, что это он, тогда я посмеюсь над собой. А ты свихнешься.— Мы все громко расхохотались. А Эпаминондас опять приуныл.— Иногда, когда корабль пристает к берегу, кажется, вот-вот увидишь его на набережной или где-то поблизости, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не он. — О, это так,— рассмеялась Анна. — И все-таки жизнь прекрасна,— заявил я,— особенно когда есть цель — поиски моряка из Гибралтара. — Иногда я задаюсь вопросом,— сказала она,— кем он мог стать? — И я тоже.— Эпаминондас все еще выглядел огорченным. Мы принялись за вторую бутылку шампанского. — Эпаминондаса,— объяснила Анна,— чрезвычайно захватила история моряка из Гибралтара. — Не знаю, что меня захватило,— с детской искренностью признался Эпаминондас,— эта история или что-то другое. Я рассмеялся. — Не имеет значения, но все началось с моряка из Гибралтара,— сказал я. В знак согласия он грустно закивал головой. Мы были пьяны. Все трое. На этом судне надо совсем немного, чтобы опьянеть. — В Константинополе,— оживился Эпаминондас,— все держалось на волоске. У тебя не хватило усердия. Она бросила на меня затуманенный взгляд. — Если у меня и есть что-то в избытке,— отчетливо произнесла она,— так это усердие, но кому это надо… — Можешь говорить все, что хочешь,— у Эпаминондаса опять появилась навязчивая идея,— в Константинополе все было почти на мази. Он разволновался. — А зачем тебе все это, ради чего ты так стараешься? — спросил я. — Я мог бы спокойно жить. Я был еще совсем молод, когда появилась она, оторвала меня от семьи, посадила на яхту, и вот с тех пор… — На волоске,— прервала его Анна.— Я не согласна с тобой, после трех лет поиска ничто не могло остановить меня. Что такое Константинополь? Если бы ты не побывал там, мне бы не пришлось болтаться по океанам… — Пока она не найдет его,— объяснил мне Эпаминондас,— я не смогу успокоиться. — Не столько из-за борделя,— продолжала она прерванную мысль,— сколько из-за желания видеть то, что хотелось… — Точно,— лицо Эпаминондаса осветилось,— когда я рассказал ему эту историю, он тут же признался, что это он. Но мне показалось, что это слишком… меня насторожило то, чем он занимался. Когда ты собралась ехать туда, я тебе ничего не сказал, ведь я ему набил морду. У него даже остался шрам. — Вот уж глупо,— засмеялась она,— чтобы еще больше осложнить события… — Теперь я больше ничего не расскажу. Но все равно ты всегда будешь ждать моей телеграммы. — О, вот уж чего не надо делать. Но, судя по всему, Эпаминондас преследовал еще какую-то цель. Он не высказывался пока напрямую, но старался подвести ее к этому. — Уверена, что Пьеро сейчас на своем семнадцатом километре пребывает в расстроенных чувствах.— Она посмотрела на меня и тихо засмеялась, как будто сказала что-то забавное [8]. — Во всяком случае,— добавил Эпаминондас,— никто не смог бы сделать большего за стоимость бензина. Она склонилась к нему и произнесла с большой нежностью: — Не похоже, чтобы ты был доволен своей работой. Что-то тяготит тебя, расскажи. — Надо рассказать,— попытался убедить его я.— Если не ей, кому же еще ты можешь поведать свою печаль? — Конечно, я недоволен, но мне нечего рассказывать,— ответил Эпаминондас и после непродолжительной паузы с удовольствием выпалил: — Считаю, что тебе надо искать его в Африке. Воцарилась тишина, вполне соответствующая подобному заявлению. — Вот это здорово! Африка! — воскликнула Анна. — Может, ты все же уточнишь? И он уточнил. Уточнение длилось около получаса. Мы плохо слушали его, она и я, потому что думали совсем о другом. А его план заключался в том, чтобы отправиться в Дагомею и там отыскать бывшего матроса с яхты, которого звали Луи и который был родом из Марселя. Порывшись в памяти, она вспомнила его. На прошлой неделе Луи написал Эпаминондасу, советуясь с ним по поводу некоего Жеже, с которым он познакомился в Дагомее, побывав в племени эуэзов в районе Абомея [9], и который, по утверждению Луи, и является моряком из Гибралтара. Эпаминондас пока еще не ответил Луи, потому что считал своим долгом сначала поговорить с Анной. Он рассказал нам об этих эуэзах. Рассказал о них очень подробно. Это племя земледельцев-кочевников, которое часть года живет на плоскогорье Атакоры. Это очень красивое место, там много озер и куду [10], они совсем маленькие, но все же… В общем, он не знает, насколько обоснованны доводы и стоит ли отправляться туда. Она сама должна решать. Конечно, это далеко… вот, теперь он рассказал все… Он говорил долго, смешивая описание прелестей куду с достоинствами моряка из Гибралтара. Слишком долго. А мы все это время смотрели друг на друга. Но, увлеченный эуэзами, он ничего не замечал. — А почему бы и нет? — сказала она наконец.— Кстати, а почему бы тебе не отправиться с нами? — Не знаю,— робко произнес Эпаминондас… — А что, дело в твоем грузовике? — спросил я. — Речь не обо мне…— сказал он. Я прекрасно понимал его. Конечно, он хотел этого. Внезапно заявив, что должна немного подумать, она оставила нас. Ее уход несколько обескуражил Эпаминондаса. Я тоже отправился к себе в каюту, оставив его наедине со своим удивлением. В каком-то смысле жребий был брошен. Мне не хотелось уточнять в каком. Мы отправляемся в Центральную Африку. Засыпая, я видел себя в зеленой саванне, кишащей антилопами куду.

Спал я долго. Проснувшись только перед ужином, я сразу же поднялся в бар, где находился только Эпаминондас. Разлегшись на двух креслах, он крепко спал. Я зажег свет. Эпаминондас засопел, но не проснулся. Плита была выключена. Ужин не готовили. Я сбежал в трюм и увидел там оба автомобиля. Потом медленно снова поднялся в бар, разбудил Эпаминондаса и спросил у него, где она. Он ответил мне, что в своей каюте. Я это и сам знал. — Она там,— сказал он,— значит, еще не закончила размышлять, идти или не идти в Дагомею. Как будто над такими вещами стоит долго раздумывать. Он сообщил мне, что, после того, как я ушел, она вернулась и дала до полуночи всему экипажу свободное время. Она сказала, что ночью мы отходим, но не уточнила куда. А потом опять ушла в свою каюту. — Я жду, когда она окончательно все обдумает, чтобы знать, предупреждать ли мне бригадира. Я оставил Эпаминондаса и пошел к ней в каюту. В первый раз я вошел, не постучавшись. Зажег свет. Она лежала одетая, положив руки под голову, в той же самой позе, в какой она была там, в камышах. Мне показалось, что она плакала. — Пойдем поедим,— позвал я ее,— пойдем… — Я не голодна. — У тебя всегда хороший аппетит. — Не всегда. — Эпаминондас наверху; он нервничает в ожидании твоего решения, ему надо предупредить бригадира. — Да, мы идем, можешь передать ему, что мы отходим сегодня ночью. Мы помолчали. — Куда мы идем? — неожиданно спросила она. — Ты что, забыла? — ответил я.— К эуэзам Дагомеи, в район Абомея. — Вот именно. Это долгий путь. — Дней десять? — Если море будет спокойным, и дней пятнадцать, если не будет. — Ты не хочешь поохотиться на куду, как у Хемингуэя? — Нет… Знаешь,— растягивая слова, сказала она,— это уже двадцать третье послание с тех пор, как я ищу его,— и с милой улыбкой добавила: — Так что, если мы и будем охотиться, то не на куду. — Но, учитывая, что твой моряк принадлежит к довольно редкому зоологическому виду, то иногда можно поохотиться и на что-то другое. Время от времени в твоем ягдташе должна появляться какая-то другая дичь. По-моему, стоит поохотиться на куду. — А если он у эуэзов? — Тогда ты поохотишься на куду вместе с ним. Она замолчала. Я не решался посмотреть на нее. — А охота на куду, это опасно? — Если немного, то это то, что надо. К тому же поверь мне, такая охота стоит того. — А во время охоты можно разговаривать? — Во время охоты не должно быть ни малейшего шума, нельзя произносить ни единого слова. Это общеизвестно. — Нельзя говорить даже шепотом? А на ушко можно? — На ушко можно,— ответил я,— но говорить следует только о дичи. От этого невозможно отвлечься. — Ни за что бы не подумала, что взяла с собой такого замечательного охотника. Однако эти куду — трудная добыча. — Самая прекрасная добыча в мире. — Ну что ж, тогда будем говорить только о куду. — А вечерами после удачной охоты — о литературе. Но прежде всего об охотниках на куду. — И никогда-никогда ни о чем другом? — Нельзя ничего утверждать с уверенностью. Не исключено, что иногда о чем-нибудь другом… — Тебе надо было посмотреть на город, он очень хорош.— Я встал. Она удержала меня за руку.— Ты ему много наговорил об этой женщине? Ты ему говорил только об этом? — Я готовил себя для лучших времен. Не говорил ему ни о чем. Я не был счастлив. — А мне кажется, я была счастлива. — В это можно поверить,— сказал я и вышел. Я застал Эпаминондаса в баре за стаканом вина. Он с нетерпением ждал меня. — Что она сказала тебе? — Ничего. — Однако.— Он отпил из стакана и щелкнул языком.— Так что, она не хочет ехать? Я вспомнил о том, что его волновало. — Она велела сказать тебе, что мы отправляемся к эуэзам. Он не выказал ни малейшей радости. Скорее наоборот. Глубоко уселся в кресло, держа стакан в руке. — Когда? — Ты же знаешь. Сегодня ночью. — Ну вот, опять плыть. Мне никогда не видать ничего хорошего,— начал было ворчать он. — Надо знать, чего хочешь,— сказал я. — Она приехала за мной в Мадзунгу [11], к моей бедной матери. Могла бы оставить меня в покое.— И добавил, уже спокойнее: — Удивляюсь, зачем ей все это? — Все мы впутались в эту историю, так что толку хныкать? Он не слушал меня. — Мать в каждом письме умоляет меня вернуться. Отец уже старый. У него свое дело, он занимается торговлей апельсинами, и все это приходит в упадок… — Пожалуй, тебе стоит вернуться в Мадзунгу. Неожиданно он взорвался. — Посмотрите на него… что значит вернуться в Мадзунгу, когда она таскает тебя за собой в Тампико [12], в Нью-Йорк, Манилу… В Мадзунге я сдохну с тоски. Ты сам не знаешь, что говоришь… — Не вижу причин, почему бы тебе не вернуться в Мадзунгу,— сказал я. — Когда она найдет его, тогда я вернусь домой. Но не раньше. — Не понимаю. — Когда она найдет его, я помру со скуки. Знаю это твердо. Вот тогда и вернусь в Мадзунгу. — Ты же понимаешь, что тебе лучше вернуться в Мадзунгу,— настаивал я. Пытаясь вникнуть в мои слова, он долго смотрел на меня. — Ты — совсем другое дело. Пока ты у нее на крючке. Ты нужен ей.— А так как я не ответил, он решил, что я сомневаюсь в его утверждении.— Я знаю, о чем говорю. Поверь мне. Это очевидно. Никогда не видел, чтобы она так долго раздумывала, ехать или не ехать. Я ее не узнаю в последнее время. — У эуэзов действительно есть куду? Он сразу преобразился. — Есть немного. Чего только нет в Замбези.— И на Уэле тоже [13]. Но вообще-то там можно охотиться только на мух.— Я выждал, ничего не отвечая.— А почему ты спрашиваешь? Ты что, хочешь съездить поохотиться на куду? — Сам не знаю… Наверное, из любопытства. В его голосе послышались нотки разочарования. Но потом он спохватился: — Боже, а как же мой бригадир… ведь я не предупредил его. — Так давай, поезжай быстрей. — Но как? Это в двадцати километрах отсюда. Надо, чтобы ты поехал со мной. — Ты мне осточертел. С какой стати? На его лице отразилось предельное отчаяние. — Ну что ж, если ты не пойдешь со мной, все пропало, остаюсь. — А как открыть панель трюма? — Я знаю,— радостно заверил он меня. Можно было послать его к чертовой матери, но я знал, что если останусь, то сразу же отправлюсь к ней в каюту. А мне хотелось удержаться. Не прошло и пяти минут, как Эпаминондас открыл панель. Нам потребовалось два часа, чтобы предупредить бригадира и уладить все дела в маленькой гостинице Сета. Пока мы возвращались, он немного рассказал о Луи. — Это мой кореш,— сообщил он,— очень забавный, вот увидишь… — И часто ты ходишь с ней по морям? — По морям! Думаешь, мне это в радость — тащиться в Дагомею? — Ну извини, а мне в радость… — А я бы не сказал так о себе… Когда мы вернулись, вся команда была уже в сборе. В баре горел свет, Лоран был немного навеселе. Бруно тоже, но значительно в большей степени, чем Лоран. — Это уж слишком,— бурчал Бруно.— Стоит любому проходимцу дать знать ей, что он сидит в палатке на гималайской вершине, и она не раздумывая полезет туда. Хватит, я остаюсь. Я больше не желаю участвовать в этой авантюре. Эпаминондас набросился на него: — Возьми обратно свои слова, или я дам тебе я морду. — Я, что, не имею права сказать, что думаю? Нет, хватит, я остаюсь,— повторил Бруно. — Имеет право,— вставил Лоран. Эпаминондас с достоинством удалился. — Что меня действительно бесит,— сказал он, прежде чем выйти из бара,— это то, что она нанимает таких болванов, которые ничего не понимают. Я оставил их выяснять отношения и спустился в ее каюту. Она снова погасила свет. Я включил его. На этот раз мне показалось, что она ждала меня. Я рассказал ей о своей поездке с Эпаминондасом и о Луи из Абомея. Говорил я довольно долго. Я увидел, что это уже начало надоедать ей, и замолчал. Правда, я ничего не сказал ей о выходке Эпаминондаса. — Судя по всему, тебе тоже стоит сойти на берег,— сказала она и добавила: — как и остальным… Я сел на пол. Моя голова оказалась рядом с ее лицом. — У меня нет желания сходить на берег. — Чуть раньше, чуть позже, какая разница… — Но не сейчас. Когда-нибудь я уйду с яхты, но не теперь. — Что же заставит тебя сделать это? — Моряк из Гибралтара.— Она не улыбнулась.— Извини, я и сам не знаю. Внезапно она жестко спросила: — Откуда ты взялся такой? — Разве я не говорил тебе — из Министерства по делам колоний. Я снимал там копии… — Что за идиотский взгляд на вещи… Ты что, не видишь, что происходит? — Я не идиот и вижу, что происходит. — И ты не хочешь уйти отсюда? — Пока нет. Это единственное из моих желаний, о котором я знаю наверное. У меня нет причин уходить отсюда. — А я…— медленно проговорила она,— ты хорошо знаешь, у меня есть причины заставить тебя уйти отсюда. — Мне наплевать на твои причины. Она успокоилась. А потом, как будто обращаясь к ребенку, произнесла с мягким коварством: — В таком случае, если ты собираешься остаться, то должен молчать. Понимаешь — молчать! — Я сделаю, что смогу. — Ты думаешь, что сможешь все время молчать? — Думаю, что должен как можно больше молчать, но не молчать же все время.— Я лег рядом с ней.— Я не могу больше молчать. Затем последовало мгновение красноречивее всех слов. Но оно прошло и перестало быть довлеющим. Она прислонилась щекой к моему лицу и лежала так некоторое время. — Скажи мне что-нибудь, неважно что. — Анна. Часы на столике показывали два. Спать не хотелось. — Еще что-нибудь,— попросила она. — Мне нравится на этом судне. Она больше ни о чем не просила. Погасила свет. Сквозь иллюминатор виднелась ярко освещенная набережная. Казалось, все наши желания умерли. — Надо спать,— сказала она,— а мы не спим, мы очень усталые люди. — Нет, ты ошибаешься. — В глубине души мне нравится, что ты как стена. — Молчи. — Самая большая любовь в мире, что это значит? Я видел ее лицо, неясно освещенное фонарем. Она улыбалась. Я встал, собираясь уйти. Она попыталась удержать меня. — Дурочка,— сказал я. Она позволила мне уйти, не пытаясь больше удерживать. — Не беспокойся,— бросила она мне вслед,— я тоже буду молчать, по-своему.

Судно ушло в ночь. Спал очень мало. Меня разбудила вибрация, и я долго не мог снова заснуть. И когда я было уже совсем отчаялся уснуть, когда уже начал заниматься день, на меня навалился тяжелый, беспокойный сон. Из каюты я вышел к полудню. Она разговаривала с Бруно на палубе, спокойная и веселая, как всегда по утрам. Он больше не был пьян, но находился в мрачном настроении, говорил, что сам не понимает, как остался на судне, ибо и слышать не хотел, чтобы идти в Дагомею, и т. п. Она пыталась успокоить и отвлечь его, рассказывая, как мы будем охотиться на куду. Я слышал, как она говорила: — Это то, что надо испытать, да, это то, что надо испытать хоть раз в жизни…— И как-то подозрительно посмотрела на него. Бруно, самому молодому в команде, явно не хватало стойкости перед изменчивостью бытия. Но все были терпеливы в общении с ним. Завтракали мы все вместе. Эпаминондас подсел к нашему столику. Теперь он каждый день садился с нами. И никогда не стеснял нас. В это утро он пребывал в прекрасном расположении духа. Стояла чудесная погода. Он позабыл Мадзунгу, свою щепетильность и даже, как мне показалось, то, зачем мы идем в Дагомею. — Ну вот мы и в пути,— сказал он, толкнув меня в плечо. — Да, да, успокойся. — Можешь быть доволен,— покладисто заметил он,— что заставил меня идти с вами. Его лицо выражало притворное негодование. — Если кто и заставил тебя идти, то только не я. Она рассмеялась. — Разве не все равно, где находиться, там или здесь,— философски изрек Эпаминондас. — Будем надеяться, что ты прав… Больше всего ему бы подошло,— сказала она,— стать молочником в Дижоне [14], а я бы продолжала путанить по океанам в поисках великого человека. — По океанам или где-то в другом месте,— расхохотался Эпаминондас. Все засмеялись, даже матросы за другими столиками. — Лучше в Дижоне,— сказал я. Она снова засмеялась. Эпаминондас не понял, и как это бывало с ним всегда, на его лице появилось нечто похожее на ужас. — Это такой стиль разговора,— пояснила она. — Ты теперь позволяешь себе такие шутки? — Но ведь это шутки. — Я думаю,— сказал Эпаминондас, внезапно погрустнев,— мне стоит сойти в Танжере [15]. — Я пошутила,— попыталась успокоить его она,— ты стал слишком обидчив. — Представляю, какой у тебя будет вид,— заметил Эпаминондас,— если он у эуэзов. — Это ее проблемы.— Перспектива подобной встречи вызвала у меня приступ неудержимого, безумного хохота. — Ты должен уяснить себе,— сказал Эпаминондас,— что существуют легкоранимые люди и что я, если угодно, сомневаюсь в исходе путешествия. — А я пытаюсь рассмотреть возможность скорейшего списания на берег. — Да,— прыснул Эпаминондас,— что-то тогда будет! — Придется последовать за Нелсоном и его подшипниками. — Вы забыли обо мне,— сказала Анна. — Ни в коем случае,— ответил я. — Ты не была такой,— изо всех сил старался сохранить на лице серьезную мину Эпаминондас,— ты изменилась, и не в лучшую сторону. Перестав сдерживаться, он чуть не задохнулся от смеха.— Кончай свои путешествия, и домой, как все люди. А я — добавил он,— останусь в Котону [16] и буду охотиться на куду. Он повернулся ко мне, как будто вспомнив что-то, и она тоже. Он казался несколько смущенным. Я посмотрел на нее. — А ты? — робко спросил Эпаминондас.— Что ты?.. — Кто знает,— ответил я. Все замолчали. Ее большие прекрасные глаза смотрели печально и чуть отрешенно. Собеседники ждали, чтобы я сказал что-нибудь. Но я ничего не сказал. — Я, во всяком случае,— снова начал Эпаминондас очень тихо,— останусь в Котону охотиться на куду. Постараюсь брать их живьем, а потом буду продавать в зоопарки. — В Котону,— выдавил я с трудом,— не водятся куду. — Зато в Замбези,— возразил он,— их целые стада. — А если живьем не удастся,— произнесла Анна,— тогда что с ними делать? — Ты должна бы знать это,— сказал я. — Почему ты решил, что она должна знать? — спросил Эпаминондас, сбитый с толку. — Не пытайся понять,— обратилась она к нему,— он сказал так потому, что я охочусь за моряком из Гибралтара. Это намек.— И миролюбиво продолжила: — Так что с ними делать? Их едят? — Конечно,— ответил Эпаминондас,— едят. А потом ведь есть еще рога,шкуры, ну, не знаю, что еще… Надо действительно ни черта не смыслить в охоте, чтобы задавать такие вопросы. — Куду,— объяснил я ему,— редкое животное. Охота на редкое животное — великая охота. — Тем лучше,— хохотнул Эпаминондас, который, наконец, все понял. Анна добродушно посмеялась над Эпаминондасом. Но затем сразу погрустнела. — Я все чаще думаю о смерти. Должно быть, старею,— заметила она печально. — Это не потому, что стареешь,— сказал Эпаминондас с пониманием. — Надо, чтобы поскорей наступило утро,— усмехнулся я. Анна расхохоталась. — Надо было сразу сказать,— вздохнул Эпаминондас,— что я вас смущаю. — Если кто и смущает нас, как ты говоришь,— заметила Анна,— то только не ты. Эпаминондас понял и принял негодующий вид, правда не слишком. — Не буду настаивать,— сказал он.— И все-таки ты здорово изменилась.

Весь день я пытался углубиться в чтение, но без особого успеха. После полудня я поднялся в бар в надежде найти Эпаминондаса. Он тоже пытался читать, развалясь в кресле. Она разговаривала с моряками о предстоящей погоде в Атлантике. Когда я вошел в бар, все обратили на меня внимание. Некоторые, вероятно в том числе и Бруно, несомненно решили, что наступил критический момент моего пребывания на судне и я не пойду с ними в Дагомею. Но я ясно видел, что подобное двусмысленное положение отнюдь не смущало ее, скорей напротив, она испытывала какое-то мазохистское удовольствие и желала продлить его. Пройдя через бар, я направился на мостик. Вскоре ко мне присоединился Эпаминондас, чем я остался весьма доволен. Мы хорошо понимали друг друга, а мне очень хотелось поговорить. — Ну как, все в порядке? — спросил я. — Я хотел немного разобраться в библиотеке,— ответил он,— но это не так-то просто. — Кому здесь нужен порядок в библиотеке? — Как знать, может, она снова возьмет с собой какого-нибудь мыслителя, как это было уже однажды. Мы расхохотались. Между нами царило полное взаимопонимание. — Мне нечем заняться,— продолжил он.— Здесь нет работы для меня. А впрочем, я особенно никогда не любил работать. — И я тоже. Но не исключено, что когда-нибудь… — …Ты займешься настоящим делом,— закончил он, смеясь. — Когда мы будем в Гибралтаре? — спросил я. — Завтра утром, на рассвете. В первый раз это произвело на меня незабываемое впечатление. — Что ты думаешь об этом? — О чем, о Гибралтаре? — Есть у нее хотя бы малейший шанс? — А на кой черт тогда вообще все, если нет шанса? — возмутился он. — Да, конечно. Мне просто интересно твое мнение. — Странные у тебя вопросы. — Я хотел спросить тебя еще кое о чем… Очень уж необычно звучит: Нелсон Нелсон… — Еще один странный вопрос… — Видимо, все-таки был такой,— сказал я. — Да. Но был ли он королем шарикоподшипников или королем дураков… Главное, что его убили. — Иногда мне кажется, что существует с десяток историй, связанных с моряком из Гибралтара. — Возможно, но моряк из Гибралтара только один. И это слишком серьезно.— Он замолчал, сверля меня глазами с подозрительным видом.— Ты задаешь слишком много вопросов. Не стоит… — Почему бы не поговорить… Впрочем, я задаю тебе эти вопросы не из праздного любопытства. Меня волнует другое… — Нет, только женщины не всегда знают, что хотят, разумеется, я исключаю болтливых женщин. — Потому мы и идем к эуэзам. — У нее нет другого выбора, если бы был… — Конечно, у нее нет выбора. — Если она сама заварила эту кашу, не пойдет же она на попятную. Вот в чем все дело. — Тебе бы очень хотелось, чтобы она нашла его? — Я единственный, кто думает, что это возможно. — Пусть делает, что хочет,— заметил я. — Ну, пожалуй, не все… — Согласен. Я испытывал к нему самые дружеские чувства. Думаю, что и он платил мне тем же. — Тебе нужно немного отдохнуть,— сказал он,— у тебя чертовски усталый вид. — Я плохо сплю. Действительно, она не слишком разговорчива. — Да,— согласился он и добавил, как бы оправдываясь передо мной: — Я стал как-то лучше понимать других, даже руководствуясь одними слухами. — Несомненно,— рассмеялся я. Он внимательно посмотрел на меня. — А чем ты занимался раньше? — Работал в Министерстве колоний,— объяснил я,— в службе актов гражданского состояния. — Что за работенка? — Копировал акты о рождении и смерти французов, родившихся в колониях. Проработал там восемь лет. — Ух черт,— в голосе Эпаминондаса послышалось уважение,— теперь у тебя все изменилось. — Я счастлив. Он ничего не ответил. Вытащил пачку сигарет, и мы закурили. — Ты все бросил? — Все. — Значит, ты не совсем конченный человек,— дружески заключил он. Он потянулся, расправляя затекшие мышцы, и я разглядел надпись под его татуировкой: «Афина». — Так у тебя написано «Афина»,— сказал я, ощущая прилив дружеских чувств. — А ты что подумал? Вообще-то, я боялся, что однажды почувствую себя полнейшим идиотом… Мы оба засмеялись, прекрасно понимая друг друга. Потом он вернулся в бар, а я в свою каюту. Я встретил Анну у люка по пути к себе. Она остановила меня и тихо объявила, что завтра в половине седьмого мы пройдем через Гибралтарский пролив. Остаток дня и часть вечера я провел в ожидании. Ее я не видел даже за обедом.

В Гибралтар мы прибыли немного раньше объявленного ею часа, что-то около шести. Я встал, вышел на палубу и увидел Анну. На судне все спали, даже Эпаминондас. Она была в пижаме, непричесанная. Несомненно, тоже мало спала. Мы не обменялись ни единым словом, ибо нам больше не о чем было говорить, вернее, мы не могли больше ничего сказать друг другу, даже «здравствуй». Я прошел к ней на нос судна, и, облокотившись на поручни, стоя бок о бок, мы смотрели, как приближается пролив. Мы проплыли перед скалами. Высоко над ними летали два самолета. Описывая в воздухе замысловатые фигуры, они кружили над скалами, как стервятники. В своих белых виллах, громоздящихся одна над другой, в душной, но в высшей степени патриотической скученности спала Англия, оставшаяся верной самой себе на кровоточащей земле Испании. Скалы удалялись, а вместе с ними волнующая и будоражащая реальность. Показался пролив, а с ним его не менее волнующая и не менее будоражащая ирреальность. Вода незаметно изменила цвет. Суровый контур африканского берега, голого и сухого, как соляное плато, рассекался Сеутой. На нее смотрел более защищенный, более сумрачный испанский берег, покрытый последними сосновыми рощами латинского мира. Мы вошли в пролив. В облаке тумана стала неясно вырисовываться Тарифа [17] — крохотный городок, выжженный на солнце. Здесь совершалась смена самых чудесных вод на земле. Поднялся ветер. Наконец Анна повернулась и посмотрела на меня. — А если я все придумала? — спросила она. — Все? — Все. Жизнь неотвратимо обретала свои формы. Все выглядело так, будто ничего не изменилось. — Ничего особенного бы не случилось. Судно повернуло. Вода стала зеленой и пенистой. А пролив намного шире. Полностью изменился цвет воды, неба и ее глаз. Она опять ждала, устремив взгляд в пространство. — Ну,— спросил я,— это и есть он? — Да,— ответила она,— это и есть он. Я приблизился к ней, взял ее за руку и увел к себе в каюту.

Ее кожа будто шелк, думал я, теплый, ласковый шелк. Шелковая женщина. Женщина со щедрым телом и щедрой душой. Моя женщина… Сначала я долго ласкал ее. И целовал — припухлые от наслаждения губы, напрягшиеся груди, девичий живот. Я сопротивлялся своему стремлению слиться с ней. И ее рукам, которые звали меня — скорей, скорей… Мое сопротивление кончилось, и наслаждение было коротким и неистовым, как вспышка молнии. Оно почти сожгло нас и спаяло воедино. У меня недоставало сил даже чуть отстраниться от нее… Через час, когда она уснула, мы пришли в Танжер. Мы так и не сказали друг другу ни единого слова.

Я оставил ее в каюте и поднялся в бар выпить кофе. Решив, что у меня есть возможность осмотреть город, покинул яхту. Несмотря на раннее время — что-то около одиннадцати часов утра, было уже довольно жарко. Однако морской ветер хорошо обдувал город, и жара переносилась легко. Я вышел на первую поперечную улицу и через четверть часа оказался в центре города, на шумном бульваре, обсаженном карликовыми пальмами. Очевидно, потому что я очень мало спал не только в предыдущую ночь, но и все ночи от самой Рокки, я чувствовал себя чрезвычайно уставшим. Бульвар, видимо, представлявший собой центральную торговую улицу города, казался нескончаемым. С одной стороны он упирался в порт, другой стороной вливался в площадь, плохо различимую издали. От площади по улице двигались самосвалы, груженные углем. Со стороны порта по ней взбирались тяжелые грузовики, везущие ящики, какие-то машины и металлическую стружку. С того места, где я находился, хорошо просматривалось все пространство от порта до площади, почти забитое длинной вереницей автомобилей, в основном грузовиков, которые останавливались через равные промежутки на красный свет перекрестков. Все это перемещалось с одинаковой скоростью, останавливалось и разъезжалось в ритме, напоминавшем движение морских волн, медленное и длинное. Я сел на скамейку, чтобы передохнуть от этого зрелища. По улице, рядом с которой я находился, парадным строем, с фанфарами прошел отряд полицейских. Они шли, чеканя шаг, и им весело улыбались водители грузовиков. Когда колонна удалилась, я встал со скамейки и направился в сторону площади. Я надеялся, что там есть другие деревья, не эти карликовые пальмы, которые совсем не давали тени. Я шел неспешным шагом, чувствуя себя таким же уставшим, как тогда, во Флоренции, когда искал водителя грузовичка. Но на сей раз город не замыкался на мне, напротив, он все время как бы раздвигался и в длину и в ширину, и мне уже казалось, что я никогда не доберусь до кафе на площади, а если и доберусь, то останусь там на всю жизнь. Я был отчаянно счастлив. Я сел на скамейку и стал слушать. Весь город трудился не покладая рук. Если хорошо прислушаться, для чего нужно особое внимание, то сквозь жуткий грохот грузовиков ясно различался смутный отдаленный рокот, доносившийся из порта. Поднявшись с лавочки, я пошел дальше. Мне понадобился еще час, чтобы достичь площади. Свежеполитые террасы кафе утопали в тени платанов. Я остановился у первого. Наверное, из-за усталости я так и не понял, что со мной произошло и как случилось, что у меня не осталось сил жить. К счастью, это длилось одно мгновение. Я закрыл глаза, а когда открыл, то все прошло. Передо мной стоял официант с салфеткой в руке, спрашивая, что принести из выпивки. Я попросил кофе. Нет, я не умер от любви к женщине моряка из Гибралтара. — Кофе гляссе? — Не знаю. — Вам нехорошо? — Очень хорошо, но я устал. — В таком случае горячий кофе, это лучше… — Да, горячий,— согласился я. Он отошел. Эта площадь, обращенная к морю, располагалась на самой высокой точке города. Она протянулась до грузового порта и даже немного дальше за него, до яхт-клуба. «Гибралтар» — самая большая из всех яхт — стоял там, его сразу узнавали. Вероятно, она еще спала, но не исключено, что уже проснулась. Беспокоит ли ее мое отсутствие? Как знать? Может быть, да, а может, и нет. Официант принес кофе. — Не хотите ли что-нибудь перекусить? Мне совсем не хотелось есть. Он заметил, что я смотрю в сторону порта, на яхт-клуб. Большинство столиков в кафе пустовало, и он не прочь был немного поболтать. — Сегодня утром пришел «Гибралтар»,— сообщил он. Кажется, я слегка подпрыгнул, но он этого не заметил, так как тоже смотрел на порт. Его интересовали корабли. — Вы же знаете это судно? — Да, трндцатишестиметровое, довольно новое, таких здесь нет, его все знают. Я, обжигаясь, проглотил кофе. Кофе оказался отличным. Я любил кофе и по утрам пил его много. Площадь была с односторонним движением, и грузовики объезжали ее, не останавливаясь. Металлическая стружка сверкала на солнце. Возле меня остановился торговец-араб. Он предлагал почтовые открытки, конверты, виды города. Я купил у него одну. Вытащив из кармана карандаш, на обороте открытки я написал адрес Жаклин, то есть мой. Я обещал себе это сделать, перед тем, как покинуть Европу. Начав писать, я невольно взглянул на свои руки. От самой Рокки я не переодевался за неимением одежды, и у меня не было ни времени, ни желания как следует мыться. Стоя рядом со мной, официант продолжал глядеть на порт. Я не обращал на него никакого внимания. Наступило то самое время дня, когда официанты всех кафе не знают, чем себя занять, и начинают предаваться бесплодным рассуждениям. — Там живет женщина,— сказал он,— она совершает кругосветное путешествие. — Вот как? Вокруг света без остановок?.. — Говорят, она ищет кого-то… Но то, что говорят… — Вот именно… То, что говорят… — Что я знаю на самом деле, так это то, что она богата, как Крез. Лучше бы она занялась делом… В кафе вошел посетитель и подозвал официанта. Я задумался, о чем бы написать Жаклин. Но ничего не приходило в голову. Я еще раз посмотрел на свои грязные руки и написал: «Я думаю о тебе». Потом разорвал открытку. Яхты, стоявшие у причала, покачивались на воде. Перед террасой кафе проходили женщины, просто прогуливающиеся, несколько проституток, высматривающих одиноких и праздных мужчин, и все они живо напоминали мне о той, которая еще спала в моей каюте. Я вспомнил, как вызывающе она спала. Стоило мне углубиться в эти воспоминания, как все тело заныло от огромной хватающей за сердце боли. Официант освободился и еще раз подошел ко мне. Я попросил его принести мятный напиток со льдом. Мне хотелось по возможности охладить себя. Чтобы снять боль. Я залпом выпил весь бокал. Но мятный вкус снова вернул меня к ней. Я попытался вспомнить ледяной мятный напиток, что я пил во Флоренции. Он испарялся из моих пор, но напрасно. Облегчения это не приносило. Вкус теперешнего напитка ничем не напоминал прежний. Я забыл и об изнурительной жаре, и о моем одиночестве в этой жаре, длившейся пять дней. Я становился человеком без воспоминаний. Жаклин действовала на мое существо так же скверно, как и мятный напиток во Флоренции. Я едва мог припомнить ее лицо или голос. Вот уже шесть дней, как она уехала из Рокки. Я чувствовал неодолимую потребность подольше побыть в кафе. Оно тем временем постепенно заполнялось людьми. Официант больше не подходил ко мне — он занимался клиентами. На террасе не осталось ни одного свободного места. Наконец он подошел и вежливо дал понять, что пора уходить. — Сто франков,— сказал он.— Извините меня. Я вытащил бумажник. Он содержал все, чем я обладал, все, что сэкономил за последние восемь лет жизни, от которой у меня не осталось никаких воспоминаний. Я положил на стол бумажку в сто франков, заметив официанту, что мог бы остаться здесь еще немного. — Тогда надо заказать что-нибудь. Заказал кофе. Он тотчас же принес его, назвав цену: тридцать пять франков. Я протянул ему тысячефранковый билет. У него не оказалось сдачи, и он отправился менять купюру. Таким образом, я просидел там еще минут десять, медленно потягивая кофе. В его вкусе мне чудился запах ее волос. Вернулся официант со сдачей. Пришло время уходить. Я вновь принялся бродить по городу. От двух чашек крепкого кофе у меня усилилось сердцебиение, и я шел очень медленно. Рестораны постепенно пустели. Ветер утих, и жара усилилась. Я все шел, пока не услышал, как пробило два часа. Конечно, проголодался, но сама мысль о еде казалась мне невыносимой. Меня волновало другое. Вернуться ли мне на судно или пусть оно уйдет без меня? Сел на скамейку в сквере, в тени платана. Сел и уснул. Когда проснулся, к моему удивлению, счастье еще было во мне, и я уже знал, что вернусь на судно. Поднялся со скамьи и отправился искать бульвар, по которому пришел сюда. Все было так же, как утром: то и дело меняющий сигнал светофор на пешеходных переходах, нескончаемая вереница грузовиков, поднимающихся из порта. Я медленно спустился к набережной прежним путем. «Гибралтар» все еще стоял там, под солнцем, его палубы были пустынны. Шла заправка мазутом, за которой наблюдал Бруно. Он подошел ко мне. — Тебе стоит подняться на борт,— сказал он. — Ты не уходишь в Танжер? — Увидишь, уйду я или нет. Тебе надо подняться. Пока я поднимался по трапу, Бруно следовал за мной по пятам, не спуская с меня глаз. Я сразу направился в бар. Анна сидела там со стаканом виски. С ней был Эпаминондас. Она видела, как я шел по набережной и поднимался на судно. Увидев меня, она почему-то испугалась и сказала ему об этом. — Мне страшно. Судя по всему, она выпила немало виски. Мне показалось, что Эпаминондас обрадовался мне. — Я искал тебя,— сказал он смеясь,— искать сразу всех… пожалуй, уж слишком. Если надо начинать и тебя искать… — Я был в кафе,— прервал я его излияния. — Ты выпил,— заметила она. — Кофе и мятную воду. — У тебя такой вид, будто ты здорово пьян. — Я и вправду пьян. — Он ничего не ел.— Эпаминондас казался обеспокоенным. Она встала, взяла кусок хлеба, положила на него сыр, протянула мне, а потом, будто это простое действие отняло у нее последние силы, рухнула в кресло рядом со мной. Очевидно, выпитое виски давало себя знать. — Я бы предпочла, чтобы ты пошел в бордель,— заявила она. — Если бы это было нужно ему,— заметил Эпаминондас. Потом она стала смотреть, как я ем, молча, с каким-то отупением, механически следя за моими движениями, словно видела меня в первый раз. Когда я покончил с едой, она снова встала и направилась за виски. Эпаминондас помог ей донести три стакана. Она пошатывалась. — Не пей больше,— попросил я,— пойдем прогуляемся по городу. — Я немного пьяна,— улыбнулась она примирительно. — Она больше не может стоять,— вставил Эпаминондас. — Я больше не буду пить,— сказал я,— я помогу тебе пройтись. Я бы хотел, чтобы ты прогулялась. — Зачем? — спросила она. — Так,— ответил я,— ни за чем. Эпаминондас ушел, похоже, немного обиженный, что я не предложил ему сопровождать нас. Я спустился с ней в ее каюту и помог одеться. В первый раз с тех пор, как я узнал ее, она надела летнее платье в зеленую и красную полоску и шляпу, слишком маленькую, чтобы спрятать волосы, которые она уложила наверх. На ее бледном лице застыло отрешенное выражение, словно она спала с полуоткрытыми глазами. Она изъявила желание спуститься по трапу самостоятельно. Но это ей не удалось, и она, испугавшись, остановилась посередине. Я крепко взял ее под руку и помог сойти вниз. Не знаю, сколько виски она выпила, но была здорово пьяна. Когда она сидела с Эпаминондасом, то пила беспрерывно. Как только мы оказались на земле, она решила зайти в кафе и выпить еще. Но рядом кафе не оказалось. Я сказал ей об этом и заставил пойти дальше. Мы поднялись по поперечной улице и дошли до бульвара. Там она остановилась, требуя захода в кафе. Но кафе опять не оказалось поблизости. Тогда она заявила, что желает сесть на скамейку. Но я боялся, что если она сядет, то сразу уснет. Она начала сопротивляться, пытаясь сесть, я же так сильно потащил ее, что шляпка упала и волосы рассыпались. Она ничего не заметила и пошагала дальше с развевающимися волосами. Прохожие останавливались и смотрели на нас с любопытством. Она не замечала и этого. Она так ослабла, что глаза у нее иногда закрывались сами собой. Я никогда еще не видел ее в таком состоянии. Я весь взмок. Но у меня, похоже, открылось второе дыхание, и мне удавалось тащить ее. Нам понадобилось полчаса, чтобы добраться до середины бульвара. Я взглянул на часы — четыре часа пополудни. Поднялся ветер и окончательно растрепал ее длинные волосы. Они полностью закрывали ее грудь. Я тащил ее что есть силы: создавалось впечатление, будто волок ее в полицию, или что она потеряла рассудок. Но я и сейчас находил ее прекрасной, хотя, кажется, никогда не смог бы признаться ей в этом. Она же без конца твердила: — Оставь меня в покое. Она не кричала, но просила об этом с неизменной кротостью, иногда смешанной с некоторым удивлением, ибо я упорно не реагировал на ее слова. — Надо, чтобы ты шла. Я повторял ей это с завидной настойчивостью, не объясняя почему, да и знал ли я сам? Нет, конечно нет. Я знал одно — это совершенно необходимо. В какой-то момент она мне поверила и несколько минут шла сама. Потом опьянение взяло верх, и снова стала требовать оставить ее в покое, все время пытаясь тормозить мое продвижение вперед. Но я продолжал настаивать на прогулке, ни разу не усомнившись, что мы дойдем до площади. И мы добрались до нее. С радостным облегчением она села на террасе первого кафе, того самого, где двумя часами ранее сидел я. Ее голова откинулась на спинку кресла, и она спокойно лежала так, закрыв глаза. Подошел официант. Все было так же, как утром. Узнав меня, он поздоровался и остановился перед нами. Мы одновременно посмотрели на нее, он и я. Он все понял и улыбнулся мне. — Одну минутку.— Я сделал предупреждающий жест рукой. Он отошел. Я тихо позвал: — Анна. Она открыла глаза, и я откинул ее волосы назад. Она не противилась. Ей было очень жарко. Пряди волос прилипли ко лбу. — Возьмем мороженое,— предложил я. Я позвал официанта, который, стоя в нескольких метрах от нашего столика, не переставал с любопытством разглядывать нас. Я заказал ему два мороженых. — Какое? — Его вопрос рассмешил меня. Он снова все понял.— Ванильное,— заверил он,— это самое лучшее. — Нет,— пробормотала она,— не надо мороженого. Официант вопросительно посмотрел на меня. — Два ванильных мороженых,— попросил я. Она не возразила. Равнодушным взглядом она смотрела на многочисленных прохожих. Послеполуденный перерыв на обед подходил к концу. Но грузовики все шли. И машины тоже. Подошел официант с мороженым. Оно оказалось скверным. Анна попробовала немножко, скривила лицо и бросила ложечку. Затем с некоторым интересом наблюдала, как я ем свою порцию. Я доел мороженое. На бульваре образовалась пробка, и площадь заполнилась грузовиками и легковыми машинами. Перед кафе остановились два автобуса. Один был набит маленькими девочками, другой — мальчиками. Все машины беспрерывно гудели. Мальчики пели «рядом с моей блондинкой». В то же самое время девочки пели какую-то английскую песню. Впереди автобуса с мальчиками стоял другой автобус, из окон которого на мальчиков взволнованно глядели старые американки. Шум стоял невообразимый. Анна зажмурила глаза, плохо перенося шум. Она не совсем понимала, что произошло, но тем не менее покорно отнеслась к тому, что перенесена сюда мною с яхты в полубессознательном состоянии. Она выглядела грустной и протрезвевшей. — Ты не будешь есть мороженое? — Оно не нравится мне.— И сделала гримасу, пытаясь улыбнуться. — Не стоит оставлять, съешь еще немного,— попытался я уговорить ее. Она съела еще ложечку, после чего решительно отодвинула блюдце в сторону. — Не хочу. Перед террасой проходили моряки и солдаты разных национальностей. Они шли по двое. Перед кафе они замедляли шаг и смотрели на женщину с распущенными волосами, смотрели растерянно и тупо. — Ты должна выпить кофе, здесь хороший кофе,— сказал я. — Почему кофе? — От кофе тебе станет лучше. Недалеко в сторонке стоял официант, все время поглядывавший на нас. Я заказал ему кофе. — Зачем? — спросила она еще раз. Официант принес кофе. Против ожидания он тоже оказался скверным, к тому же чуть теплым. Она попробовала его и произнесла почти в отчаянии, готовая заплакать: — В этом кафе все плохое. Мороженое никуда не годится… Я взял ее за руку и объяснил: — В целом городе все одинаковое. Если в одном кафе плохое мороженое, значит, оно плохое и в другом. Все кафе снабжаются одной и той же базой. — А что с кофе? — Ну, с кофе несколько иначе. Если ты хочешь, можно заказать другой. — Нет, нет,— поспешно ответила она. Достав сигарету, попыталась закурить. Но ее зажигалка не работала. Она застонала. Я взял сигарету из ее губ и прикурил. Она не проявляла нетерпения и ни на что не жаловалась. Последнее было ей не свойственно. Она курила, поджав от неудовольствия губы. — Лучше бы мы остались на яхте,— сказала она.— Всегда бывает так, когда сходишь на берег. Я почувствовал непреодолимое желание рассмеяться. Но она не заметила этого. Перед нами по улице в адском шуме двигались грузовики, автомобили, автобусы. — Больше никогда не спущусь на берег,— заявила она. — Придется,— отозвался я,— в Дагомее, у эуэзов Эпаминондаса. Она улыбнулась так же очаровательно, как всегда. — Уверен, что все сложится удачно,— сказал я,— когда мы начнем охотиться на куду, нам будет весело, все несчастья людей — в основном из-за того, что они недостаточно веселы. Мы нарядимся, я надену тропический шлем с двойным дном, черные очки, галифе, а тебе дам маленький ягдташ, который нам очень пригодится, и мы ни за что не струсим. — Нет. — И я буду рассказывать тебе свою историю вечерами, в палатке, под рычание льва. — Нет,— упрямо повторила она. — Я буду говорить с тобой. — Нет. Куду больше нет. — Мир полон ими, просто ты об этом ничего не знаешь. — Теперь это не то, чего я жду. — Всегда надо ждать чего-то,— сказал я.— Когда ждешь чего-то слишком долго, всегда что-то меняется, и лучше ждать того, что приходит быстрее. И куду как раз и созданы для небольших ожиданий. Надо, чтобы ты поняла это. Она ничего не ответила. Говорить было очень трудно, приходилось почти кричать. Через регулярные интервалы, при красном свете светофора наступал катаклизм шума, который обрушивался на нас. Дома начинали дрожать, разговоры за столом прекращались. — Надо уходить отсюда, но ты еще не можешь идти. Выпей крепкого кофе. — Нет,— возразила она,— никакого кофе. Я снова подозвал официанта. И сказал ему, что ей необходим хороший, крепкий кофе. — Это она,— произнес я с заговорщицким видом,— ну, женщина с «Гибралтара». Он прямо остолбенел. А придя в себя, заверил меня, что все будет в порядке, и что он сейчас сделает самый лучший кофе. На это ему потребуется около десяти минут. Я сказал, что мы подождем. Но она думала по-другому. — Я хочу вернуться на судно,— заявила она. Я сделал вид, что не расслышал. В течение десяти минут, пока мы ждали кофе, ее мучил уличный шум. — Не стоит ждать кофе,— умоляюще проговорила она.— Уверена, что он будет опять скверным. Мне показалось, что она сейчас закричит, я взял ее руку и сильно сжал, дабы предотвратить эксцесс. Официант заметил ее нетерпение. Он подошел к нам, и я снова выразил надежду, что для нас приготовят кофе. Он пообещал сделать его сам, как только вода нагреется. Она слабо и виновато улыбнулась ему, как будто хотела сказать, что она тут ни при чем, что весь сыр-бор из-за меня и что беспокоиться, собственно, не из-за чего. — Наверное, уже все готово, я сейчас принесу. Он исчез, но тотчас же вернулся, неся с собой фильтр. Теперь надо было подождать, чтобы через него протекла вода. Я постучал пальцем по фильтру, чтобы ускорить процесс. — Ты сейчас все испортишь,— недовольно пробормотала она. Я попробовал кофе. Он оказался замечательным. Она взяла у меня чашечку и выпила одним глотком. Очень горячий, только что сваренный кофе. В результате она обожглась и опять застонала. — Вкусный кофе,— заметил я. — Не знаю. Я хочу уйти. Я попросил ее причесаться. Она спрятала волосы под шарф. — Куда ты хочешь идти? Она встала выпрямившись, в глазах у нее стояли слезы. — Не знаю, я не знаю. — Пойдем в кино. Я взял ее за руку. Свободной рукой она схватила шляпу. Мы пошли по проспекту, который вел к пляжу, в направлении, противоположном порту. Очевидно, что там не могло быть никаких кинотеатров. Это был квартал банков и офисов. Здесь все дышало спокойной деловитостью; улица заканчивалась парком, видневшимся издалека. Но она ничего не видела, ни на что не смотрела. Она выразила желание вернуться на бульвар. Мы шли еще минут десять в том же направлении, потом я повернул в обратную сторону. — Ты сам не знаешь, чего хочешь,— бросила она. — Знаю. Я хочу в кино. Время от времени надо ходить в кино. Я не сказал ей, что мне хочется только одного — любить ее. Даже мысль об этом приносила мне удовольствие. Я сильно сжал ей руку. Ее лицо дернулось болевой гримасой, но такой легкой, словно боль, которую я причинил ей, она воспринимала как естественную, но мелко неприятную неизбежность. Я пытался представить себе, что мы еще незнакомы, пробовал вообразить себе реакцию, какую бы вызвала у меня она, идущая навстречу мне с этим лицом, с этими глазами. Но у меня ничего не получалось. Тем не менее, я находил ее более прекрасной, более удивительной и таинственной, чем в тот первый день в Рокке. — Но почему кино? — мягко спросила она. — А почему бы нет? — И ты знаешь, на какой фильм мы идем? — Конечно знаю. Она повернулась ко мне, заподозрив меня в дурных намерениях. — Я должен сказать тебе кое-что,— начал я. — Что-то связанное с кино? — Как знать… Тем временем мы дошли до бульвара, ведущего от площади к порту. Мы опять влились в длинную вереницу грузовиков с металлической стружкой и углем. Я остановился перед пешеходным переходом. Нам вовсе не было необходимости пересекать улицу, и я подумал, что она поймет, но она ничего не заметила. — Нам надо перейти,— сказал я. Да, я подумал, что она поняла, ибо на другой стороне бульвара не наблюдалось никаких кинотеатров. А она уже почти не была пьяной. Регулировщик, весь в белом, возвышался на таком же белом, как и он сам, пьедестале, торжественными жестами управляя движением монстров с металлическими стружками. Те послушно останавливались по мановению его руки, затянутой в перчатку. — Взгляни на регулировщика,— сказал я. Она посмотрела на него и улыбнулась. Я подождал одного, потом другого сигнала полицейского. И переход пешеходов и проезд автомобилей длились в среднем минуты три. Вокруг было много народа. — Как долго,— нетерпеливо дернула она плечом. — Очень долго. Пешеходам перекрыли движение. Настала очередь грузовиков. Натужно двинулся с места грузовик, нагруженный ящиками. На пешеходной дорожке больше никого не осталось. Полицейский сделал полуоборот и развел руками, как распятый. Я взял ее за плечи и повел вперед. Она все видела: грузовик, трогавшийся с места, пешеходный переход без пешеходов — и не сопротивлялась. Первый раз у меня не возникало ощущения, что я тащу ее. Мы оба побежали вперед. Меня задело крылом грузовика. Какая-то женщина вскрикнула. Прежде чем мы добежали до безопасного места, сразу же после отчаянного вопля женщины, под гневный окрик полицейского я успел сказать, что люблю ее. Она застыла прямо у тротуара. Я сильно прижал ее к себе, чтобы она не упала под грузовик. И ведь я сказал ей не Бог весть что. Всего лишь три слова из тысячи, которые я бы мог ей сказать. Но я думаю, что с тех самых пор, как потеряла моряка из Гибралтара, она испытывала острую необходимость от кого-нибудь услышать эти слова. Бледная, дрожащая, она продолжала неподвижно стоять у тротуара. — Документы! — закричал регулировщик. Продолжая держать ее руку в своей, я вытащил удостоверение и протянул полицейскому. Он не казался чересчур разгневанным. Он понял, что, едва не попав под машину, она очень перепугалась. Она улыбаясь смотрела на него, так, будто именно он занимал все ее мысли. Он посмотрел на нее и тоже улыбнулся. Вернув мне удостоверение, развернулся и торжественным жестом остановил грузовик. Мы спокойно перешли улицу. — Мне не очень хочется идти в кино,— сказала она и засмеялась. И я, в свою очередь, засмеялся. Улица, как манеж, вертелась вокруг нас. У меня закружилась голова, и я сказал ей об этом. Мы вернулись и снова перешли улицу, теперь уже как полагается. Регулировщик удивленно вскинул брови. Мы улыбнулись ему. Кинотеатр располагался на маленькой улочке, перпендикулярной бульвару. На судно мы вернулись около шести часов вечера. Лоран ждал нас, чтобы отчалить.

Путешествие длилось десять дней. Было спокойно и весело. Я начал становиться серьезным человеком. Это произошло после Танжера и продолжалось потом. Она тоже начала становиться серьезной, и тоже после Танжера, и оставалась такой. Я не хочу сказать, что мы сделались такими, когда прибыли в Котону, нет, но мы были там более серьезными, чем при отплытии. Стать серьезным — долгий и трудный процесс; он длится не один и даже не десять дней. За это время можно только начать становиться спокойным и серьезным. Итак, нам было спокойно и весело. В Касабланке я купил себе три рубашки, начал регулярно мыться и следить за собой, что, конечно, тоже оказалось нелегко. Но уже в Гран-Басаме [18] выглядел опрятным и ухоженным. Теперь я больше спал. Я спал каждую ночь, больше или меньше, но каждую ночь. Понемногу, с каждым днем, мое положение на судне становилось все определеннее. Постепенно она стала уделять мне больше времени. Я дорожил моим новым положением, к которому, без сомнения, можно было легко привыкнуть, но, думаю, мало кто из мужчин мог бы привыкнуть к такому положению, как мое, и мало кто чувствовал бы себя при этом хорошо. Чтобы успешно заниматься поисками, нужно полностью отдаться этому делу и не иметь терзающих душу сомнений на тот счет, что мужчина должен посвятить свою жизнь поискам соперника. Другими словами, надо было смириться с тем, что для тебя не существует ничего другого. Это был как раз мой случай. У меня не имелось никакого другого дела. Я хочу сказать, кроме того, чтобы искать его. При всем своеобразии и трудности для меня этого дела, несмотря на внешнее впечатление, которое производила моя абсолютная праздность, мною вовсе не ощущаемая, я мог сказать не хвалясь, что с самого начала этого перехода я обнаружил в себе задатки настоящего следопыта. Мы останавливались в Касабланке [19], Могадоре, Дакаре [20], Фритауне [21], Эдине и, наконец, в Гран-Басаме. Она сходила на берег только два раза, в Дакаре и во Фритауне, и я сопровождал ее. Я же выходил всюду — в Касабланке, Могадоре, Эдине и Гран-Басаме — вместе с Эпаминондасом. В процессе ознакомления с перечисленными городами я полюбил географию определенного рода, а именно человеческую географию. Путешествуя по миру в поисках конкретного человека, получаешь удовольствие, отличное от того, когда путешествуешь в качестве туриста. Мы не были туристами, да и не могли ими быть. Для тех, кто ищет человека, гавани значат очень многое, хотя они в несколько раз меньше, чем сам населенный пункт, чем все те места, где могут обретаться люди определенного типа. И мы идем в Котону, конечно, искать его, хотя можем найти его гораздо раньше, на каждом этапе нашего продвижения. И глядя на карту по пути в Котону, мы начинаем ощущать, что весь мир заселен им одним. И когда мы проходим по проспектам Дакара, или улочкам Фритауна, или докам Гран-Басама, мы машинально ищем его, вглядываясь в каждого белого мужчину. И в этом нам видится насмешка судьбы. Это меня очень утомляло. Перед тем как подняться на борт, я выпивал виски. Я пил все больше и больше. Она, впрочем, тоже. Пили перед обедом. Потом после обеда. А потом и утром. Каждый последующий день — больше, чем в предыдущий. На судне всегда был запас виски. Она пила и раньше, с того момента, как начала искать своего моряка, но за время нашего последнего путешествия, думаю, особенно пристрастилась к нему. Но когда мы бывали вместе, я, пытаясь удержать ее, переставал пить совсем, в этом заключалась наша серьезность. Это касалось и виски, и перно. Хотя, конечно, мы отдавали предпочтение виски. Прежде чем стать чисто американским напитком, виски пили моряки во время длинных морских переходов. Мы шли вдоль берегов Африки. Уже позади остался Танжер. Скалистые извилистые берега, вплоть до Сенегала, постепенно становились более плоскими и серыми, оставаясь таковыми до конца. С помощью виски нам удавалось находить в этом пейзаже некоторое разнообразие. Однажды, и все из-за нее, я обнаружил нечто комическое в моем положении. Видя ее постоянно прогуливающейся по палубе, я понял, что неразрывно связан с этим судном, что, будучи свободным и могущим в любой момент сойти на берег, я дотащился с ней до самой Африки и, что самое странное, совсем не удивлен этим. Она засмеялась и сказала, что так бывает со всеми и что в подобной ситуации она не находит ничего особенного. За три дня до Котону мы попали в сильный шторм. Пришлось задраить иллюминаторы и двери; всем было запрещено выходить на палубу. У Эпаминондаса началась морская болезнь, и он горевал, что «не может справиться с собой». Судно поднималось на волнах, как кашалот, потом безвольно падало в бездонную пучину. И каждый раз казалось, что оно уже не сможет подняться. Бруно и иногда Эпаминондас признавались, что с ужасом думали об этом. При постоянных и тщетных усилиях судно не продвигалось вперед ни на йоту, вынуждая нас находить сходство между нашими усилиями и усилиями судна. На следующий день все повторилось. Шторм еще бушевал, но уже выглянуло солнце. Через иллюминаторы мы смотрели на море, бушевавшее под солнцем. Это смотрелось необыкновенно красиво. Нос судна погружался в морскую пучину, корма поднималась вверх, и винты вращались в воздухе. Создавалось впечатление, что яхта кричит от страха. Но мысль, что мы можем пойти ко дну, теперь нас почти забавляла. Погода наладилась только через день, за два дня до нашего прибытия. Теперь, пытаясь нагнать потерянное время, мы пошли быстрее. Навстречу моряку из Гибралтара.

Приход к месту назначения оказался для нас неожиданным. Не было ни островов, ни бухт, где волнение затихает постепенно, ни архипелагов, которые обычно свидетельствуют о близости континента и как бы танцуют на море. День выдался необычайно жарким. Нас сопровождало стадо морских свиней. Они прыгали, серебрясь в теплых водах, пытались обольстить нас, дабы кто-нибудь пожертвовал собой и утолил их зверский аппетит. Анна бросала им куски хлеба. Легкая зыбь волновала океан. Наконец, мы вошли в Гвинейский залив. Горизонт был безупречно чистым, только после полудня его нарушил дым трубы грузового судна, а еще через некоторое время появилось несколько желтых парусов местных лодок. К шести часам вечера мы причалили в Порто-Ново.

Взаимные излияния Луи и Эпаминондаса продолжались довольно долго. Они хорошо знали друг друга еще по Марселю, потом вместе плавали и стали друзьями. Расположившись в баре, они рассказывали друг другу о том, что произошло в жизни каждого, с тех пор как они расстались, и на протяжении получаса не обращали на нас никакого внимания. Мы вежливо ждали, попивая виски, пока они наговорятся. Покончив со своими прежними занятиями, Луи посвятил себя коммерции, возя бананы между Котону и Абиджаном [22] на старом грузовике, который купил по случаю. Он вложил все свои средства в ремонт этого драндулета, и теперь у него нет ни су. Таким образом мы узнали, что ему необходимо пятьдесят тысяч франков на покупку нового грузовика, ибо он рискует при каждой своей поездке. И тут, надо отдать ему должное, он вспомнил о присутствии Анны. Тогда я сообщил ему, что он сможет получить пятьдесят тысяч. Анна, действительно, без колебаний, пошла ему навстречу в благодарность за его сообщение о моряке из Гибралтара. Маленький, худой, дочерна обгоревший на солнце, Луи странным образом соединял в себе непосредственную живость и наглость. Он так же, как и Эпаминондас, как все, кто посылал ей сообщения и «узнавал» его, пользовался ее особым расположением. Такое отношение, возможно, вследствие долгого пребывания в Африке, вызывало у него неадекватную реакцию. Многие, наверное, считали, что он немного не в себе. Но это не соответствовало действительности. Луи общался только с чернокожими и пользовался дурной репутацией. Белые в Порто-Ново и слышать не хотели о нем. Он их утомлял. Они считали его беспардонным болтуном и подонком. Луи любили только чернокожие. Его взбалмошность не смущала их, а образ жизни, неопределенный и неразумный, совсем не раздражал их, скорее наоборот. Его ненадежность обошлась нам слишком дорого. Но эта неуравновешенность не смущала Анну. Жизненный опыт научил ее, что иногда надо доверять всем, в том числе лжецам, глупцам и даже умалишенным. Ошибаться могут все, говорила она. На Луи она полагалась абсолютно, безоговорочно поверила в его историю, намереваясь следовать его указаниям: ехать и в труднодоступные районы Центральной Африки, и в зеленую саванну Уэле. Луи жил в маленьком полузавалившемся бунгало, у самого порта, и был единственным белым в этой части туземного квартала. Вместе с ним уже два года жила молоденькая девушка по имени Пехл, которая вполне свыклась с его сумасбродством. В день нашего приезда Луи пригласил на обед Анну и Эпаминондаса. Я подошел вместе с ними, и, немного позже, видимо узнав от Эпаминондаса о моей роли на судне, Луи извинился передо мной, сказав, что очень рад моему приходу. Вообще он обращался со мной дружески и естественно, включив меня в круг людей, которых она держала рядом для своего удобства и которые помогали ей искать моряка из Гибралтара. Впрочем, то внимание, которое я уделил истории, рассказанной вечером, усилили его симпатии ко мне. Четвертым приглашенным на обед был лучший друг Луи — чернокожий учитель из школы для мальчиков. Луи представил его как человека, который хорошо знал моряка из Гибралтара, и как автора литературного труда на французском языке, объемом в шестьсот страниц, изданного Службой пропаганды Министерства колоний, где излагается история дагомейской королевы Домисиги, бабки короля Беханзина. За обедом много говорили об этой королеве. Тем более что, как и все сотрудники Министерства колоний, я держал в руках этот труд, убедительно свидетельствующий о благодеяниях колониализма. Луи поведал о своей роли в появлении на свет этой книги — он помогал другу с корректурой. Я тепло поздравил автора, разумеется, не признавшись, что не прочел в этой книге ни единого слова. Он, рассыпавшись в благодарностях,сказал, что из белых людей только я, да еще моряк из Гибралтара читали книгу о королеве Домисиги и одобрили ее. Такое редчайшее совпадение привело их с Луи к мысли, что наша встреча здесь, в Дагомее, более чем обоснованна. Это так естественно! И если рассказ друга Луи о встречах с моряком из Гибралтара, пересыпавшийся примерами из истории Дагомеи, совсем не смутил Анну, то мог ли он смутить меня, уже давно готового ко всему, причем самому неожиданному и неприятному.

Обед был простой, но очень хороший. Молоденькая Пехл, подруга Луи, старательно прислуживала нам за столом, совсем не принимая участия в разговоре. Славное прошлое Дагомеи отнюдь не интересовало ее, а историю моряка из Гибралтара она знала достаточно, чтобы понять то, о чем говорит учитель. Когда обед закончился, она вышла в соседнюю комнату и затянула протяжную пастушескую песню с горных плато Атакоры. Анна велела принести побольше итальянского вина, чтобы не слишком удивляться рассказу друга Луи и как-то скрасить оставшуюся часть вечера. Было уже около двух часов утра. Понизив голос — ведь всюду шныряли агенты полиции, в меру пьяный, он торжественно, под аккомпанемент напевов Атакоры, начал свой рассказ. — В Абомее, столице Дагомеи, находилась старинная резиденция жестоких королей, среди которых самым великим был, как вы помните, Беханзин. И жил там некий белый господин, историей которого Луи за два года прожужжал мне уши; он был похож на того, кто интересует вас, на того, которого вы разыскиваете столько лет. Другие белые колонисты, говоря о нем, обвиняли его в распутстве, сутенерстве и сводничестве. Белые говорили, что он позор колонистов, но я не понимаю, почему один должен отвечать за всех. Этот господин совершил что-то такое, за что разыскивался белой полицией Порто-Ново, Котону и всех городов, кроме Абомея, где жил этот господин и где черная полиция не имела права заниматься белыми преступниками. В числе преступлений, в которых его обвиняли, назывались воровство, контрабанда и — извините меня, мадам, но я говорю всю правду, изнасилование. Это последнее — основное, чего не приемлют белые, ведь у нас в Дагомее преступление — понятие очень относительное. Особенно когда дело касалось моряка из Гибралтара, пользовавшегося широкой известностью, в первую очередь среди женщин и девушек, которые испытывают ностальгию по прежним временам Дагомеи, когда любовь была в чести, когда ею занимались все в любое время дня и не было мирового судьи, чтобы следить за моралью. И я имел честь знать господина моряка из Гибралтара. Но каким образом? — спросите вы. Да, я встречал его и имел с ним дружеские беседы. Дагомейцы знали его под именем Жеже. Мне довольно трудно описывать Жеже, простите, моряка из Гибралтара. Нам, чернокожим, не так-то просто различать физиономические подробности белых, они для нас почти все на одно лицо, но главная трудность которую я испытываю при описании господина моряка из Гибралтара, заключается в том, что он носил колониальный шлем и темные очки, и я всегда встречал его только в этих защитных очках, впрочем весьма необходимых всем белым, ибо Дагомея находится недалеко от экватора. Тем не менее наши женщины — извините меня, мадам, что я подвергаю испытанию ваши чувства,— большинство наших женщин говорили, что у него голубые глаза. Одни из них утверждали, что его глаза лазурные, как утреннее небо, другие клялись, что они синие, как озера плато Атакоры в сумерках. Но, повторяю, его черные очки не позволяли мне вынести собственное суждение. Какого цвета у него волосы, я тоже не могу сказать доподлинно, но мне кажется, что из-под шлема выбивались темные пряди. Средства, на которые существовал этот господин, добывались им из разных источников. Но в основном его благосостояние зиждилось на том, что белые обычно называют транспортными перевозками. Мне кажется, что это означает коммерческую деятельность, связанную с предметами нашего искусства и, конечно, золота. Он занимался этим не один. Говорят, у него были люди по всей Африке и даже в племени монбуту, которые, как вы, наверное, знаете, людоеды. Всем алкогольным напиткам Жеже предпочитал виски, на что всегда указывал Луи, когда говорил о тяжелом прошлом моряка из Гибралтара, связывая его любовь к виски с угрызениями совести. Еще он охотился практически на всех животных колонии, а иногда, когда нечего было положить на зуб, то и на ворон на улицах Абомея. Он жил так же, как и мы все, бедные чернокожие, которых тоже называл братьями и которых, как говорят, настраивал против своих белых братьев из колониальной администрации. Я добавлю одну деталь, которая дорога лично мне: он хорошо знал историю Дагомеи и почитал нашего великого Беханзина. Господина моряка из Гибралтара все считали ловким малым. А простые люди, пастухи с высокогорных плато, больше того, считали, что он находится под защитой богов и потому абсолютно неуязвим. Его сравнивали с большим куду, который как ветер мчится навстречу рассветному солнцу, а обладающие богатым воображением видели в нем одно из воплощений нашего великого Беханзина. Ему нравились такие сравнения. Ваша мифология сильно отличается от нашей, и вам необычайно сложно постигнуть то, что доступно нашему пониманию. Позднее господин моряк из Гибралтара изменил свой стиль. Теперь он был вооружен не только своими кулаками, но и пистолетами. Каждый встретивший его видел пистолет у него на боку. Думаю, не ошибусь, если скажу, что их насчитывалось у него с десяток. Он приобретал их в Британской Нигерии, где также имел друзей. В основном это были десятизарядные маузеры, обладавшие большой убойной силой. Он никогда не скрывал, что носит оружие, и в какой-то мере не скрывал своего прошлого. Мы знали, что когда-то он совершил преступление в Париже, этом огромном городе. Он говорил о своем преступлении очень спокойно, даже с каким-то смирением, однако мы чувствовали, что, окажись в подобной ситуации снова, он поступил бы точно так же. Создавалось впечатление, будто он жалеет, что дело сделано и нельзя повторить это снова. Однако он никогда не говорил, ни при каких обстоятельствах совершил преступление, ни кто его жертва. А я никогда не расспрашивал его о подробностях. Зная о живости темперамента господина моряка из Гибралтара, я бы рисковал своей шкурой, если бы признался, что мне известно от Луи, как он расправился с американским королем шарикоподшипников Нелсоном Нелсоном. Поверьте, мне очень грустно сообщать вам, что господин моряк из Гибралтара совершил в Дагомее два новых преступления, и что его сейчас нет среди нас. Выстрелом из маузера он убил полицейского из Абомея, только что приехавшего в колонию и прямо на улице нахально потребовавшего у моряка из Гибралтара предъявить документы, а через некоторое время прикончил белого колониста, вероятно конкурента в торговле золотом. Эти неблагоразумные поступки он совершил в один день. Чем объяснить такое нервное состояние господина моряка из Гибралтара? Тогда в Дагомее стояла невероятная жара. Но равнодушные к любому разумному объяснению, белые колонисты пришли в ужасную ярость от действий господина моряка и послали петицию господину губернатору. Тогда господин губернатор направил на господина моряка из Гибралтара все полицейские силы колонии. А именно ваш покорный слуга имел честь предупредить господина моряка через одного посредника. Но в то время как все объединенные полицейские силы направлялись из Порто-Ново в Котону, господин моряк из Гибралтара выехал из Котону в Порто-Ново, где не осталось ни одного белого полицейского. Все они отправились в Котону на его поимку, и таким образом господин моряк мог спокойно ехать в другое место. Сначала он долго в одиночку пробирался через многокилометровые заросли густого кустарника, затем с помощью своих друзей оказался в Бельгийском Конго. Когда он прибыл в Конго, разговоры о нем, уже начавшие было утихать, разгорелись с новой силой. Бельгийские власти, в обязанности которых входила немедленная выдача господина моряка властям Дагомеи, поддерживали слухи о том, что его друзья-людоеды из племени монбуту съели его по случаю великого ежегодного праздника племени. Это он, господин моряк из Гибралтара, придумал такой великолепный ход, и вы, мадам, не волнуйтесь, если подобные слухи дойдут до вас. Во время нашего последнего свидания он сказал мне: «Полиция никогда не схватит Жеже, никогда!» Кстати, господин моряк из Гибралтара всегда говорил о себе в третьем лице. Он говорил: «Жеже голоден», или: «Жеже хорошо чувствует себя», или еще: «Жеже вляпался» и т. п. В нашу последнюю встречу, самую долгую из всех, которых я имел честь удостоиться, он объяснил мне, что отныне его жизнь будет разнообразней прежней, что он ни о чем не жалеет и что единственное, чего он по-настоящему боится, так это тюрьмы. Если он почувствует реальность осуществления этой угрозы, он предпочтет исчезнуть у монбуту. Именно такой вид смерти казался ему наиболее привлекательным. «Жаль, правда,— сказал он мне,— что Жеже придется умирать в расцвете сил и в конечном счете он сгодится разве что для удобрения африканской земли». Бесспорно, его друзья из племени монбуту были бы очень рады обглодать его косточки в знак дружбы. Однако Жеже, будучи здоровым, сильным мужчиной, пока не торопится становиться удобрением африканской земли, считая, что достоин лучшей участи. На доме господина моряка полиция обнаружила висевший плакат, оставленный им перед отъездом. Он гласил: «Не ищите Жеже. Жеже больше нет. Не ищите даже его труп, его нет на африканской земле. В Абомее все знают, что Жеже съеден своими товарищами монбуту из Уэле, и теперь вы все в дерьме. P. S. Жеже ни о чем не жалеет». Взбудораженное население Абомея с нетерпением ждало подтверждения слухов со стороны официальных властей. Полиция бесславно вернулась в Порто-Ново. Выждав какое-то время, я послал сообщение Эпаминондасу, ибо приблизительно мы знаем, где нужно искать господина моряка из Гибралтара. Через месяц после описанных событий я получил письмо из Леопольдвиля. Оно было адресовано мне не потому, что я его лучший друг, но потому, что я — единственный, кто знает французский. Письмо мы, конечно, порвали, но я почти дословно помню его содержание. «Дорогой Беханзин (так забавно он обращается ко мне), Жеже в Леопольдвиле. Он устроился как нельзя лучше. Леопольдвиль — большой город, один из лучших образцов колониального дерьма. Нужно, наверное, убить мать и отца, чтобы жить здесь. Ему удалось найти друзей. Он играет в карты. Закопайте пистолеты. До скорого, ваш Жеже». Получив это письмо, Луи решил написать господину моряку и отправил письмо через посредника. События торопили. Вы уже находились на пути к Сету, где, как мы знали, Эпаминондас должен был ждать вас. И мы решили, что разделяющее нас расстояние упростит разговор с ним о его прошлом, о вас, мадам, и о том, чему вы посвятили жизнь. Мы ему сообщили, что некая дама по имени Анна ищет его на яхте «Гибралтар» по всему земному шару. Позавчера мы получили ответ от господина моряка, где, помимо всего прочего, он писал: «Что касается Анны, вы можете направить ее к Жеже. Посмотрим, что можно сделать для нее… Пусть она спросит Жеже в первом же бистро Леопольдвиля на правом берегу реки Конго». Простите, мадам, что я так долго занимал ваше внимание. Больше мне нечего сказать, кроме того, что я с большой симпатией отношусь к вашему предприятию.

На судно мы вернулись на рассвете… Слушая очередную версию истории моряка из Гибралтара, мы постоянно сдерживали рвущийся наружу смех, и это состояние утомило нас. Все трое мы двинулись в бар, чтобы выпить виски и сделать вывод из визита к Луи. Эпаминондас состроил грустную мину. — Думаю, на этот раз похоже на правду. Она, как могла, успокоила его. — Он мог измениться. Разве он не имеет права измениться? Но после первого стакана виски она начала хохотать как безумная. Эпаминондас не выдержал и спросил: — Ты хочешь сказать, что я опять втравил тебя в дурацкую историю? — Ну зачем так, я же знаю, что он где-то есть.— Эпаминондас сделал страшные глаза.— Он хочет сказать,— продолжила Анна,— что со всеми своими пистолетами он теперь требует более уважительного отношения к себе, чем прежде. — Когда нервные люди носят при себе оружие, они не преминут воспользоваться им,— заметил я. — Меня,— сказал Эпаминондас,— не в чем упрекнуть в этом смысле.— Но тут ход мыслей Эпаминондаса изменился, и он спросил, обратившись к Анне: — Ну и что, ты собираешься в Конго? — Человек может измениться,— произнесла она мягко,— и даже очень измениться. Внезапно она рассеянно посмотрела на меня. — Если он изменился,— настаивал Эпаминондас,— то стоит ли идти в такую даль, чтобы тебе там продырявили шкуру, на правом берегу Конго? — Берега реки Конго,— мечтательно напомнил я,— и особенно реки Уэле, просто кишат стадами куду. — Если дело только в куду, можно поехать охотиться в другое место и не соваться в его огород. — Он мог здорово измениться,— продолжала Анна,— совершенно измениться. Разве он не может постареть? В этой истории ничто не противоречит его образу. Даже тому, который здорово изменился. — И правда,— вмешался я,— почему бы морякам из Гибралтара не постареть, как и всем прочим? — Никогда не думала об этом. — Стареют все, но если его старение выражается таким образом, стоит ли искать его на берегах Конго? — настаивал на своем Эпаминондас. — Никогда не видела тебя таким спешащим,— засмеялась Анна. — Я приложил руку к тому, что ты оказалась здесь,— сказал Эпаминондас,— и теперь меня терзают сомнения. А кроме того, если он так изменился, чего ради и тебе идти туда? — Постарел он или нет,— возразил я,— разве не он убил американского короля подшипников? — Так-то это так,— раздраженно бросил Эпаминондас,— но он теперь стреляет во всех направо и налево. — И так легко ты можешь отречься от него? — просто спросила Анна. — Ничего себе легко,— протянул Эпаминондас. — И потом,— опять вмешался я,— поскольку она не видела его во плоти, не может же она верить всем подряд. Кто тебе сказал, что он настолько изменился? — Да он все время меняет кожу,— ответил Эпаминондас,— с первых дней, как она его узнала. — Ну,— сказала Анна,— раз есть шанс, что это именно он, я не могу от него отказаться. — Вы какие-то странные оба,— пожал плечами Эпаминондас. — Нельзя не использовать этот шанс,— сказал я. — У меня складывается впечатление, что торопишься именно ты,— заметил Эпаминондас и добавил, немного подумав: — Забавно, но мне кажется, что не моряк так привлекает вас на берега Конго, должно быть, есть что-то другое. — Куду,— улыбнулся я,— совсем чуть-чуть. — Не морочь мне голову,— бросил Эпаминондас,— я хорошо знаю, что не куду. — А что? — спросила Анна. — Не знаю,— ответил Эпаминондас, поочередно глядя то на Анну, то на меня.— Есть только он и куду, и вы хорошо знаете, что существует только один шанс из тысячи… — Это не так мало,— сказала Анна,— один шанс из тысячи. — Если бы был один из десяти тысяч, то и им не стоило бы пренебрегать. Воды Конго отразят наши образы,— усмехнулся я. — А я не знаю, отразят ли они мой,— объяснил Эпаминондас. — Я обожаю тебя,— сказала Анна. — Возможно,— ответил он,— но, даже если ты его найдешь, вряд ли тебе удастся отговорить его от чрезмерного увлечения маузерами. — У меня нет никакого предубеждения против этого вида оружия. — И против людоедов тоже? — О, это славные парни,— сказал я,— они тоже неравнодушны к куду. И потом, если они будут настаивать, я, пожалуй, соглашусь вместо тебя оказаться на вертеле. — Действительно,— хохотнул он,— ничего другого тебе не останется… — Не думаю,— сказала она,— что дело дойдет до такой крайности. Жеже сжалится над нами, он должен быть понятливым.

В Дагомее мы задержались на три дня из-за небольшой аварии, вызванной штормом. За эти три дня мы сблизились и с Луи, и с его другом — школьным учителем. Эпаминондас и Бруно в сопровождении Луи пытались поохотиться на куду в районе Чабе. Эпаминондас, прежде никогда не охотившийся, никого не убил; он несколько раз промахивался, стреляя в различных животных. С охоты он вернулся полным энтузиазма, все его опасения рассеялись как по волшебству, сменившись желанием без промедления идти в бассейн Уэле. Бруно оказался неплохим охотником; с первого выстрела он убил молодого оленя. Он возвратился совершенно изменившимся, каким-то просветленным. Думаю, он поздравил себя с тем, что не ушел с судна в Сете. Луи из деликатности пришел без добычи. Лоран, воспользовавшись трехдневной стоянкой, две ночи провел с малышкой Пехл, отчаянно скучавшей в Котону. Дабы облегчить ему это дело, мы с Анной приняли предложение учителя совершить автомобильную прогулку в Абомей. На следующий день мы доехали аж до Лагоса, что в Британской Гвинее, нимало не пожалев о нашей поездке. Мы приобрели еще одного друга. Другие члены команды расслаблялись в борделях Котону и Порто-Ново. В общей сложности пребыванием в Нигерии все остались довольны и еще долго говорили об этом. Накануне отъезда все возвратились и с охоты, и из борделей, и из Лагоса. Анна решила дать обед в честь наших двух друзей. Вечер удался, оставив у нас радостные воспоминания. Не только потому, что обед был великолепным, но и потому, что он сопровождался обильными возлияниями прекрасного итальянского вина. Все остались довольны. В сущности, перспектива отправиться на Уэле захватила каждого из нас. Мы веселились так, словно уже держали за руку моряка из Гибралтара. В конце обеда никто не сомневался в успехе нашего предприятия, за исключением Лорана, Анны и меня. Бруно пел сицилийские песни. Эпаминондас говорил о куду. Учитель — о Дагомее и ее славном прошлом. Луи — о своем новом грузовичке и о возможности быстро сделать состояние, десять раз перевезя бананы из Абиджана в Котону. У Лорана с Анной состоялась доверительная беседа, из которой я не расслышал ни единого слова. Матросы разоткровенничались по поводу своих подвигов в борделях Порто-Ново. Малышка Пехл, сидевшая рядом со мной, рассказывала мне о путешествиях, о Котону и о своей однообразной жизни. В общем, все говорили одновременно, каждый — о том, что ему было интересно, и никто не слушал собеседника. Такой непринужденной атмосферы редко удается добиться, а когда удается, все получают огромное удовольствие. Луи и его друг-учитель держали себя более чем скромно, хотя обед давался в их честь. Постоянно произносили тосты то за великого Беханзина, то за Жеже — моряка из Гибралтара, которого изгнали идиотские сплетни, всегда преследующие честных людей. К концу обеда сознание многих пребывало в затуманенном состоянии, вызванном неумеренным потреблением итальянского вина, и углубляться в личные заслуги обоих героев никому не пришло в голову. Анна сидела напротив, а не рядом со мной, что меня огорчило, но не настолько, чтобы утратить охватившую всех, в том числе и меня, эйфорию. Около двух часов ночи Луи внезапно встал из-за стола и сообщил, что он готов показать нам два скетча. Один на тему моряка из Гибралтара, а другой о Беханзине. Он добавил, что не может упустить такую прекрасную возможность восславить заслуги обоих героев перед столь уважаемой и понимающей аудиторией. И попросил публику выбрать тот из двух, который мы предпочли бы увидеть сначала. Чтобы сделать ему приятное, все высказались за Беханзина. Он предложил нам сдвинуть столы, освободив таким образом место для мимического представления, которое называлось «Договор 1890 года». Мы расселись, образовав большой круг. Анна оказалась еще дальше от меня. Извинившись, Луи в сопровождении учителя покинул помещение. Вскоре он вернулся, облаченный в странный наряд, вызвавший громкий хохот матросов. На голове у него красовался шлем из бумаги, напоминавший пляжную шляпу. Широкая пестрая юбка до пят едва держалась на узких бедрах. Он пояснил, что это обычный наряд их королей. В руках он держал лист белой бумаги, видимо призванный обозначать договор 1890 года. Он попросил прекратить смех, что оказалось далеко не простым делом. Но, в конце концов, Анна, Лоран и я навели порядок. Представление началось долгим молчанием, во время которого Беханзин внимательно смотрел на договор, который должен был подписать. Красноречиво изобразив, что собой представляет пресловутый договор, дав понять, что возмущению его нет предела, он уселся на землю и начал говорить: — Договор, что это такое — договор? Подписать?! Они мне сунули перо в руку, а сами держали меня за руку. Подпишите, подпишите, сказали мне. Что? Капитуляцию Дагомеи? Они направили мою руку, чтобы я сам задушил себя! Взволнованный учитель объяснял нам сомнения Беханзина: — Он не понимал значения договора, его пытались обмануть. — Мы — страна великих обычаев,— продолжал Луи,— мы не ведаем того, что в этой бумаге. Если я не подпишу бумагу, они меня застрелят. Они смеются надо мной. — Наивный, как новорожденный ребенок,— пояснил учитель.— Беханзин подписал свой смертный приговор. Мы слишком много выпили, чтобы нас могла разжалобить судьба Беханзина. Луи очаровал нас. Весь экипаж в открытую хохотал, но это не смутило двух друзей. Анна тоже смеялась, пряча лицо в носовой платок. Только маленькая Пехл совсем не смеялась. Проведя детство на высокогорном плато Атакора, она на некоторое время оказалась в борделе Котону. Она забыла про Лорана и строила глазки Эпаминондасу и мне, трогательно демонстрируя, что она умеет вести себя в обществе. Должно быть, она не в первый раз видела трагедию Беханзина. В неподдельном отчаянии Луи плакал, рвал на себе волосы — он и в самом деле рвал их, катался по полу, для большего удобства держа договор 1890 года в зубах. Анна хохотала, сидя на полу. Обо мне она совершенно забыла. — Они заставили меня продать мой народ,— вопил Луи,— мой маленький народ, моих эуэзов, моих ауссов, моих баибов. Подпиши, сказали они мне, подпиши же. Я подписал. Быть или не быть, подписать или не подписать? Какой я был наивный! О Гле-Гле, мой достойный отец! Твое проклятие падет на мою голову! Я больше не Глаз акулы, Глаз мира, Великий король Дагомеи! Я больше никто! Я просто наивный человек, который страдает, страдает! У учителя на глаза навернулись слезы. — Нет,— стонал учитель,— нет, ты не проклят. Придут другие поколения и докажут твою невиновность! — Они наставили маузер мне в спину,— голосил Луи,— и сказали: «Подписывай!» Одним росчерком пера я отдал всех дочерей моей страны в бордель, а всех сыновей в рабство белым! И во имя чего? Мы заходились в пароксизме сумасшедшего хохота. — Стоило проделать пять тысяч километров, чтобы увидеть это! — сквозь смех проговорил Эпаминондас, хлопая себя от удовольствия по ляжкам. Малышка Пехл продолжала, как школьница, стрелять в нас глазками. Наклонившись ко мне, она сказала: — Я — принцесса, а еще я проститутка из Порто-Ново. Наконец Луи перестали мучать сомнения. Теперь он знал, что делать. Он дал выход своему гневу, начав судорожно плевать на договор 1890 года. Потом он смял его и принялся подтирать им зад. — Придите, дети мои, покажите белым, что наши обычаи выше, чем их законы. Мы поднимем на них свои копья, мы угостим их как следует! Изображая голодного, он вгрызался зубами в воображаемую плоть. Предательство было съедено. Он остервенело скомкал бумагу и отбросил ее далеко в сторону. — По-моему, он заболел,— сказала Анна. Команда хохотала так громко, что Луи пришлось почти кричать, чтобы быть услышанным. — Терпение, Беханзин,— взывал учитель. — День возмездия наступил,— вопил Луи,— к оружию, сыны мои! Собирайтесь, батальоны черной Африки, долой угнетателей! Пробудись, кровь наших предков! Да очистится наша земля от проклятых милитаристов! Изжарьте нам кровавых генералов, грязных полковников! Малышка Пехл вдруг заторопилась: — Пора уходить. — Сейчас, должно быть, будет что-то интересное,— предположил Эпаминондас. — Потом будет история генерала Доддса, депортация Беханзина. Долгие страдания… Пора уходить,— настаивала Пехл. Мы не знали этого Доддса, и она объяснила нам, что это французский генерал, завоевавший Дагомею. — И часто он играет это? — спросил я. — Почти каждый вечер. В Котону нет театра. — И все это время «Договор 1890»? — Иногда историю господина де Гибралтар. Луи продолжал призывать к оружию. Он все никак не мог остановиться. Его друг в такт призывам хлопал в ладоши. — Нет места на нашей земле этой мерзости! Съешьте одного полковника, одного генерала. Это научит их, пусть забудут дорогу сюда! — Терпение, терпение,— подвывал учитель. Луи внезапно снова впал в отчаяние. Должен же он устать наконец. — Ах, я в руках этих бледнолицых, и цена мне — пустая тыква, что наши пастухи носят с собой. — Нет, Беханзин, ты много значишь для народа! Но Луи был безутешен. — Увы,— кричал он,— в невиновность никто не поверит! Кто не понимает этого, не поймет никогда! — Потерпи, потерпи, все поймут! Пробьет час моряка из Гибралтара! При этих словах учителя Луи разжал руку, в которой он, оказывается, все время держал воображаемую плоть врага, и выпрямился перед своим другом с благородством архангела. Анна чуть-чуть побледнела. Он выглядел еще более пьяным, чем в начале представления. Но он был прекрасен. Казалось, что он подыскивает какие-то слова, но, не найдя их, медленно подошел к своему другу, вытянув вперед обе руки. Больше никто не смеялся. — Час господина моряка еще не настал,— заголосил его друг, в ужасе отступая назад.— Терпение, Беханзин. Луи замер, и вдруг внушающий страх вид друга заставил его расхохотаться. Все грохнули вместе с ним. Даже друг. После чего Луи отказался от продолжения истории Беханзина в части, касающейся генерала Доддса. — В другой раз,— объявил он устало. — Он сказал — в другой раз? — спросил сбитый с толку Эпаминондас. Но все сидели на своих местах и аплодировали Луи. Снова принялись пить. Три матроса обсуждали между собой драму Беханзина. Луи и его друг, посмеиваясь, смотрели на них. Малышка Пехл подошла ко мне. Эпаминондас, все еще находясь под впечатлением трагедии Беханзина, забыл про всю комичность представления. Анна, улыбаясь, смотрела на нас. Маленькая Пехл мечтала только об одном: обязательно встретить морского офицера, который увез бы ее в Париж, эту большую [23] метрополию. Почему так? Чтобы сделать там карьеру, говорила она. Наши отчаянные попытки выяснить какую, оказались тщетными. И все же я попытался отговорить ее от подобной затеи. Разговаривая с ней, я все время смотрел на Анну. Она устала от смеха, но мне по-прежнему улыбалась. Она была очень красива. Как можно более сдержанно я стал успокаивать малышку Пехл и дал ей все деньги, которые имел при себе. Ее так поразил этот мой жест, что она тотчас стала просить оставить ее на яхте. Я сказал ей, что это невозможно, что на судне есть место лишь для одной женщины, и указал ей на Анну. Они посмотрели друг на друга. Я объяснил ей, насколько тяжела жизнь на корабле, что мы заняты только поисками моряка из Гибралтара, что этот вечер является исключением, противоречащим нашим привычкам. Она была уверена, что мы идем в бассейн Уэле, где найдем моряка из Гибралтара. Она видела его один раз, когда он приходил в Котону. Как и все темнокожие женщины Дагомеи, она мечтала о нем и только ради него могла бы отказаться от своей карьеры в «большой метрополии». А многие самые красивые и самые цивилизованные женщины в Дагомее так и не увидят никогда Жеже, даже если мы и не найдем его, хотя последнее, по ее мнению, маловероятно. Я оставил ее предаваться грусти по поводу такой перспективы и пошел к Анне. Моряки продолжали смеяться и разговаривать. Они по очереди вспоминали забавные случаи из их практики поиска моряка из Гибралтара. Когда я подошел к ней, то понял, что больше не могу быть серьезным. Она тоже поняла. И это взволновало ее. Глаза у нее увеличились и стали совсем светлыми. Я увидел в них страх, который только я один мог разделить с ней, то единственное, что я мог полностью разделить с ней, и то общее, что связывало нас двоих. Я обнял ее и посадил к себе на колени. — Ничего не бойся,— ласково сказал я ей. Она успокоилась. — Удачное начало,— заметила она,— для охоты на куду. — Это еще ни о чем не говорит,— откликнулся я. — Ни о чем? — удивилась она. Лоран сидел рядом с нами. Но ничье присутствие уже не смущало нас, особенно Лорана. — А ты действительно крупный специалист по охоте на куду! — Она повернулась к Лорану: — Ты не находишь? — Я тоже так считаю,— отозвался Лоран, глядя то на нее, то на меня.— Кроме того, любая охота приносит гораздо более ощутимые результаты, если охотишься не в одиночку и, как бы это сказать, с огоньком. Мы рассмеялись. — Пожалуй, ты прав,— сказала она.— Я теперь уверена, что имеет смысл брать на борт только выдающихся игроков в покер и великих охотников на куду. — А великих пьяниц? — поинтересовался я.— Что ты будешь делать с ними? — Великие пьяницы,— она откинулась на спинку стула и рассмеялась,— составят лучшую службу безопасности. — Тогда я хотел бы,— заявил я,— стать самым великим пьяницей южных морей. — Почему? — Она продолжала хохотать. — Так почему же? — Не знаю,— пожала она плечами,— откуда мне знать. — Тогда почему ты смеешься? — А почему ты спрашиваешь, почему? Она опять повернулась к Лорану. Между ними давно установились очень теплые дружеские отношения. — Если не считать меня,— она, по видимости, обращалась к Лорану,— тебе приходилось встречать когда-нибудь большую любовь? — Мне приходилось видеть нечто подобное,— подумав немного, ответил Лоран,— это достаточно грустное зрелище. — Ты говоришь о той любви, которой ничто не угрожает и которой, вероятно, ничто не мешает длиться вечно? — Перемещенной в вечность? — уточнил Лоран.— Похоже, так. — Вечность — это уж слишком,— заметил я. — Разве не считается,— медленно произнесла она,— что нет более возвышенного чувства, чем великая любовь? Что, в общем, ничто не может сравниться с нею. — Часто сменяющиеся маленькие любвишки имеют свои преимущества,— сказал я. — О, на такие,— весело засмеялся Лоран,— приятно смотреть, это совсем не грустное зрелище. — Скажите мне,— потребовала она,— что является признаком конца великой любви? — Но что может помешать этой любви длиться вечно? — заметил я.— Или я не прав? — Значит, есть что-то, что может помешать,— в голосе Лорана звучала убежденность. — Никогда бы не подумала,— сказала Анна,— что охота на куду может оказаться такой веселой. Я был прилично пьян и все время целовал ее. Матросы уже не обращали внимания на нас. Луи и его друг тоже были слишком пьяны, чтобы вообще замечать что-либо. Хотя, впрочем, всем уже надо было разобраться что к чему. Разве нет? Ведь должен же кто-то целовать ее в ожидании моряка из Гибралтара? Разве не для этого я нахожусь здесь? Из всей компании, пожалуй, только малышка Пехл смотрела на нас чуть-чуть настороженно. Она захотела уйти. Анна попросила меня проводить девочку. Я довел ее до самой хижины Луи. Когда я возвратился, веселье еще продолжалось. Матросы во весь голос орали и хохотали, строя предположения — одно бессмысленнее другого — по поводу возможного местонахождения моряка из Гибралтара. Лоран присоединился к их разговору — если можно назвать разговором их оглушительные, нестройные крики — и тоже громко смеялся. Она ждала меня. Мы подключились к общей беседе, которая продолжалась еще довольно долго. Затем по предложению Бруно, который определенно обрел вкус к радостям жизни, вся команда решила вновь совершить набег на один из борделей города. Они с шумом удалились. На борту остались только она и я.

На этот раз мне подарили долгую-долгую ночь любви. Как будто это было много ночей любви разных мужчин и разных женщин. Я открывал все новые ее черты и будто сам менялся вместе с ней. Наша фантазия оказалась поистине бесконечной, наслаждение оборачивалось все новыми гранями, открывало все новые свои оттенки. Только любовь оставалась все той же — о какой я прежде и не мечтал никогда… Нет, у меня нет слов, чтобы объяснить, как это было. Да и нет в том нужды: вы либо сами знаете, что я имею в виду, либо, если еще не испытали такого, все равно меня не поймете.

В Леопольдвиль мы пришли через три дня после выхода из Котону. Наше прибытие совпало с самым жарким временем года. Город заволакивал низкий белесый туман. Несколько раз в день гроза разрывала его, рассеивая минут на двадцать. Затем он снова сгущался. Сочетание большой влажности с беспощадной жарой тяжело сказывалось на людях, затрудняя дыхание. На город постоянно обрушивались вихри теплой воды. Дышать становилось легче. Но потом вновь формировалась серая туча и люди снова ожидали грозу. Это был богатый город с широкими проспектами. Мы видели здания в тридцать этажей, банки, обилие полицейских на улицах. Щедрая земля колонии славилась алмазными месторождениями. Тысячи чернокожих в поисках алмазов рыли эту землю, дробили, просеивали ее, зарываясь в глубокие подземные галереи, чтобы вдова Нелсон Нелсона могла бы украсить ими свои пальцы. Черная Африка совсем близко подходила к городу, пугая обывателя. По ночам она таинственно сверкала, отливая безжалостным зеленоватым блеском. Но ее держали в страхе. Если бы не страх, город очень скоро пришел бы в упадок и лианы оплели бы его небоскребы. Однако в момент нашего пребывания там Леопольдвиль еще царствовал в Африке к полному спокойствию мадам Нелсон Нелсон. Яхта стояла на якоре. Мы — Анна, Эпаминондас и я,— как полагается, осмотрели кафе вдоль набережной реки Конго. Сидя под вентиляторами и прислушиваясь к разговорам, мы пили пиво. Эпаминондас не оставлял нас ни на минуту. Разговоры, что мы вели, касались только охоты на куду. Все-таки у нас имелись достаточно серьезные сомнения в идентичности некоего Жеже и моряка из Гибралтара, чтобы мы могли говорить о чем-нибудь другом, кроме куду. Так продолжалось три дня. За это время мы пропустили сквозь себя несколько бочек пива. К счастью, тема куду оказалась неисчерпаемой. Эпаминондасу не терпелось начать настоящую охоту на этих прекрасных антилоп. В конце третьего дня, после обеда, когда Эпаминондас уже совершенно разуверился в реальности охоты и отчаялся выбраться живым из этой жары, мы услышали необычный разговор. Это случилось в элегантном баре на окраине города. Мы явились туда во второй раз из-за понравившегося нам бармена, который интересно и с большим увлечением говорил об Африке. Мы пробыли в этом баре с полчаса, как туда вошли два человека, одетые во все белое, в высоких сапогах до колен, оба — при портупее. Один был высокий, другой — небольшого роста. Конголезское солнце основательно поджарило их. Чувствовалось, что они прибыли издалека и радуются, что наконец могут отдохнуть. Они явно не принадлежали к завсегдатаям бара. Заказав два виски, они расположились за столиком недалеко от стойки. — Господа прибыли издалека? — вежливо осведомился бармен. — С Уэле,— ответил первый. — Внимание,— прошептал Эпаминондас. — Принеси нам что-нибудь пожевать,— обратился второй к бармену. — Говорят, в этом году жара наступила намного раньше,— так же вежливо заметил бармен. Первый выругался. — Наши тормоза расплавились. Ты был на высоте, Анри…— Он обратился к бармену: — Анри — водитель высшего класса, чемпион водителей! — Рад слышать,— ответил бармен, зевая. — Ты преувеличиваешь, Легран,— сказал Анри. — Нет,— настаивал Легран,— чемпион. — А как охота, хорошая? — спросил бармен. — Есть рысь,— ответил Легран,— ну, антилопа. Но охота не очень хорошая. — Да,— начал Анри,— ведь стреляешь всегда вслед и поневоле поднимаешь тучи пыли, а дичь она не дура… — Да, поневоле,— задумчиво повторил бармен. — Четыреста километров по кошмарной дороге,— сказал Легран.— Но, как всегда, Анри на высоте. Самое сильное у него, понимаете, это терпение. Держать сорок километров в час на протяжении четырехсот километров — вот где испытание терпения. — А кто с этим незнаком? — спросила Анна, заинтересованная беседой. — С чем? — Анри ошалело уставился на нее. — С испытанием терпения,— сказала Анна. — Мадам разочарована? — галантно спросил Легран. — Из-за этого, что ли? — фыркнул Эпаминондас, приканчивающий третий стакан виски. — Да, забыл,— добавил Анри,— мы там застряли в одном месте, а потом еще ждали приятелей… — Ужасно, когда подумаешь об этом,— заметила Анна. — Что ужасно? — Легран посмотрел на нее с подозрением. — Что вы могли бы быть сейчас не здесь, за стаканом виски, а еще где-то там… Легран посмотрел на нее снова, теперь изучающе. Но Анри махнул ему рукой, дескать, не надо волноваться. Анна улыбнулась ему самой очаровательной из своих улыбок. — Вы парижанка,— сказал Анри,— парижанки всегда возражают, их легко узнать… — Но вообще-то это так.— Эпаминондас наконец подал голос.— Вся жизнь — это испытание терпения. — Ты тоже так думаешь? — спросил я Анну. — Говорят,— тихо ответила она. — Когда я ходил по-маленькому,— сказал Анри,— получалось облачко пыли. — А я…— Бармен было замешкался, взглянув на Анну, но потом продолжил: — За восемь лет, что я здесь, мне больше всего понравилось один раз писать на гололед. — О чем ты? — усмехнулся Анри.— Настоящий гололед вообще невозможно разбить. Сорок три градуса жары в Туатане. Мы уже забыли, что такое гололед… — Холоду я всегда предпочитаю жару. И сейчас, когда вот так сидишь после долгой дороги, это я тоже очень люблю… — Интересно,— заметил бармен. — А я нет,— сказал Анри,— нет и еще раз нет, раньше я так же думал, но сейчас думаю по-другому. — Эх, чего бы я не дал, черт побери, чтобы пописать на гололед,— мечтательно произнес бармен. — Так всегда кажется,— сказал Эпаминондас,— когда что-то недостижимо. Когда же желание осуществлено, то не видишь в этом ничего особенного… — Должно быть, это занятно — ледниковый период… — Никто не может судить об этом,— зевая, протянул бармен. — Вы уверены, что никто? — спросил Эпаминондас заинтригованно. — Ну какие-то животные же были,— сказала Анна. — А разве животные — это никто? — спросил Анри. — Не думаю,— сказал я,— мне кажется, что в то время никого не было. — Не может быть,— сказала Анна,— думаю, были какие-нибудь маленькие зверушки. — А я так не думаю,— возразил я. — Ты видел Ледовитый океан? — спросил Анри у Леграна. — А как же,— ответил Легран,— в тридцать шестом году. Отличное было время. Самое интересное, что создавалось впечатление, будто его поверхность зыбилась волнами. Словно все заледенело в один миг. — Ты уверен, что тогда никого не было,— спросила меня Анна,— даже куду? — А как же иначе,— сказал Анри,— в ледниковый период вся земля была, как Ледовитый океан. — Подо льдом,— убежденно сказала Анна,— должны были быть совсем маленькие животные, которые ждали, когда все растает. — Может быть, и так,— сказал я.— Кто знает? — Невероятно, что ничего не было,— настойчиво подал реплику Эпаминондас,— как же объяснить, что потом появилось множество различных животных? — Забавно получается,— заметил бармен,— на термометре сорок в тени, а мы без конца говорим о ледниковом периоде. — И правда, как это понять? — Анна посмотрела на меня и улыбнулась. — Помолчи,— шепотом произнес я,— что ты все время нападаешь? — Если ты еще не поняла, что тебе нужно…— буркнул Эпаминондас. Легран почти засыпал. — Ну что, пора идти? — спросил Анри. — Подожди,— сказал Легран. — Ты уже спишь,— вмешался бармен. — А ты что, торопишься куда-то? — Анри повернулся к бармену. — Подожди,— уговаривал приятель. — Если ты не хочешь, чтобы он свалился замертво,— посоветовала Анна,— отбери у него стакан. — Вспомнил! — закричал Легран.— Это называется засоленье! — И часто с ним такое бывает? — поинтересовалась Анна. — Он всегда такой,— объяснил Анри.— Он всегда такой, как все, вежливый, простой, но очень умный. Нет, он не дурак… — Это соус, рассол мне напомнил нужное слово. Я не мог успокоиться, пока не вспомнил. В ледниковый период земля была заполнена соленым раствором, и в нем водились низшие организмы. — Думаю, что в это время были ящеры,— сказал я. — Ящеры, я уверен, были раньше ледникового периода,— убежденно заявил Эпаминондас. — Но ведь кругом был лед, должны же они были что-то есть, эти ящеры,— сказал Анри. — Они ведь были большие,— предположила Анна. — Очень большие,— сказал я,— похожие на крокодилов. — Выходит, они ели лед? — недоуменно пожал плечами Легран. — Если ящеры были такие большие,— сказала Анна,— значит, должны были быть маленькие животные, которых они поедали. — Господи,— рассмеялся бармен,— а все началось с того, что я ляпнул, как мне понравилось мочиться на гололед. В этот момент в бар вошел новый посетитель, лет тридцати, одетый весьма элегантно. — Это Жожо,— представил его бармен.— Сейчас позабавимся. — Здравствуйте,— сказал Жожо. Все ответили на его приветствие. Жожо сел рядом с Анри и стал разглядывать Анну с видом знатока. — А когда же появились ящеры? — обратилась ко мне Анна. — Что появилось, ящеры? — спросил Жожо. — Да,— сказал я,— вот уже два дня. — Три,— поправил меня Эпаминондас. — Да перестаньте вы…— нетерпеливо бросил бармен. — Что за ящеры? — спросил Жожо. — Такие же люди, как и все прочие,— ответил я,— правда, у них такой аппетит, что они пожирают все на своем пути. Никто не отреагировал. Все слушали вполуха. Было слишком жарко, чтобы что-нибудь понимать. — Еще один ненормальный,— прошептала Анна,— для одного вечера это перебор. — Какие еще к черту ящеры? — спросил наконец Жожо. — Хватит, надоело,— заявил Анри. — Они огромные, безобразные,— сказал бармен,— и все время охотились и в море, и на суше… — Никогда не слышал…— признался Жожо. — Только ты один не слышал. — А птицы были тогда? — задал вопрос Анри. — Птицы,— ввернул я,— как любовь, они существовали всегда.Все виды исчезли, только не птицы. Это как любовь. — Понятно, когда есть крылья,— объяснил Эпаминондас,— не страшны землетрясения и прочее. — Превосходно,— одобрительно кивнул Анри.— Запомните это. Поставьте сюда,— обратился он к бармену, принесшему еду.— Мы тоже исчезнем,— после паузы грустно сказал он.— Месье присоединится к нам? И мадам? Пять, Андре. Вас зовут Андре, да? — Будем надеяться, что не исчезнем.— Эпаминондас выглядел озабоченным. — Ну а ящеры, что за ящеры? — спросил Жожо. — Откуда мы знаем. Неужели не надоело забавляться? — поинтересовался Эпаминондас. — Мы приехали сюда развлечься немного,— объяснил Анри,— Уэле — очень красивое, но отнюдь не веселое местечко. — Неужели? — изумился Эпаминондас.— Однако у вас такой вид, что не скажешь, что вы здесь хорошо повеселились. — Мы развлеклись немного,— сказала Анна, кивая на Леграна. — У него опять глубокомысленная физиономия. Ты что, снова подыскиваешь слово? — спросил Анри у Леграна. — Нет,— ответил Легран.— Я думаю, представь себе. — Не пора ли нам отчаливать? — тихо спросил я Анну. — Так что, действительно ящеры появились в Леопольдвиле? — снова поинтересовался Жожо. Ему никто не ответил. — У нас очень интересная беседа,— лукаво заметил Легран,— разве она может наскучить? — И когда же это все произошло? — спросил Эпаминондас. — В четвертичном периоде,— сказал бармен. — Мне кажется, что это случилось чуть позже,— с оттенком лукавства в голосе произнес Легран, глядя на Анну. — Мне тоже так кажется,— сказала Анна. — Ну так что? — спросил Жожо. — Ничего,— ответил бармен,— человек тоже исчезнет в свое время. — До чего же я люблю дурачков,— заметил Эпаминондас, очарованный непосредственностью Жожо. — Ящеры — это бомбардировщики, да? — выспрашивал Жожо. — Не обращай на него внимания,— бросил Легран, все время глядя на Анну. — Начинается,— сказал Анри бармену,— забавы продолжаются. — Человек не ящер,— вдруг изрек Легран,— не надо все смешивать, это глупо, не надо сюда припутывать человека. Человек всегда сумеет приспособиться к условиям жизни. Если даже все рухнет, то он поставит палатку и будет жить. Он же не ящер… — А ящеры не могут приспособиться? — спросил Жожо. — Конечно, нет. Теперь понятно? — Опять все сызнова,— устало протянул Эпаминондас. — Поговорим лучше о чем-нибудь другом,— предложил Легран, обращаясь к Анне. — Почему мы должны исчезнуть, ведь мы воссоздаем все, что необходимо для нашего существования,— опять сказал Жожо. — Потому что земля, как и все остальное, как и терпение, изнашивается,— начал разъяснять бармен.— За тридцать миллионов лет — я читал об этом в одном журнале — на каждого человека осталось всего семьдесят пять сантиметров плодородной земли; человек уже надоел даже земле. — Дерьмо не слишком большая нагрузка для земли,— заметил Жожо. — Это точно,— сказал бармен. — Понимаю,— выдал Жожо,— поскольку ящеры не выращивают корм для себя, значит, они болваны. — Вот именно, какой ты понятливый. — Судя по всему,— вмешался Анри,— семьдесят пять сантиметров нужны тогда, когда все уже кончено. — Ты же видел немцев, всех этих ребят, которые погибали во время войны… Легран невесело усмехнулся. — Это их право,— сказал Анри. — Стоило бы,— Анна повернулась к Анри,— чтобы люди знали, что их ждет. — Оставьте все,— заявил Анри,— до следующего раза. — Почему до следующего,— сказал Легран,— в следующий раз нас уже не будет в Леопольдвиле. — И правда,— грустно заметил Эпаминондас. — Не надо грустить,— сказала Анна Эпаминондасу,— может быть, человечество не исчезнет. — А я и не грущу,— ответил Эпаминондас,— наоборот, мне нравится Жожо. — Вы удивительно красивы,— Легран не спускал глаз с Анны. — Почему удивительно? — Не знаю, я так думаю. — Они уничтожат нас раньше своей атомной бомбой,— сказал Анри. — Раньше чем что? — поинтересовался Жожо. — До того как мы окончательно надоедим земле,— пояснил Эпаминондас.— От этого вся земля подпрыгнет несколько раз. — Занятно получается,— сказал бармен,— не успели выйти из ледникового периода, как сразу попадем под атомные бомбы, но, наверное, это закономерно. — Я прихожу сюда,— заявил Жожо,— только из-за Андре. Он очень умный человек. — А вам здесь нравится? — спросил Легран у Анны. — Здесь неплохо,— ответила Анна. — Как будто мало природных катастроф, так надо обрушить на землю еще и атомные бомбы,— продолжал Анри. — Я знаю, что уже всем надоел,— сказал Жожо,— так ящер — это что, новый реактивный самолет? — Да пошли вы все,— заорал Анри,— со своими ящерами. — До чего ж я люблю дурачков! — расхохотался Эпаминондас. — Хоть кто-нибудь ответьте мне, что такое ящер, и я больше не буду ничего спрашивать,— настаивал Жожо. — Это что-то вроде крокодила,— ответил Андре,— тебе понятно теперь? — Ты не смеешься надо мной? — недоверчиво спросил Жожо.— Атомные бомбардировщики — это что, крокодилы? — Атомные — не крокодилы, ничего ты не понял,— опять заорал Анри.— С тобой невозможно говорить спокойно… — Человек — это зло,— провозгласил Легран,— но не ящер. Почему ты так говоришь ему, Анри? Ящеры,— он повернулся к Жожо,— просто животные, поймешь ты это наконец, Жожо? Тебе сказали об этом уже раз пять. — Так вы никогда не закончите,— взмолился Андре.— Это не человек, это кошмар какой-то. — Животные, как кто? — спросил Жожо. — Крокодилы,— закричал Анри,— кро-коди-лы! Пресмыкающиеся, если тебе так больше нравится! — с помощью рук он изобразил крокодила, ковыляющего по стойке бара.— Теперь, я надеюсь, ты отстанешь? — Осторожнее с новыми словами,— сказал Андре.— Это опасно для Жожо. Он хочет докопаться до самой сути. Как-то один клиент имел неосторожность сказать, что разводит скот в Шароле, ты помнишь, Жожо? Можете себе представить, это продолжалось до двух часов ночи. Клиент разбил полдюжины стаканов — он уже больше не мог. Заметь, Жожо, я не хотел говорить про это. Но ты можешь достать кого хочешь. Не надо делать так, как делаешь ты. — А как надо? — спросила Анна. — Меня все интересует,— объяснил Жожо,— поэтому я такой. Я же никого не интересую. — Ну зачем так, не надо так говорить,— примирительно произнес Легран. — У тебя странный вид, Жожо,— заметил Андре. — Я объелся, поэтому. — А я никак не могу поесть как следует,— посетовал Андре,— все времени нет. — Ты очень романтичный,— улыбнулся Жожо. — Не только он,— вставил я. — Скажешь тоже…— протянул Эпаминондас. — Заметь,— начал Анри,— атомная энергия имеет положительные стороны. Лет через двадцать все будет работать на атомной энергии. — Вот когда увидим, тогда поверим,— пожал плечами Андре. — Самолеты уже работают на ней,— настаивал на своем Анри. — Сомневаюсь,— возразил Жожо,— самолеты летают на реактивной энергии. — Нет,— сказала Анна,— это были крокодилы. Но только очень большие, они поедали все, что могли. С тех пор они перевелись… Она повернулась к Леграну. — Триста тысяч лет…— сказал Легран, едва сдерживая смех. — Крокодилы,— сказал Жожо,— не пресмыкающиеся, я в этом уверен. А, кроме того, их же видели… — Где их видели? — С бомбардировщиков… — Ну все,— застонал Анри,— я больше не могу. — Я вас предупреждал,— сказал Андре,— к нему надо относиться, как к редкой достопримечательности. — С бомбардировщиков ничего нельзя увидеть,— заметила Анна. — Может быть, я мало что знаю,— вдруг закричал Жожо,— но это я знаю, знаю. Зачем же говорить о том, чего больше нет? — Ну и дерьмо,— вздохнул Анри. — Вот это разочарование,— сказал Эпаминондас,— я остаюсь в Леопольдвиле. — Чтобы говорить о чем-нибудь,— произнесла Анна,— надо просто говорить о том, в чем разбираешься. Разве не так? — спросила она, обращаясь к Леграну. — Конечно,— согласился Легран. — Но факт, что их больше нет, отнюдь не означает, что о них нельзя говорить,— сказал я. — Он зациклен на том, чтобы найти связь между всеми объектами: я прав, Жожо? — Андре говорил медленно и терпеливо, словно что-то объяснял маленькому ребенку.— Ящер — это крокодил, Жожо, а самолет — это самолет. — Я ничего не понимаю,— лицо Жожо выражало недоумение. — Чего ты не понимаешь? — спросила Анна. — Ничего. — Скажи мне, чего ты не понимаешь? Я тебе объясню,— обратился к нему Эпаминондас. — Я ничего не скажу,— обиделся Жожо. — Нет, у него в голове не мозги,— орал Анри,— а каша. — Андре, принеси хороший «Наполеон»,— с достоинством произнес Жожо. — То, что надо, он понимает,— заметил Андре. — Сидели, спокойно разговаривали,— сказал Анри,— а потом все закрутилось вокруг этого месье, и теперь все пытаются заставить его понять то, что невозможно понять. — И правда,— усмехнулся я. — Не обращай внимания. На вещи всегда надо смотреть с хорошей стороны. — Не пойти ли нам в другое кафе? — заговорщически спросил Легран у Анны. — Мы никуда не спешим,— возразил Эпаминондас.— Мне нравится Жожо. — Да, мы никуда не спешим,— подтвердила Анна. — У нас впереди вся жизнь,— сказал я. — Откуда вы приехали? — спросил Легран. — Из Котону,— не моргнув глазом ответила Анна. — А вы,— спросил он меня,— тоже из Котону? — Я заметил, что Легран абсолютно ничего не понимает. Тем не менее, он продолжил: — Забавна все же жизнь. О чем только мы не говорили — и о ящерах, и о борделях… — И даже о ледниковом периоде,— добавил я. Анри повернулся ко мне и очень вежливо сказал: — Извините меня, но я сомневался в том, что вы говорили. — В чем вы сомневались? — спросил Жожо. — В том, что говорил месье о ледниковом периоде,— устало пояснил Легран.— А так как мы не знали этого месье, то сомневались в том, что он говорит. Теперь, если ты хочешь знать, что выкинула моя сестрица… — Я знаю, что говорю. Ты и сейчас знаешь этого месье так же, как в самом начале, когда вы только начали говорить о ваших ящерах… — Выкинуть его отсюда? — заорал Анри. — Не надо,— сказал Эпаминондас. — Успокойся,— отрывисто бросил Легран Анри, после чего обратился к Жожо: — Вы совершенно правы. — Слушай, ты невозможный человек.— Анри просто трясло.— Ты должен измениться. — О нет,— сказала Анна,— не надо ему меняться. — Еще не родился тот, кто заставит меня измениться,— с достоинством ответил Жожо. — Не надо хвастаться,— сказал Анри. — Кто этот Жожо? — тихо спросила Анна у Андре. — Мой лучший клиент,— ответил Андре.— Да, Жожо? И богатый, как Крез, верно? — Кафе созданы для всех.— Похоже, Жожо начал злиться.— Если я захочу, то останусь до самого закрытия. — В таком случае,— пообещал Легран,— здесь никто не останется, кроме тебя. — Почему? — спросила Анна.— Мы не торопимся. — Люблю людей, которые являются, когда их не ждут,— сказал я. — Смешно все же, что он ничего не понимает,— заметил Легран. — Чего я не понимаю? — спросил Жожо. — Что между вами и нами,— ответил я,— жизнь и смерть. — Вы издеваетесь надо мной,— выпалил Жожо,— мне плевать, плевать на вас, как и на ваших ящеров. — Уф,— выдохнул Андре. — Два раза по полстакана водки,— сказал Легран Андре.— Осточертело. — Три,— внес поправку Эпаминондас. — Четыре,— высказался Жожо. — Семь? — спросил я Анну. — Семь,— ответила она. — Я охотно принесу, но если ко всему, что вы уже заложили за воротник, добавить еще по полстакана каждому, получится жуткая углеводородная смесь. — Вы для нас ну просто отец родной,— засмеялась Анна. — По крайней мере, если вы захотите изучить влияние углеводородной смеси на ящеров, пива я вам не дам. — И все же,— сказал Легран,— неплохо бы освежиться еще полстаканчиком. — Не понимаю, Андре,— спросил Жожо,— что может сделать углеводородная смесь? — Она взрывается,— пояснил я. — Считайте, что вы выпили динамит,— добавила Анна. — Никогда не слышал. Опять издеваетесь… — Она взрывается не во всех случаях,— сказала Анна,— один раз на тысячу. — Ну что, для всех водку? — спросил Андре. — Мне нет,— возразил Жожо,— я хочу пиво. — Ты тоже будешь пить водку, как и все,— заявил Андре. — Ты что, мне приказываешь? Я ясно сказал тебе, что хочу пива. — И тем не менее ты будешь пить то, что все. Если хочешь, я заплачу за тебя,— не соглашался Андре. — Если я правильно понял, ты не позволяешь мне выпить пива,— с угрозой в голосе спросил Жожо. — Да,— ответил Андре,— для твоего же блага. — Ну дай мне хотя бы половину, Андре,— не сдавался Жожо. — Вы хотите взорваться, вы этого хотите, Жожо? — спросила Анна. — От полпива не взорвусь,— заверил ее Жожо. — Я тебя очень люблю,— твердо стоял на своем Андре,— но пива ты не получишь. — Ладно, я запомню это, Андре. — Любопытно,— поинтересовался Андре,— чем такой тип занимается в жизни. — Если я вас стесняю, надо было сразу сказать. — Да не об этом речь,— сказал Анри,— где ты работаешь? — Работаю там, где работаю, и вообще я ухожу туда, откуда пришел. До свидания. — До свидания,— откликнулась Анна. Жожо ушел. — Откуда он? — спросил я. — Из Индокитая,— ответил Андре,— или еще откуда-то в этом же роде, с Тихого океана. Я его знаю уже десять лет, но он совершенно не изменился за эти годы. — Так вы — Анна? — спросил Легран. — Да. А вы кто? — Никто,— отрезал Легран. — Сомневаюсь,— произнесла Анна тихо. Бармен и Анри, замерев, смотрели на них. — А кто они? — спросил Легран, кивая на нас. — Они — это они,— ответила Анна. — Не понимаю,— сказал Легран. — У меня много друзей,— объяснила Анна. — Они тоже едут? — нахмурился Легран. — Конечно. — Что-то я ничего не понимаю,— признался Легран. — Какая разница,— сказал Эпаминондас,— если пытаться все понять… — …Не хватит всей жизни,— закончил я за него. — Это далеко? — спросила Анна. — Два дня на машине,— совсем помрачнев, ответил Легран. — И все же мир очень тесен,— сказал Эпаминондас. — А вы можете поехать одна? — простодушно спросил Легран. — Нет, не могу. — Тебе никто не будет мешать,— опять вмешался Эпаминондас,— никто никому не будет мешать. — Никогда,— подтвердил я,— уверяю вас. — А я ничего и не говорю,— пожал плечами Легран. Он ушел, совсем расстроенный, назначив нам встречу на следующее утро. Мы вернулись на судно. Эпаминондас выглядел озабоченным. — Одно из двух,— сказал он,— или это он, или не он. — Ты устал, ты должен идти спать,— посоветовала Анна. — Если это он, значит, он,— не сдавался Эпаминондас. — А еще,— добавил я,— ты хорошо знаешь, что… — Но если это не он,— невозмутимо продолжал Эпаминондас,— с какой стати они хотят, чтобы ты ехала одна?..

Эпаминондас поднялся чуть свет, чтобы купить два маузера и один карабин. — Это совершенно необходимо,— уверял он,— на всякий случай, ведь в бассейне Уэле мы можем встретить куду… Мы увиделись с Леграном в условленный час в баре. Эпаминондас был доволен, что мы отправляемся, вооруженные маузерами и карабином. Он пребывал в очень хорошем настроении. Но когда мы вошли, Легран даже не улыбнулся. — Что это значит? — мрачно спросил он. — Маузеры и карабин,— вежливо объяснил Эпаминондас. Легран оказался серьезным человеком. Первым делом он попросил показать ему наши удостоверения и документы на корабль. — Все надо делать как следует или не делать вовсе. Мы безоговорочно согласились с ним, после чего он сообщил нам, что у него имеются принципы и опыт, чтобы проводить их в жизнь. Он дал нам понять, что ему не впервой выполнять столь деликатную миссию. Мы смогли убедиться, что его преданность Жеже была исключительной, а осмотрительность чрезмерной. Впрочем, он оказался достаточно скромным. За все время, пока длилось наше путешествие, мы узнали от него только то, что Жеже он знает уже два года, что он тоже из Абомея, где они познакомились и вместе работали. Анна его мало интересовала, он почти не разговаривал с ней. Прежде чем отправиться в путь, мы должны были полностью довериться ему. И мы прониклись к нему бесконечным доверием. Он повез нас, куда считал нужным. Единственная трудность, с которой мы столкнулись, исходила от Эпаминондаса. Ко всякого рода мессианским настроениям, чем бы они ни были оправданы, Эпаминондас испытывал непреодолимую неприязнь. В первый день Легран раздражал его. Но на следующий день не без помощи куду он забыл о нем. Бывало забавно наблюдать, как Эпаминондас весь вечер выслеживал куду. Ах, никогда мы не любили его так, как в эти дни. Мы выехали в восемь утра на следующий день. Анна предпочла воспользоваться своей машиной. Легран в своем джипе ехал впереди нас. Он один знал, куда мы направляемся и где заночуем. В этот день мы проехали обширные влажные пространства Верхнего Конго. Дорога была изумительной. Машины шли мягко. В этих широтах Африки погода не создает проблем. Конечно, стояла сильная жара, но цель, ждавшая нас впереди, не позволяла нам жаловаться. Наша поездка проходила в сезон дождей, наступивший в бассейне реки Конго. Дождь был и в этот день. Леса казались нескончаемыми и отличались совершенно невероятным разнообразием. Гудки автомобилей отдавались, как под сводами собора. Низкие облака скрывали пейзаж спереди. Иногда они проливали на землю целые тонны воды. Тогда мы останавливали машины. Я никогда не думал, что дождь, пусть даже и тропический ливень, может сопровождаться таким оглушительным, таким пугающим шумом. Анна удивленно смотрела вокруг. Ее глаза попеременно становились то темно-зелеными, как лес, то прозрачными, как дождь. Ей тоже было жарко. Она часто машинально вытирала лоб тыльной стороной ладони. Этот ее невольный жест глубоко трогал меня. Шум дождя мешал нам говорить. Я смотрел, как она смотрит на дождь и вытирает лоб рукой. Но если бы только это! Меня волновало дрожание ее век. А один раз, когда я взглянул на нее, мне показалось, что Анна изменилась, в ней появилось что-то, чего я, быть может, не должен был видеть. Я невольно вскрикнул. Эпаминондас вздрогнул и выругался. Но вскоре признался, что очень плохо переносит тропический климат. Она слегка побледнела, но не спросила, что со мной случилось. Время от времени показывалась река Конго. Порой спокойная, порой бурная. Иногда река как безумная бежала через лес, делая крутые повороты, за которыми дорога не всегда могла следовать. Ее неистовый шум оглашал всю округу в десятикилометровом радиусе и, казалось, мог бы перекрыть рев ста тысяч слонов. Иногда мы проезжали через деревни, по большей части маленькие, затерявшиеся в глубине лесов. Лишь куду и слонов, самых больших в мире, не пугают тропические леса. Слоны умирают от старости на этой благословенной земле, и она поглощает их в вечной круговерти природы, как было всегда от сотворения мира. Леса окрашены в необычные цвета. Это целые потоки цвета, самоцветные жилы, цветные реки. Иногда лес оказывался сплошь красным — цвета преступления. Временами он становился серым, резко переходя в яркие зеленые тона. Дышалось трудно. Постоянные ливни заполонили воздух тяжелыми маслянистыми испарениями. Трудно дышалось не только людям, но и слонам. Однако никто не жаловался. Мы не обнаружили ни одного известного нам цветка. Вероятно, они прятались, как куду. Около полудня, не спросив разрешения Леграна, мы отправились в городок с симпатичным названием Кокильатвиль, который очень хотел увидеть Эпаминондас, но в котором не оказалось ничего любопытного. Мы отъехали от реки Конго и вновь приблизились к ней к шести часам вечера возле деревушки, называющейся, кажется, Додо. Здесь мы окончательно распрощались с Конго и устремились точно на север, чтобы быстрее добраться до долины Уэле. Правда, дорога нас подвела. Сначала она только ухудшалась, затем стала просто скверной, а потом перешла в проселочную, и нам приходилось быть очень внимательными, чтобы не завязнуть в глинистых рытвинах. К восьми часам вечера равнина закончилась и начался постепенный подъем к гористым местностям Уэле. Стало свежее. Остановились у деревушки с несколькими белыми бунгало и маленькой гостиничкой, которую держал белый, знакомый Леграна. Эпаминондас с некоторым беспокойством отметил, что нас ждали. Мы долго принимали душ. Все проголодались, несмотря на жару, даже Эпаминондас. Бунгало могло бы показаться бедным. Стены голые, свет исходил от единственной ацетиленовой лампы. Но зато имелось голландское виски, которое не преминула сразу же заказать Анна. Эпаминондас и за столом сидел с маузером, пристегнутым к поясу. Только после третьей порции виски он положил его на стул рядом с собой. Легран не притронулся к спиртному. Он в основном молчал. Я так и не понял, в чем он нас подозревает. Но он относился к нам, равно как и ко всему, что мы делали, включая и наш аппетит, с явным подозрением. За столом разговаривали мало, да и о чем было говорить. — Вы охотитесь на куду? — спросила его Анна. — Никогда не видел ни одного куду,— ответил он,— что толку говорить о них. — Жаль,— заметила Анна,— а мне так хотелось послушать сегодня интересные истории о куду. — А я думал, что вас интересуют ящеры. — Нет, это вас интересуют ящеры. Меня интересуют куду. — В Сомали есть маленькие куду,— сказал я,— самые маленькие в Африке, они живут на склонах главного массива Килиманджаро. Они быстрые как ветер, и на затылке у них грива, как у жеребенка. Они в высшей степени недоверчивы и пугливы. И очень умны. Они раз и навсегда поняли, что являются редким исчезающим видом. — Разве не все дикие животные являются редким и исчезающим видом? — Не все,— ответил я,— и не всегда. Жил один куду. Как-то он увидел охотника, выходящего из машины. Он нашел охотника симпатичным, а его автомобиль занятным. Он подошел и дружелюбно лизнул в знак приветствия колеса этой машины. Это показалось ему приятным, но охотник подумал, что куду дразнит его. Охотники любят редкую дичь. И ему захотелось проучить нахального куду. И вот теперь куду далеко — на девственных склонах Килиманджаро. Легран недоверчиво посмотрел на меня. — Опять вы говорите о куду. — Это наше любимое животное,— объяснила Анна. — Ну и что,— сказал Эпаминондас,— любимое не любимое, вы можете говорить о чем-нибудь другом? — Но мы же в стране, где обитают куду, разве не так? — сказал я. Мы хотели пить и чередовали виски с пивом. И результат не замедлил сказаться. Легран с раздражением смотрел на нас. — А Жеже,— спросил Эпаминондас,— он охотился на куду? Легран в первый раз рассмеялся. — О, уж он-то…— Легран не договорил. Мы с интересом смотрели на него. Он опять сбил нас с толку. — Охотник на куду,— начал я, пытаясь вызвать его на откровенность,— особая личность. Он должен быть очень терпеливым. И тогда его час настанет. — Принимая игру, надо верить в победу,— сказал Эпаминондас,— надо забыть про сон и еду. И его время придет. Это вопрос темперамента. Некоторые могут, другие нет. Легран, ничего не понимая, уставился на меня. Эпаминондас, напротив, когда ничего не понимал, становился удрученным и неловким. — Лучше улыбаться. Уверена, что все зачтется. Впрочем, мы никому ничего не скажем. — Надо улыбаться через силу? — спросил он. — Действительно,— согласился Эпаминондас. Анна положила ноги на стол, как часто делала, когда мы одни болтали в баре. У нее были изящные, тонкие лодыжки. — У тебя лодыжки, как у куду,— сказал я ей. — Может быть, завтра мы увидим хотя бы одного. Мне очень хочется увидеть одного, самого маленького, как ты говоришь, с мохнатой гривой и с витыми рожками. — Если бы мы смогли остановиться на часок по дороге,— Эпаминондас зло посмотрел на Леграна,— может, мы увидели бы одного.— Но Легран и бровью не повел. Он слушал нас, не скрывая удивления. — Расскажи мне,— попросила Анна,— почему они стали исчезающим видом, после того, как он лизнул колеса машины. Я начал рассказ, глядя на ее лодыжку куду, что заметно смутило Леграна, и он отвел глаза, не переставая, однако, внимательно слушать меня. Чувствовалось, что ему тоже интересно, хоть какое-то развлечение в его довольно однообразной жизни. — Охотники не то чтобы хотели причинить ему зло. Нет. Но они приехали охотиться на редких и труднодоступных животных. Они держали наготове карабины, смазанные и заряженные, и не могли не выстрелить. Но куду не был убит сразу. Он долго плакал. Невозможно видеть, как плачет куду. Он лежал окровавленный на обочине дороги, и ему было страшно умирать. Его стоны оглашали травянистый склон Килиманджаро у брода через Уэле. Охотник не вынес такого зрелища. Он прикончил куду, погрузил в багажник и возвратился к своей палатке. Он никому не рассказал об этом грустном происшествии. Дело было даже не в этом куду, вокруг все кишело ими. Но как искупить вину перед простодушной доверчивостью живого существа? Следующее утро показалось охотнику горьким и печальным. Он не мог заставить себя подняться с постели и пролежал в палатке до полудня. — Ах, ах,— расхохотался Легран.— Что за дурацкая история… — А вы вспомните сами,— сказала Анна, разве в вашей жизни не было случая, когда вы не могли заставить себя встать раньше полудня? И что потом? — С тех пор куду стали очень редким видом. — А что охотник? — спросил Эпаминондас. — Говорят, что, встав с постели, он сразу же покинул Африку и никогда больше не возвратился сюда. — Это был настоящий охотник,— сказала Анна.— О, как бы мне хотелось завтра убить куду. — И мне,— сказал Эпаминондас,— что бы я только не дал за это… Когда его убиваешь, как полагается, после долгих дней и недель ожидания, тогда действительно бываешь счастлив… После этого грузишь его на крышу машины, рогами вперед, и едешь дальше, подавая клаксоном особый сигнал, чтобы все знали о твоей удаче. Потом долго смотришь на куду при свете ацетиленовой лампы, и вот уже забыл все связанные с ним мучения долгих поисков и ожиданий. — А хочется потом видеть других куду? — спросила Анна. — А как же,— ответил Эпаминондас,— желание всегда остается. — Но они теперь так редко встречаются, что желание видеть их даже возрастает,— добавил я. — Но ведь,— сказала она,— можно заняться чем-нибудь другим… — Конечно, можно вернуться к своим обычным занятиям, но ты уже не тот человек. Изменения необратимы. Она улыбнулась, слегка пьяная и от виски, и от желания убить куду. Я ласкал ее лодыжки, и мои движения становились все более нервными. Жара была изнуряющей. Иногда она прикрывала глаза. Мы все очень устали. Легран уснул и тихо похрапывал. Анна посмотрела на него и улыбнулась. Вот уж беззаветная преданность. Жеже, конечно, не принадлежал к труднодоступному виду. — В твоем американском романе говорится о куду? Ведь у Хемингуэя уже есть об этом, не будет ли это отдавать некоторой безвкусицей? — Что ж, раз есть у Хемингуэя и говорить об этом нельзя, разве лучше лгать или вообще не затрагивать эту тему? — Нет,— сказала она,— лучше говорить правду, но тем хуже… Она наклонилась над столом и положила голову на скрещенные руки. Волосы рассыпались, и державшие их гребни упали на пол. — О чем еще ты напишешь в американском романе? — тихо спросила она. — О наших путешествиях. Это будет морской роман, обязательно морской. — И о цвете моря? — Конечно. — А о чем еще? — Об оцепенении африканских ночей. Лунном свете, звуках тамтама в саванне. — А о чем еще? — Не знаю. Может, о пиршестве людоедов. Но о цвете моря в разное время дня обязательно. — Мне бы хотелось, чтобы читатели относились к твоей книге, как к рассказам о путешествиях. — Так и будет. Мы же путешествуем. — Все? — Возможно, и не все. Человек, я думаю, десять путешествует. — А что будут думать остальные? Она замолчала. Ее голова все еще лежала на руках. — Что захотят, то и будут думать. — Расскажи мне еще немного о куду,— попросила она совсем тихо. — Когда спишь и знаешь, что это совсем рядом, то думать о куду просто нельзя. Ведь они же не единственная радость на земле. Тогда это и есть немного счастья. — О,— нежно произнесла она,— ужасно, если бы на земле не было куду. Я вскрикнул еще раз и, кажется, выкрикнул ее имя, как уже один раз утром. Легран проснулся и спросил, что случилось. Я успокоил его. Мы пошли спать. Эпаминондас разместился вместе с Леграном. Через перегородку я слышал, как Легран спросил у него, прекратим ли мы наконец свою болтовню или эта комедия будет продолжаться еще долго. — Кто знает? Не исключено, что она закончится уже завтра,— здраво рассудил Эпаминондас. Его ответ вызвал взрыв хохота у Леграна. Он все понял.

На следующее утро мы выехали в четыре часа, как настоящие охотники. Легран придерживался строгого распорядка. Более часа мы ехали в полной темноте по отвратительной дороге. Затем над саванной Уэле поднялось солнце. Это оказалась сказочная страна. Широкие долины, масса ручьев и очень светлое небо. Иногда долины сменялись лесами, намного более приветливыми, чем в бассейне Конго. Изредка попадались темные камни причудливой формы. Эпаминондасу они напоминали наших любимых животных. Было немного прохладней, чем накануне. Уэле — это возвышенное плато шириной от пятисот до тысячи метров, постепенно поднимающееся по направлению к Килиманджаро. Все время дул ветер. Слышались раскаты далекой грозы. Но дорога становилась все хуже, и мы едва поспевали за джипом Леграна. К полудню мы подъехали к маленькой деревушке, где не оказалось ни одного бунгало для белых. Легран сообщил, что здесь кончается дорога и нам придется идти пешком еще часа три. Мы ничем не выказали своего недовольства, и он, кажется, успокоился. А нам уже стала привычной его манера поведения. Эпаминондас в конце концов заключил, что могло быть намного хуже. В этой деревне мы пробыли довольно долго. Легран велел нам выйти из машины и ждать его в указанном месте. До отъезда он должен был разузнать кое-что и исчез, мы остались одни. Вся деревня высыпала наружу, взбудораженная нашим появлением. Мы уселись, видимо, на центральной площади. Мы настолько привыкли слушаться Леграна, что не сдвинулись с места за все время, пока он отсутствовал. Круглая, как арена цирка, деревня размещалась вокруг столь же круглой площади. Хижины походили одна на другую как две капли воды, перед каждой была маленькая веранда, крытая тростником. Все без исключения жители пришли поглазеть на нас: и мужчины, не казавшиеся чересчур деловыми, и женщины, до нашего появления ткавшие что-то на верандах. Теперь они с близкого расстояния с любопытством разглядывали Анну и нас заодно с ней. Они принадлежали к племени монбуту, были крупнее, чем люди, которых мы видели в долине Конго, и красивее их. Во многих из них чувствовалась примесь крови берберов, они были менее черные. Щеки и лоб некоторых украшала глубокая татуировка, но в выражении лиц светилась доброта. Все женщины племени ходили обнаженными до пояса. Пока они глазели на нас, маленькие дети то и дело присасывались к их груди, как козлята. Эпаминондас заметил, что никто из этих людей не похож на людоедов. Мы пили виски, захваченное Анной из машины, и позволяли смотреть на нас сколько угодно. Любопытно, что расточаемые нами улыбки ни у кого из них не вызвали ответного желания улыбнуться. Они обсуждали нас так громко, будто находились на большом расстоянии друг от друга. Их голоса могли бы показаться устрашающими, если бы не контрастировали с кротостью лиц и если бы что-нибудь вообще могло нас испугать. Наконец вернулся Легран в сопровождении двух мужчин, одетых по-европейски и куривших сигары в больших мундштуках. Сведения, которые ему удалось раздобыть, были неутешительными. Он сообщил, что накануне в деревню наведывались полицейские. Похоже, это связано с нашим приездом, и не исключено, что они опять появятся здесь в течение сегодняшнего дня, а может, нагрянут в деревню, где находится Жеже. Неизвестно, предупредили ли его о появлении полиции. И если предупредили, то Бог весть, где он теперь. Вероятно, скрылся, и тогда его будет очень трудно найти. — Очень трудно? — спросила Анна. — Пожалуй, даже невозможно,— ответил Легран. — Ну зачем так. — Во всяком случае, весьма непросто. — Я богата. — Это дорого. — Но я очень богата. — Неужели настолько? — развеселился Легран. — Да,— сказала Анна,— даже стыдно признаться. — Ну раз так, попробую вам помочь. Внезапно он как будто вспомнил что-то: — А вдруг Жеже окажется не тем, кто вам нужен? — Этого тоже будет достаточно. — Не понимаю. — Я хочу сказать,— заключила Анна,— что даже в этом случае буду удовлетворена.

Легран решил, что надо идти пешком в деревню, где еще вчера находился Жеже. Даже если мы не застанем там Жеже, мы сможем выяснить, в каком направлении продолжать поиски. После разговора с Анной он воспрянул духом и казался довольным и первый раз после Леопольдвиля согласился выпить с нами виски. Мы тотчас же отправились в путь, дабы не упустить ни единого шанса встретиться с Жеже. Он мог с минуты на минуту уйти оттуда, и нам следовало торопиться. После длительных переговоров мы наняли двоих проводников, так как Легран плохо знал дорогу. Выйдя из деревни, мы двинулись по хорошо утоптанной, но очень узкой тропе, идти по которой пришлось гуськом. Анна шла впереди меня, перед ней Легран и оба монбуту. Шествие замыкал Эпаминондас. Иногда Анна, оборачиваясь, улыбалась мне, и мы молча смотрели друг на друга, и без слов все хорошо понимая. Да и о чем теперь могли мы говорить? Она выглядела бледной, бледнее, чем обычно, но ведь мы так мало спали, и она, очевидно, устала. Через полчаса Легран выдал всем по бутерброду и по паре галет, которые он взял в гостинице, где мы ночевали. Это нас очень тронуло. Но ни у кого, включая Эпаминондаса, не было ни малейшего аппетита. Все шло спокойно, лишь Эпаминондас испускал иногда воинственные кличи, напоминавшие возгласы монбуту — ему казалось, что он увидел куду. Его постоянные вскрики задержали нас примерно на полчаса. Кроме того, наши проводники время от времени переговаривались между собой, и их громкие и необычные голоса заставляли нас вздрагивать. Свежий ветерок, обдававший нас, помогал нам переносить нестерпимую жару, но он то и дело прекращался, что затрудняло наше продвижение по сильно пересеченной местности. Но когда мы поднимались на плато, живительный ветер опять заиграл над саванной. В три часа разразилась короткая, но сильная гроза. На время грозы мы укрылись под огромным раскидистым деревом, воспользовавшись передышкой, чтобы выкурить по сигарете и выпить по чуть-чуть голландского виски. Никому не хотелось разговаривать, даже Эпаминондасу. Он выстрелил в птицу, которая тоже спряталась под деревом, но промахнулся. Легран рассердился. Мы сейчас уже так близко, сказал он, что звук выстрела, безусловно, лучший способ обратить в бегство моряка из Гибралтара. Тем не менее, перед тем как вновь пуститься в дорогу, он сам сделал два выстрела в воздух из маузера. Это сигнал, пояснил он. Звук долго раскатывался в чистом и прозрачном после грозы воздухе. Взяв в руки часы, ровно через три минуты Легран снова выстрелил в воздух, уже один раз, после чего велел нам остановиться и не шуметь. В полной тишине прошла одна минута, и над саванной раздался глухой и печальный звук тамтама. Легран сообщил нам, что до цели осталось около получаса. Теперь Анна не оборачивалась, и мы не смотрели друг на друга. Эпаминондас больше не видел никаких куду. Через полчаса, как и предполагалось, после крутого поворота тропы появилась деревушка с низкими мрачными бунгало, стоявшими как термитники в высокой сухой траве. Я обогнал Анну и пошел за Леграном, держа определенную дистанцию. Он первым вышел на площадь и остановился. Я вслед на ним. На площади не было ни одного белого. Деревня была похожа на ту, из которой мы только что пришли, но казалась меньше, а ее площадь имела прямоугольную, а не круглую форму. Хижины были те же и те же веранды, покрытые тростником. Все дышало спокойствием. Подошли Анна с Эпаминондасом. Женщины ткали на верандах, рядом играли голые дети медного цвета. Что-то ковал кузнец, выбивая снопики голубых искр. Мужчины, сидя на корточках, перебирали просо. Когда мы подошли, кузнец быстро взглянул на нас и опять принялся за работу. Женщины продолжали прилежно ткать, а мужчины сортировать просо. Только дети подбежали к нам с птичьими криками. Больше никто не пошевелился. Легран скривил лицо, поняв, что нас не только не ждали, но и что мы были весьма нежелательны. Легран долго почесывал голову, а потом заметил, что ему все это кажется ненормальным. Он указал нам на пустую веранду, и мы разместились в ней. Двое мужчин направились прямо к хижине, находившейся с правой стороны площади, в десяти метрах от нас. Легран пошел за ними. Сидя на циновке, мы увидели женщину, смотревшую на нас. Мужчины что-то говорили ей, но она их не слушала. В отличие от других женщин она ничего не делала. Она смотрела на Анну. Она была очень красива и очень молода. Нам показалось, что Легран знает ее. Он поздоровался с ней и, отодвинув в сторону обоих монбуту, начал что-то говорить ей. Судя по всему, она не принадлежала к жителям этой деревни; ее накидка отличалась от одежды других женщин формой и цветом. Должно быть, она приехала издалека, из города. Ее крупные выпуклые губы покрывала яркая губная помада. Над деревней витал странный запах. Легран что-то говорил ей минуты три. Потом замер, ожидая ответа. Она долго молчала, а потом что-то бросила ему, не спуская глаз с Анны. Ее белоснежные зубы подчеркивали странную дикую красоту. На столбах веранды ее хижины висели две маски из окрашенного дерева — черная и белая. Анна тоже все время смотрела на нее. Легран опять заговорил с ней, но она не отвечала. Легран подумал, почесал голову и повернулся к нам. — Она не хочет говорить, где он. Анна встала и направилась к хижине, мы следом за ней. По правде говоря, Эпаминондас и я не могли больше ждать. Вблизи ее красота оказалась такой же совершенной. Анна подошла и улыбнулась ей. Она заметно волновалась. Женщина смотрела на нее глазами, расширенными от необычайного болезненного любопытства, и не ответила на ее улыбку. Странный запах, плававший в воздухе, усилился, и легкий острый дымок поднялся позади нас. Это никого не насторожило, кроме меня. И то не слишком. Анна, стоя перед женщиной, смотрела на нее. Женщина тоже, но без тени улыбки. Робким движением Анна вынула из кармана шорт пачку сигарет и протянула женщине с улыбкой, какой я никогда еще не видел у нее. Эта улыбка предназначалась женщине, чтобы заставить ту забыть, зачем приехала Анна. При виде сигарет женщина вздрогнула. Она опустила глаза, вытащила из пачки одну сигарету и поднесла ко рту. Ее рука напоминала цветок с голубыми лепестками. Она дрожала. Я наклонился и дал ей прикурить. Но ее руки дрожали так сильно, что она уронила сигарету. Эпаминондас поднял. Она машинально взяла ее, поднесла к губам и глубоко затянулась. Эта женщина курила с наслаждением, видимо обретая в курении силу и терпение. Ее взгляд в первый раз соскользнул с Анны и остановился на Эпаминондасе, а потом на мне все с тем же болезненным интересом. Она пыталась понять что-то, не поняла и смирилась с этим. — Скажи ей,— тихо начала Анна,— скажи, что вероятность ошибки очень велика. Легран с трудом перевел. Женщина бесстрастно выслушала и ничего не ответила. На нас наплывал густой дым, принесенный порывом вечернего ветра. Но никто ничего не чувствовал. Кроме меня. Дым имел странно острый и зловонный запах. — Да, вероятность ошибки очень велика,— повторила Анна. Легран опять с трудом перевел. Он немного нервничал. Казалось, женщина хочет ответить, но что-то мешает ей, и она опять промолчала. — Скажи ей, что я ищу его уже три года. Легран перевел. Женщина долго смотрела на Анну, потом задумалась, опустила глаза и ничего не ответила. — Может быть, другие скажут что-нибудь,— крикнул Легран, оборачиваясь к площади. Анна выпрямилась. — Нет, я не хочу говорить ни с кем, кроме нее. Прежде чем заговорить, женщина долго обдумывала что-то. Теперь она выглядела почти спокойной. Она докурила сигарету, и Анна предложила ей другую. Но в этот момент запах стал таким сильным, что не заметить его было невозможно. Анна обернулась и страшно побледнела. Она смотрела вдаль, откуда доносился запах. Он шел откуда-то из-за площади. Анна сделала легкое движение, отстраняясь от направления дыма. Затем безвольно остановилась. Легран не понял, что происходит. Я ринулся туда вместе с Эпаминондасом. На маленькой площадке двое мужчин жарили на вертеле куду. Они крутили ручку, пропущенную между связанных ног. Голова животного, еще не тронутая огнем, болталась у самой земли, но шею, которую он гордо нес когда-то, пробегая по лесам, уже лизали языки пламени. А удушающий запах исходил от копыт животного. Отпиленные рога лежали на земле, как сабли, выпавшие из рук воина. Я подошел к Анне. — Куду,— сказал я,— большой куду. Женщина, не понимая, следила за нашими перемещениями. Легран, имевший слабое представление о человеческом воображении, тем более ничего не понял. Анна достаточно быстро овладела собой. С минуту она постояла, прислонившись к столбу веранды, а потом повернулась к женщине. И в этот момент женщина заговорила. У нее оказался воркующий гортанный голос. — Это для нас,— перевел Легран,— вчера утром убили куду. Она опять замолчала. Анна села рядом с ней на циновку. — Я не буду больше спрашивать, где он,— медленно произнесла Анна.— Скажи ей, что у него есть особый шрам, который может заметить только женщина, ну, как она или как я. Скажи ей, что по этому шраму его можно узнать. Легран кое-как перевел. Женщина, подумав, спросила что-то. — Она спрашивает, что это за шрам. Анна улыбнулась. — Она должна понять без объяснений. Легран еще раз перевел. Женщина слегка прищурила глаза, пряча улыбку. Потом произнесла длинную фразу. — Она сказала, что шрамы есть у всех мужчин. — Конечно, но у этого шрама своя история. Это особый шрам. Легран перевел. Она снова задумалась. Наши шансы все уменьшались. Она явно не понимала. Глупости, сказал Эпаминондас. Он терял терпение, ибодумал только о куду, мечтая добыть хотя бы одного до наступления ночи. Легран тоже начал нервничать. При переводе в его голосе появились грубые интонации. Да, наши шансы падали. Внезапно женщина произнесла какую-то очень длинную фразу и тоном более твердым, чем прежде. — Она сказала,— перевел Легран,— что особые шрамы есть у всех сильных и мужественных мужчин.— И добавил, топнув ногой: — Неужели это так важно? Она хочет, чтобы вы сегодня же вечером отправились обратно. Женщина произнесла еще какую-то длинную фразу. Раздражение Леграна не производило на нее никакого впечатления. — Она сказала, что сильные и смелые мужчины есть повсюду. — Где,— спросила Анна,— находится этот шрам? Я задержал дыхание. Анна приблизилась к женщине и спросила ее, не Леграна. Женщина не умела лгать. Но ей не хотелось говорить правду. Чувствовалось, что она что-то скрывает. — Где? — еще раз спросила Анна. Мне показалось, что женщина решила уступить. Но она не отвечала. Она смотрела на Анну глазами приговоренной к смерти, потом подняла палец, голубой как перст судьбы. Я закрыл глаза. Когда я открыл их, голубой палец остановился под ее левым ухом, на шее. Она закричала. Легран перевел: — Это удар ножа. Ему было тогда двадцать лет. Анна не слушала. Она прислонилась к столбу, ее лицо исказилось страхом. Закурив, она сказала: — Нет, не то. Легран не стал переводить. Он выглядел разочарованным. — Не то,— повторила Анна и сделала отрицательный жест рукой. Глаза ее наполнились слезами. Женщина увидела это. Она взяла Анну за руку и засмеялась. Анна тоже засмеялась. Я отошел. — Она врет,— заявил Легран. — О нет,— возразила Анна. Я направился к куду. Эпаминондас пошел вслед за мной. Теперь голова куду была в огне. Мужчины перенесли огонь и начали отрывать от боков куду длинные золотистые куски. Почувствовав на плече руку Эпаминондаса, я взглянул на него. Он улыбался. Я тоже попытался улыбнуться, но у меня не получилось. Куду, подумал я, сжимает мне сердце. Подошла Анна с женщиной, которая теперь все время смеялась, как ребенок. Женщина что-то сказала Леграну. — Она сказала,— перевел Легран,— что вы должны попробовать. Она сама оторвала от бока три куска, истекающие соком, и протянула нам. Только тогда я поднял глаза на Анну. — Это так вкусно, куду…— произнесла Анна. У нее снова было лицо, которое я хорошо знал. В ее глазах плясали отблески пламени. — Самая вкусная в мире еда,— согласился я. И только молоденькая негритянка, я думаю, поняла, что мы любим друг друга.

Мы вышли на следующее утро. Легран остался в деревне дожидаться Жеже. Он дал Анне адрес в Леопольдвиле, по которому она могла переслать обещанную сумму. Мы распрощались, наговорив друг другу массу любезностей. Анна поцеловала женщину. Мы задержались в Леопольдвиле дольше, чем предполагали. За время нашего отсутствия сгорела яхта. Когда ее загружали мазутом, Бруно по небрежности бросил рядом с цистерной горящий окурок. Когда мы приехали, «Гибралтар» еще дымился. Огонь пощадил только бар и верхнюю палубу. Мне не показалось, что после нашего возвращения от монбуту Анна пребывала в подавленном состоянии. — Одной яхтой в океане стало меньше… Мне кажется, это облегчит концовку твоего американского романа. Интересно, что после случившегося Бруно тоже стал серьезным. С этого времени он находился в отменном настроении. Нам рассказали, что, когда прибыли пожарные, он хохотал как безумный; можно было подумать, что он действительно сошел с ума. Но Лоран, как сумел, объяснил всем прибывшим, что часто пожары возникают сами по себе, по самой незначительной причине. Весь вечер мы думали, что делать дальше: выбираться ли отсюда на пассажирском теплоходе или покупать другую яхту. И решили купить другое судно, чтобы не расставаться и чтобы каждый остался при деле. В Леопольдвиле мы приглядели только старую яхту, намного меньшую, чем «Гибралтар», и менее комфортабельную. Но это никого не смутило. По правде говоря, в ней все-таки было что-то от «Гибралтара» — экс-«Анны» и экс-«Кипра». Мы установили антенну и покинули Леопольдвиль. Через два дня мы получили сообщение из Гаваны и направились в Карибское море.

Лоран покинул нас в Пуэрто-Рико. Эпаминондас чуть дальше, в Порт-о-Пренсе. Бруно оставался с нами подольше, в надежде обрести новых друзей, пока не вернутся прежние. У Карибских островов море было необычайно красивым. Но писать об этом я пока не могу.

Последние комментарии
14 часов 54 минут назад
23 часов 45 минут назад
23 часов 48 минут назад
3 дней 6 часов назад
3 дней 10 часов назад
3 дней 12 часов назад