
Gustav Meyrink
Des deutschen SpiePers Wunderhorn Albert Langen Verlag, Munchen, 1913
Das grime Gesicht Kurt Wolff Verlag, Munchen, 1916
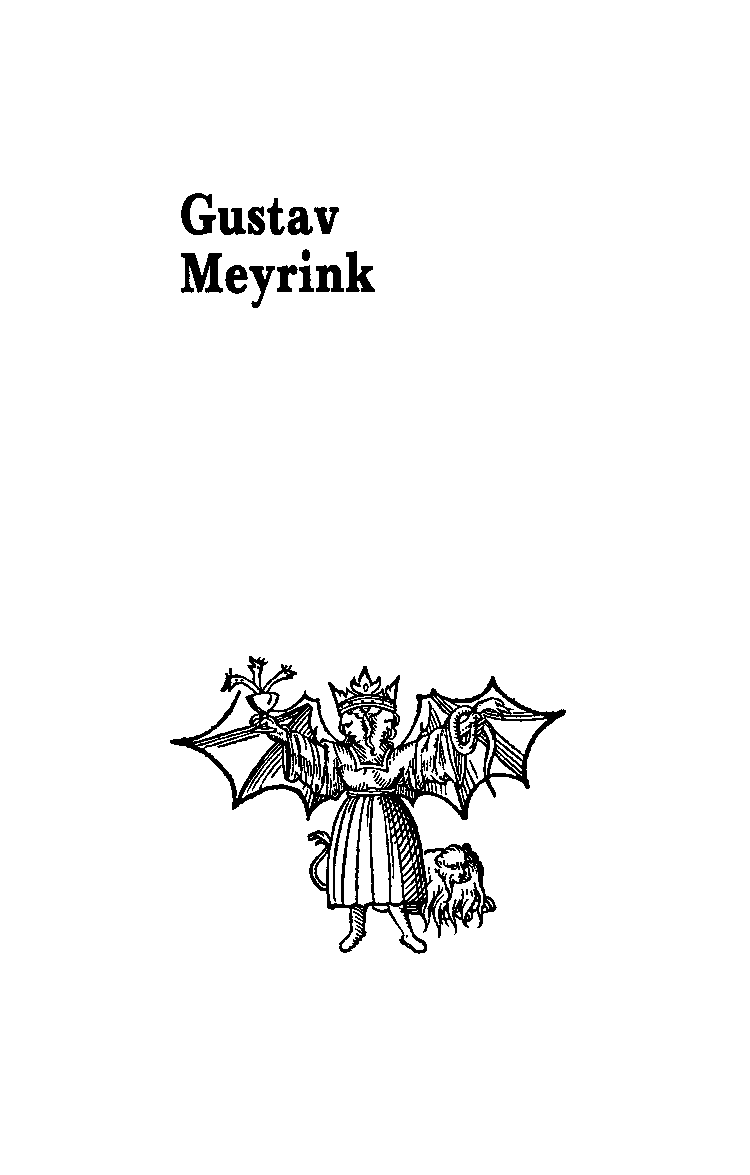
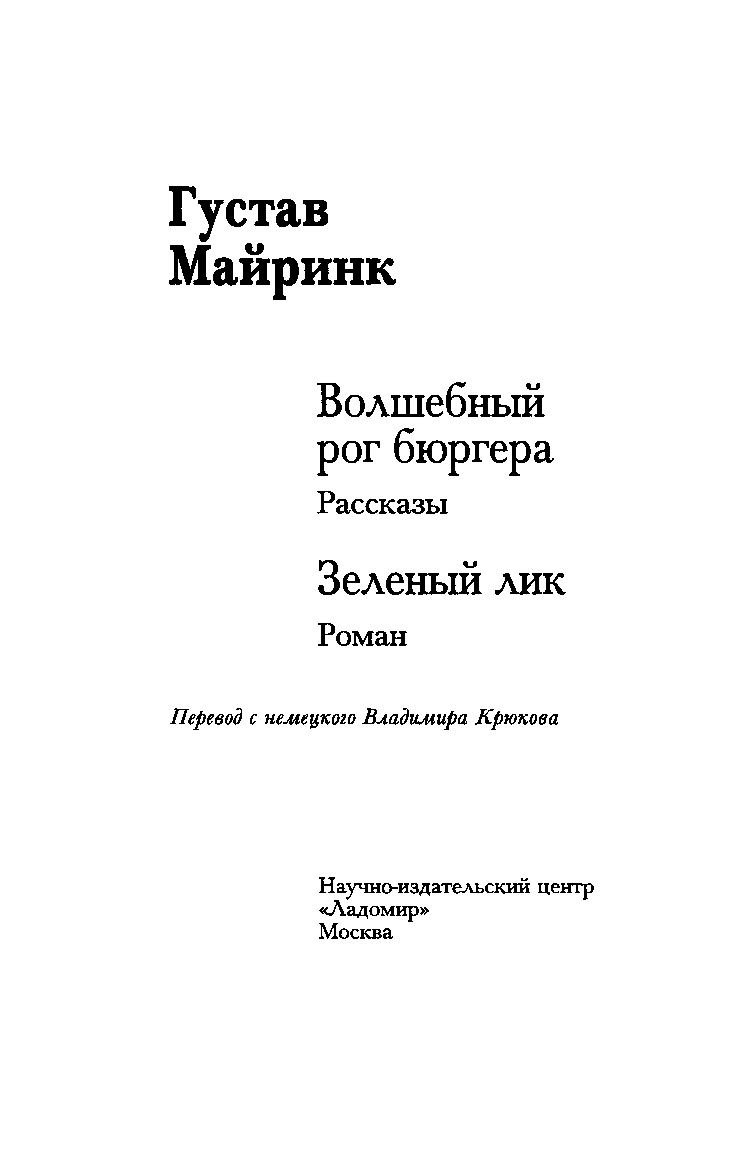
ОБРАТНАЯ СТОРОНА МРАКА
VITRIOL— Visita Interiorem Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem. Obscurum per obscurius, ignotum per ignotius. «И вот, когда все его честолюбивые планы потерпели крушение, Джон Ди понял, что неправильно проложил курс, ибо, сам того не ведая, стремился не к земной "Гренландии", а совсем к другой земле, — и что именно ее-то и надо завоевывать. Эта "другая земля", о поисках которой и тогда помышляли лишь очень немногие, сегодня признана фикцией, "заблуждением мрачного Средневековья", и тот, кто верит в ее существование, будет предан осмеянию точно так же, как в свое время Колумб, грезивший об Индии. Однако плаванье Джона Ди было несравненно опасней, страшней и изнурительней, ведь его "Новый Свет" находился дальше, много дальше...»[1] Утверждение, что «Новый Свет» Джона Ди находился ближе, много ближе, было бы столь же верным, вот только странствование «потустороннего навигатора» не стало бы от этого менее «опасным, страшным и изнурительным», ибо сойти в кромешные глубины собственного Я и, обретя там краеугольный Камень, в три дня возвести нерукотворный Храм своего бессмертия — акт, который под силу разве что Богу. Любое земное путешествие, если его продолжать достаточно долго, становится кругосветным, ну а «кругосветное путешествие кончается там, где оно началось!»[2]. «Всякое движение должно замыкаться в круг, все, что движется, неизбежно движется по кругу, и мысль о том, что вся его жизнь является подтверждением этого великого закона, который даже небесные тела содеял сферообразными, вселяет в него чувство незыблемого покоя»[3]. Разумеется, ведь всякая окружность свидетельствует о присутствии неподвижного центра, воплощающего собой идею предвечного Принципа, не подвластного никаким влияниям и изменениям. «Во что бы то ни стало, сын мой, найди в себе точку опоры, над коей не властен внешний мир... — наставляет Леонгарда его отец, — и пусть время стекает с тебя, подобно потокам воды»[4]. Бросая вызов окружающему миру, Леонгард в поисках «точки опоры» устремляется куда глаза глядят — и возвращается туда, откуда пришел. Джон Ди тоже вначале прокладывает свой курс неправильно: пытается искать свой сокровенный «Гренланд» там, где Колумб нашел свою Америку, однако в конце концов понимает, что приближаться к центру можно только по радиусу — по вертикали, — избрав своим девизом традиционный принцип адептов «obscurum per obscurius, ignotum per ignotius»...[5] И тогда начинается герметическое странствование, не важно, как оно происходит — во сне или наяву, в алхимической лаборатории или в сознании медитирующего йога, — главное, что оно всегда ориентировано на сокровенный Центр — неподвижный полюс всего проявленного и непроявленного универсума, основными символами которого являются: вздымающаяся из морской пучины полярная скала (в разных традициях она называется по-разному: Монсальват, Алберж, Каф, Олимп), гиперборейский остров (Туле, Шветадвипа), Мировое древо, Голгофа, Святой Грааль, Золотое руно, яблоки Гесперид, Солнце, Философский камень... Главное — правильно проложить курс, а для этого необходимо помнить, что ориентировать «по меридиану» отпавшего от трансцендентного Центра «блудного сына» может только Традиция — сокровенное, нечеловеческого происхождения Знание, пребывающее в вечном движении духовной преемственности: тысячелетиями передается оно из уст в уста, свидетельствуя о неиссякаемом Источнике, вне соответствия с которым человеческая жизнь лишена всякого смысла. Традиционное Знание принципиально отлично от так называемого «объективного» человеческого знания, получаемого исключительно экспериментальным путем, ибо оно основано на Откровении, и природа его сверхчувственна — это относится к любой из традиционных наук, совокупность которых и составляет Традицию. И если профаническое знание мертвым грузом оседает в сознании, ничего, по сути, в нем не меняя, то постижение традиционных дисциплин трансформирует саму личность «странника», ступень за ступенью восходящего к «полярной вершине», чтобы там, в конце сакрального процесса-странствования, отождествить свое Я с Абсолютом. Именно в этом и заключается смысл герметического пароля VITRIOL: «Сойди в недра земные и там, дистиллируя и очищая, обрящешь сокровенный Камень», иными словами, сойди с изменчивого и неверного круга иллюзорной «действительности» и обрати взор свой к Центру, к той незыблемой оси, вокруг которой вращается колесо бытия, к той метафизической «ступице», именуемой в китайской традиции «неизменным средоточием», где вечно пребывает Чакраварти[6], управляющий движением вещей, не принимая в нем непосредственного участия («неподвижный принцип» по выражению Аристотеля). Символом этого фундаментального полюса мироздания традиционно является свастика, эмблематически выражающая схему воздействия трансцендентного Центра на проявленный мир. Вот почему на белоснежных плащах тамплиеров была изображена свастика — ведь вплоть до 1314 года, когда гроссмайстер Ордена Жак (Якоб) де Моле взошел на костер, рыцари Храма свято исполняли свою понтификальную миссию, осуществляя духовную связь Запада с сакральными центрами Востока. Леонгарду «во всем видится крест Сатаны:[7] повсюду бессмысленный круговорот — рождение, юность, зрелость, старость, смерть; поистине чрево, порождающее все человеческие страдания, — это вечно вращающееся мельничное колесо, а неподвижная ось, вкруг коей пребывают в движении крылья — четыре бегущие человеческие ноги, — так же, увы, непостижима, как абстрактная математическая точка»[8]. Свастика, а также ее словесный эквивалент VITRIOL (в рассказе Майринк использует одну из разновидностей этого герметического пароля как имя гроссмайстера Храма Якоба де Витриако[9]), предстает проводником, призрачным психагогом[10], в подземное святилище тамплиеров — «всемогущий таинственный инкогнито, лоцман под темной маской, который молча, в зыбких предрассветных сумерках, всходит на палубу человеческой жизни. Тот, который является из тех бездн, куда наша душа заглядывает лишь тогда, когда глубокий сон накрепко смыкает створки дневных врат!»[11] И не важно, что руководит сошествием в «бездны земные» явный шарлатан (доктор Шрепфер) и что инициатический катабасис совершается в подземные лабиринты тамплиеров под действием токсичных дымов, — известно ведь, что в некоторых средневековых соборах на полу был выложен мозаичный лабиринт, прохождение которого приравнивалось к пилигримажу в Святую землю! — и что в конце концов «потусторонний лоцман» Якоб де Витриако — «вся прошедшая жизнь покачнулась и угрожающе накренилась, лишь Якоб де Витриако остается единствен но твердой точкой, незыблемой как полярная ось», — оказывается всего лишь именем какого то неизвестного «строительных дел майстера», вы гравированное на крышке рокового люка, под которым погребена мать Леонгарда, важно другое: там, в подземном Храме, он увидел в обращен ном к нему золотом лике Бафомета самого себя, свое собственное Я, и понял Следы огня, пользуясь любимым приемом Майринка, прибегавшего к нему в тех случаях, когда дело касалось невыразимого или того, что за ведомо не подлежало оглашению «О том, что наступило потом, рассказывать не буду, об этом не говорят. Может быть, кто-то и посмеется: как, из тысяч египтян и халдеев, посвященных в великие мистерии, охраняемые змеем Уроборосом, не нашлось ни одного, кто бы проговорился? Значит, и говорить было не о чем! Ведь все мы уверены, что нет клятв, которых бы нельзя было нарушить. Когда-то и я так думал, но в то мгновение пелена упала с глаз моих... За всю историю человеческого существования до нас не дошло ни единого свидетельства подобного таинства, которое бы последовательно, без каких бы то ни было пробелов, лакун и фигур умолчания описывало мистериальную церемонию, и дело здесь не в клятве, "роковой печатью сковывающей уста", — нет, просто неофит, даже если бы захотел, не смог бы ничего сказать, ибо тайна доверена темной, ночной стороне его сознания, достаточно одной только мысли о том, чтобы попытаться облечь сокровенное в слова здесь, по сю сторону, — и гадюки жизни уже поднимают, шипя, свои головы. Воистину, таинство сие велико настолько, что выразить его может лишь молчанье, — имеющий уши да слышит! — вот потому-то и суждено ему остаться тайной до тех пор, пока "мир сей пребудет"»...[12] Что же касается мистериального «странствования», то оно традиционно понималось как процесс герметической трансформации, первая фаза которого, очистительные обряды, называлась «испытанием» или «загробным странствованием» и осуществлялась будущим неофитом в состоянии инициатической смерти, — время для него останавливалось, и он «в духе» совершал свое «сошествие во ад», в те низшие модальности бытия, которые либо должны быть исчерпаны и преодолены, либо... Скажем только, что реальное традиционное посвящение было, в отличие от костюмированных бутафорских «ритуалов» XVIII — XX вв., отнюдь не «символическим», и «странник», не прошедший испытания бездной, «оттуда» уже не возвращался. Там, в кромешной тьме, человеческое Я обретало «новый свет» и новое истинное имя, и только после этого, преображенным, начинало восхождение в покинутую телесную оболочку. Этот нечеловечески мучительный катабасис называется в каббале «диссольвацией скорлуп» («скорлупы» символизируют психические и кармические остатки прежних состояний, которые неофиту необходимо преодолеть). В герметической алхимии аналогичная операция именуется «нигредо», или «Творение в черном» («L'CEuvre au noir»), и символом ее является ворон. В этой начальной фазе Великого Деяния первичная материя должна «претерпеть много» — она умирает, разлагается и в ходе брожения (putrefaction) приобретает отчетливо выраженный черный цвет. Чем концентрированней чернота оперенья, тем больше шансов на успех, тем ослепительнее засияют «белоснежные ризы» сокровенного Гренланда, символизирующего для Джона Ди следующую фазу Великого Деяния — «альбедо», «Творение в белом»! Но только когда божественный циркуль прободает своей неумолимо острой, отточенной, словно наконечник рыцарского копья, ножкой бренную хризолиду и оттуда, как из разверстой могилы, выпорхнет пурпурный мотылек, суждено арктическому конкистадору достигнуть своего запредельного полюса и оказаться в Солнечной цитадели розенкрейцеров. Итак, путешествие — «путешествие на край ночи», ибо та легендарная Ultima Thule герметического универсума, к которой стремилась душа Густава Майринка, являет собой отнюдь не «край света», как полагают профаны, но «истинный и достоверный край ночи» адептов королевского искусства — тот самый, который в суфийских орденах называют «обратной стороной мрака»... Густав Майер (Gustav Meyer) появился на свет 19 января 1868 года в половине второго пополудни в Вене как внебрачный сын пятидесятидевятилетнего вюртембергского[13] министра барона Карла Варнбюлера фон ундцу Хемминген и двадцатисемилетней Марии Вильгельмины Адельхайд Майер. Роды случились в гостинице «Blauer Bock» («Синий козел») на Марияхильферштрассе, в номере которой проживала тогда Мария Майер, известная актриса королевского баварского[14] театра, а через полтора месяца, 5 марта, мальчик был крещен в находившейся на той же улице евангелической церкви. Предки по материнской линии, носившие фамилию Майеринк (Meyerink), происходили из Штирии[15]. Документы подтверждают также родственные связи с историком Эдуардом Майером[16]. Мария Майер вела обычную кочевую жизнь актрисы, неустроенную и сумбурную, сменила множество театров: работала в берлинском театре Вальнера[17], в королевском мюнхенском театре, выступала на сценах Гамбурга, Праги и Петербурга. Современники отзывались о ней как о красивой и необычайно остроумной женщине. Свою карьеру она закончила в берлинском Лессинг-театре, в котором проработала с 1891 по 1902 год. Первые тринадцать лет жизни Густав провел со своей матерью в Мюнхене — сначала посещал школу, а потом гимназию. В 1881 году Мария Майер решает сменить сцену и переезжает в Гамбург, где маленький Густав продолжает учебу в тамошнем Иоганнеуме, но уже через два года, получив выгодный ангажемент в Немецком национальном театре в Праге, она срывается с места и срочно отбывает в Богемию... «Городом с неуловимым пульсом» назовет впоследствии Майринк Прагу. «Когда сорок пять лет тому назад лоцман-судьба привела меня из туманного и сумрачного Гамбурга в этот фантастический город, я сразу пустился плутать по незнакомым улицам и был буквально ослеплен неистово ярким солнцем — раскаленная сфера, повисшая над крышами старинных домов, казалась каким-то другим, неведомым небесным телом, совсем непохожим на ласковое светило, знакомое мне по детским годам, проведенным в веселой и беззаботной Баварии... Уже в тот первый день, когда я шагал по древнему Каменному мосту над покойно несущей свои воды Мольдау, направляясь к Градчанам с их излучающим сумрачное высокомерие Градом, таким же чопорным, надменным и неприступным, как обитавшие в нем на протяжении веков поколения Габсбургов, — уже тогда в мою детскую душу закрался темный необъяснимый ужас. С тех пор пока я жил в Праге, — а я прожил в городе с неуловимым пульсом целую жизнь, — он не покидал меня ни на миг. Он и потом меня не оставил, даже сейчас, стоит мне только вспомнить о Праге или увидеть во сне, — и ледяной озноб пробегает по моему телу. Все, что я когда-либо пережил, любые случайные, полузабытые образы прошлого, мне не составляет труда увидеть "в духе" — вот они, передо мной, стоят, исполненные жизни! — и только город с неуловимым пульсом гоню я с глаз моих, когда его хищный готический профиль заслоняет собой другие воспоминания, проступая так сверхъестественно отчетливо, что уже не кажется чем-то реальным, а скорее — призрачным... Вот и его жители, те, которых я когда-то знал, превратились в призраков, в обитателей потустороннего, не ведающего смерти мира»[18]. Но это потом, а пока не подозревающий, чем станет в его жизни этот таинственный, отмеченный знаком солнца город, Густав прилежно посещает местную гимназию, которую с отличием заканчивает в 1883 году. Но старая история повторяется вновь: прошло два года, в Немецком театре сменился директор, и Мария Майер, следуя за неверной актерской звездой, в очередной раз пакует чемоданы... Сына, уже достаточно, по ее мнению, взрослого, чтобы начинать самостоятельную жизнь, она оставляет в Праге. И хотя семнадцатилетний юноша сыт по горло этими постоянными сборами, переездами, гостиничными номерами и чужими, снятыми внаем квартирами, когда «даже вещи, благодаря кипучей, неуемной энергии матери, не чувствуют себя дома — съежились в паническом страхе, ежесекундно ожидая, что с тонких, бескровных губ сорвется новый приказ к какому-нибудь очередному марш-броску или срочной перегруппировке»[19], — он все равно очень тяжело переживает расставание — чувствует себя покинутым, брошенным на произвол судьбы. Этого «предательства» он так и не смог простить своей матери, на всю жизнь осел у него в ушах зловещий, «ни на миг не затихающий шелест ее черного шелкового платья»...[20] Оставшись один, Густав в течение трех лет довольно посредственно учится в коммерческой школе, заканчивает ее и, проработав около года учеником в какой-то экспортной фирме, в 1889 году основывает совместно с племянником поэта Христиана Моргенштерна банкирский дом «Май-ер и Моргенштерн». В скором времени юный банкир становится весьма заметной фигурой в немецкоязычных кругах Праги. Еще в 1886 году он удостаивается чести быть принятым в члены престижного гребного клуба «Регата», числившего в своих рядах сливки пражского общества, и остается в семидесятилетней истории этого привилегированного спортивного общества как «один из самых выдающихся гребцов». Смысл его существования в этот период сводится к трем занятиям: «любовным интрижкам, игре в шахматы и гребле». Вхожий в лучшие дома Праги, Густав ведет веселую жизнь светского шалопая, исправно посещает ресторации, не чурается и более сомнительных заведений, и кто знает, что бы с ним сталось по прошествии лет пяти — десяти, если бы не один случай, на котором следует остановиться подробнее... «Завтра праздник Успения Пречистой Девы, двадцать четвертый в моей жизни... Я сидел за письменным столом в своей пражской холостяцкой квартире; запечатав прощальное письмо, адресованное матери, я положил руку на лежащий передо мной револьвер, который должен был помочь мне пуститься в плавание через Стикс — свести счеты с моей безнадежно пустой, бессмысленной и безотрадной жизнью. В это мгновение "лоцман под темной маской", как я его с тех пор называю, вступил на палубу моей жизни и резко повернул штурвал в сторону... В дверях, выходящих на лестничную площадку, послышался какой-то шорох; обернувшись, я увидел лежащий на пороге белый прямоугольник... Какая-то брошюрка... То, что я отложил револьвер, поднял книжицу и прочел заголовок, нельзя отнести ни к вспышке любопытства, ни к подспудному желанию отсрочить смерть — сердце мое было пусто. Надпись на обложке гласила: "О жизни после смерти"... "Бывают же совпадения!" — едва не сорвалось с моих губ. С тех пор я не верю в случай, предпочитаю видеть в нем лоцмана. Дрожащей рукой — до этого она у меня ни разу не дрогнула, ни тогда, когда я писал прощальное письмо, ни тогда, когда мои пальцы сжимали рукоятку револьвера, — я зажег лампу, ибо в комнате царил полумрак, и одним махом, с бешено бьющимся сердцем прочел брошюрку от корки до корки — под дверь мне ее, очевидно, подсунул посыльный моего знакомого книготорговца. Содержание ее было чисто спиритическим»[21]. Изложенные в «подметном послании» факты настолько заинтересовали двадцатитрехлетнего гребца, еще несколько минут назад всерьез намеревавшегося одолеть потустороннюю стремнину Стикса, что он запер револьвер в ящик стола и порешил, до поры до времени не теряя из поля зрения трех «китов», поддерживающих своими спинами его прежнюю легкомысленную жизнь, «направить свой корабль на поиски тех неведомых земель, о которых так соблазнительно нашептывала брошюрка»[22]. Итак, швартовы были отданы, и впереди замаячила пока еще далекая и очень смутная цель... Ну а поскольку новоиспеченный мореплаватель во всех своих начинаниях отличался чрезвычайной основательностью, то первое, что он предпринял на новом для себя поприще, — это принялся из конца в конец бороздить не отличавшиеся особой чистотой прибрежные воды специальной литературы. Но и это невинное каботажное плавание сопровождалось определенной внутренней трансформацией: то, что вначале было лишь любопытством, мало-помалу перерастало в «пылающую, ничем неутолимую жажду знаний»[23]. Однако одной литературы, как очень быстро понял Густав, было явно недостаточно. Он стал искать знающих людей — вскоре вокруг него кишмя кишели какие-то странные азиаты с блуждающими глазами, косноязыкие ясновидицы, надменные маги, восторженные мистики, угрюмые неразговорчивые медиумы и пророки всех мастей... В 1891 году в Праге последователями Е. П. Блаватской — главную роль среди них играл Карл Вайнфуртер[24] — была основана теософская ложа «У голубой звезды», в которую немедленно вступил Густав Майер. Однако неофиту не потребовалось много времени, чтобы убедиться в про-фаническом и сугубо спекулятивном характере «тайной доктрины» теософов. Он резко порывает с единомышленниками госпожи Блаватской, вынося свой абсолютно негативный приговор: «Здесь тоже ничего! Переливание из пустого в порожнее! Твердят, как попки, бессмысленный вздор! Поверхностность! Теистический фанатизм!»[25] Кстати, его младший собрат по пилигримажу к Terra incognita, будущий знаменитый эзотерик Рене Генон (1886 — 1951), тоже в начале своего герметического странствования не избежал сомнительных «духовных организаций», угодив в ученики к такой малосимпатичной личности, как Жерар Анкосс, более известный под именем Пагаос, однако быстро понял, что учение всех этих «неоспиритуалистических» школ — лишь «мешанина из плохо переваренных каббалистических, неоплатонических и герметических понятий, с грехом пополам объединенных вокруг двух-трех чисто современных западных идей». В этот период особо пристальный интерес Густава Майера привлекают паранормальные явления: он исследует на себе психическое воздействие различных экзотических ядов и наркотиков[26], пытаясь проникнуть в природу телепатических феноменов, участвует в медиумических сеансах, предпринимает ряд весьма наивных алхимических экспериментов...[27] В своей докторской диссертации Манфред Любе упоминает[28], что уже в 1882 году Г. Майер получил степень S. I. (Superieur Inconnu — Высший Неведомый) одного французского ордена и состоял в переписке с английскими масонами из «Ancient & Primitive Rite of Masonry» («Исконно древний ритуал Вольных Каменщиков»). К 1893 году относится хранящееся в архиве писателя письмо Уинна Весткотта, Supreme Magus of the Societas Rosi-cruciana (Верховного Мага Братства Розенкрейцеров), свидетельствующее о связи Г. Майера с Golden Dawn[29]. Там же, в архиве, присутствует документ, удостоверяющий принадлежность «подателя сего» к «Mandale of the Lord of the Perfect Circle» («Мандала Лордов Совершенного Круга»): «It is ordered, that Brother Gustav Meyer of Prague be constituted one of seven Arch censors. And in virtue of this Mandale Gustav Meyer receives the Spiritual and Mystic name Kama»[30]. Молодой, окутанный мистической аурой банкир то и дело привлекает к себе общее внимание. Этот внебрачный сын известной актрисы и видного государственного вельможи, аутсайдер по рождению, являл собой, несмотря на свою, скажем прямо, не очень благородную профессию, тип денди, который эпатировал окружающих буквально всем: и необычными суждениями, и взглядами на жизнь, и острым, бескомпромиссно пытливым интеллектом, а главное, своим несносным поведением — самоуверенный юнец был настолько дерзок, что не только вел себя как равный в светском обществе, но и своими подчеркнуто изящными, доведенными до совершенства манерами словно бросал вызов высокородной знати. Отличаясь живой, необычайно развитой фантазией, склонный к мистификациям и самым эксцентричным выходкам, он водил дружбу с «богемой» — с новым поколением авангардистски настроенных поэтов, актеров и художников, в 1895 году основавших «Объединение немецкой творческой молодежи в Богемии» или, как они сами себя называли, «Jung-Prag» («Юная Прага»). В объединение входили: Райнер Мария Рильке, Оскар Винер, Пауль Леппин, актер Александр Муасси, художники Гуго Штай-нер и Эмиль Орлик. Своей резиденцией Майер избрал шахматную комнату кафе «Континенталь» — кстати, именно здесь, в таинственной атмосфере витающего в воздухе голубовато-сизого табачного дыма совсем еще юный Макс Брод впервые предстал пред светлы очи этого уже тогда почти легендарного человека. Гуго Штайнер, оставивший интересные заметки о тех веселых бесшабашных временах, вспоминает: «Обычно он (Г. Майер) держался очень сдержанно и отстраненно, но эта необычайно холодная, подчеркнуто светская манера поведения, казавшаяся иногда истинным существом этого удивительного человека, делала резкие и всегда внезапные взрывы его фасцинирующего темперамента еще более странными и ослепительными. В то время он еще не был тем знаменитым фантастом, каким мы знаем его теперь, но уже тогда в совершенстве владел своим отточенным как бритва интеллектом, чья необъятная, искрящаяся самыми неожиданными проявлениями шкала всегда находилась в его полном распоряжении»[31] . Ему вторит Пауль Леппин: «С Майринком меня свел в кафе "Континенталь" сын ресторатора Заврела, ставший впоследствии известным берлинским режиссером. У нас образовалось что-то вроде маленького сообщества, в которое входили психиатр Шварц, отпрыск старинного австрийского рода граф Рессепор, доцент Малер, художник Гуго Штайнер — нынешний профессор Академии изобразительных искусств в Лейпциге, директор Менцель, возглавивший много лет спустя Венский земельный банк, и другие. В духе времени мы устраивали в холостяцкой квартире молодого Заврела спиритические сеансы и, покуривая настоящий индийский гашиш, который Майринк постоянно носил с собой в специальной табакерке, приводили себя в состояние транса. У медиума зелье вызывало странные видения, но дальше обычных стуков и поскрипываний стола наши телекинетические эксперименты не заходили. По крайней мере, в моем присутствии. Майринк верил в духов, но считал спиритизм низшей ступенью оккультизма и относился к нему с презрением. Как гроссмайстера некоторых тайных обществ — насколько мне известно, он был членом Ордена Розенкрейцеров и какого-то таинственного индийского братства, — его интересовали куда более глубокие проблемы. Всю свою жизнь он посвятил исследованию пограничных явлений. Почетное место в его библиотеке занимали книги Эдгара Аллана По, Э.-Т.-А. Гофмана и, конечно, работы Блаватской. Вообще его квартира представляла из себя зрелище довольно фантастическое, чего в ней только не было: террариум с двумя африканскими мышками, которых он назвал именами персонажей Метерлинка, настоящая исповедальня — одному Богу известно, где он ее раздобыл! — на стене висел портрет Блаватской и слепок исчезнувшего в стене духа, много еще чего имелось в жилище этого странного человека, что никак не вязалось с его профессией банкира. Даже дома, в которых он жил, отличались своей необычностью: последняя его квартира близ Нусельской лестницы располагалась в старинной башне... В ночных пражских заведениях его все знали, в некоторых из них он был завсегдатаем и появлялся там обычно со свитой, в которую входили наряду с Александром Муасси другие актеры, а также поэты, финансисты и еще множество самого разного люда...»[32] Присутствие на полках книг госпожи Блаватской, конечно, наводит на грустные мысли, но, что делать, многие известные, оставившие свой след в эзотеризме люди в юности прошли через смрадное болото теософии, антропософии и спиритизма. Тем, чем для Густава Майринка в начале его пути была Блаватская, для Рене Домаля был Гурджиев, а для Генона— пресловутый Пагаос... Первого марта 1893 года Густав Майер женится на Хедвиге Алоизии Цертль (Certl), однако своих метафизических поисков не прекращает. В том же году он сходится с группой мистиков, объединившихся вокруг такой известной в оккультных кругах тогдашней Праги фигуры, как Алоис Майлендер. Среди учеников этого простого ткача, как свидетельствует Эмиль Бок[33], было много литераторов. Но, похоже, и это послушничество его не удовлетворяет, хотя он надолго сохранил дружеские отношения с Майлендером[34]. Летом 1894 года Густав Майер отдыхал в курортном местечке Левико в Южном Тироле. «Там, в одном пользовавшемся дурной славой доме с привидениями, — вспоминал впоследствии писатель, — я стал свидетелем таких из ряда вон выходящих физико-медиумических феноменов, что у меня теперь нет и тени сомнения в возможности паранормальных явлений, — они, хотя и случаются крайне редко, ставят самые фундаментальные физические законы с ног на голову. С тех пор я прекратил свои спиритические эксперименты и покончил со всем, имеющим отношение к этой области; того, что я увидел, было предостаточно»[35], и невидимый «лоцман», наглядно продемонстрировав отлученному от штурвала «капитану» все мели и рифы оккультного мелководья, направляет корабль в открытое море, избирая тот курс, который станет впоследствии магистральным для его подопечного — Майер оказывается в кругу людей, утверждающих, что они владеют тайнами йоги. Под их руководством он начинает практиковать изнурительные упражнения, в ходе которых ему должен был открыться некий «сокровенный лик». «С этого мгновения я в течение трех месяцев вел жизнь какого-то безумца: ел только растительную пищу, спал не более трех часов в сутки, дважды в день "вкушал" водянистую бурду с растворенной в ней столовой ложкой гуммиарабика, — особенно действенное средство для активизации ясновидческих способностей! — с наступлением полуночи застывал в мучительных асанах со скрещенными ногами и задерживал дыхание до тех пор, пока весь мокрый от струившегося по моему телу пота не начинал содрогаться в предсмертных конвульсиях»[36]. Первым свидетельством того, что начинающий йогин находится на правильном пути, явилось одно странное видение... Однажды ночью Майер сидел на скамейке на берегу Мольдау. За его спиной высилась древняя мостовая башня с часами. Закутавшись в меха, одинокий созерцатель, позабыв обо всем на свете и не сводя невидящего взора широко открытых, отрешенных глаз с непроницаемо темного неба, напряженно медитировал над тем, что в полученном накануне письме из Индии называлось «сокровенным видением». Часов через пять полнейшей прострации ему внезапно захотелось узнать точное время. И он вдруг увидел в небе — так отчетливо, как никогда в своей жизни не видел ни одного реального предмета, — гигантский светящийся циферблат! Стрелки показывали без двенадцати два. Придя в себя от изумления, он обернулся: на мостовой башне было без двенадцати два... Трудно, пожалуй, найти в Европе лучшее место для метафизических экспериментов, чем Прага. Легенда гласит, что в незапамятные времена, задолго до королевы Либуши, якобы основавшей Прагу в 700 году, из Внутренней Азии, из сердца мира, пришли семь монахов и на одном из холмов на левом берегу Мольдау, там, где теперь высятся Градчаны, посадили некий таинственный росток. По преданию, это был карликовый можжевельник — растущий вертикально вверх куст такой фантастической формы, что невольно казалось, будто над ним постоянно висит невидимый смерч; в прежние времена утверждали, что в местах, отмеченных такими растениями, из чрева земного периодически вырывается ураган великой войны. Эти семь странствующих монахов основали также Аллахабад (название этого индийского города — Праяга — означает на санскрите то же самое, что и Прага, prah, по-чешски — «порог»!) «Я не знаю другого такого города, как Прага, который бы живущих в нем и стареющих вместе с ним людей столь часто и столь неудержимо, с какой-то прямо колдовской силой манил к местам своего кровавого прошлого. Похоже, это души умерших призывают нас, ныне живущих, в памятные для них уголки города, словно стремясь убедить, что Прага не напрасно названа "порогом", что она и в самом деле является порогом между "тем" миром и "этим" — порогом, который здесь много уже, чем где бы то ни было», — писал Майринк много лет спустя в одной из своих автобиографических заметок[37], в которой рассказал, как однажды к нему явился какой-то сумасшедший, вообразивший себя потомком легендарной графини Заградки, осужденной на голодную смерть в Далиборке. Безумец клятвенно утверждал, что, находясь по служебным делам в Индии, был инициирован в некий орден, называвшийся Сат Бхаис (Sat Bhais), семь братьев которого на заре времен отправились с некой тайной миссией на Запад; на своем пути они основали ряд поселений, нарекая их одним и тем же именем — «порог». На прощанье, прежде чем бесследно исчезнуть, странный посетитель оставил Майеру индийские и английские адреса своей орденской организации. Каково же было изумление молодого человека, когда на свои письма он получил ответ и убедился, что сумасшедший сообщил ему чистую правду! Оказалось, что орден действительно существует и называется Sat Bhais & Sikka. «В 1760 году и в Праге существовала основанная этой тайной организацией ложа, последним гроссмайстером которой был граф Шпорк. Здание ложи размещалось на месте теперешнего Центрального почтамта. В число орденской братии входили Кола Риенци и Петрарка. В древних анналах ложи значился и граф Заградка...»[38] Интересно, что в архиве Майринка хранится письмо, подтверждающее принадлежность его владельца к «Royal Oriental Order of Ape & of the Sat Bhais». Другое письмо из Манчестера (1895) от орденского брата Харубеля извещает Г. Майера в том, что он наречен новым именем: «The-ravel. This name, when translated in English, would be expressed thus: I go; I seek; I find. This is therefore the Motto of your future life»[39]. «Все, что могло иметь хоть какое-то отношение к сверхъестественному: колдуны, гадалки, всевозможные сумасброды, изобретатели вечных двигателей, ясновидящие и юродивые — а в Богемии подобной публики всегда было в достатке, — притягивало меня, как наэлектризованная палочка притягивает обрывок бумаги. Дюжинами зазывал я к себе медиумов и, по крайней мере, трижды в неделю ночами напролет предавался спиритической практике в кругу друзей, которых успел заразить своей мономанией. Семь лет я неустанно совершал этот сизифов труд. Все напрасно: медиумы оказывались либо совершенно непригодными, либо выяснялось, что они сознательные или бессознательные шарлатаны. В общем, водить себя за нос я не позволял, а профессиональная ловкость рук меня не интересовала... Не прошло и двух лет, а меня уже терзали сомнения, которые становились все сильнее: что, если знаменитые исследователи, изучавшие эту темную область, попросту заблуждались? Нет, я не мог в это поверить. Да и лоцман не переставал нашептывать в глубоком сне, убеждая не прекращать поиски. Казалось, из ночи в ночь кто-то невидимый гнал меня, охаживая ударами беспощадного бича, вперед через очередную непролазную трясину, полную странных обманчивых огоньков. Я скупал все, что появлялось в литературе о медиумизме и сходных темах, — английские, американские, французские и немецкие книги. Одна фата-моргана за другой вставали на моем пути. Часто — ох как часто! — мне хотелось эту загадочную тягу к непостижимому силой вырвать из своего сердца, но всякий раз уже через несколько часов я понимал: слишком поздно. Это сознание приводило меня в ужас, но одновременно я чувствовал в глубине души... тайную радость... Моя кровь становилась все горячее, честолюбивые мысли жадно вгрызались в мозг, неистовая жажда жизни, какой я теперь и представить себе не могу, буквально сжигала меня, однако когда в чаду от бурно проведенной ночи (странно, но такие ночи были почти неизбежны после случавшихся накануне спиритических сеансов — видимо, в моих психических батареях настолько высоко поднималось какое-то черное, негативное напряжение, что его просто необходимо было как-то разрядить), я уже за полдень продирал глаза, хандра серых будней ни разу не коснулась меня — ни отвращение, ни скука, ни раскаянье: во сне таинственные кузнечные мехи преисподней до белого каления раздували во мне страстное влечение к расположенному по ту сторону Стикса миру. По свойственному юности легкомыслию мне казалось, что так будет продолжаться всю мою жизнь. Я и не подозревал, что когда-нибудь буду растерзан. Моя судьба пустилась галопом...»[40] В августе 1896 года Густав Майер знакомится со своей будущей (второй) женой Филоменой Бернт, в 1897 году он под именем Дагоберта становится членом ордена Иллюминатов и вступает в «Bruderschaft der Alten Riten vom Heiligen Graal im Groben Orient von Patmos» («Братство древних ритуалов священного Грааля Великого Востока на Патмосе»), о чем свидетельствует датированное тем же годом письмо от доктора Рихарда Хуммеля из Лейпцига, а в 1900 году его укладывает в постель первая вспышка болезни позвоночника... Рубеж двух столетий стал бурным и опасным экватором в жизни Густава Майера... «Я и не заметил, как мое существо перестало воспринимать серый цвет, теперь у меня в глазах либо сияла ослепительная белизна, либо темнело от кромешного мрака, — отныне предо мной было лишь две возможности: любить до самозабвения или смертельно ненавидеть... Кого-то я ненавидел, но не потому, что он мне причинил зло — часто я вдруг чувствовал исходящее от этого человека дружеское расположение, — другой был добр со мной, а я все равно его не любил: от некоторых типов людей у меня волосы вставали на голове дыбом, стоило мне только вспомнить о них; моя ненависть коренилась не в расовом инстинкте, прежде всего ее вызывала та самодовольная, здравомыслящая часть общества, которая так любит заявлять о своей хваленой уравновешенности прилизанными, начесанными на уши волосами, или холеной окладистой бородой, или же "честным, преданным" взглядом. Психоаналитик конечно же уточнит, что об этом-то человеческом типе и сказано в Писании: "Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих"[41], и что речь в моем случае, очевидно, идет о душевном комплексе, о каком-то стершемся в памяти переживании раннего детства. Кто знает, может, он и прав. Но меня такое объяснение не удовлетворяет. Думаю, все дело в тайном предостережении лоцмана, предупреждающем меня о каком-то несчастье, которое должно случиться в далеком будущем — быть может, даже в иной инкарнации. Наверное, дьявол, дабы я не запустил в него чернильницей, явится мне тогда в обличье пастора»[42]. Однако на сей раз находящийся на грани нервного срьюа навигатор ошибся, неверно истолковав намеки своего потустороннего лоцмана: дьявол явился ему в образе австрийского офицера... В феврале 1901 года Густав Майер вызвал на дуэль своего знакомого по клубу «Регата» офицера запаса Вильгельма Гангхофнера, публично оскорбившего Филомену Бернт. Однако Гангхофнер отказал ему в сатисфакции, сославшись на то, что считает ниже своего достоинства отвечать на вызов незаконнорожденного сына какой-то актерки. Взбешенный Густав на этом не успокоился и подал в штаб корпуса рапорт на оскорбившего его офицера и двух секундантов — капитана Будинера и обер-лейтенанта Хеллера. Те в долгу не остались и в свою очередь прислали письменную жалобу, обвиняя Майера в оскорблении чести императорского мундира. Участковый суд приговорил тяжело больного банкира, покусившегося на святая святых доблестного защитника отечества, к четырнадцати суткам ареста, который был заменен денежным штрафом в тысячу крон. Летом все еще не оправившийся от болезни Густав едет в Дрезден. Там, в санатории, писатель Оскар Шмитц, приятель и позднее зять Альфреда Кубина, убеждает его попробовать записать те чудесные гротескные истории, которые он умел так великолепно рассказывать. «Если в первой его рукописи, — вспоминал Шмитц, — встречались кое-какие стилистические шероховатости, которые я ему объяснил, то во второй править было уже почти нечего, третью мой редакторский карандаш оставил нетронутой. Все три мы послали в "Симплициссимус". Вскоре пришел ответ: редакция интересовалась, нет ли еще таких же рассказов»[43]. Историю с первой публикацией Майринка — Густав подписал рукопись слегка измененным (с редуцированным гласным) именем своих предков по материнской линии — впоследствии рассказал Александр Рода Рода[44] со слов издателя журнала Альберта Лангена: «Она (рукопись) лежала на редакционном столе вместе с двумя подобными ей и должна была за ненадобностью отправиться назад к своему автору. И тут к столу подсел Людвиг Тома[45] и от нечего делать пролистал отвергнутые рассказы: один принадлежал лейтенанту Рода из Вири, другой — Полю Бюссону, гусарскому офицеру из Галиции, а третий — Густаву Майринку, банкиру из Праги. Прочтя рукописи, Тома треснул кулаком по столу: "У этих мерзавцев-редакторов здравого смысла в башке ни на грош!" — и с этого дня в течение десяти лет ни один "Симплициссимус" не выходил без Бюссона, Майринка и А. Рода Рода»[46]. 29 октября 1901 года— именно этой датой помечен тот номер «Симплициссимуса», на страницах которого был напечатан рассказ «Горячий солдат», — можно считать днем рождения писателя Густава Майринка. Однако враги не дремали, они только и ждали подходящего случая, чтобы уничтожить высокомерного сноба, пускавшего пыль в глаза своими оккультными кунштюками, а теперь еще и взявшегося за перо. 18 января 1902 года, за день до своего 34-летия, Майринк был арестован по обвинению в мошенничестве. На следующий день пражская газета «Богемия» напечатала буквально следующее: «Он даже спиритизм умудрился поставить себе на службу и с его помощью проворачивал свои темные делишки. Именно то обстоятельство, что Густав Майер устраивал спиритические сеансы, и объясняет, почему среди его комитентов было так много высокопоставленных дам». В предварительном заключении Майринк находился три месяца, за это время было допрошено свыше трехсот свидетелей, служебные помещения банка «Майер и Моргенштерн» подверглись доскональнейшему досмотру, перевернули все вверх дном, перлюстрировали счета, коммерческие документы, деловую переписку, искали хоть какую-нибудь зацепку, однако не удалось обнаружить ничего противозаконного — ни малейшей неточности, образцовый порядок. Скверную роль во всей этой истории сыграл полицейский советник Олич, продажную и лицемерную натуру которого Майринк увековечил под именем судейского Очина в романе «Голем». Интересно, что Олич умер за четыре дня до смерти писателя, и даже эта, казалось бы, малозначительная деталь не осталась незамеченной: в одной берлинской газете появилась заметка «Своего врага он увлек за собою в могилу»[47]. Не были забыты и остальные: Гангхофнер несомненно узнал себя в Вилли Обер-кнайфере с его «ископаемым коагулятом честного офицерского слова («Коагулят»), Будинер — в ГуставеБординере («Овцеглобин»), Хеллер — в обер-лейтенанте Шисье («Штурм Сараево»), а пражское общество предстало во всей своей красе в рассказе «Г. М.». Судя по всему, Майринк полностью разделял мнение Карла Крауса, заметившего в 1911 году: «Ненависть должна быть продуктивной. В противном случае любовь предпочтительней». Впрочем, когда 10 апреля 1902 года Майринк вышел из заключения, ему было не до шуток. Лучше всего тогдашнее его настроение отражает рассказ «Страданья огонь — удел всей твари», появившийся в летнем номере «Симплициссимуса». Писателя мучили сильные боли в позвоночнике, особенно жестокие приступы начались в тюрьме, к ним прибавился еще и сахарный диабет, который преследовал его до самой смерти. Официальная медицина бессильно разводила руками, и лишь упорная практика традиционной йоги вывела Майринка из кризисного состояния. После случившейся катастрофы Майринк пытался реабилитировать себя, однако стараниями недругов, а их у ироничного, острого на язык банкира было предостаточно, имя его в деловых кругах было скомпрометировано окончательно. Прошло несколько месяцев, прежде чем опальный финансист наконец понял, что пути назад нет, и тогда, вняв гласу судьбы, очертя голову бросился в литературу... Весной 1903 года в мюнхенском издательстве Альберта Лангена вышла его первая книга: «Горячий солдат и другие истории». Итак, судя по тому, как круто менялась его жизнь, Майринк и в самом деле «воззвал к Богу», точнее к своему Я, которое он предпочитал называть «лоцманом»: «Если же вы действительно хотите пришпорить судьбу, чтобы она пустилась вскачь, — а это, скажу я вам, поступок, истинный акт, другого такого для человека не предусмотрено, вот только решится на него далеко не всякий, ибо это еще и жертва, и хочу вас сразу предостеречь, милая фрейлейн, тяжелее жертвы сей нет ничего на свете! — то вам следует призвать свое Я — без этого сокровенного ядра вы были бы, извиняюсь, трупом (впрочем, не были бы даже им) — и повелеть вести вас кратчайшим путем к великой цели, единственной, хотя вы это сейчас и не понимаете, ради которой никакая мука не покажется слишком страшной, — и вести сурово, властно, беспощадно, без остановок и привалов, через страдания и болезни, сон и смерть, через почести и награды, богатство и увеселения, всегда сквозь, всегда мимо, подобно безумной, скачущей во весь опор лошади, уносящей своего изнемогающего всадника меж камней и терний, меж веселых цветущих лужаек и уютных тенистых рощ, в неведомую даль, туда, где сходятся земля и небо! Вот что я называю "воззвать к Богу"»[48]. Весной 1903 года писатель прощается со своей любимой Прагой, которой отныне суждено просвечивать сквозь все городские панорамы его романов. «Другие города, какими бы древними они ни были, кажутся мне невольниками тех, кто в них обитает; они как будто дезинфицированы какой-то сильной, стерилизующей все живое кислотой — Прага же управляет своими жителями как марионетками: дергает их за ниточки с первого до последнего вздоха...»[49] В мае Майринк покидает «город с неуловимым пульсом», воистину ставший порогом, с которого началось его странствование по «великому белому тракту», и переезжает в Вену... В австрийской столице Майринк прожил почти два года. Сразу по приезде в издательстве Альберта Лангена появляется второй сборник его рассказов: «Орхидеи. Странные истории». Чуть позже основатели журнала «Милый Августин» предлагают ему редакторское место, и с третьего номера этот печатный орган выходит под его редакцией. К сотрудничеству в журнале Майринк сумел привлечь великолепную команду, в состав которой входили: Эрих Мюзам, Александр Рода Рода, Оскар Винер, Пауль Леппин, Оскар Шмитц, Макс Брод, Рихард Шаукаль, Хайнрих Цилле — тогда еще никому не известный художник, юный Альфред Ку-бин, Рихард Тешнер, Гуго Штайнер и Жюль Паскин. Благодаря Майрин-ку за недолгий срок существования журнала (было опубликовано 25 номеров) в «Милом Августине» вышли в свет произведения Стриндберга, Арно Хольца, поэзия Эмиля Верхарна в переводах Стефана Цвейга, а также публикации Мориса Метерлинка, Эдгара По, Данте Габриеля Россетти и т.д. «Что ни номер, то новая разнузданная оргия, коей предается экстравагантное, сверхмодернистское направление в литературе и живописи», — заходясь от злости, писали о «Милом Августине» консервативные литературные обозреватели. Майринк подолгу засиживался в кафе «Империал» со своим новым другом, историком Фридрихом Экштайном, одним из самых интересных и эрудированных людей Вены, о котором говорили: «Если Брокгауз чего-нибудь не знает, он справляется у Экштайна». Это его именем назвал писатель старого, необычайно начитанного розенкрейцера в своем рассказе «Капли истины». К «круглому столу» «Империала» принадлежали также: поэт Петер Альтенберг, Карл Краус, Пауль Бюссон, Людвиг Тома, Эгон Фридель и «утонченный, язвительно остроумный насмешник» доктор Пауль Шульц, вице-президент верховной счетной палаты и воспитатель эрцгерцога Карла— последнего австрийского императора... В 1904 году Майринк, потешаясь над оставленными в Праге блюстителями чистоты австрийского мундира, пишет свой литературный автопортрет, язык которого был искусно стилизован под неуклюжий, казенный канцелярит полицейских актов. Густав Майринк. Разглашению не подлежит. Для служебного пользования полицейских чинов. Касаемо поступившего по месту запроса относительно некоего Густава Майринка (профессия: литератор, место проживания: Мюнхен, рост: 173 см, возраст: 36 лет, зубы: здоровые, отношение к военной службе: невоеннообязанный, особые приметы: не имеется), принятого к исполнению за нумером М36-4а, извещаем нижеследующее: сведения относительно вышеозначенного лица основываются главным образом на многолетних показаниях неусыпно стоящего на страже закона господина полицейского советника Венцеля Майнайдковича[50] из Троттельгрюна[51], провинция Ктшпфль, Германо-Азия. Далее спешим предуведомить, что по делу оного так называемого литератора (вышепоименованного Густава Майринка) наш департамент в настоящее время располагает двумя официальными свидетельскими показаниями, заверенными одной и той же датой и проходящими по ведомству полиции нравов Троттельгрюна, провинция Ктшпфль, Германо-Азия: одно неопровержимо обличает сего Майринка, в течение ряда лет находящегося под неослабным надзором со стороны известного органа, неустанно пекущегося о духовном здоровье нации, как весьма злостного и неблагонадежного в нравственном отношении субъекта, другое достоверно свидетельствует в пользу означенного Майринка, каковой на протяжении ряда лет зарекомендовал себя как персона во всех отношениях положительная и добропорядочная, никоим образом не дававшая ни малейшего повода к каким-либо сомнениям в своей благопристойности. Первое из упомянутых свидетельских показаний в свое время было принято к рассмотрению и использовано смешанной коллегией военного суда чести на предмет безоговорочного отклонения вызова на дуэль (сей Майринк, как выяснилось, пользуется дурной славой завзятого спортсмена и отменного стрелка из пистолета), дабы не пролилась невинная кровь некоего публично оскорбленного офицера, скомпрометированного уничижительнькуш и поносными действиями оного бретера, как персонально, так равномерно но линии чина и чести офицерского мундира, свидетельство сие, буде в том откроется надобность, может бьпъ признано годным для дальнейшего применения; второе свидетельство, противуречащее первому, и его многочисленные копии, к великому прискорбию нашему, находится в руках вышеупомянутого Майринка, каковой, как сие явствует из протокола официального обыска, учиненного в целях незамедлительного изъятия опасной бумаги силами местной (город Троттельгрюн, провинция Ктшпфль) полиции, депонировал документ в какой-то заграничный банк, явно основывая на нем свои коварные, далеко идущие планы. Таковая предусмотрительность есть свидетельство чрезвычайной хитрости, злонамеренности и агрессивности сего Майринка, оную оценку самым существенным образом подтверждает то обстоятельство, что еще 4 года назад имярек в судебной тяжбе, затеянной против него в Троттельгрюне, провинция Ктшпфль, когда городские власти, дабы укрепить позицию обвинения, настоятельно повелеть изволили не принимать во внимание некоторых параграфов общественного законоуложения, сумел, несмотря на показания опытных и проверенных свидетелей, не только защититься так, что высокой государственной прокуратуре даже не удалось выдвинуть супротив него пункта обвинения, но и полностью восстановить свою сильно подмоченную репутацию. Согласно докладным запискам, поступившим из Троттельгрюна, провинция Ктшпфль, все попытки сломить сопротивление тяжело, с опасностью для жизни, больного подследственного заключенного Майринка посредством отказа оному в необходимой медицинской помощи и помещении оного в общую камеру с отбывающими тюремный срок осужденными самым прискорбным образом разбились об упоминавшуюся ранее порочную неуступчивость сей злокачественной персоны. В соответствии со строго конфиденциальными показаниями полицейского советника Венцеля Майнайдковича означенный Майринк посещал учебные заведения Мюнхена, Гамбурга и Праги, владеет многими языками, в числе коих значится арго преступных элементов и жаргон бродячих актеров, сей субъект подвизался на торговом поприще, основал банкирский дом, сменил христианство на басурманское вероисповедание (брахманизм) и, судя по многим, большей частью не поддающимся расшифровке санскритским рукописям, обнаруженным в архиве оного, является членом различных азиатских орденов, был даже обнаружен выписанный на его имя тибетский паспорт, открывающий подателю сего документа свободный доступ в Шамбалу и Шигацзе (Тибет-Азия). В настоящее время оный Майринк называет себя литератором, является сотрудником великого множества бульварных листков (таких как «Симплициссимус»), издатель Альберт Ланген опубликовал в Мюнхене два тома его рассказов крайне предосудительного содержания. Слухи о готовящихся к печати публикациях, в коих означенный Майринк собирается придать огласке упоминавшееся выше судебное дело, проверяются, дабы своевременно, буде окажутся не беспочвенными, пресечь в служебном порядке. Подпись неразборчива[52]. Жизнь по-прежнему не баловала писателя: сложное материальное положение, скверные отношения с нелюбимой женой, болезни, повышенная раздражительность... Раздираемый противоречиями — весь мир и он сам раскололся для него на две части, между которыми зияла непреодолимая пропасть, — Майринк чувствовал приближение катастрофы. «Это саморазделение на белое и черное усиливалось во мне с каждым десятилетием; довольно любопытно, ибо с возрастом обычно происходит как раз обратное: смешение контрастов в ту самую банальную серость, кою уста пиита восславили как "златую середину". Итак — мне уже приходилось об этом говорить, — я долго не подозревал, что в конце концов буду растерзан, и, словно зачарованный, наблюдал, все больше преисполняясь страхом, как мой корабль затягивает в коварный водоворот, вырваться из которого вскоре было уже невозможно...»[53] Летом 1904 года следует особенно острый приступ болезни позвоночника. Врачи в один голос признают Майринка неизлечимым, обреченным на полную неподвижность, однако недоверчивому пациенту удается к концу года почти полностью восстановить подорванное здоровье с помощью упорной, каждодневной практики традиционной йоги, которая занимает все больше места в его жизни. Первое февраля 1905 года упорные, но безрезультатные попытки Майринка расторгнуть свой давно ставший невьшосимым брачный союз с Алоизией Цертль — уже одно имя этой женщины стало для него ненавистным, недаром впоследствии он назвал этим именем одну из самых малосимпатичных своих героинь (мать Офелии в «Белом доминиканце») — увенчались наконец успехом, кстати, не без помощи известного целителя Зайлея (Zeilei), сумевшего убедить упрямую супругу дать свое согласие на развод. Итак, случилось то, чего так долго ждали Майринк и Филомена Бернт. Весной они отправляются в свадебное путешествие по Англии и 8 мая 1905 года в Дувре становятся мужем и женой. Вернувшись из Англии, супруги больше года жили в Швейцарии, в Монтрё, где 16 июля 1906 года родилась их дочь Сибилла Фелицита и где писателя застало известие о смерти матери... Жизнь этого удивительного человека была полна поистине странных совпадений! В конце года Майринк с супругой и четырехмесячной дочерью переезжает в Баварию, в город своего детства... На рубеже двух столетий Мюнхен был литературной столицей Германии. Здесь с декабря 1895 года выходил иллюстрированный журнал «Югенд» («Юность»), давший название целому литературно-художественному направлению «Югендстиль» — впрочем, в Австрии этот же стиль предпочитали именовать «Сецессион», — тут же располагалась редакция «Симплициссимуса», и с января 1907 года Альберт Ланген начал издавать литературный ежемесячник «Мэрц» («Март»). С первого номера в новом журнале стали появляться произведения Майринка, в основном это были литературные пародии и сатирические путевые зарисовки: в январе — «Монтрё. Пессимистические путевые заметки», в апреле — «Прага. Оптимистически выдержанная панорама города в четырех картинах», которая, по словам Эгона Эрвина Киша, вызвала у «немецкого бюргерства Праги вопль негодования». Вообще, мюнхенские предвоенные годы стали самым продуктивным периодом в жизни новоиспеченного баварца (в начале 1907 года Майринк получил баварское подданство). К этому же году относятся первые черновые наброски романа «Голем», а в 1908-м в издательстве Альберта Лангена выходит его третий сборник рассказов «Кабинет восковых фигур». Постоянная нехватка средств вынуждает Майринка взяться за переводы: для начала он переводит «Загадки духовной жизни» Камиля Фламмари-она, а с 1909 года приступает к работе над собранием сочинений Чарлза Диккенса— поразительно, но за пять лет (до 1914 года) он «перепер» на немецкий 15 томов этого многословного англичанина! С текстом оригинала он обращался весьма вольно и, сокращая длинноты, пытался, насколько это было возможно, «вытянуть» вяло текущее повествование, то и дело увязавшее в нудном морализаторском дидактизме, за что дотошная критика, а случалось, и читатели, непременно желавшие, чтобы «все было, как у Диккенса», не раз пеняли ему. В ответ на одно из таких обвинений Майринк писал Альберту Лангену: «Можно, конечно, представить себе автора, Канта например, переводить которого необходимо слово в слово, ничего не сокращая, но в отношении Диккенса такой подход просто неуместен. В конце концов наше издание преследует цели прежде всего художественные, а не филологические, кроме того, тексты различных английских изданий этого автора подчас весьма существенно отличаются друг от друга. Как известно, романы Чарлза Диккенса печатались в журналах с продолжением, а потому, вполне естественно, изобиловали ненужными длиннотами, которые автор впоследствии сам безжалостно вычеркивал. Тогдашняя критика весьма жестко упрекала его за неряшество стиля. К тому же я вынужден самым решительным образом отвести от себя обвинения в том, что вымарывал из "Записок Пиквикского клуба" целые главы. То, что я счел нужным вычеркнуть, кажется мне совершенно излишним и только мешающим естественному развитию сюжета... Вот и Герман Гессе в своей напечатанной в "Мэрце" критической заметке пишет: "Романы Диккенса в оригинале вряд ли можно отнести к произведениям искусства — слишком уж неряшливо они написаны"...»[54] Семнадцатого января 1908 года, за два дня до своего 40-летия, Май-ринк получает в подарок наследника Харро Фортуната. Надо сказать, второй его брак был на редкость удачен, и если писатель время от времени и покидал баварскую столицу, то лишь ненадолго: в 1908 году он отдыхает в Италии, на берегу озера Гарда, посещает Швейцарию, Австрию, наведывается в Прагу... Видимо, именно в эти годы судьба сводит его с Чиро Формизано, известным под именем Джулиано Креммерца, эзотерическая школа или «цепь» которого, существовавшая в Италии в конце XIX — начале XX века, называлась «Мириам». Учение Креммерца основывалось главным образом на тантра-йоге с привлечением различных аспектов европейского герметизма, гнозиса и каббалы. Специальная техника, разработанная Креммерцом на основе традиционных тантрических приемов, позволяла пробудить в ученике «Руг», магический огонь. «Пробуждение этого упоминающегося в ведийских текстах "мистического жара" занимает значительное место в тантрической технике. Активизируют его последовательной трансформацией сексуальной энергии, что является весьма темной йогической практикой, основывающейся на pranayama[55] и концентрации на различных визуальных объектах. Этот "психический жар" в Тибете называется gtummo (произносится tumo)»[56]. «Мириам» итальянского эзотерика, по сути, являлась одной из манифестаций Шакти (в Тибете — богиня Доржи Налджорма[57]). «Химическая свадьба» с этой женской ипостасью божественного начала знаменовала собой триумфальное завершение opus transformationis и рождение Андрогина, коронованного практически неограниченной властью пиромагии. Во всяком случае, опытные респа (преуспевшие в практике тумо аскеты) обладали такой мощной «огненной потенцией», что зимой, в нечеловеческих условиях гималайского высокогорья, на пронизывающем ветру, сидя прямо на снегу, высушивали на своем совершенно обнаженном теле до десятка мокрых простынь[58]. Вряд ли контакт с Кремерцом так уж сильно повлиял на Майринка — собственно, ничего пршщипиально нового для него в доктрине итальянца не было. Думается, в данном случае можно говорить скорее о чисто эмоциональном, психологическом инициировании, и тем не менее симптоматично, что героине своего первого романа «Голем» писатель дает имя Мириам, да и финальные сцены этого и последующих его романов, как правило, окрашены пурпурным цветом огненной стихии. Несмотря на то, что к тому времени Майринка трудно было удивить какими-либо паранормальными феноменами, да и интерес его к сфере «сверхъестественного» в значительной степени поостыл, он все же внимательно следил за последними открытиями в области так называемой «парапсихологии». Альберт Талхоф в предисловии к цюрихскому изданию «Голема» (1946) рассказывает, как писатель, присутствуя на сеансе Альберта фон Шренк-Нотцинга, подошел к его медиуму Еве Ц., «когда та находилась в глубоком трансе, выделяя белую пенистую телеплазму, и наполнил до краев принесенную с собой серебряную баночку этим "призрачным", вяжущим элементом, чтобы впоследствии исследовать его состав». Кстати, медиумические эксперименты доктора Шренка-Нотцинга вселили известное сомнение в незыблемость фундаментальных физических законов даже такому неисправимому «гуманисту», как Томас Манн, оставившему весьма любопытные заметки о своих «оккультных впечатлениях» на сеансе этого известного исследователя паранормальных феноменов[59]. В эти годы Майринк частенько захаживал в кафе «Стефани», шахматная комната которого стала его приемной, здесь он обычно встречался со своим давним приятелем Рода Рода и Эрихом Мюзамом. Другая компания встречала его в кафе «Луитпольд»: Франк Ведекинд, Курт Мартене, Генрих Манн, Иоахим Фризенталь; заглядывал сюда и Рода Рода, с которым Майринк с 1910 по 1912 год написал четыре театральных комедии («Мальчуган», «Рабыня с Родоса», «Санитарный советник» и «Часы»). Пьески особого успеха не имели, да и сам Майринк никогда не пылал страстной любовью к театральным подмосткам, — мать таки сумела привить ему стойкое отвращение к своей профессии! — впрочем, отношение его к лицедейству было, пожалуй, несколько двойственным, если вспомнить две такие непохожие друг на друга фигуры, как актер Зрцадло («Вальпургиева ночь») и «обер-режиссер» Парис («Белый доминиканец»). «Я настолько сыт всем, что связано с театром, что вижу для себя лишь один-единственный выход: прочь», — написал он в одном из писем к Рода Рода. На этом с драматургией было покончено. Другое дело театр марионеток, всегда вызывавший в нем самый живой интерес. Подтверждением тому датированное 1913 годом письмо к Рихарду Тешнеру — куклы этого жившего в Вене мастера, послужившего прообразом художника Фрисляндера в «Големе», приводили Майринка в неподдельный восторг. Он даже хотел организовать странствующий театр марионеток, однако финансовая сторона дела не позволила осуществить сей многообещающий проект. В 1911 году Майринк с семьей переезжает в маленький городок Штарнберг на Штарнбергском озере, что в 20-ти километрах южнее Мюнхена, и это свое последнее пристанище он уже не покидает до самой смерти. В 1913 году писатель объединяет свои вышедшие ранее сборники — «Горячий солдат», «Орхидеи», «Кабинет восковых фигур» — и, добавив к ним несколько новых рассказов, издает книгу под названием «Волшебный рог бюргера». «Пусть с точки зрения интеллекта и высокой духовности, — писал известный теоретик немецкого экспрессионизма Курт Пинтус в своем послесловии к этим рассказам (1917), — поздние романы Майринка являются более значительными, открывающими такие бездны, от которых дух захватывает, но эти новеллы, порожденные болью пережитого, беспощадной иронией и страстными поисками какой-то сверхреальности, безусловно относятся к самым ценным, необычайно концентрированным, с изумительной изощренностью и филигранной тщательностью исполненным творениям писателя. Фантазия, которая очертя голову бросается в бездонную пучину кошмара, логика, чьи головокружительные виражи так и вспыхивают оригинальнейшими находками и запредельными ассоциациями, ирония, метко разящая прямо в цель и безжалостно разоблачающая свою жертву, с какой-то виртуозной легкостью и дразнящей небрежностью справляются с чудовищно сложным, способным раздавить любого мастера материалом». Как из рога изобилия комедии дель арте обрушиваются на читателя странные гротескные персонажи: нелепые искатели Философского камня, сумасшедшие охотники за таинственными кладами, коварные брамины, выжившие из ума профессора медицины, тупые, самодовольные офицеры, зловещие гении зла, безумные пророки, адепты сатанинских сект, завороженные лунным светом сомнамбулы, фанатичные астрономы, отвратительные монстры, угрюмые медиумы, несчастные влюбленные и счастливые злодеи, марионетки, похожие на людей, и люди, не отличимые от марионеток, страшные ведьмы и потешные маги, члены тайных организаций и агенты явных мистификаций, одушевленные предметы и их душевномертвые владельцы, призраки и маски, львы и верблюды, слоны и... — словом, скуррильное действо, Его Величество Карнавал, фантазии в манере Босха и Макса Эрнста, Арчимбольдо и Бердслея, Понтормо и Миро, ну и, разумеется, Калло... Пожалуй, именно так — «рог изобилия» — следовало бы перевести слово «Wunderhorn», присутствующее в названии сборника «Des deutschen Spielers Wunderhorn» («Волшебный рог бюргера»): значительно расширяется ассоциативное поле восприятия, ибо «рог изобилия» является фольклорным парафразом Святого Грааля, символизируя собой один из важнейших аспектов этой реликвии — неисчерпаемость сокровенной Чаши, вот только русский читатель в таком случае не уловил бы пародийный намек на известное собрание народных песен «Des Knaben Wunderhorn» А. фон Арнима и Кл. Брента-но, традиционно звучащее в переводе как «Волшебный рог мальчика». Однако мальчик подрос, возмужал и превратился в добропорядочного бюргера, так что стоит ли удивляться, что, случайно столкнувшись с этой пестрой, абсурдной карнавальной дьяблерией, время от времени прерываемой темными, малопонятными метафизическими намеками, он впадал в оторопь, не зная, что и думать. Единственное, что более или менее примиряло его с жутковатой фантасмагорией, — это общая «занимательность» сюжета, чисто внешняя, «приключенческая» сторона «Волшебного рога». «Главное, что отличает Майринка от почти всех его предшественников, — писал Курт Пинтус, имея в виду под "предшественниками" Э.-А. По и Э.-Т.-А. Гофмана, — это, во-первых, страстная преданность мистико-оккультным учениям и, во-вторых, не знающая удержу ирония, которая брызжет фонтаном из-под его пера. Полные предрассудков болваны, задетые за живое этой агрессивной сатирой, пытались заклеймить Майринка как растлителя нравов и богохульника, и даже самые преданные его почитатели недоуменно пожимали плечами: этот иронично гротескный финал, столь резко диссонирующий с общим настроением рассказа, — почему писатель сам с каким-то непонятным упорством раз за разом обрывает с таким искусством и тщанием созданные хитросплетения сюжета и интригующие ситуации этим режущим слух смехом? Почему мистик ведет себя как шут?.. Почему даже искатель истины оказывается повергнутым в бушующую пучину смеха?..» «Высшая мудрость кутается в шутовские одежды! — ответит Майринк через четыре года в романе "Вальпургиева ночь". — Почему? Да потому что все, понятое и признанное однажды как одежда и только как "одежда" — в том числе и тело, — поневоле может быть только шутовским домино. Для каждого, назвавшего истинное Я своим, собственное тело, а также тела других — шутовское домино, не более»[60]. Ну как тут не вспомнить великого мэтра Веселой Науки Франсуа Рабле, который на смертном одре велел переодеть себя в домино, ссылаясь на слова из Апокалипсиса: «Beati qui in Domino moriuntur» («Блаженны умершие в Господе»[61])... Майринк великолепно понимал, что смех, ирония — это универсальный растворитель, «философский Меркурий», традиционно изображавшийся в обличье шута и жонглера, который своим божественным ядом мгновенно растворяет любые, самые высоконравственные проповеди унылой добродетели и обращает в ничто кропотливую возню безнадежно серьезных позитивистов. Говоря о природе художественного творчества Майринка, следует отметить, что первый толчок к написанию той или иной новеллы он, как правило, получал из своих видений, посещавших его во время длительных медитаций. Так что Карл Густав Юнг был абсолютно прав, когда причислил Майринка к числу «художников-провидцев»[62]. И чтобы проиллюстрировать эту мысль, приведем рассказ писателя об одном примечательном видении, случившемся с ним через год после начала Первой мировой войны... «В высшей степени странное видение посетило меня осенью 1915 года. С ним связан один случай, который, если только это не какое-нибудь чудесное, совершенно невероятное стечение обстоятельств, дает возможность для прямо-таки головокружительных выводов... Я тогда ломал себе голову, пытаясь проникнуть в скрытую подоплеку охватившей земной шар войны, и вдруг — словно легкое освежающее дуновение... Этот неуловимый, невесть откуда берущийся прохладный сквознячок всегда предупреждает меня, что я в состоянии сверхбодрствования. Итак, мне предстояло пережить нечто экстраординарное... В тот же миг я увидел человека неведомой мне расы. Он был очень высок и узок в плечах. В новелле "Действо сверчков", которая через пару недель появилась на страницах "Симплициссимуса" и впоследствии вошла в мой сборник "Летучие мыши", я описал его следующим образом: "...передо мной стоял человек добрых шести футов роста, очень худой, безбородый, лицо его отливало оливковой зеленью — такого цвета кожи мне еще видеть не доводилось, — раскосые, неестественно широко поставленные глаза и губы... Губы выделялись даже на этом начисто лишенном морщин, словно фарфоровом, лике: гладкие, без единой трещинки, они были такого кроваво-алого цвета, так бритвенно тонки и изогнуты — особенно уголки, вздернутые какой-то нечеловечески жестокой, ледяной усмешкой, — что казались нарисованными... Увенчанный высоким, напоминающим тиару, ярко-красным головным убором, дугпа оставался недвижим..." На мой безглагольный, прозвучавший в глубине души вопрос об истинных, сокровенных причинах бушующей мировой войны призрак своими дальнейшими действиями, подробно описанными мною в рассказе, дал символический и вполне исчерпывающий ответ. Азиатские оккультисты полагают, что существует некая тибетско-китайская секта — члены ее именуются дугпа, — в которой следует видеть прямое орудие рассеянных во вселенной темных, "дьявольских" сил... Я сел за стол и написал новеллу "Действо сверчков", в которой намекнул на "оккультные" корни этой войны. Необходимые детали я позаимствовал из видений, окутавших меня призрачной пеленой сразу после исчезновения дугпы. Что же касается сюжетной канвы, то это плод моей фантазии... Новелла, как я уже говорил, была напечатана в "Симплициссимусе", а через несколько недель на мой адрес пришло письмо от неизвестного мне художника из Бреслау — помнится, его звали Хёкер. Господин Хёкер писал: "Сразу хочу предупредить, что я здоров как бык и никогда не страдал галлюцинациями или чем бы то ни было еще в этом роде. Вчера я сидел у себя в ателье и работал, как вдруг послышался странный металлический стрекот. Я обернулся и увидел какого-то очень высокого человека в чудном красном колпаке. Не берусь судить о его национальности, людей с такими чертами лица мне видеть не приходилось, однако я тотчас понял, что с моей головой что-то не то... В руке человек держал нечто вроде камертона, меж ножек которого вибрировал маленький стальной язычок, он-то и издавал этот неприятный зудящий звук. И сразу из всех щелей поползли несметные полчища крупных белых насекомых, которые своими жесткими, с невероятной быстротой снующими вверх и вниз крылышками принялись рассекать друг друга на части, при этом стрекочущий звук, усиленный мириадами смертоносных трепещущих крыл, нарастал с каждой секундой, переходя в невыносимый душераздирающий вой. До сих пор у меня в ушах стоит этот жуткий инфернальный стрекот, от которого мои нервы ноют так, будто кто-то царапает ногтями по стеклу. Как только галлюцинация пропала, я схватил сангину и зарисовал увиденный кошмар. Потом поспешил на свежий воздух и, проходя мимо газетного киоска, сам не знаю почему спросил "Симплициссимус" (в общем-то мне не нравится этот журнал и я никогда его не покупаю). Когда продавщица протянула мне свежий номер, я, все еще немного не в себе, с какой-то непонятной уверенностью сказал: "Нет, не этот, предыдущий, пожалуйста!" Придя домой, я открыл журнал и, к своему беспредельному изумлению, прочел в Вашем рассказе "Действо сверчков" почти полное описание того, что всего лишь час назад пришлось пережить мне самому: человек в красном колпаке, насекомые, раздирающие друг друга на части, и т. д. Пожалуйста, объясните мне, как следует относиться к этому странному происшествию. Хёкер". Я еще раз перечитал письмо и, отложив его, сказал себе в раздражении: ну вот еще один, желающий быть интересным! Разумеется, этот Хёкер прочел номер "Симплициссимуса" и теперь пытается меня убедить, что в некоем чудесном провиденциальном озарении ему явилась великая бойня белых сверчков, описанная в моей новелле. И все же, чтобы убедиться окончательно, я взял "Симплициссимус" и сравнил... Волосы шевельнулись у меня на голове, когда я прочел: "...дугпа, манипулируя какой-то стеклянной призмой (итак, никакого камертона!!!), сориентировал ее так, что преломленный солнечный луч упал точно в центр Европейского континента..." Нервно потирая лоб, я в полном недоумении воскликнул: "Да ведь я же сам, своими собственными глазами, видел, что в руках у дугпы был камертон, в точности такой, каким его описывает в своем письме Хёкер!" Откуда же, черт побери, в моем рассказе взялась эта "стеклянная призма"? И тут же вспомнил, что долго шлифовал первый вариант рассказа и, прежде чем отправить его в редакцию, переписал набело по своей давнишней привычке. Видимо, в последний момент, во время переписки, я по каким-то таинственным, уже неведомым для меня соображениям заменил камертон на призму. В возбуждении я долго рылся в ящиках письменного стола, пока не нашел наконец черновик новеллы. Все правильно: в рукописи фигурировал камертон! (Никто кроме меня и в глаза не видел этого черновика, да его бы никто и не смог расшифровать, ибо, делая набросок, я сокращаю слова одному мне понятным образом!..) Теперь уже не могло быть ни малейших сомнений в том, что этого Хёкера через несколько недель после меня посетило то же самое видение, если только тут не замешана какая-то невероятная, граничащая с чудом случайность. Впрочем, подобное объяснение было бы, право, самой вымученной и уродливой судорогой пресловутого здравого смысла, какую только можно себе вообразить!.. Так как же объяснить случившееся? Долго блуждал я в потемках. Телепатия? Исходящий от меня телепатический сигнал? Допустим, но ведь прошло несколько недель! Ерунда!.. Разумеется, некоторые оккультисты скажут, что я, сочиняя новеллу, запечатлел некий "мыслеобраз" в "акаша-хрониках"[63] — в сознании вселенной, — открьшшийся внезапно духовным очам господина Хёкера. Но, увы, сие мудреное толкование грешит большими пробелами. Например, оно не объясняет, почему господин Хёкер почти против воли купил нужный номер "Симплициссимуса". Впрочем, для господ спиритов и это не вопрос: инспирация потусторонних духов, ничего особенного...»[64] В годы Первой мировой войны Майринк по-прежнему встречался со своими друзьями в кафе «Луитпольд». «Последние известия с театра военных действий в нашем углу обсуждались вполголоса, так как мы анализировали их с куда более возвышенной точки зрения, чем это делали за "громкими" столиками. При этом Майринк, как правило, придавал нашим вполне реалистическим рассуждениям какой-то мистический акцент. Мне он однажды сказал, что со мной на войне не может случиться ничего плохого, ибо я один из тех немногих, кто не хотел этой бойни, никогда не одобрял ее и с самого начала выступал против. Этому обстоятельству, по его словам, я и обязан своим высоким иммунитетом к опасностям войны. А вот с революцией мне следовало держать ухо востро, поскольку она занимала все мои мысли и могла выкинуть со мной какую-нибудь злую шутку, впрочем, могла и осчастливить»[65], — вспоминал о тех днях Эрих Мюзам. Никто, даже близкие Майринку люди, не знал, когда он шутит, а когда говорит всерьез, но все чувствовали странный, притягавающий к себе флюид, который от него исходил. Макс Брод писал: «Было в нем что-то такое, что заставляло либо относиться к его словам с полным доверием, либо попросту забыть о нем, исключив его из круга своих знакомых»[66]. Даже основатель антропософии Рудольф Штайнер, учение которого Майринк подверг беспощадной критике[67], признавал: «Итак, у Вас есть теперь такой писатель, произведения которого будут иметь самый широкий резонанс... он действительно может оказаться интересным людям, ибо пред ним открыто необычайно много врат, ведущих в мир духа, стало быть, и сквозит чрез него многое...»[68] В 1915 году в лейпцигском издательстве Курта Вольфа выходит отдельным изданием «Голем», печатавшийся в 1913 — 1914 годах в «Вайсен Блэттер» («Чистые листы»), и к Майринку приходит слава... Роман перевели почти на все европейские языки, книга выдерживала небывалые, поистине фантастические тиражи даже по масштабам довоенного времени, была дважды экранизирована — во Франции и в Германии. Филологи отмечали язык, которым был написан этот удивительный роман. Майринк вообще считался непревзойденным мастером разговорной речи, произведения его пестрят диалектизмами, всевозможными разновидностями городского арго, вульгаризованной и безэквивалентной лексикой... Очень точно подметили авторы послесловия к вышедшей в 1978 году подборке рассказов австрийского писателя, что к Майринку можно с полным правом отнести сказанное Куртом Тухольски о его друге Рода Рода: «Этот человек в совершенстве владеет всеми языками континента: немецким, идишем, канцеляритом, баварским, венским и прусским диалектами, умеет говорить в нос, виртуозно передает все оттенки жаргона — воровского арго и арго кокоток, сленг гетто и пароли бродяг — и всякий раз неподражаемо естественно. Рудольф Риттнер однажды упомянул в разговоре, будто бы Вильгельма Буша почитали за его "вороватый глаз", так вот у Рода Рода "вороватое ухо". Это "вороватое ухо", наделяющее своего обладателя властью над "языком других", как выражался Карл Краус, является чисто австрийской особенностью, стоит только вспомнить упомянутого Кафкой "генерала с его острым, филологически вымуштрованным австрийской армией слухом"»[69]. Легенда о Големе восходит к XVII веку, когда знаменитый каббалист рабби Лев (Иегуда Лев бен Безалел) создал из красной глины искусственного человека. Разумеется, создание Голема следует рассматривать как имитацию божественного акта сотворения Адама, когда Яхве, слепив «из праха земного» человека, «вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою»[70]. По мнению некоторых каббалистов, Адам в промежуточной фазе своего творения, еще не одухотворенный «дыханием жизни» и лишенный дара речи, являлся не чем иным, как бесформенным Големом. «В одном мидраше П — Ш вв. Адам описывается не просто как Голем, но как некий космический гигант, которому Бог открыл в его безжизненном и бессловесном состоянии судьбу всех будущих поколений вплоть до конца времен»[71]. Создание Голема сопряжено с очень сложными, практически утраченными каббалистическими операциями, требующими знания «алфавита 221 врат». Церемония заключается в последовательном ритуальном произнесении тайных заклинаний над всеми «вратами» слепленного из красной глины Голема — «врата» соответствуют определенным частям тела и внутренним органам искусственного человека, а также небесным телам. Сокровенная тайна мироздания может быть постигнута лишь после искупления первородного греха, иными словами, необходимо вернуться в изначальное «адамическое» состояние, и Голем — это попытка воссоздания каббалистическими средствами первоначального Адама. Сразу оговоримся, что каббалисты различали Адама, созданного «из праха земного», и Адама Кадмона (Адам изначальный), сотворенного «по образу и подобию Божьему»[72]. Собственно, Адам Кадмон — это, по сути, иудаистический вариант гностического антропоса, соединявшего в себе мужское и женское начала. Рабби Акиба вообще считал, что человек был сотворен вовсе не «по образу и подобию Божьему», а по образу Адама Кадмона. Трудно, почти невозможно, преодолеть свою тварную, «глиняную» природу и стать властелином Голема, один неверный шаг — и верный слуга превратится в кровожадного монстра, крушащего все на своем пути. Атанасиус Пернат, герой романа Майринка, сам не ведая того, находится в процессе тайной трансформации своей личности и, проходя через сокровенные фазы opus transmutationis, символически отмеченные старшими арканами Таро — от «Пагата» до «Повешенного», — воссоздает в себе увенчанного короной бессмертия Андрогина. Однако, говоря о творчестве Майринка и отдавая должное художественным достоинствам романа «Голем», такой известный каббалист, как Гершом Шолем, отмечал, что концепция этого произведения основывается скорее на индуистских идеях об искуплении, чем на традиционной еврейской каббале. «Его Голем — это отчасти материализовавшаяся коллективная душа гетто со всеми своими мрачными и фантомальными чертами, а отчасти — двойник самого автора...»[73] Да, конечно, не только «Голем», но и другие романы писателя можно упрекнуть в известных отступлениях от буквы традиционного знания, но, в конце концов, Майринк писал художественные произведения, а не герметические трактаты и, как явствует из его ремарок к неоконченному роману «Дом алхимика», всегда старался «с первого до последнего слова держать читателя в напряжении», что было бы невозможно, если бы человеку, взявшему в руки книгу, приходилось поминутно ломать себе голову над сложным энигматичным текстом. «Другим важным ингредиентом художественного произведения — по крайней мере я придерживаюсь этого мнения — является то, что в основе сюжета и характеров персонажей должен лежать какой-то глубочайший космический смысл. Разумеется, он будет очевиден лишь для тонко чувствующих читателей — глубокое содержание никогда не должно быть навязчивыми[74]. Другое дело сюжетная линия, действие — в романах Майринка оно то завораживающе кружит вокруг какой-нибудь одной, особо важной мысли, увязая в продолжительных диалогах и внутренних монологах героев, то вдруг срывается с места и устремляется с такой головокружительной быстротой, что невольно захватывает дух. А писателю того и надо, ему важно «захватить дух», погрузить читателя в максимально насыщенную суггестивную атмосферу, создать такое высокое напряжение, которое то и дело разрешалось бы молниеносными интуитивными прозрениями, позволяющими читать между строк, что чрезвычайно важно для принципиально эзотеричных произведений Майринка. В общем-то слова — это только временные посредники, позволяющие воображению разогнаться перед прыжком в неведомое. Кроме того, язык, как и любая другая знаковая система, построенная по законам обычной человеческой логики, мало пригоден для передачи запредельных истин, не укладывающихся в прокрустово ложе нашего ограниченного мышления. Вот почему в романах и рассказах Майринка так много пауз, многоточий, недоговоренностей, фигур умолчания — словом, того, что сам автор предпочитал называть «следами огня»... Темный, невыразимый средствами человеческой речи мессаж сквозит в произведениях писателя-адепта — суггерируя читателя в обход слов, поверх слов, из-под слов, он проникает в тайные, сокрытые от дневного сознания уголки его души и в тех редких случаях, когда находит там благодатную почву, неким опосредованным и парадоксальным образом инициирует своего избранника. Трудно с чем-либо сравнить этот странный инициирующий эффект — если только с тем, что по-французскиназывается «deja vu», с неизвестно откуда взявшимся, щемящим ностальгическим чувством, со смутным, неуловимым воспоминанием чего-то давно забытого, утраченного, бесследно канувшего в Лету... «Странные, непонятного происхождения вещи: пергаменты, испещренные таинственными иероглифами, растрепанные рукописи, от зловещей криптографии которых становится не по себе, какие-то, по всей видимости редчайшие, инкунабулы, мрачные толстые гримуары в черных переплетах из свиной кожи с массивными медными застежками и, наконец, несколько ветхих гравюр с жутковато загадочным содержанием — они как магнитом притягивают взгляд, завораживают своей энигматикои — непроницаемой, но тем не менее рождающей в душе неясные, волнующие ассоциации. Кажется, эта темная символика, минуя верхние слои создания, устанавливает тайную связь с неведомыми человеку глубинами его же собственного Я, однако на поверхность не проникает ничего, разве что тоненькая цепочка пузырьков, невнятно намекающих на что-то чрезвычайно важное, знакомое, только давно-давно забытое...» Это из рассказа «Майстер Леонгард», который в числе других шедевров малой формы («Кардинал Напеллус», «Четыре лунных брата», «Действо сверчков») вошел в состав сборника «Летучие мыши», увидевшего свет в 1916 году в лейпцигском издательстве Курта Вольфа. Столь любезная передовой «прогрессивной» критике сатира здесь явно отступает на второй план. И вообще, сатирическое начало занимало Майринка лишь до тех пор, пока он не поднялся на следующую, более высокую ступень «лествицы пробуждения», когда роковая оппозиция «черное — белое», таким мучительным кошмаром преследовавшая его в прежние годы, была наконец снята. Следует отметить, что традиционная йога к этому времени становится основной физической и метафизической практикой писателя, весьма глубокий компендиум которой он дал в своем втором романе «Зеленый лик», появившемся в том же, 1916 году. Майринк очень хорошо понимал, что «йога — это конец, а не начало "пути", как ошибочно полагают почти все современные люди <...> Вот и наставляющие нас господа теософы и мистики не знают, что все эти физические позы (мудры, асаны) всего лишь результат, но отнюдь не причина, что им должно предшествовать определенное состояние, при котором остановка дыхания и сердца будет происходить сама по себе...»[75] «Помни, цель, преследуемая тобой, не в том, чтобы обуздать свое тело. Налагая на него запрет двигаться, ты лишь провоцируешь его на вылазку, дабы оно имело возможность продемонстрировать тебе весь свой арсенал и все свое воинство. Сии несметные полчища, почитай, непобедимы, ибо несть им числа. И оно до тех пор будет бросать их, одно за другим, в бой, пока ты не прекратишь подначивать его, таким, казалось бы, простым способом, как недвижное сидение: сначала тебе придется выдержать натиск мускулов, грубой животной силе коих потребна физическая работа, далее взбунтуется кровь и, кипя от бешенства, заставит тебя истекать потом, а там — неистовые удары обезумевшего сердца, ледяной озноб, вздымающий волосы дыбом, сильнейшая дрожь, грозящая вытрясти душу, головокружение, когда ты начнешь качаться, словно в жестокий шторм, однако не падай духом, брат, ибо все это возможно победить — и не волей единой, как тебе, наверное, покажется, но высокой степенью бодрствования, кое незримо встанет за ней, подобно Зигфриду в шапке-невидимке. Но и сей виктории грош цена: даже если тебе удастся подчинить себе и сердце и дыхание, ты станешь лишь факиром — "нищим" по-нашему. Нищий! Этим сказано все... И тогда придет черед новых ратей, кои двинет на тебя тело. На сей раз это будет неуловимый рой мыслей. Тут уж клинок воли не поможет. Чем ожесточенней он обрушится на них, тем яростней они будут жалить, и если даже тебе посчастливится ненадолго отогнать вездесущих фурий, ты, изнемогая от усталости, неминуемо провалишься в сон и все равно окажешься побежденным. Бессмысленно сражаться с этим роем, существует лишь единственный способ избавиться от него: восхождение на более высокую ступень бодрствования»[76], — наставляет неизвестный автор, бумаги которого случайно попадают в руки герою романа «Зеленый лик», Фортунату Хаубериссеру (Майринк дает ему имя своего сына). На сей раз действо разыгрывается в голландской столице... Амстердам с его бесчисленными каналами-грахтами, сумрачными переулками злачных портовых кварталов и угрюмым лабиринтом Иордаана — еврейское гетто как две капли воды похожее на «город Иозефов» в Праге — становится одним из основных действующих лиц романа, главное из которых, «зеленый лик», принадлежит наделенному бессмертием Хадиру Грюну (Хадир по-арабски означает то же самое, что Грюн по-немецки, — зеленый). Этот легендарный персонаж коранического рассказа о странствовании Мусы (18: 59—81), восходящему к древним эпическим циклам о поисках «живой воды» и об испытании веры (ср. шумеро-аккадский эпос о Гильгамеше), преломляется в сознании видевших его людей в образ Агасфера... Согласно апокрифам, Вечный жид (Бутадеус — ударивший Бога, Кар-тафил), иерусалимский башмачник, отказал Иисусу Христу в отдыхе, когда Он, изнывая под бременем креста, восходил на Голгофу, и безжалостно велел идти дальше; с тех пор ему самому отказано в отдыхе — он лишен даже загробного покоя и обречен скитаться по миру до второго пришествия Христа. Образ этого Вечного скитальца как-то странно двоится: с одной стороны, он — враг Христа, отверженный, клейменный тайным проклятием изгой, вселяющий ужас одним своим видом как страшный призрак, как дурное знамение, как Летучий голландец, а с другой — он парадоксально приобщен к Христу этим своим проклятием и выступает в романе своеобразным психагогом, наставляющим на путь истинный мятущихся современных людей. Как справедливо отмечал С. С. Аверинцев, «структурный принцип легенды — двойной парадокс, когда темное и светлое дважды меняются местами: бессмертие, желанная цель человеческих усилий, в данном случае оборачивается проклятием, а проклятие — милостью (шансом искупления)»[77]. В общем-то, такой дуализм в восприятии традиционных принципов, знаний и даже некоторых персонажей мировой мистерии является одним из характерных «знамений времени», когда дезориентирующая инверсия «черного и белого», «низкого и высокого» стала почти правилом, неизбежным следствием рокового отпадения от предвечного Источника. Когда-то в своем первозданном, «адамическом» состоянии довременной мудрости, одним из символов которого является земной рай иудаистской традиции, человек воплощал собой основные духовные принципы мироздания, но после грехопадения внешний мир все глубже погружался в темную бездну материи, все более грубело, коснело и обмирщалось человеческое сознание, уже не способное к прямому восприятию предвечной Истины. Этим «перепадом высот» и объясняется расхождение между буквой и духом традиции, между внешней ритуальной стороной доктрины и ее изначальным смыслом, который, по мере того как человечество «просвещалось», становился все более темным, непонятным и страшным... На Западе внешняя сторона традиционного Знания выродилась в религиозные формы, и человек, разъятый на тело, душу и ум, вместо «живой воды» традиции получил для каждой из своих составляющих соответствующий эрзац: обряд, мораль и догму. Что же касается сокровенного реверса, то он стал сугубо эзотерическим и манифестирует теперь себя в таких непроницаемо темных аспектах, постигнуть которые без традиционного посвящения совершенно невозможно... К таким непроницаемо темным аспектам относилась кундалини-йога, избранная Майринком как путь к сокровенному реверсу, к той самой «обратной стороне мрака», к которой он стремился с тех пор, как «лоцман под темной маской, молча, в зыбких предрассветных сумерках, взошел на палубу его жизни»... «Обычный человек постоянно скован или опутан цепью характерных невидимых сущностей, которые в течение его жизни частично отмирают, частично налипают вновь. Было бы ошибкой большую их часть принимать за " души умерших"... Однако стоит лишь некой силе или хотя бы одной из ее составляющих высвободиться, и эти сущности сразу как-то странно оживают и становятся независимыми — похожим, только куда более сложным образом "оживали" мертвые лягушки Гальвани под действием электрического тока... "Спиритические манифестации", при всей их будто бы опровергаю- щей законы природы парадоксальности, лишь необходимое следствие этой высвобождающейся силы. Однако с йогином дело обстоит иначе, его психика уже свободна от подобных сущностей; изживаются они долгим процессом умерщвления, похожим на то, как Геракл рубил тысячи голов лернейской гидре, — отмерев, "полипы" обволакивают победителя своими безжизненными лярвами и, становясь покорными орудиями его воли, вращаются вокруг в строгом соответствии со своей таинственной орбитой, подобно потухшей Луне, завороженно кружащей вокруг живой Земли. Высвобождающаяся в ритуальной йогической смерти сила не только не остается бесформенной и неопределенной, как у медиума, но постепенно коагулируется в некий образ — в сокровенного, не подверженного тлению двойника, в бессмертного слугу вечно бодрствующего сознания йога, несущего его через сон, забытье и смерть. Я не буду здесь распространяться о свойствах этой тайной силы, которая все в себе растворяет и разрешает — "философском Меркурии" герметических алхимиков, — о ее воздействии и законах, порождающих и сдерживающих ее, достаточно будет сказать, что посредством "Меркурия" как самая тривиальная, приземленная, так и самая возвышенная идея, иными словами, мысленно оформленное намерение, может быть снабжена и облечена теми внешними свойствами, которые мы называем осязаемостью, видимостью, весомостью и т. д. и о "реальности" и "нереальности" которых наша современная наука уже научилась судить в непреложно точных категориях. Эрнст Мах, к примеру. Лишь разрешив свою психику от этих "полипов", человек может заняться йогой или, точнее, пережить ее, только в этом состоянии к нему является гуру, которому безразлично, где находится его ученик — на Северном полюсе или в Гималаях, в тюремной камере или, как св. Хуберт, на оленьей охоте. Процесс выжигания "полипов" может длиться тысячелетиями (согласно Учению, психика вновь и вновь инкарнируется), и не следует его путать с йогой. Однако жизненный путь тех, у кого этот тайный процесс однажды начался, кого однажды укусил мудрый змей Эдемского сада, уже никогда не пересечется с дорогами его собратьев, и пусть даже малым сим кажется, будто "клейменный жалом" прозябает средь них, в действительности же он находится дальше, много дальше, и дистанции этой не измерить ни в каких пространственных единицах... Во всех веках и народах находились избранники, отмеченные стигматами этого змея, из их рядов, которые в ходе времен стали необозримы, выросла армия томимых метафизической жаждой, вечно устремленных куда-то за горизонт, к своей темной цели, совершенно непостижимой для других людей. "Порченными" называл Макс Нордау этих укушенных, Иисус Христос называл их "солью земли"»[78]. Такой «солью земли» был несомненно граф Альбер де Пувурвиль (1862 — 1939), отставной французский офицер и дипломат, принявший в Китае даосское посвящение. Под именем Матжиои граф написал ряд книг, посвященных дальневосточным эзотерическим доктринам («Метафизический путь», «Рациональный путь», «Даосизм и тайные общества Китая» и др.), и ориентировал «по меридиану» не только Майринка, но и другого «укушенного змеем» — Рене Генона, для которого важнейшим событием юности явилось знакомство с этим реально посвященным человеком, безусловно способствовавшим наряду с Иоганном-Густавом Агели обращению молодого «странника» в веру Пророка. Черты Альбера де Пувурвиля угадываются в Гарднере-Гертнере, одном из действующих лиц последнего романа Майринка «Ангел Западного окна», но особенно явно проступают они в «маньчжоу», призрачном персонаже «Вальпургиевой ночи»... Роман явно написан в традиции «гротескной образности», элементы которой в большей или меньшей степени присутствуют почти во всех произведениях Майринка. Итак, Вальпургиева ночь — ведьмовской шабаш, происходящий в ночь на 1 мая, — в Праге! Дьявольский карнавал, с присущим всяком) подобному действу временным упразднением иерархических отношений («В эту ночь, с восьми вечера и до двенадцатого удара дворцовых часов, все сословные различия считались недействительными»), со своим «бобовым королем» (Отакар), обреченным на смерть к исходу «празднества», с осмеянием всего и вся («проповедь» маньчжоу), со своими странными, в высшей степени гротескными действующими лицами: оторванные от мира («света») градчанские обитатели, детектив Стефан Брабец, олицегворяющий собой какую-то безумную нескончаемую травестию, и, наконец, эпицентр этой кровавой дьяблерии — лицедей Зрцадло, человек-зеркало... Чего стоит одна только фигура императорского лейб-медика Тадеуша Флугбайля, этого новоявленного Рьщаря Печального Образа, доблестно вступающего в сражение с великанами в обличье тюков и чемоданов и в конце концов обретающего с помощью своей богемской Дульсинеи заветный ключ к «оболочке для ног»! А какова полная «пантагрюэлизма» сцена вакхического пиршества в «Зеленой лягушке»! Главный герой в этой мрачной фантасмагории вообще отсутствует, на его месте зияет зловещая «черная дыра» — или, если угодно, Зрцадло, «мертвое зеркало... странствующий труп, подобный потухшей Луне в беззвездном небе», — в которую, словно втянутые инфернальным вакуумом, улетают все действующие лица, так и не сумевшие реализовать в себе «Империю реальной середины». Любопытная деталь: отходящие в высший мир шаманы завещали в некоторых шаманических практиках своим преемникам натягивать свою кожу на бубен, который после такой операции становился особенно «сильным», — бубен, как известно, является основным атрибутом магического камлания, символизируя собой коня, возносящего своего неистового седока в запредельную высь архаического экстаза[79]. Итак, ночь, когда «высшее становится низшим, а низшее — высшим»... Шабаш, переворот, кровавая мистерия — «вот настоящая грунтовая вода Праги», которая, неудержимо заполняя и вытесняя собой «действительность», выплескивается на улицы «самого мрачного в мире городского квартала»... Час пробил... Завершая тысячеликий цикл странных сомнамбулических метаморфоз, Зрцадло входит в черную фазу инициатической смерти — новолуние... Все до единой личины сорваны с медиума... И даже последняя, его собственная... «Он наг — кожа его натянута на барабан. Змей, живущий в человеке изначально, с приходом Весны он линяет, сбрасывая вместе с мертвой кожей мертвую человеческую оболочку»[80]. Зеркало, от которого осталась лишь темная обратная сторона, — что может оно отражать кроме «тьмы внешней» инфернальной периферии?.. Но если случится чудо, и там, в фокусе герметического мрака, вдруг вспыхнет «утренняя звезда» королевского рубина, то знай же, странник, «спящий наяву», что ты в святилище Майстера в Империи реальной середины, а «Свет», обретенный тобой в кромешной бездне космической Вальпургиевой ночи, воистину «Новый»!.. Книга вышла в 1917 году, когда пресловутый призрак, так долго и бестолково бродивший по Европе, не нашел ничего лучшего как материализоваться в России в образе лысого плюгавого субъекта, картаво изрыгающего с броневика примитивные коммунистические лозунги. Судя по всему, Майринк в эти годы испытывал примерно то же самое, что и Поликсена, героиня «Вальпургиевой ночи», в которой «поднималась непримиримая, жгучая ненависть к этой бестолково орущей черни, которая могла вот так, разом, прийти в раж от своих гнусных пролетарских лозунгов и теперь глотать жадные слюни в ожидании предстоящей резни и грабежа. "Они злее адских бестий и трусливее уличных шавок"...»[81] В этом году с соизволения короля Баварии литературный псевдоним Майринка стал наконец его настоящей фамилией, однако в жизни писателя началась новая полоса невзгод... Уже в апреле журнал «Deutsches Volkstum» («Немецкая народность») дал сигнал, и кампания травли слишком острого на язык писателя, прекращенная в 1902 году, возобновилась вновь. Майринку ставили в вину-оскорбление немецких женщин («пасторские самки» в «Кольце Сатурна»), кощунственные выпады против Фатерлянда («Штурм Сараево») и преступное осмеяние государственного гимна («Испарившийся мозг»). В некоторых германских городах книги Майринка подлежали немедленной конфискации, а в Австрии «Волшебный рог бюргера» публично предали анафеме и занесли в списки запрещенной литературы. В общем, шуму было много — казалось, писатель и впрямь наставил рога всему австрийскому и германскому бюргерству. Пылая праведным гневом, «Deutsches Volkstum» писала: «Воздейслъие майринковских образов, а точнее говоря, его безобразий, множится тысячными тиражами, ибо печатаются они в "Симплициссимусе", том самом журнале, который в предвоенное время в большей, чем другие бульварные листки, степени способствовал обострению социальных противоречий, предавал осмеянию мирных граждан и представителей военного сословия, издевался над нашим браком и семьей, как в пределах Германии, так и вне. Глупый, надменный, грязный, необразованный, брутальный и лицемерный немецкий бюргер, рядящийся в какие-то смехотворные одежки, и рядом грубый, тупой, самодовольный и вечно пьяный офицер, без устали унижающий своих безответных подчиненных, — вот типы, которые в романах, газетах и правительствах наших врагов выставляются на потеху народам других стран, дабы всему миру внушить отвращение к Германии; а породили эти шутовские карикатуры наши же собственные, высмеивающие все и вся журналы и бульварные газетенки, и в первую очередь — Густав Майринк». Кампания продолжалась до конца войны, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не вмешательство друзей, выступивших в печати в защиту писателя. Жизнь Майринка становилась все более уединенной, однако старых знакомых он не забывал: состоял в постоянной переписке с Альфредом Кубиным, встречался с Оскаром Кокошкой, который написал его портрет, к сожалению бесследно исчезнувший. В 1919 году семейство Варнбюлеров предложило «блудному сыну» вернуться в «лоно семьи» и принять родовое имя — Майринк вежливо отказался... В 1920 году, поправив свои финансовые дела, писатель покупает в Штарнберге виллу — «Дом у последнего фонаря», как он сам называл этот особняк в память о легендарной пражской обители, воспетой им в «Големе»[82]. По преданию, этим домом — местные жители с суеверным страхом величали его «Стеной у последнего фонаря» — кончалась Злата уличка, кривой переулок, в котором селились придворные алхимики Рудольфа П. Видеть «Стену у последнего фонаря» могли лишь избранные, глазам простого смертного открывался лишь огромный серый валун, вросший в землю на самом краю Оленьего рва, один неверный шаг — и... Говорили, что под этим краеугольным камнем, заложенным «Азиатскими братьями» под фундамент орденской обители, зарыты несметные сокровища. Когда-нибудь, в конце времен, в сей обители должен поселиться царственный Гермафродит. Итак, «Дом у последнего фонаря»... Ну а где фонарь, там и фонарщик... «Замысел романа я вынашивал долго, намечал его основные контуры, придирчиво отбирал действующих лиц, и вот, когда будущая книга сложилась окончательно, вплоть до мельчайших деталей, приступил к материализации, тут-то все и началось... Первое, что мне бросилось в глаза — нет, не сразу, чуть позже, когда я перечитывал рукопись! — это имя "Таубеншлаг", которое каким-то загадочным, совершенно непостижимым образом, без моего ведома, проникло в текст. О, если бы только это: слова, предложения, целые сюжетные линии, бережно взлелеянные неутомимым воображением, под моим пером претерпевали странную метаморфозу, и в итоге получалось нечто совсем иное, чем то, что я хотел воплотить на бумаге; за этими кознями явственно ощущалось незримое присутствие коварного "Христофера Таубеншлага", он все больше узурпировал мои авторские права, пока наше противостояние не вылилось в настоящий поединок, верх в котором одержал самозванец...»[83] В 1921 году маленький фонарщик Христофер Таубеншлаг с фамильным шестом фон Иохеров наперевес начал свое странствование по «великому белому тракту»... Имя этого «найденыша», столь бесцеремонно вклинившегося в текст, восходит к св. Христофору (несущий Христа). Согласно преданию, Христофор, отличавшийся гигантским ростом и могучим телосложением, был уроженцем земли кинокефалов и антропофагов — адепты сближали его образ с Сатурном. «Золотая легенда» Иакова Ворагинского повествует, как по совету некоего отшельника Христофор взялся переносить путников через речной поток. Однажды его просит переправить на другой берег какое-то дитя. Подхватив малыша, гигант вступает в воду, однако, дойдя до середины брода, чувствует на своих плечах непомерную тяжесть, ему кажется, будто он несет не крошечное человеческое тельце, а целый мир. Дитя, оказавшееся Христом, объясняет ему, что он взвалил на себя не только весь мир, но и Того, Кто сотворил сей мир... Итак, свинец (Сатурну соответствует свинец), наименее благородный металл, несет через воды «непорочное дитя, облаченное в королевский пурпур» — так адепты называли Великий магистерий, — шаг за шагом пресуществляя свою бренную ветхою плоть в сияющее «тело славы». Патриарх (корень) Христофер фон Иохер «несет» на плечах своего потомка Христофера Таубеншлага («ему должно расти, а мне умаляться») — «голубятню», повисшую на вершине генеалогического древа фон Иохеров, «в которую белые голуби влетают и из которой белые голуби вылетают»... В христианстве белый голубь традиционно символизирует Дух Святой — именно голубка с оливковой ветвью в клюве вернулась в ковчег к ветхому Ною, благовествуя о земле. Любопытно, что образ Христофера Таубеншлага может быть соотнесен не только с Атлантом, поддерживающим на крайнем западе небесный свод, с Адамом и даже с Люцифером (несущий свет), ибо Христос — «свет мира», но и с Христофором Колумбом (Colombo от фр. colombe — «голубь»), первооткрывателем Нового Света, — деталь, привносящая в роман столь характерный для Майринка мотив странствования через воды и непосредственно связанный с главной темой этого произведения — герметической трансмутации плоти... В основу романа положены некоторые малоизвестные даосские доктрины — скорее всего необходимый материал был почерпнут писателем либо у Альбера де Пувурвиля, либо в работах Рудольфа фон Себоттен-дорфа и австрийского ориенталиста Августа Пфицмайера. Речь идет о двух традиционных практиках, одна из которых называется Ши-Киай, то есть разрешение тела, другая — Кье-Киай, разрешение меча. Тело адепта, погребенного в могиле, пресуществляется и становится либо невидимым, либо трансформируется в меч, «коий и обретают покоящимся во гробе заместо смрадного кадавра», «ибо бренная плоть наша есть не что иное, как коагулированный дух; она исчезает, когда дух пробуждается, подобно льду, коии в стакане закипающей воды тает в считанные мгновения...»[84] Solve et coagula, вязать и разрешать, один из основных алхимических принципов, — ключ к пониманию этого чрезвычайно сложного романа. Если задача адепта разрешить свою плоть в бессмертное «тело славы», иными словами, «родиться в духе», то задача противостоящих ему сил «связать» его, максимально уплотнить, коагулировать жаждущий просветления дух. Горгона Медуза, все живое превращающая своим взглядом в камень, кошмарный символ этого враждебного человеку начала. Но то, что происходит с отдельным человеком, происходит и с миром, который по мере своего «помрачения» и погружения в материю все больше черствеет, костенеет и каменеет. Мотив «гипсования», отчетливо звучащий уже в «Волшебном роге» и «Летучих мышах» (слепок, подделка, копия, «душевномертвый» двойник, механическая имитация, марионетка, кукла, Голем и, наконец, заточение in vitro с последующей мучительной асфиксией — это лишь его зловещие вариации), приобретает в «Белом доминиканце» поистине космическое звучание. Следует отметить, что активизация «тяжелых», сатурнальных — или, если угодно, теллурических — влияний влечет за собой, казалось бы, обратный процесс — процесс разжижения и разложения, когда материя, распадаясь, фиксируется в некой промежуточной фазе в виде дряблой студенистой массы: «Края смотровых люков и оконные проемы обметало налетом какой-то инородной экземы; быстро превратив массивную каменную кладку в дряблую аморфную массу, похожую на распухшие цинготные десны, она немедленно дала свои инфернальные метастазы и с роковой неизбежностью пожара продолжала прогрессировать, жадно вгрызаясь в стены и потолок...»[85] Однако Рене Генон, посвятивший проблеме «солидификации мира» целую главу в своем фундаментальном труде «Царство количества и знамения времени», доказывает, что эти две кажущиеся на первый взгляд взаимоисключающими тенденции на самом деле две стороны одной медали, имя которой — материализм. Последовательная «материализация» и «механизация» человеческого сознания сопровождается аналогичными процессами в космосе, которые превратили мир «в замкнутую систему, не дающую возможности человеку входить в контакт с высшими мирами»[86]. Единственными реальными растворителями, способными разрешить этот инфернальный гипс и, как говорят каббалисты, диссольвировать скорлупы, являются, согласно наставлениям патриарха Христофера фон Иохера, «Багряная книга» («Тот же, кому открылась она, не токмо тела своего не оставит земле, но и самое могилу заберет с собой в Царствие Небесное, разрешив ее в духе»[87]) и сокровенное, «спиритуальное», дыхание: «Дыхание плоти — суть лишь слабое, неверное отражение в зерцале внешнего мира животворящего дыхания духа <...> призваны мы остановить дыхание сие приснотекущее и держать его до тех пор, пока не пресуществится оно в сияние чудное, неисповедимое, кое, иллюминируя телесную ткань нашу вплоть до мельчайших ячей, преобразит вещную оболочку в вечно лучезарное тело бессмертия, оное и внидет в Свет Великий... Подобно тому, как плоть человеческая в тайных своих лабораториях, о непрестанной работе коих мы, сыне мой, не помышляем нимало, хоть и сокрыты они в органах наших, претворяет воздыхаемый нами воздух в ткань телесную, обновляя и преумножая субстанцию сию вещную, також-де и дух — неким неведомым нам, смертным, образом ткет он, присносу-щий, дыханием своим сокровенным пурпурную королевскую мантию, пламенеющие ризы истинного совершенства»[88]. Итак, сокровенная даосская pranayama... Кстати, на близость концепции романа традиционным иогическим практикам даосизма намекает имя барона фон Иохера (от нем. joch — упряжка, ярмо, иго, бремя), основанном на том же самом индогерманском корне, что и йога (yoga). «Этимологически оно (слово "yoga") образовано от корня yuj (соединять, связывать, стеснять, запрягать, одевать ярмо), лежащего также в основании латинских слов jungere, jugum, английского yoke и т. д. Yoga вообще служит обозначением любых аскетических практик и медитативных приемов»[89]. Отметим, что разрешение тела с помощью «дыхания духа» аналогично тем каббалистическим операциям, которые используются для создания Голема, когда тайные формулы, составленные на основе «алфавита 221 врат», последовательно произносятся над отдельными частями тела глиняной куклы. И все равно это лишь подготовительная фаза, последнее слово остается за Медузой... Согласно мифу, достигший пределов крайнего запада Персей поднялся в воздух на крылатых сандалиях Гермеса — деталь, подчеркивающая необходимость предварительного растворения скорлуп «философским Меркурием», — и острым кривым ножом отрубил Медузе голову, глядя в отполированный до зеркального блеска медный щит, чтобы не смотреть в страшные глаза, превращающие все живое в камень. Хрисгофер Таубеншлаг побеждает горюну несколько иным, парадоксальным образом, сам уподобившись зеркальному щиту... «Лишь тот, кого Медуза ненавидит и одновременно боится, — как тебя! — может рассчитывать на благополучный исход — она сама произведет с ним то, чему хотела бы помешать. Пробьет час, и ослепленная яростью горгона с таким сатанинским неистовством бросится на тебя, мой сын, стремясь испепелить твое существо все без остатка, что, как ядовитый скорпион, жалящий самого себя, свершит неподвластное смертному деяние — вытравит свое собственное отражение, изначально запечатленное в душе падшего человека, и, лишившись своего жала, с позором падет к ногам победителя. Вот тогда ты, мой сын, "смертию смерть поправ", воскреснешь для жизни вечной, ибо Иордан, воистину, "обратится вспять": не жизнь породит смерть, но смерть разрешится от бремени жизнью!..»[90] «Не знать в наше время Кафку и Дёблина, Музиля и Броха, Томаса Манна и Германа Гессе считается просто неприличным, однако даже среди любителей литературы не считается зазорным пожать плечами при упоминании имени "Майринк". В 1975 году во всем мире торжественно отмечалось столетие со дня рождения Томаса Манна, но вспомнил ли хоть кто-нибудь в 1968 году о столетнем юбилее Густава Майринка?» — недоумевала по поводу столь несправедливой забывчивости современных литературоведов Марианна Вюнш в своей статье «В поисках утраченной действительности», ставшей послесловием к переизданному в 70-х годах «Ангелу Западного окна». В самом деле, в чем же причина того, что все послевоенные произведения писателя не встретили понимания ни у читателей, ни у критики — чем глубже становились его книги, тем меньший интерес они вызывали. Ну, положим, в 20-е годы он расплачивался за «грехи молодости», которые ему не могли простить узколобые филистеры, а потом — в 30-е, 40-е, 50-е, когда было уже не с кем сводить личные счеты?.. Потом Майринк оказался между двух огней — коричневым и красным: 10 мая 1933 года в Берлине на Оперплатц нацисты вместе с книгами других неугодных авторов предали огню и произведения Майринка — казалось бы, пройдя «очистительное» аутодафе, писатель мог рассчитывать на индульгенцию у «прогрессивной общественности», а уж у коммунистов, пришедших на смену наци, и подавно. Ан нет, осторожливые «немецкие товарищи» явно не спешили издавать романы этого эксцентричного и уж очень неблагонадежного в политическом отношении австрийца, видимо, памятуя о его «реакционных, антинародных выпадах» в «Вальпургиевой ночи». Передовая «социалистическая» критика угрюмо бурчала что-то маловразумительное: мол, Майринк напророчил появление «паучьей свастики» в Европе (имелся в виду, конечно, «Майстер Леонгард»)... Что же касается нового поколения западных «интеллектуалов», то их все больше занимали «общечеловеческие ценности», а потому они попросту умыли руки и, не особенно вчитываясь в эти странные, не укладывающиеся в прокрустово ложе современной гуманистической литературы тексты, списали их в разряд «фантастических романов». Впервые великий писатель-эзотерик был по-настоящему «прочтен» только в 60-х годах во Франции: группа традиционалистов — Юлиус Эво-ла, Раймон Абелио, Жерар Эйм, Серж Ютен, — объединенных парижским издательством «La Colombe», издала в рамках серии «Литература и Традиция» практически все произведения Майринка, снабдив их весьма глубокими, хотя далеко не исчерпьшающими комментариями. Но это было потом, а тогда, в 20-е годы, закончив свои «Рассказы об алхимиках» (Goldmachergeschichten) и чувствуя отсутствие читательского интереса, писатель предпринимает издание коллекции «Романы и трактаты по магии», в которой вышли: «Шри Рамакришна» Карла Вогла (1921), «Элифас Леви» Р. Лаарса (1922), «Дула Бел» И.-Б. Рандолфа (1922), «Желтый и Белый Папа» Франца Шпунды (1923) и «Египетская книга мертвых» (1924)... В 1923 году Майринк публикует довольно пространную статью «На границе потустороннего», посвященную своим метафизическим поискам, и собирается вступать в «Altgnostische Kirche von Eleusis» («Древнегностическую элевсинскую церковь»), в 1925 году он переводит, пишет предисловие и издает «Трактат о Философском камне» Фомы Аквинского, а в 1926-м переводит «Черную Индию» Редьярда Киплинга и становится членом «Aquarian Foundation» («Акватическое общество») и «Weissen Loge» («Белая ложа»)... «Открытый вход в закрытый дворец короля» — пожалуй, только оксюморон, каковым является название алхимического трактата Иренея Филалета (XVII в.) может адекватно определить всю странность, парадоксальность и глубину литературного послания Майринка, к произведениям которого можно отнести то, что он писал о средневековых мастерах: «все известные средневековые художники были объединены в одно большое братство, именуемое цехом, члены которого для связи со своими далекими иноземными собратьями разработали целую систему особых паролей, выражавшихся, как правило, в сложении пальцев, мимике и позах персонажей, в их жестах, всегда несколько странных и неестественных, впрочем, это могло быть и причудливой формы облачко, неприметно плывущее где-нибудь в уголке, на заднем плане, или определенное сочетание красок, фактура мазка... Воистину, полотна кисти многих великих мастеров представляют собой настоящие шифрованные послания, из коих человек, посвященный в это фантастическое арго, способен почерпнуть для себя немало важного»[91]. Таким образом краски, слова, фигуры, архитектурные формы превращаются в посредников, медиаторов, проводников... В самом деле, лучшего «тайного агента» не придумаешь, ведь, скажем, для книги не существует препятствий, даже пространство и время не властны над ней. Следует только уточнить, что если пространство можно покорить такими достаточно поверхностными достоинствами художественного произведения, как внешняя занимательность сюжета, интрига и «приключения», то победить время гораздо сложнее. Здесь не помогут ни социальные «проблемы», ни «психология», которая, кстати, отмирает в первую очередь, ни формальные ухищрения — их век тоже слишком скоротечен, — разве что традиционная символика, апеллирующая к тем сокровенным средостениям человеческого существа, в которых бренное, тварное, преходящее сопрягается с вечным, сверхчеловеческим, абсолютным... Скрытая, дремлющая в этих символах жизнь, если ее разбудить, проницает изнутри метафизическим, не от мира сего духом «земную», физическую ткань произведения, сообщая своей посюсторонней оболочке истинное бессмертие. Однако мало кому дано вдохнуть «новую жизнь в вечные, кажущиеся мертвыми символы»... Майринку было дано, ибо он сам являлся своим собственным «произведением», которое пытался сублимировать в нерукотворный, не ведающий смерти шедевр; что же касается литературного творчества, то оно было лишь продолжением, внешней манифестацией того сокровенного opus transformationis, который писатель-адепт надеялся реализовать с помощью традиционной йоги. «Я ли "творю" или... или меня творят?..»[92] — вопрошал себя Майринк, почти дословно повторяя слова другого «провидца»: «Было бы ошибкой сказать: я мыслю. Правильнее говорить: меня мыслят»[93], и сам себе отвечает: «Ключ сокрыт в самом искусстве <...> искусство имеет куда более глубокий смысл, чем создание художественных произведений, ибо истинное его предназначение — в трансформации личности самого художника, первым свидетельством которой является "реальное видение мира". Даже современный художник, не прибегая ни к чьим советам и не вступая ни в какие ложи, может упорным творческим трудом обострить свои органы чувств настолько, что они откроются для восприятия тончайших сверхчувственных инспираций той великой традиции, связь с которой его собратья давным-давно утратили, и тогда в своих творениях ему наверняка удастся вдохнуть новую жизнь в вечные, казавшиеся мертвыми символы! Имеющему уши нет нужды обращаться к посредникам, сокровенные уста всегда до краев наполнят его кристально чистой влагой мудрости. Воистину, что такое творчество, как не отворение предвечного источника, как не черпание из запредельного царства неиссякаемой полноты и изобилия?!»[94] Эту высшую форму искусства Традиция по праву называет «королевской», и «творческий процесс», таким образом, обретает статус алхимического опуса, трансмутирующего красную плебейскую кровь ремесленничества в голубую царственную влагу Ars Sacra. Итак, что есть алхимия? — Практическая наука, «занятая единственно превращением неблагородных металлов в золото», или «сокровенное искусство королей, которое трансмутирует самого человека, его темную тленную природу в вечное, светоносное, уже никогда не теряющее сознание своего Я существо»?[95] Что есть Камень? « — Истинный Камень, Ваше Величество, по крайней мере я так осмеливаюсь предполагать, равно как и облатка после освящения, — материя не от мира сего... — Это все теология! — устало отмахивается император. — Это алхимия!»[96] Джон Ди осторожно намекает на то, что Философский камень и гостия суть одно и то же. Он не знает, какова будет реакция императора на это его весьма рискованное по тогдашнему времени замечание, ибо к концу XVI века истина сия считалась официальной Церковью вполне святотатственной, хотя средневековые адепты, среди которых было немало священнослужителей и членов различных монашеских орденов, прекрасно понимали, что литургия — это лишь религиозный парафраз Великого Деяния. Воистину Камень, положенный в основание христианского Храма, был философским! Недаром герметическая символика столь обильно представлена на фасадах готических соборов и других «философских обителей»[97]. Как известно, потиром на Тайной Вечери, этой первой христианской литургии, служила некая Чаша, называемая Граалем, в которую впоследствии Иосиф Аримафейский собрал кровь, излившуюся из пречистого тела Христа, прободенного копьем центуриона Лонгина[98]. С тех пор Святой Грааль считается одним из основных символов Философского камня. Весьма многозначительно также происхождение священной Чаши. Говорят, что она была выточена ангелами из огромного изумруда, сиявшего в челе Люцифера и утраченного «Ангелом Венца» во время своего низвержения. Далее Грааль был вверен Адаму в земном раю, однако после своего грехопадения праотец человечества, изгнанный из Эдема, утратил реликвию. Рене Генон раскрывает смысл этого эпизода: «В самом деле, человек, изгнанный из своего первозданного духовного центра, обречен с тех пор на пребывание во временной сфере; он не в состоянии попасть в то единственное место, откуда все сущее воспринимается с точки зрения вечности. Иными словами, обладание "чувством вечности" связано с тем, что все традиции именуют "первозданным состоянием", обретение которого является целью первой стадии истинного посвящения и предварительным условием реального достижения "сверхчеловеческих" состояний. Земной рай — это, собственно говоря, прообраз "Центра Мира"»[99]. Впоследствии священным сосудом обладал третий сын Адама, Сиф, который был допущен в земной рай. Генон предполагает, что Сиф и все те, кто после него хранили реликвию, основали некий духовный центр, служивший подобием утраченного рая. Стало быть, обладание Граалем равнозначно сохранению изначальной Традиции. Легенды не донесли до нас, где и кем хранилась Чаша до прихода Христа, «но ее кельтское происхождение позволяет догадываться, что здесь не обошлось без друидов»...[100] Очевидная параллель между поисками Святого Грааля и герметическим опусом была использована Майринком в качестве основной темы своего последнего шедевра, каковым бесспорно является «Ангел Западного окна» — произведение настолько сложное и многогранное, что анализировать его подробно в рамках данной статьи нет никакой возможности. Первая фаза opus transformationis Джона Ди проходит вполне успешно: оперенье явившегося ему в подземной камере Тауэра бравого «ревенхеда» черно безупречно. Интересно, что Бартлет Грин, «принц черного камня», соотносится с Джоном Ди точно так же, как его «угольный кристалл» (carbonis) — с «лучезарным карбункулом» (carbunculus), сияющим в короне Бафомета. Этот карбункул, наряду с книгой св. Дунстана служащий в романе манифестацией Философского камня, сокрыт в черном кристалле «ревенхеда», подобно тому, как Святой Грааль сокрыт за неприступными стенами замка Карбоник (или Корбеник). В произведении использован также другой чрезвычайно важный аспект легенды о Граале — Монсальват (гора Спасения), вершина, расположенная «на дальних рубежах, к коим не приближался ни один смертный», скала, которая вздымается из ледяного моря, являя собой одновременно и Полярную гору, и Священный остров. Джон Ди ошибочно идентифицирует его с Гренландией, но вскоре понимает, что «проложил свой курс неправильно», ибо «Зеленым островом» (Gronland) называлась изначально даже не Ирландия (Эрин), а другая, расположенная куда севернее и теперь исчезнувшая земля: речь идет о Туле (Thule) — одном из главных, если не самом главном духовном центре определенного периода. Этот гиперборейский остров занимал когда-то полярное положение не только в символическом, но и в буквальном смысле слова. Туле именовался также «Белым островом» или «Обителью блаженных»... Итак, остров-цитадель, который непоколебимо высится средь вечно бушующих волн внешнего, проявленного мира, и, дабы приблизиться к этой полярной земле, необходимо пересечь «философское море». Для Джона Ди «белоснежные ризы сокровенного Гренланда» символизируют вторую фазу алхимического деяния, однако достигнуть этой земли суждено лишь его далекому предку, барону Мюллеру. «Йог, пересекающий море страстей, обретает спокойствие и полноту своей самости (атмабодхи)», — говорил Шанкарачарья. Генон поясняет: «"Страсти" в данном случае служат обозначением всех случайных и мимолетных модификаций бытия, составляющих "поток форм": это область "нижних вод",известная в символике всех традиций. Вот почему процесс обретения "Великого мира" часто изображается в виде мореплавания, вот почему в христианской символике символом Церкви служит корабль. Процесс этот может также изображаться в виде битвы: именно в таком смысле следует понимать основной сюжет "Бхагават-Гиты", сюда же относится символика "священной войны" (джихад) в учениях Ислама. Добавим, что "хождение по водам" символизирует победу над изменчивым миром видимости: Вишну называется Нараяной, "идущим по водам", то же самое можно сказать и о Христе»[101]. Копье (в романе наконечник копья Хоэла Дата) является, наряду с Мировым древом и Полярной горой, символом оси мира и полюса вселенной, оно призвано ориентировать Джона Ди «по меридиану», а потому противостоящие герою силы (Исаис Черная, Асайя Шотокалунгина) так стремятся лишить его этого сакрального оружия. Однако копье символизирует также лингам, и в этом фаллический аспект реликвии весьма многозначительно отражен «тантрической» темой произведения, которая в основном касается барона Мюллера — потомка и своеобразного двойника Джона Ди. « — В чем же суть вайроли-тантра? Гностики называли подобную технику "обращением вспять течения Иордана". Что имеется в виду, вы легко догадаетесь сами. Только не забывайте, что это лишь внешний аспект, который может кому-то показаться весьма непристойным. Скрытое под этой скорлупой ядро можно добыть только самостоятельно; если же вы прибегнете к моим услугам, то ничего, кроме пустой шелухи, не получите. А ритуал, исполняемый вслепую, без реального проникновения в его внутреннее содержание, — это уже практика красной магии, доступная исключительно лишь немногим посвященным в эту древнейшую традицию, доставшуюся нам по наследству от красной, атлантической расы. Любые же профанические попытки имитации чреваты в ритуальной магии очень тяжелыми последствиями, одно из которых — страшный, испепеляющий все на своем пути огонь...»[102] Итак, тот самый Руг, который в эзотерической школе Джулиано Креммерца разжигали специальными приемами pranayama и продолжительной медитацией — предшествовало ей не менее длительное сосредоточение на определенных визуальных объектах, чаще всего это было обнаженное женское тело. «Я не свожу глаз с этого платья, мой вожделеющий взгляд скользит по орнаменту, словно надеясь отыскать потайную пружинку, все настойчивей проникает он в сплетения тончайшей шелковой паутины, и ажурная невесомая ткань начинает уступать всепроникающему жару страсти — блекнет, тускнеет, истончается, тает на глазах, становясь все более ветхой, все более прозрачной и призрачной, пока не распадается совсем, и вот вспыхивает обнаженная прелесть Асайи Шотокалунгиной — так вспыхивает на солнце извлеченная из ножен опасная, обоюдоострая сталь, — и вот предо мною она — Исаис Понтийская, нагая, ослепительная, неотразимая... В прострации я часами созерцал эту головокружительную деструкцию эфемерной ткани. Созерцал, наслаждаясь всеми стадиями перехода иллюзорной материи в небытие, и ничего больше... Ничего!..»[103] Половой контакт исключался, сексуальная энергия должна была трансформироваться в магический жар gtummo: «течение Иордана» необходимо «обратить вспять», вверх по позвоночному столбу к высшей тысячелепестковой чакре, в которой осуществляется mysterium conjunction Шивы и Шакти — «химическая свадьба» Короля и Королевы, знаменующая собой триумфальное завершение opus magnum и рождение царственного Андрогина. Однако барон не выдерживает... «Отныне суккуб безраздельно властвовал над всеми моими органами восприятия. Отчаянная борьба моей души и разума с чувствами, отравленными очаровательным фантомом, ввергла меня в страшное горнило искушения, без всякого снисхождения заставив испытать на себе то, что отшельники и святые называли огненным крещением: когда человек, дабы снискать жизнь вечную, по собственной воле входил в разверстые врата преисподней и там, в негасимом огне адских мук, либо лопался раскаленный добела сосуд скудельный, либо сам Господь вдребезги разбивал горнило. <...> когда чувства мои стали корчиться в адском пламени невыносимого вожделения, я подошел к флорентийскому зеркалу Липотина, на которое еще загодя в недобром предчувствии набросил покрывало, сорвал с него завесу и, уже не владея собой, заглянул в зеленый омут. Она лежала у самой поверхности, на мелководье, развернув ко мне свою обнаженную грудь, и ее невинный целомудренный взор, затуманенный слезами, молил о пощаде. Волосы на моей голове встали дыбом, я понял: это конец!.. Собрав последние силы, я размахнулся и в отчаянье ударил кулаком по зеркальной глади, разбив ее на тысячи острых брызг. И образ Асайи вместе с отравленными ею осколками проник через порезы в мою кровь и вспыхнул там черным инфернальным огнем. А из крошечных, рассыпанных вокруг по полу зеркальных кристалликов, мультиплицированная несчетным количеством копий, закатывалась сумасшедшим смехом тоже она— Асайя, Асайя, Асайя... Нагая, хищная, вампиричная, многократно повторенная... Но вот она вышла из осколков, как резвящаяся сирена выныривает из воды, и, по-прежнему заходясь от смеха, двинулась на меня со всех сторон, подобно несметным ордам соблазна, — тысячетелая, неуязвимая, алчная, агрессивно-похотливая, с тяжелым, сладострастным дыханием... Мысль о кинжале словно высекла из кремня моего сознания магическую искру... Дальше как во сне: мощная струя огня брызнула прямо из пола, и все вокруг обратилось в сплошное пламя... <...> Кинжал, намертво зажатый в моей правой руке, по-прежнему пребывал в какой-то жутковатой эрекции, как будто этот огненный оргазм не имел к нему никакого отношения»[104]. Эта пиромагическая эякуляция настолько сильна, что пылают даже камни... Но только после своего «включения» в цепь розенкрейцеров сокровенного Эльзбетштейна «Иордан» обращается действительно «вспять»: «В это мгновение я вздрагиваю от резкого удара молотка, который приходится в самый центр моего лба. Мне совсем не больно — наоборот, этот удар скорее приятен, так как из моего темени вырывается сноп света... гигантский огненный гейзер, осьшающийся в небе мириадами звезд... и зрелище этого звездного моря доставляет неизъяснимое блаженство...»[105] «Наконец мне пришла в голову спасительная идея — привить судьбу "мертвого" Джона Ди к судьбе какого-нибудь живого человека: иными словами, написать двойной роман... Присутствуют ли в этой современной половине моего героя автобиографические черты? И да, и нет. Когда художник пишет чей-нибудь портрет, он всегда бессознательно наделяет его своими собственными чертами. Видимо, с литераторами дело обстоит примерно так же», — писал Майринк в одной из своих заметок к роману «Ангел Западного окна»[106]. Есть писатели, которые стараются максимально дистанцироваться от своих книг, — произведения Майринка являются неотъемлемым продолжением его творческого Я, и понять их без самого поверхностного знакомства с личностью этого уникального автора невозможно, так же как невозможно их понять без элементарных сведений о некоторых традиционных доктринах. Ну что же, если за Джона Ди начатый им опус вполне успешно завершает его поздний, скажем прямо, довольно безликий потомок (имя его всплывает только на последних страницах, да и что это за имя — барон Мюллер, все равно что в России Иван Иванов!), в прорезь лица которого любой может просунуть свою физиономию, то невольно напрашивается вопрос: чем закончилась арктическая конкиста самого Густава Майринка?.. Нашел ли он свое сокровенное Эльдорадо? Об этом можно только догадываться. Скорее всего сакральный процесс был прерван где-то посредине; видимо, понимая, что при жизни ему не завершить свой нерукотворный шедевр, Майринк, дабы восполнить какие-то ведомые лишь ему одному лакуны эзотерического опуса, решился прибегнуть к чисто экзотерическим средствам: в 1927 году он обратился в буддизм в его северной форме, именуемой «махаяна» (Большая колесница). Трудно также уйти от другого вопроса: получил ли Майринк реальное традиционное посвящение? Есть серьезные основания сомневаться в посвятительной компетенции тех многочисленных тайных обществ и орденов, членом которых состоял писатель, — уже одно только число сих «инициатических организаций» наводит на размышления. Именно об этих сомнительных европейских обществах писал Майринк в предисловии к книге Р. Лаарса: «Да, такие ордена существуют, но тот, кто полагает, что члены их обладают какими-то исключительными знаниями или способностями, жестоко заблуждается. Едва ли вы что-нибудь там найдете, кроме внешней формы. В их архивах хранятся древние, таинственные и, безусловно, весьма интересные манускрипты, но, тщательно изучив их, вы придете к убеждению: никогда еще "посвящение" не исходило из уст человеческих; подлинное Посвящение приходит лишь из сокровенного источника, и не существует никаких его "рецептов", которые можно выведать или выкрасть»[107]. Похоже, в случае Майринка имела место та совершенно особая форма инициации, которая в современном, безнадежно десакрализованном мире будет, очевидно, приобретать все большее значение: речь идет о так называемом подсознательном — или, если угодно, сверхсознательном — посвящении, когда сам неофит может даже не знать, а лишь смутно догадываться о своем избранничестве. Недаром именно этому весьма редкому виду инициации отводится так много места в произведениях писателя. «Какое же кошмарное действо творилось там, за толстой скорлупой, герметически отделившей какую-то часть моего Я, через какой страшный инициатический ритуал проходило это мое Я в тот латентный период, если его понадобилось скрыть даже от меня самого! Эта мысль не дает мне покоя, она преследует меня днем и ночью, но я не могу, не могу, не могу вспомнить ни-че-го!.. Но вновь мои мысли возвращаются на круги своя: что же происходило со мной в том странном, так похожем на смерть состоянии? И чувствую, как где-то в глубине подсознания зреет тайный плод, и первые мои неуверенные догадки все больше перерастают в уверенность, что в том герметическом саркофаге моей летаргии я постигал какое-то сакральное знание, невыразимое в терминах земного языка, и некто, бесконечно далекий от всего человеческого, посвящал меня в сокровенный смысл каких-то таинств и мистерий, которые, когда окончится инкубационный период, всплывут на поверхность моего сознания. О, если бы у меня был такой же верный проводник, как у моего предка Джона Ди "лаборант" Гарднер!»[108] Увы, такого проводника у Майринка, судя по всему, не было, а доверяться «всем этим самозваным гуру, седобородым кудесникам и прочей нечисти, имя коей — легион», он бы, разумеется, не стал: слишком хорошо знал цену тому «несусветному вздору, который плетут эти высокопарные шарлатаны о черной и белой магии»[109]. Что же касается «лоцмана под темной маской», то в 20-х годах корабль Майринка достиг таких высоких широт, в которых уже никакая самая точная и исчерпьшающая лоция не помогала — сокровенный фарватер приходилось искать едва ли не на ощупь среди айсбергов и дрейфующих льдов. И здесь вероятность крушения была как нигде велика... «Помни же, сыне мой, чем дальше подвигается процесс герметической кристаллизации, тем большая опасность подстерегает тебя на тернистой стезе твоей, ибо стоит только крысам сим вездесущим пронюхать, что будущий Камень обещает быть чистым, соразмерным и симметричным — по образу и подобию Божьему, — и они из кожи вон полезут, лишь бы нарушить алхимический режим и исказить сокровенную структуру», — предупреждает «патриарх» Христофера Таубеншлага о коварных кознях тех, кто «прикинулся Истиной, аки пугало огородное в предрассветной мгле прикидьшается Распятием у дороги»[110]. Предупредить писателя было некому: он сам стал «патриархом» — корнем генеалогического древа Майринков, на котором уже зеленела первая тоненькая ветвь... В 1928 году материальное положение писателя осложняется вновь, вынуждая его продать «Дом у последнего фонаря», однако полюбившийся ему Штарнберг он не покинул — переехал с семьей на другую квартиру. В последние годы жизни Майринк много переводил (Георг Сильвестр «Четырехугольник», А. Элдридж «Мои первые 2000 лет. Автобиография Вечного жида», Людвиг Льюисон «Кровное наследство»), не забывал и о собственном творчестве: начал работу над новым романом «Дом алхимика», первые две главы которого остались в его архиве... Но как же алхимическое «путешествие на край ночи»? Или Майринк, подобно Джону Ди, получил лишь «камень вместо Камня»?.. (В начале 20-х годов пылающие праведным гневом добродетельные прихожане штарнбергской кирхи не раз забрасывали дом писателя камнями...) Удалось ли ему обрести Новый Свет «обратной стороны мрака»? Да и закончилась ли его герметическая конкиста той сокровенной земли, где вечно цветет средь полярного льда золото розы на древке копья? следы огня «На альпийских высотах одного только орлиного крика, сотрясающего неподвижный горный воздух, бывает достаточно, чтобы какой-нибудь подтаявший сугроб вдруг осел, а за ним другой, третий, и вот уже целый искрящийся снежный пласт ползет вниз, стремительно набирает скорость и, увлекая за собой обломки скал и ледяные глыбы, сокрушительной лавиной уносится к подножию вершины, а неприступный шпиль, сбросивший с себя все темное, наносное и талое, победно вспыхивает на солнце своим вечным, переливающимся всеми цветами радуги льдом — то же и со мной: мое Я, поколебленное словами патриарха, дает трещину и начинает крошиться — скорлупка за скорлупкой отслаивается от Него что-то похожее на оболочку и устремляется вниз... Земля уходит из-под ног, в глазах меркнет, и душераздирающий свист заглушает окончание псалма... я проваливаюсь в бездну... "Сейчас удар — и все, конец, вдребезги!" Но нет пределов моему падению: скорость такая, что, кажется, вот-вот обгоню сам себя, а она растет и растет пропорционально той силе, с которой всасывает меня космическое Ничто; сердце не выдерживает, взбунтовавшаяся кровь, сойдя со своей привычной орбиты, устремляется через позвоночный ствол в крону, в мозг, прободает черепной свод и вырывается наружу огненным гейзером... Хруст — и мой костяк, смятый исполинскими жерновами скорости, мгновенно перемалывается в пыль... Потом... потом?.. Потом уже нет никакого "потом"!»[111] В конце зимы 1932 года сын писателя, Харро Фортунат, катаясь на лыжах, получает тяжелую травму позвоночника... Приговор врачей неумолим: поперечный миелит... Весной, во время одного из своих посещений клиники, Майринк, видя невыносимые муки сына, снимает боль наложением рук... Боль переходит к нему, засев между лопаток в том самом месте, что и у сына... Ночью 12 июля она неожиданно пропадает: обреченный до конца своих дней на инвалидное кресло, двадцатитрехлетний Фортунат делает то, что собирался сделать в этом же возрасте его отец, — кончает жизнь самоубийством следы огня Вена, 21 февраля 1934 Глубокоуважаемый господин Альт! С самого октября я нахожусь в Вене и, к сожалению, не могу Вам послать то, что обещала. Только в мае я буду у дочери в Штарнберге и смогу наконец исполнить Вашу просьбу — прислать Вам портрет и что-нибудь из рукописей моего мужа. Его смерть — было в ней что-то столь величественное, что я с тех пор называю ее Воскресением, — превратилась для нас в настоящую литургию, возвышенную, пронизанную самым чистым религиозным духом... После потрясшей всех нас смерти нашего любимого мальчика Густль утратил к жизни всякий интерес, дух его уже давно стремился в потустороннее, глаза становились все лучистее, а тело таяло прямо на глазах. Все это время он почти не говорил, сидел целыми днями, погрузившись в себя, и смотрел куда-то вдаль. 2 декабря в 11 вечера он сказал мне буквально следующее: «Сейчас я умру, пожалуйста, не отговаривай меня, момент разрешения слишком велик и важен... И, прошу, сколько бы мне ни пришлось еще страдать, не давай мне никаких обезболивающих средств — я хочу шагнуть через порог с поднятой головой и в полном сознании...» ♦ Вот так, с гордо поднятой головой и с просветленным лицом, без единой жалобы, без унизительных стенаний он ожидал смерть. Глаза его становились все лучезарнее, в половине седьмого утра в воскресенье 4 декабря он перестал дышать... Для всех нас огромной радостью явилось то, что его великий дух так гармонично разрешился от плоти. Земле досталось только тело, подобное мертвой хризалиде, — мотылек порхнул в сияющую высь. То гордое достоинство, с которым он встретил смерть, передалось и мне, не позволяя сгибаться под ударами судьбы. Итак, сначала одна смерть, потом другая — мой мальчик ушел точно так же, с гордо поднятой головой, почти с радостью... Своим примером они показали мне, что в смерти нет ничего страшного... Странно, но, несмотря на тяжелую утрату, я так богата! — Того сокровенного богатства, которое подарил мне Густль, никто и никогда не сможет меня лишить. С тайной радостью осознаю я свою «потустороннюю» связь с ними, а сознание того, что каждый день приближает меня к ним, делает ее еще больше... Густль умер из любви к своему мальчику, он бы умер вслед за каждым из нас — слишком сильна была его любовь к нам. Эта его великая любовь, наверное, лучше всяких объяснений поможет Вам понять его путь. С дружескими пожеланиями. Мена Майриик[112]. Седьмого декабря тело писателя обрело покой на кладбище в Штарнберге бок о бок с горячо любимым сыном, а его жене суждено было еще долго — она умерла 14 октября 1966 года в Перше в возрасте 93 лет — вспоминать воскресенье 4 декабря 1932 года, когда Густав Майринк закончил свое земное странствование и с королевским достоинством перешагнул ту бледную тень, которой до скончания времен назначено оставаться в глазах большей части смертных, не отмеченных жалом гностического змея, роковым, внушающим суеверный ужас порогом — тем самым, что изначально отделяет их жалкую земную «действительность» от безбрежного, пронизанного неизреченным светом океана Вечности... Автор статьи выражает глубокую признательность господину Эдуарду Франку: без тех малоизвестных, канувших в стихии периодической печати рассказов и статей Г. Майринка, которые он собрал в книге «Das Haus zur letzten Latern» (Frankfurt am Main; Berlin: Ullstein, 1993), ни одна более или менее серьезная биография великого австрийского писателя была бы невозможна. Владимир Крюков. 1996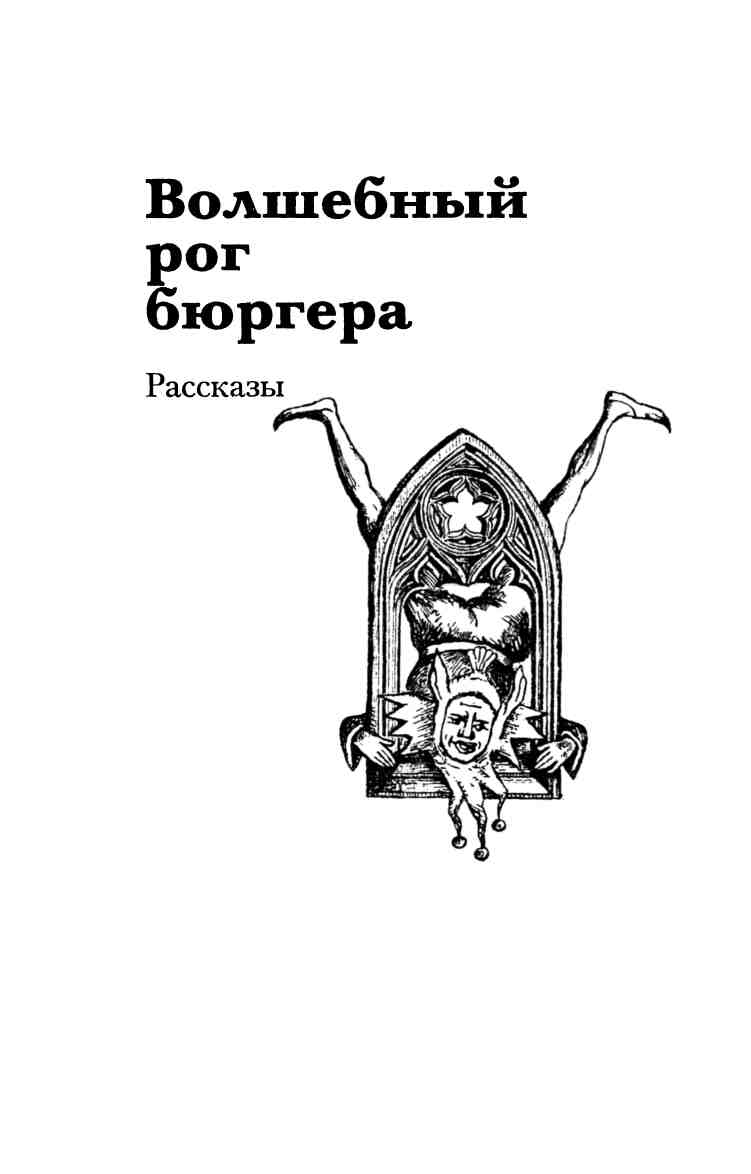
ВОЛШЕБНЫЙ РОГ БЮРГЕРА

Черная дыра
Вначале были слухи; передаваясь из уст в уста, проникали они в культурные центры Запада из Азии и были поначалу довольно бессвязны: якобы в Сиккиме, южнее Гималаев, какие-то совершенно необразованные паломники-полуварвары, так называемые госаины, открыли нечто поистине фантастическое. Английских газет, выходящих в Индии, слухи не миновали, однако русская пресса была информирована явно лучше, впрочем, люди сведущие ничего удивительного в этом не находили, ибо, как известно, индийский Сикким брезгливо сторонится всего английского. Видимо, поэтому весть о загадочном открытии проникла в Европу окольным путем: Петербург — Берлин. После демонстрации феномена ученые круги Берлина обуяло нечто весьма напоминавшее пляску святого Витта... Огромный зал, в стенах которого зачитывались раньше исключительно солидные научные доклады, был переполнен. В середине, на подиуме, стояли два индийских экспериментатора: госаин Деб Шумшер Джунг с изможденным лицом, разрисованным священным белым пеплом, и темнокожий брамин Раджендралаламитра — тонкий хлопковый шнур, знак кастовой принадлежности, пересекал его грудь слева направо. На свисавших с потолка проволоках на высоте человеческого роста были укреплены стеклянные химические колбы, содержавшие какую-то белесую пудру. Как пояснил переводчик — легко взрывающееся вещество, по-видимому, какое-то йодистое соединение. Госаин приблизился к одной из колб — аудитория замерла, обернул горлышко сосуда тонкой золотой цепочкой и закрепил концы на висках у брамина. Затем отступил, воздел руки и забормотал заклинательные мантры своей секты. Две аскетические фигуры застыли словно статуи. Подобную нечеловеческую неподвижность можно наблюдать только у арийских азиатов во время традиционных культовых медитаций. Черные глаза брамина были фиксированы на колбе. Публика сидела как завороженная. Многие закрывали глаза либо отводили в сторону, так как были уже на грани обморока. Зрелище таких окаменелых фигур всегда оказывает действие почти гипнотическое: кое-кто уже осведомлялся шепотом у соседа, не кажется ли тому, что лицо брамина временами как бы окутывается туманом. Однако это была иллюзия, туманом казался священный знак тилака на темной коже индуса — большое белое U; этот символ хранителя Вишну верующие рисуют на лбу, на груди и на руках. Внезапно в колбе сверкнула искра, и пудра взорвалась... Мгновение стоял дым, потом в сосуде возник индийский ландшафт красоты неописуемой. Брамин спроецировал свои мысли! Это был Тадж-Махал под Агрой, волшебный дворец Великого Могола Аурунгжеба, в котором тот несколько столетий назад велел заточить своего отца. Купол какой-то голубовато-снежной белизны — по сторонам стройные минареты — был той величественной красоты, которая повергает людей ниц. Его отражение плавало в бесконечном водном пути, искрящемся в обрамлении сонных кипарисов. Картина рождала смутную тоску по утраченной родине, забытой в глубоком сне вечно странствующей души. В зале — смятение, изумление, вопросы. Колбу открепили и пустили по рукам. Как пояснил переводчик, такой пластический мысленный снимок благодаря колоссальной несокрушимой силе воображения Раджендралаламитры фиксируется на месячный срок. Проекции же европейских мозгов по продолжительности и богатству красок не могут идти ни в какое сравнение. Экспериментировали много, и то брамин, то кто-либо из авторитетнейших ученых мужей закреплял у себя на висках золотую цепочку. Собственно, отчетливо были видны только мыслительные снимки математиков, но особенно странные результаты дали умы юридических светил: в склянке таинственно клубились какие-то неведомые туманности, явно не желавшие принимать никакой определенной формы. Однако всеобщее изумление и покачивание головами было вызвано проекцией, явленной в результате напряженнейшей умственной работы знаменитого профессора, специалиста по внутренним болезням, советника врачебной управы Маульдрешера. Тут даже церемонные азиаты пооткрывали рты: в экспериментальной колбе попеременно возникали то какое-то невероятное месиво из маленьких кусочков весьма непотребного цвета, то полупереваренный конгломерат из не поддающихся определению сгустков и каких-то объедков... — Смахивает на салат по-итальянски, — насмешливо заметил один теолог, однако сам весьма предусмотрительно предпочел от участия в экспериментах воздержаться. — Или на студень, — подал кто-то голос с задних рядов. Переводчик же подчеркнул, что настоящий студень получается тогда, когда пытливая естественнонаучная мысль, стремясь постигнуть фундаментальные тайны мироздания, воспаряет до абстрактных теорий. В объяснения природы феномена — как и каким образом — индусы не вдавались. «Сейчас не есть время. Сахиб иметь терпение. Завтра... послезавтра...» — бубнили они на ломаном немецком. Через два дня в другой европейской метрополии состоялась повторная демонстрация, на сей раз публичная. Вновь затаенное дыхание публики и крики изумления, когда духовная сила брамина материализовала изображение чудесной тибетской крепости Таклакот. Далее последовали маловразумительные мысленные снимки отцов города, местной профессуры и т. д. и т. п. Однако тамошние представители медицинского сословия, наученные горьким опытом своих германских коллег, были уже начеку и на все уговоры «думать в бутылку» лишь презрительно усмехались. Но вот приблизилась группа офицеров, и все сразу расступились. Ну, само собой разумеется!.. Защитники Отечества!.. — Давай, Густль, поднатужься, не посрами честь мундира! — подтолкнул своего приятеля лейтенант с напомаженным затылком. — Я?.. Я нет, пускай штафирки думают. — И все же я па-апрашу, па-апрашу кого-нибудь из господ... — надменно потребовал майор. Вперед выступил капитан: — Вот что, толмач, а можно мне вообразить что-нибудь эдакое... идэальное? — Да, но что конкретно, господин капитан? «Ну-ну, поглядим на этого пижона-идеалиста», — послышалось из толпы. — Я... — начал капитан, — ну... я бы хотел поразмышлять о славных традициях неподкупной офицерской чести! — Гм... — Переводчик потер подбородок. — Гм... я... мне кажется, господин капитан, гм... что кристальной твердости офицерского кодекса чести... гм... этим бутылочкам, пожалуй, не выдержать... Вперед протиснулся обер-лейтенант: — Позвольте-ка мне, приятель. — Верно!.. Правильно!.. Пустите Качмачека!.. — загомонили все сразу. — Вот кто настоящий мыслитель!.. Обер-лейтенант приложил цепочку к голове. — Прошу вас, — переводчик смущенно подал ему платок, — пожалуйста, помада изолирует. Госаин Деб Шумшер Джунг в красной набедренной повязке, с набеленным лицом, встал позади офицера. Внешность его была еще более устрашающей, чем в Берлине. Он воздел руки. Пять минут... Десять минут — ничего. От напряжения госаин стиснул зубы. Пот заливал глаза. Есть! Наконец... Правда, пудра не взорвалась, но какой-то черный бархатный шар, величиной с яблоко, свободно парил в бутылке. — Тару мыть надо, — смущенно усмехнулся «мыслитель» и поспешно ретировался со сцены. Толпа покатывалась со смеху. Удивленный брамин взял бутылку, при этом висевший внутри шар коснулся стеклянной стенки. Трах! В ту же секунду колба разлетелась вдребезги, и осколки, словно притянутые мощным магнитом, полетели в шар и бесследно исчезли... Черное шарообразное тело неподвижно повисло в пространстве... Собственно, предмет совсем даже не походил на шар, скорее производил впечатление зияющей дыры. Да это и было не что иное, как дыра. Это было абсолютное математическое «Ничто»! Дальнейшие события развивались логично и с головокружительной быстротой. Все, граничившее с черной дырой, повинуясь неизбежным законам природы, устремилось в «Ничто», чтобы мгновенно стать таким же «Ничто», то есть бесследно исчезнуть. Раздался пронзительный свист, нарастающий с каждой секундой, — воздух из зала всасывался в шар. Клочки бумаги, перчатки, дамские вуали — все захватывалось вихрем. Кто-то из доблестных господ офицеров ткнул саблей в страшную дырку — лезвия как не бывало... — Ну-с, это переходит уже всякие границы, — заявил майор, — терпеть это далее я не намерен. Идемте, господа, идемте. Па-апрашу вас, па-апрашу... — Качмачек, да что же ты там такого напридумал? — спрашивали господа, покидая зал. — Я? Ничего... Вот еще — думать! При звуке жуткого, все более нарастающего свиста толпа, охваченная паническим ужасом, ринулась к дверям. Индусы остались одни. — Вселенная, которую сотворил Брахма, а хранит Вишну и разрушает Шива, будет постепенно всосана черной дырой, — торжественно объявил Раджендралаламитра. — Брат, это проклятье за то, что мы пришли на Запад! — Ну что ж, — пробормотал госаин, — всем нам суждено когда-нибудь негативное царство бытия.Горячий солдат
Армейские медики сбились с ног, пока прооперировали всех раненых из иностранного легиона. Ружья у аннамитов были до того скверные, что сквозные ранения практически отсутствовали — почти все пули если уж попадали, то так и оставались в телах бедных легионеров, и без серьезного хирургического вмешательства извлечь их не представлялось никакой возможности. Хороню еще, что теперь даже те, кто не умел ни читать, ни писать, знали о грандиозных достижениях современной медицины и потому безропотно укладывались на операционный стол — впрочем, ничего другого им и не оставалось. Большая часть, правда, умирали, но не во время операции, а позже, и виноваты были, разумеется, аннамиты — «эти варвары не подвергают свои пули антисептической обработке, либо болезнетворные бактерии оседают на них уже в полете». Так полагал в своих рапортах маститый профессор Мостшедель, по решению правительства и в интересах науки сопровождавший иностранный легион, и других мнений на сей счет быть не могло. Благодаря принятым профессором энергичным мерам солдаты и туземцы теперь робко понижали голос до шепота, рассказывая друг другу о тех чудесных исцелениях, которые совершал мудрый индийский отшельник Мукхопадайя. Перестрелка давно закончилась, когда две женщины-аннамитки внесли в лазарет последнего раненого. Им оказался рядовой Вацлав Завадил, родом из Богемии. А когда валившийся с ног дежурный врач хмуро поинтересовался, откуда это их принесло в столь поздний час, женщины рассказали, что нашли Завадила лежавшим замертво перед хижиной Мукхопадайя и попытались вернуть к жизни, вливая в рот какую-то странную, опалового цвета жидкость — единственное, что посчастливилось отыскать в покинутой лачуге факира. Обнаружить какие-либо раны врачу не удалось, а на свои вопросы он получил в ответ лишь нечленораздельное мычание, которое принял за звуки неизвестного славянского диалекта. На всякий случай назначив клистир, бравый эскулап отправился в офицерскую палатку. Веселье у господ офицеров било ключом — короткая, но кровопролитная перестрелка нарушила привычное однообразие. Мостшедель уже заканчивал небольшой панегирик в честь профессора Шарко — хотел потрафить присутствующим французским коллегам, чтобы эти лягушатники не слишком болезненно реагировали на превосходство германской медицины, — когда в дверях появилась индийская санитарка из Красного Креста и доложила на ломаном французском: — Сержант Анри Серполле — летальный исход, горнист Вацлав Завадил — лихорадка, сорок один и две десятых градуса. — Ох уж эти лукавые славяне, — буркнул дежурный врач, — ни одной раны — и эдакая горячка! Получив распоряжение засунуть в пасть солдату — разумеется, тому, что еще жив, — три грамма хинина, санитарка удалилась. Упоминание о хинине послужило профессору Мостшеделю исходным пунктом для пространной ученой речи, в коей он восславил триумф науки, сумевшей разглядеть целительные свойства хинина даже в грубых лапах туземцев, которых природа, словно слепых кротов, ткнула носом в это чудодейственное средство. Ну а потом его понесло... Оседлав своего конька, он пустился рассуждать о спастическом спинальном параличе; когда глаза слушателей стали уже стекленеть, санитарка появилась вновь. — Горнист Вацлав Завадил — лихорадка, сорок девять градусов. Необходим термометр подлиннее... — ...который ему уже не понадобится, — усмехнулся профессор. Штабс-лекарь медленно поднялся и с угрожающим видом стал приближаться к сиделке; та на шаг отступила. — Ну-с, господа, извольте видеть, — повернулся он к коллегам, — санитарка в бреду, как и солдат Завадил... Двойной при падок! Насмеявшись вволю, господа офицеры отошли ко сну. — Господин штабс-лекарь просят срочно пожаловать, — гаркнул вестовой профессору в ухо, едва лишь первые солнечные лучи позолотили вершину соседнего холма. Все взгляды с надеждой обратились к профессору, который прошествовал прямо к койке Завадила. — Пятьдесят четыре по Реомюру, невероятно! — простонал бледный как полотно штабс-лекарь. Мостшедель недоверчиво хмыкнул, однако, ожегшись о лоб больного, поспешно отдернул руку. — Поднимите-ка мне историю болезни, — с легким замешательством в голосе сказал он штабс-лекарю после долгого мучительного молчания. — Историю болезни сюда! И не толпиться здесь без надобности! — рявкнул штабс-лекарь врачам помоложе. — А может, Бхагасан Шри Мукхопадайя знает... — отважилась было индийская санитарка. — Скажете, когда вас спросят, — оборвал ее штабе. — Вечно эти туземцы со своими проклятыми допотопными суевериями, — извиняющимся тоном обратился он к Мостшеделю. — Профаны! Что с них взять! Всегда путают причины и следствия, — примирительно заметил профессор. — Сейчас мне необходимо сосредоточиться, а историю болезни вы мне, голубчик, все ж таки пришлите... — Ну-с, молодой человек, как успехи? — благосклонно осведомился ученый у молоденького фельдшера, вслед за которым в комнату хлынула толпа жаждущих разъяснений офицеров. — Температура поднялась до восьмидесяти... Профессор нетерпеливо отмахнулся: — Ну и?..— Десять лет назад пациент перенес тиф, дифтерит в легкой форме — двадцать лет назад; отец умер с проломленным черепом, мать — от сотрясения мозга, дед — с проломленным черепом, бабка — от сотрясения мозга! Видите ли, пациент и вся его родня — выходцы из Богемии, — пояснил фельдшер. — Состояние, исключая температуру, нормальное; все абдоминальные функции — вялые; кроме легкой контузии затылочной части черепа, никаких повреждений не обнаружено. Видимо, эта опаловая жидкость в хижине факира Мукхопадайя... — Ближе к делу, молодой человек, не отвлекайтесь, — напомнил профессор и жестом пригласил гостей садиться на стояв-* шие кругом бамбуковые сундуки. — Господа, сегодня утром мне с первого взгляда все стало ясно, однако я решил предоставить вам возможность самим установить единственно правильный диагноз и ограничился одними намеками. Итак, господа, мы имеем некий весьма редкий случай спонтанного температурного скачка, обусловленного травмой термального центра (с легким оттенком пренебрежения в сторону профанов), — центра, который находится в теменной части коры головного мозга и на базе наследственных и благоприобретенных свойств определяет температурные колебания человеческого тела. Рассмотрим далее строение черепа данного субъекта... Профессор был прерван трубным зовом местной пожарной охраны, состоявшей из нескольких солдат-инвалидов и китайских кули; оповещая о беде, он доносился со стороны миссии. С полковником во главе все ринулись на улицу... С холма, на котором помещался лазарет, вниз, к озеру богини Парвати, подобно живому факелу, мчался, преследуемый улюлюкающей толпой, горнист Вацлав Завадил, закутанный в пылающие лохмотья. У здания миссии китайская пожарная охрана встретила огнеопасного солдата сильнейшей струей воды, которая хоть и сбила беднягу с ног, но в ту же секунду обратила огонь в гигантское облако пара... Как выяснилось, в лазарете жар горниста достиг в конце концов такой степени, что предметы, стоявшие по соседству, начали постепенно обугливаться и санитары были вынуждены вытолкать Завадила на улицу железными баграми; на полу и на лестнице остались выжженные пятна — следы его ног; казалось, там прогуливался сам дьявол... И вот теперь голый Завадил — последние, уцелевшие клочья одежды были сорваны струей воды — покоился во дворе миссии, дымился как утюг и очень стеснялся своей наготы. Какой-то находчивый патер-иезуит бросил ему с балкона старый асбестовый костюм вулканолога, предназначенный для работы с лавой; Завадил облачился в него со словами благодарности... — Однако, черт возьми, почему же парень не сгорел дотла? — допытывался полковник у профессора Мостшеделя. — Ваш стратегический талант, господин полковник, меня всегда приводил в восторг, — раздраженно ответствовал ученый, — но медицину вы уж, пожалуйста, предоставьте нам, врачам. Мы обязаны придерживаться научно обоснованных фактов, и выходить за их рамки нам строжайше противопоказано! Сей поистине снайперский диагноз был с восторгом встречен всеми армейскими медиками. Вечерами господа офицеры по-прежнему сходились в капитанской палатке, и отныне уже ничто не нарушало царившего там веселья... Только аннамиты вспоминали еще Вацлава Завадила; время от времени его видели на другом конце озера сидящим у подножия каменного храма богини Парвати. Раскаленные докрасна пуговицы его асбестовой мантии ярко сияли... Поговаривали, что жрецы храма жарят на нем домашнюю птицу; другие же, напротив, утверждали, что он находится сейчас в стадии охлаждения и собирается, остыв до 50 градусов, вернуться на родину.
Химера
Зрелое, послеполуденное солнце щедро изливает свой жар на серый булыжник древней площади, досыпающей последние часы воскресного затишья. Бессильно прислонившись друг к другу, забылись тяжким сном старинные домики с кривыми, сварливо скрипучими деревянными лестницами, укромными мрачноватыми закутками и мебелью красного дерева, верой и правдой отслужившей свой век в крошечных старомодных гостиных. Всеми своими распахнутыми настежь оконцами ловят они горячий летний воздух. Одинокий медленно пересекает площадь, направляясь к костелу святого Фомы, который с благочестивой кротостью поглядывает на свое окружение, сломленное мертвым беспробудным сном. Входит. Запах ладана. Тяжелая дверь со стоном откидывается назад, на свое потертое, обитое чем-то мягким ложе, и залитого ярким солнечным сиянием мира как не бывало — дерзкие пронырливые лучи, преломляясь в витражах узких готических окон, словно разбитые раскаяньем, смиренно и униженно стекают на массивные каменные квадры, под которыми покоятся священные останки тех, кто навеки избавлен от тягот мирской суеты. Одинокий вдыхает мертвый воздух. Под сенью благоговейной тишины звучание мира сего умерщвлено и предано анафеме. Сердце, вкусив темный аромат ладана, затихает в мерном нерушимом покое. Одинокий окидывает взглядом ряды молитвенных скамей — почтительно застыли они перед алтарем в ожидании какого то грядущего неведомого чуда. Один из тех немногих смертных, кому удалось победить собственные страсти и новыми, прозревшими очами заглянуть в потустороннее, видит он сокровенную изнанку жизни, ее сумеречную обратную сторону' — смутную, безмолвную, недоступную... Тайные запретные мысли, незаконно рожденные под этими гордыми сводами, на ощупь, как слепые, бродят по костелу — бескровные калеки, которым не досгупны ни горе, ни радость, жалкие ублюдки, болезненные, мертвенно-бледные исчадия мрака... Торжественно покачиваются красные светильники на длинных, безропотно терпеливых цепях — это, наверное, крыла золотых архангелов приводят их в движение, больше как будто некому нарушить мертвое оцепенение, царящее в сосредоточенно молчаливом нефе. И вдруг... тихий шорох... Там, там, под скамьями... Вот оно — шмыгнуло в глубину рядов и затаилось... А теперь возникло из-за колонны... Голубоватая кисть человеческой руки!.. Быстро-быстро семенит по полу на проворных пальцах... Призрачная паучиха!.. Замирает... Прислушивается... Короткая перебежка... Снова остановка... Привычно взбегает по металлической стойке и ныряет в церковную кружку... Внутри вкрадчиво позвякивают серебряные монетки. Зачарованно проводив глазами вороватую пятерню, одинокий замечает вдруг какого-то старика, облаченного в тень старинной пилястры. Серьезно смотрят они друг на друга. — Много их здесь, жадных тварей... — еле слышно шепчет старик. Одинокий кивает... Глубина храма тонет в кромешной темноте, и оттуда, из первозданного хаоса, что-то надвигается, медленно, очень медленно оформляясь в какие-то смутные образы... Улитки-святоши! Человеческие бюсты на скользких холодных улиточьих телах бесшумно и неотвратимо, дюйм за дюймом, подползают по каменным плитам... Женские головы — в платках, с черными католическими глазами... — Христа ради нищенки, и хлеб их насущный — пустые лицемерные молитвы, — вздыхает старик. — Днями напролет просиживают они в преддверьях храмов, и все их видят, но никто не узнает. Во время мессы, когда устами священника глаголет Истина, эти слизняки уползают в звуконепроницаемую скорлупу своих раковин и там погружаются в спячку. — Выходит, мое присутствие помешало молитвам этих убогих? — спрашивает одинокий. Старше заходит с левой стороны: — Зачем зажигать свечу, когда светит солнце? Тот, чьи ноги омывают воды жизни, сам воплощенная молитва! Ваг уж не думал, не гадал, что сподоблюсь когда-нибудь повстречать чело века, способного видеть и слышать! А желтые лукавые «зайчики» так и скачут, так и пляшут по древним суровым стенам, подобно обманчивым болотным огонькам... — Теперь смотрите сюда... Вот, вот и вот! Видите?.. Золотые жилы! Прямо под этими плитами! — призрачно зыблется в полутьме лицо старика. Одинокий смущенно качает головой: — Вы ошиблись, почтеннейший, мой взор не проникает так глубоко. Старик берет его под руку и ведет к алтарю. Молча висит на кресте Распятый. Тихо колышутся тени в темных боковых галереях за вычурными, искусно выгнутыми решетками: прежние обитательницы богадельни, их призраки, — чуждые миру сему, самозабвенно-аскетичные, как запах ладана, они явились из тех канувших в Лету времен, которым уже никогда не суждено вернуться. Еле слышно шелестят черные шелковые одежды... Старик указывает на пол: — Здесь оно подходит к самой поверхности. Копнуть пару раз под плитами — и сплошное золото, широкая сверкающая лента... Жилы тянутся через всю площадь и дальше под дома ми... Самое удивительное, что еще никто не наткнулся на них, даже когда укладывали мостовую... Об этом сокровище известно лишь мне одному... Втечение долгих лет хранил я свою тайну... Вплоть до сегодняшнего дня... Ибо не встретился мне человек с чистым сердцем... Дзинь!.. За стеклянной дверцей реликвария из костяной руки святого Фомы выпало серебряное сердце... Старик не слышит. Он сейчас далеко. Неподвижный взгляд экстатически расширенных глаз вперен в бесконечность: — Тем, кто придет сегодня, не понадобится просить милостыню завтра. И да воздвигнется храм из чистого злата! Перевозчик переправляет... в последний раз... Шепот седовласого пророка подобно тончайшему удушливому праху ушедших столетий осыпается в душу пришельца. Здесь, прямо под ногами!.. Сверкающий скипетр зачарованной вековым сном власти! Только нагнуться и поднять! А перед глазами уже полыхают неистовые языки: даже если на этом золоте проклятье, неужели милосердие и любовь к ближним не снимает с него дьявольских ков?.. Ведь тысячи ни в чем не повинных людей умирают от голода!.. На башне пробило семь. Воздух еще дрожит от мощного гула. Мысли одинокого, подхваченные колокольным звоном, уносятся далеко, в мир, пресыщенный пышным искусством, блистающий непомерной роскошью и великолепием... Лихорадочный озноб пробегает по его телу. Широко раскрытыми глазами смотрит он на старика... Как изменилось все вокруг! Грозным эхом отдаются под сводами шаги. Углы скамеек оббиты, ободраны слоновьими ногами каменных колонн. Выбеленные статуи римских первосвященников покрывает толстый слой пыли. — Вы... вы... наяву... своими собственными глазами видели... металл?.. Вы держали его в руках?.. Старик кивает. — Там, в монастырском саду, рядом со статуей Пречистой Девы, среди цветущих лилий, жила выходит на поверхность. В его руках появляется голубоватая капсула. — Здесь, здесь... И он благоговейно передает одинокому что-то зазубренное, угловатое, с острыми краями... Оба молчат. Издали доносится шум. Он все ближе и ближе: народ возвращается с зеленых лугов. Завтра рабочий день. Женщины несут усталых детей. Одинокий прячет подарок в карман и растроганно сжимает старческую руку. Оглядывается на алтарь... И вновь таинственная аура умиротворенности окутывает его: «Все, идущее от сердца, рождено в сердце и пребывает в согласии с сердцем». Он осеняет себя крестным знамением и направляется к выходу. Там, прислонившись к косяку полуоткрытой двери, его встречает вконец измотанный собственной бестолковой суетой и гомоном день. Свежий вечерний сквознячок разгуливает по костелу. По мощенной булыжником мостовой с грохотом проезжают украшенные листвой телеги, полные веселых смеющихся людей. В багряных лучах заходящего солнца ажурные аркады древних зданий кажутся еще более легкими и изящными. Подперев плечом монументальный постамент возвышающегося посреди площади памятника, пришелец погружается в грезы: вот он, сгорая от желания поделиться со всем миром своей радостной вестью, кричит, и голос его души разносится все дальше и дальше... И слышит он, как смолкает беззаботный смех. Здания рушатся, храмы обращаются во прах... Растоптанные, в пыли, лежат заплаканные лилии в монастырском саду... Разверзаются недра земные, и демоны ненависти из преисподней обращают душераздирающий вопль свой к небесам!.. Пестик какой-то исполинской толчеи с сокрушительной силой раз за разом низвергается вниз, ровняя с землей город, дробя каменные глыбы, растирая кровоточащие человеческие сердца в тончайшую золотую пыль... Мечтатель в ужасе трясет головой и слышит доносящийся из собственного сердца звонкий голос сокровенного Мастера: «Тот, кому никакое злое дело не покажется слишком низким и никакая златая гора — слишком высокой... Вот человек бескорыстный, мудрый, решительный, истинно сущий». Что-то уж слишком легок угловатый слиток для самородного золота... Одинокий извлекает его из кармана. Человеческий позвонок!Фиолетовая смерть
Тибетец замолчал. Худощавая фигура еще несколько мгновений оставалась прямой и неподвижной; потом исчезла в джунглях... Сэр Роджер Торнтон задумчиво смотрел на пламя: не будь этот тибетец «санньясин» — кающийся, который, кроме того, совершает сейчас паломничество в Бенарес, он бы не поверил ни единому слову — но санньясины не лгут, равно как не могут быть и обмануты. А этот жуткий зловещий тик на лице азиата! Или то была просто игра огненных бликов, так странно отраженная в раскосых монгольских глазах? Тибетцы ненавидели европейцев и ревниво оберегали свои магические тайны, с помощью которых надеялись когда-нибудь, в великий день, уничтожить высокомерных чужеземцев, Как бы то ни было, а он, сэр Ганнибал Роджер Торнтон, должен собственными глазами убедиться в том, что этот диковинный народ действительно располагает какими-то оккультными силами. Но без помощников ему не обойтись, нужны настоящие мужчины, которые не дрогнут при виде потусторонних ужасов... Англичанин окинул взглядом своих спутников: из азиатов надежен только бесстрашный, как хищный зверь, афганец, но он суеверен! Следовательно, остается только европейский слуга... Сэр Роджер коснулся его тростью... Помпеи Ябурек с десяти лет совершенно глух, но любое, даже совсем незнакомое слово умеет читать с губ. Четко артикулируя каждый звук, сэр Роджер Торнтон передал ему рассказ паломника: примерно в двадцати дневных переходах в одной из боковых долин Химавата находится чрезвычайно странный участок. С трех сторон — отвесные скалы; единственный доступ отрезан исходящим из земли ядовитым газом, который мгновенно убивает все живое. В этом ущелье, площадью около пятидесяти квадратных английских миль, среди буйной растительности обитает маленькое племя; оно относится к тибетской расе, носит красные островерхие шапки и поклоняется какому-то злому сатанинскому существу в образе павлина. Это дьявольское отродье столетиями учило обитателей долины черной магии, посвящая их в тайны таких инфернальных приемов, которые в день, когда исполнятся сроки, сотрут с лица земли большую часть ее обитателей. Все дело якобы заключается в каком-то особом заклинании, ритмический строй которого пробуждает колоссальные смертоносные энергии, способные мгновенно уничтожить целую армию. Помпеи усмехнулся. Далее сэр Роджер объяснил ему, что с помощью водолазного шлема и ранца со сжатым воздухом собирается преодолеть отравленные зоны и проникнуть в самое нутро таинственного каньона. Помпеи Ябурек кивнул и удовлетворенно потер свои давно не мытые руки... Тибетец не солгал: внизу, скрытое пышными зарослями девственной зелени, простиралось загадочное ущелье; бурый, голый, как пустыня, пояс зыбкой, высушенной ветром земли отделял эту область от внешнего мира. Исходящие из земли испарения были чистым углекислым газом. Сэр Роджер Торнтон с холма оценил ширину пояса в полчаса пути и назначил экспедицию на следующее утро. Доставленное из Бомбея водолазное снаряжение работало безупречно. Помпеи нес две многозарядные винтовки и точные приборы — с ними его господин никогда не расставался. Афганец от участия в походе отказался наотрез, объяснив, что готов отправиться когда угодно и куда угодно, хоть в логово к тигру, однако очень хорошо подумает, прежде чем согласится подвергнуть опасности свою бессмертную душу. Итак, два европейца оказались единственными смельчаками. Медные шлемы сверкали на солнце и бросали фантастические тени на пористую почву, откуда бесчисленными тонкими струйками сочился ядовитый газ. Экономя сжатый воздух, сэр Роджер шагал очень быстро. Перед глазами все плыло — какие-то колеблющиеся формы, как сквозь толстый водяной слой. Преломляясь, солнечный свет казался каким-то потусторонне зеленым, и далекие глетчеры — «крыша мира» с ее исполинскими профилями — тонули в смутном изумрудном сиянии, подобно глубоководному ландшафту призрачного царства мертвых... Путешественники вышли на свежий луг; сэр Роджер зажег спичку и проверил воздух. Шлемы и ранцы были сняты. Позади висела зыбкая газовая завеса, издали напоминавшая прозрачную стенку гигантского аквариума. В воздухе — дурманящий аромат цветов амберии. Переливчатые, в ладонь величиной мотыльки со странным рисунком сидели на неподвижных цветах, распластав крылья, словно раскрытые страницы магической книги. Соблюдая небольшую дистанцию, путешественники шагали к мешавшей обзору лесной опушке. Сэр Роджер подал своему глухому слуге знак — ему послышался какой-то звук. Помпеи взвел курок... За опушкой перед ними открылся луг. Около сотни человек, очевидно то самое загадочное племя, в красных островерхих шапках стояли полукругом едва ли в четверти мили от них: незваных гостей уже ожидали. Сэр Торнтон бесстрашно шел на сближение; Помпеи держался неподалеку. Несмотря на обычную одежду из козьего меха, тибетцы весьма отдаленно походили на homo sapiens — столь устрашающе уродливы были их лица, с застывшим выражением какой-то нечеловеческой, в ужас повергающей злобы. Позволив путешественникам подойти поближе, они по команде своего вождя разом, как один человек, плотно зажали уши и изо всех сил что-то прокричали... Помпеи Ябурек принял странные действия толпы за сигнал к атаке и, вскинув винтовку, вопросительно взглянул на своего господина. И тут его верное сердце сжалось: прозрачная воронка, образованная вихрем зыбкого газа, похожего на тот, сквозь который они совсем недавно прошли, накрыла его господина. Фигура сэра Торнтона утратила контуры, их словно стер этот вихрь — голова заострилась, тело, словно подтаяв, осело, и на месте, где мгновением раньше высился статный жилистый англичанин, стояла теперь какая-то фиолетовая кегля, по форме и величине напоминавшая сахарную голову... Глухой Помпеи затрясся в дикой ярости. Тибетцы, выпучив от усердия глаза, все еще дружно, хором, что-то выкликали, и он, пытаясь понять, напряженно всматривался в их губы. Это было одно и то же слово!.. Внезапно вождь прыгнул вперед... все замолчали и опустили руки... Потом, подобно пантерам, бросились на Помпея. Тот как бешеный палил из своей многозарядки. Нападавшие на секунду оторопели. И вдруг с его языка совершенно непроизвольно сорвалось то самое слово, которое он только что прочел на их губах. «Амэлэн... Амэлэн!» — ревел он так, что вся долина оглушительно загремела грозовыми раскатами. Голова кружилась, перед глазами — словно толстые стекла, земля уходила из-под ног... Это продолжалось всего лишь мгновение, и вот он снова видит ясно и отчетливо... Тибетцы исчезли — как и его господин; на их месте торчали бесчисленные сахарные головы фиолетового цвета. Вождь был еще жив. Вместо ног — голубоватое желе, верхняя часть тела уже начала съеживаться; казалось, какая-то невидимая, абсолютно прозрачная сущность, заглотив человека целиком, переваривала его заживо. В отличие от своих соплеменников, носивших красные шапки, голова вождя была увенчана каким-то необычным, похожим на митру, сооружением, с которого смотрели живые желтые глаза. Приклад Ябурека с размаху опустился ему на череп, однако в последний момент умирающий все же успел метнуть кривой нож и ранил европейца в ногу. Помпеи огляделся. Вокруг ни единой живой души. Аромат цветов амберии сгустился и стал почти невыносимым. Казалось, он исходил от фиолетовых кеглей, которые сейчас осматривал Помпеи. Все они были подобны друг другу и состояли из одинаковой светло-фиолетовой студенистой слизи. Отыскать останки сэра Роджера Торнтона среди этих фиолетовых пирамид было невозможно. Скрипнув зубами, Помпеи победоносно попрал стопой физиономию поверженного тибетского вождя и двинулся в обратный путь. Сверкавшие на солнце медные шлемы он еще издали различил в траве. Помпеи приладил ранец и вступил в газовую зону. Казалось, пути не будет конца... Слезы струились по щекам бедняги... О горе, его господин мертв! И погибнуть здесь, вдали от цивилизации, в этой богом забытой Индии! Ледяные исполины Гималаев разевали к небесам свои пасти — что им страданье крошечного человеческого сердца!.. Осмыслить случившейся трагедии Помпеи Ябурек так и не сумел, однако, верный своему долгу, все точно, слово в слово, как видел, изложил на бумаге и отправил в Бомбей на адрес секретаря своего господина: улица Адеритолла, 17. Доставить послание вызвался афганец, так как дни Помпея были уже сочтены: нож тибетца оказался отравленным... «Един Аллах, и Мухаммад пророк Его», — молился вернувшийся из Бомбея афганец, касаясь лбом земли. Охотники хинду осыпали тело цветами и с благочестивыми песнопениями предали огню... Ознакомившись со страшным посланием, секретарь Али Мурад Бей побелел и, не теряя ни минуты, отправил бумаги в редакцию «Индийской газеты». Началось светопреставление!.. «Индийская газета» с публикацией «Происшествие с сэром Роджером Торнтоном» вышла на следующий день с опозданием на добрых три часа. В этом был повинен один странный и зловещий инцидент: редактор газеты мистер Бирендранат На-ороджер и двое служащих, которые, как обычно, после полуночи вместе с ним проверяли перед выпуском номер, бесследно исчезли из закрытого кабинета. Вместо них на полу стояли три фиолетовых желеобразных конуса, а между ними валялся свежеотпечатанный газетный лист. Пока полиция с присущей ей чванливой обстоятельностью сочиняла первые протоколы, государственные учреждения были буквально наводнены бесчисленными донесениями об аналогичных инцидентах. Люди читали газеты, обменивались мнением и, отчаянно жестикулируя, дюжинами исчезали на глазах повергнутой в ужас толпы, в возбуждении заполнившей улицы. На лестницах, рынках, в переулках — всюду, куда бы ни упал взор, в глазах рябило от множества маленьких фиолетовых пирамидок... Еще до прихода сумерек население Бомбея сократилось наполовину. Официальное санитарное предписание обязывало немедленно прекратить все внешние сношения. В соответствии с циркуляром гавань была закрыта, дабы воспрепятствовать дальнейшему распространению эпидемии, так как, очевидно, лишь о ней могла идти речь в данном случае. Телеграф работал день и ночь, слог за слогом рассылая через океан, во все концы мира, кошмарное «Происшествие с сэром Торнтоном». Уже на следующий день карантин был снят как мера явно запоздалая. Со всех сторон поступали леденящие кровь вести о фиолетовой смерти, вспыхнувшей повсюду почти одновременно и грозившей населению земного шара полным уничтожением. Все обезумели, цивилизованный мир походил на гигантский муравейник, в который деревенский мальчишка сунул свою носогрейку. В Германии эпидемия прежде всего поразила портовый, падкий до всего сенсационного Гамбург; Австрия с неделю оставалась неуязвимой — как известно, там читают только местную хронику. Особенно потрясла жителей Гамбурга первая вспышка эпидемии... Ранним утром пастор Штюлькен, достигший благодаря почтенному возрасту глухоты почти абсолютной, сидел за кофе в кругу «чад своих возлюбленных»: старшего, Теобальда, с длинной студенческой трубкой, верной супруги Джетты, Минхен, Тинхен — словом, всех, всех, всех. Дряхлый глава семейства развернул только что полученную английскую газету и вслух зачитал своим домашним «Происшествие с сэром Роджером Торнтоном». Справившись со словом «амэлэн», он хотел подкрепиться глоточком ароматного кофе, как вдруг с ужасом обнаружил себя одиноко восседающим в кругу каких-то кеглей из фиолетовой слизи. В одной еще дымилась длинная студенческая трубка... Все четырнадцать душ призвал к себе Господь! Благочестивый старец рухнул без чувств... Спустя неделю большая часть человечества была превращена в фиолетовое бланманже... Однако малую толику света все же удалось пролить на эти зловещие события; свершить сие посчастливилось одному немецкому ученому. То обстоятельство, что эпидемия щадила глухих и глухонемых, навело его на совершенно правильную мысль об акустической природе феномена. В своей одинокой келье он начертал пространный ученый доклад и широко оповестил о своем публичном выступлении. В целом его анализ состоял из ссылок на малоизвестные индийские традиционные тексты, трактующие о возникновении астральных вихревых флюидов при произнесении некоторых сакральных формул и паролей, — все это он подкрепил новейшими открытиями в области лучевой и вибрационной теории... Доклад состоялся в Берлине. Зачитывая длиннейшие цитаты из своей рукописи, докладчик вынужден был прибегнуть к помощи рупора — столь невероятно огромной была аудитория. Эту знаменательную речь заключал весьма лапидарный рецепт: «Ступайте к отоларингологу, он сделает вас глухими и неуязвимыми для слова "амэлэн"...» Разумеется, едва с губ рассеянного ученого мужа слетел последний звук проклятого тибетского заклинания, как от него и его слушателей остались только мертвые студенистые кегли... Рукопись, однако, уцелела, со временем она стала известной, появились последователи... Таким образом человечество было спасено от тотальной катастрофы. Через несколько десятилетий — утверждают, что это случится в 1950 году, — земной шар будет населять новое глухонемое поколение. И вот — нравы и обычаи иные, чины и состояния сменили своих владельцев. Миром правит «Ухо — Горло — Нос». Ноты к средневековым алхимическим рецептам взяты под стражу; Моцарт, Бетховен, Вагнер преданы анафеме, как в свое время Альберт Великий и Бомбаст Парацельс. Теперь только в застенках музеев с особого соизволения можно увидеть, как дряхлый запыленный рояль скалит свои гнилые зубы... Постскриптум автора: да поостережется почтенный и благонамеренный читатель громко произносить слово «амэлэн».Внушение
23 сентября Свершилось. Теперь, когда моя система доведена до конца, страх более не властен надо мной. Ни один человек в мире не сможет расшифровать мою тайнопись. И очень хорошо — есть возможность спокойно, без спешки, не опасаясь коварного удара исподтишка, все заранее продумать вплоть до мельчайших деталей с точки зрения самых различных областей человеческого знания. Эти записи будут моим дневником, куда я смогу, ничего не опасаясь, записывать все, что сочту необходимым для самоанализа. И шифр, обязательно шифр — одного тайника недостаточно, какая-нибудь глупая случайность, и все откроется... Не забыть: самые тайные тайники — самые ненадежные. Как абсурдно все, чему нас учат в детстве! Однако с годами я научился смотреть в корень и теперь знаю совершенно точно, как подавить в себе эмбрион страха. Одни утверждают, что совесть есть, другие отрицают; таким образом, для тех и других — это проблема и повод для дискуссий. Но истина всегда проста: совесть есть и ее нет — смотря по тому, верят в нее или нет. Моя вера в совесть — это просто самовнушение. Ничего больше. Здесь есть одна странность: если я верю в совесть, то она не только возникает, но и противостоит - сама по себе — моим желаниям и воле... «Противо-стоит»! Странно! Итак, Я, которое я вообразил, становится напротив того Я, каким я его создал, и обретает отныне полную независимость... Но точно так же, по всей видимости, обстоит дело и с другими понятиями. Например, стоит кому-нибудь заговорить об убийстве, и мое сердце начинает биться чаще, сам же я веду себя как ни в чем не бывало и нисколько не беспокоюсь, что смогут напасть на мой след. А как же иначе? Во мне нет и тени страха — сомнений тут быть не может: слишком пристально я слежу за собой, чтобы это могло ускользнуть от моего внимания; а сердце — сердце начинает биться чаще... Ну и пусть его!.. Поистине из всего, что когда-либо выдумала Церковь, эта идея с совестью — самое дьявольское измышление. Интересно, кто первый посеял эту мысль в мир?! Какой-нибудь грешник? Едва ли! А может, безгрешный? Так называемый праведник? Но каким образом праведник мог охватить разумом те инфернальные бездны, которые сокрыты в этой идее?! Здесь конечно же не обошлось без какого-нибудь благообразного старца, который взял да и внушил идею совести — как пугало — чадам своим непослушным. Инстинктивная реакция старости, сознающей свою беззащитность перед агрессивным напором юности... В детстве — очень хорошо это помню — я нисколько не сомневался, что призраки мертвых преследуют убийцу по пятам и являются ему в кошмарах. «Убийца»! До чего же хитро составлено это словечко!.. «Убийца»! В нем так и слышится какой-то задушенный вопль. По-моему, весь ужас заключен в букве «й», придавленной свинцовым «ц»... И до чего ловко обложили люди с внушенным сознанием нас, одиночек! Но я-то знаю, как нейтрализовать их коварные происки. Однажды вечером я повторил это слово тысячу раз, пока оно наконец не утратило свой страшный смысл. Теперь оно для меня как всякое другое. Я очень хорошо понимаю, что эта бредовая идея о преследовании мертвыми может довести до безумия какого-нибудь необразованного убийцу, но только не того, кто анализирует, обдумывает, предвидит... Кто уже сегодня привык хладнокровно, так, чтобы сознание собственной безгрешности не дало течь, смотреть в стекленеющие глаза, полные смертельного ужаса, или душить в хрипящем горле проклятия, которых он втайне боится. Ничего удивительного — такое воспоминание может в любой момент ожить и пробудить то, что принято называть совестью, ну а уж это пугало будет день ото дня расти как снежный ком, пока в конце концов не подомнет под себя незадачливого преступника и не раздавит его. И поделом!.. Что же касается меня, то я — нужно это признать без ложной скромности! — нашел абсолютно гениальный выход из положения. Отправить на тот свет двоих и уничтожить все улики — это может любая посредственность, но уничтожить вину, само сознание вины еще в зародыше — это... думаю, это действительно гениально... Да, если ты — человек сведущий, то тебе можно только посочувствовать, тяжело тебе будет с психологической блокадой; я же судьбой не обижен, бремя знаний меня не гнетет — и слава Богу, ибо человек разумный любой недостаток умудрится превратить в достоинство... Так и я предусмотрительно избрал такой яд, при отравлении которым агония протекает совершенно неизвестным мне образом. Вот она — анестезия неведением!.. Морфий, стрихнин, цианистый калий — их действие я знаю либо могу себе представить: корчи, судороги, внезапное падение, пена у рта... Но курарин! Я не имею ни малейшего понятия, как при отравлении этим ядом наступает летальный исход. Да и откуда мне это знать?! Читать об этом я, разумеется, не буду, случайная возможность что-либо услышать исключена. Ну кому сегодня знакомо хотя бы слово «курарин»?! Итак, если я не могу даже представить себе последних минут моих жертв (какое нелепое слово!), то каким образом это видение будет меня преследовать? Ну, а если оно мне приснится, то при пробуждении я смогу неопровержимо доказать несостоятельность подобного внушения. И какое внушение совладает с таким доказательством! 26 сентября Интересно, именно сегодня ночью оба отравленных сопровождали меня во сне: один шел за мной слева, другой — справа. Возможно, потому, что вчера я, предвидя вероятность таких сновидений, зафиксировал ее на бумаге?! Есть только два способа заблокировать эти сны: либо подвергнуть их детальному анализу и, привыкнув к ним, лишить их всякого внутреннего содержания, как я это уже проделал с глупым словечком «убийца», либо просто вырвать с корнем это воспоминание. Первое? Гм... Сон был слишком жуткий!.. Я выбрал второе. Итак: «Я больше не хочу об этом думать! Не хочу! Я не хочу — не хочу — не хочу больше об этом думать! Слышишь, ты?! Ты больше не должен об этом думать!» Впрочем, формула: «Ты не должен» и так далее — некорректна: не следует обращаться к себе на «ты» — в этом случае происходит что-то вроде раздвоения твоего Я, что со временем может повлечь роковые последствия! 5 октября Если бы я самым тщательным образом не исследовал природу суггестии, то мог бы легко перенервничать: уже восьмую ночь подряд мне снится один и тот же сон. Шаг в шаг, след в след эта парочка идет за мной по пятам. Вечером, пожалуй, куда-нибудь выберусь и позволю себе выпить несколько больше, чем обычно... Я бы предпочел театр, но, к сожалению, это невозможно: как раз сегодня дают «Макбет»... 7 октября А ведь верно: век живи — век учись. Теперь я знаю, почему меня так упорно должен преследовать этот сон. Парацельс высказался на сей счет ясно и недвусмысленно: для того чтобы видеть постоянно что-либо во сне, достаточно разок-другой записать это видение. Решено: в следующий раз — никаких записей... Вот где истинные знатоки человеческой души! Не чета этим современным умникам, которые сами ни уха ни рыла в психологии, а туда же — поучают... И ведь ничего, кроме ругани в адрес Парацельса, от них не услышишь... 13 октября Сегодня я должен очень точно записать случившееся, боюсь, как бы мое воображение не добавило впоследствии чего лишнего... С некоторых пор у меня появилось чувство — от снов я, слава Богу, избавился, — словно кто-то постоянно следует за мной с левой стороны. Разумеется, я мог бы обернуться, чтобы убедиться в обмане чувств, но как раз это-то и было бы непростительной ошибкой, так как тем самым я признал бы реальную возможность чего-то подобного. Так продолжалось несколько дней. Я был все время начеку. А когда сегодня утром садился завтракать, у меня снова появилось это неприятное ощущение; внезапно я услышал за спиной какой-то скрип и, не успев взять себя в руки, инстинктивно обернулся... Мгновение видел совершенно отчетливо мертвого Ричарда Эрбена!.. Что-то уж очень мрачен он был!.. Заметив мой взгляд, фантом молниеносно шмыгнул мне подальше за спину и затаился, но не настолько, чтобы я, как раньше, лишь догадывался о его присутствии. Если вытянуться в струнку и сильно скосить глаза влево, то можно различить его мерцающий контур; но стоит обернуться, и образ сразу ускользает... Конечно, мне теперь совершенно ясно, что скрипела старая служанка, которая вечно путается под ногами и подслушивает у дверей. Отныне я велел ей не попадаться мне на глаза, а лучше всего приходить в то время, когда меня нет дома. Больше никого не хочу видеть рядом с собой. Неужели у меня тогда действительно волосы встали дыбом? Странное ощущение!.. Думаю, это оттого, что кожа на голове резко собирается в складки... Ну а фантом? Первая мысль — последствие прежних снов, зрительный образ, порожденный внезапным испугом; ничего больше. Страх, ненависть, любовь — словом, все сильные эмоции и потрясения, раздваивая наше Я, выносят на поверхность то, что обычно скрыто в глубинах подсознания, и тогда эти жуткие топляки отражаются в органах чувств, как в зеркале... Нет, так дальше продолжаться не может. Теперь мне необходимо внимательно и достаточно долго понаблюдать за собой, а на людях лучше пока не появляться. Неприятно, что все это пришлось как раз на тринадцатое число. С самого начала мне надо было энергично бороться с идиотским суеверием. Впрочем, это все мелочи... 20 октября С каким бы удовольствием упаковал чемоданы и уехал в другой город! Старуха опять подслушивала у дверей. Снова скрип — на этот раз справа... Все повторилось в точности как тогда. Только теперь это был мой отравленный дядя, а когда я прижал подбородок к груди и скосил глаза в разные стороны, то разглядел обоих и слева, и справа... Вот только ног не видно. Впрочем, мне кажется, образ Ричарда Эрбена проступил более отчетливо, он как будто далее несколько приблизился. Старухе я должен отказать от места — эта ее возня у дверей становится все более подозрительной; но еще несколько недель буду любезно раскланиваться, как бы она чего не заподозрила... Переезд вынужден пока отложить — сейчас опасно, очень опасно! — а лишняя осторожность никогда не повредит. Утром собираюсь посвятить пару часов штудированию слова «убийца» — оно снова начинает наливаться каким-то злокозненным содержанием... Сделал весьма многозначительное открытие: наблюдая себя в зеркало, заметил, что при ходьбе стал больше, чем раньше, загружать носок, поэтому чувствую иногда легкую неуверенность. «Твердо стоять на ногах» — в этом есть какой-то глубокий внутренний смысл, кстати, слова скрывают великую психологическую тайну. Ладно, постараюсь смещать центр тяжести к пяткам... Господи, только бы за ночь не забыть ничего из намеченного! А то забываю — забываю начисто! — как будто сон все стирает... 7 ноября В прошлый раз специально ничего не стал писать о втором фантоме, но он тем не менее не исчез. Ужасно, ужасно! Неужели на этих ревенантов нет никакой управы? Ведь однажды я подробно описал два способа, как выработать иммунитет к подобным феноменам. Причем выбрал-то я второй, а сам все время пытаюсь применять первый! Это что же — обман чувств? Эта потусторонняя парочка — результат раздвоения моего Я или же у призраков своя собственная независимая жизнь? ...Нет, нет! В таком случае получается, что я их питаю собственной жизненной энергией!.. Итак, это существа реальные! Кошмар! Но нет, я их только рассматриваю как реальные самостоятельные существа, а чем они являются в действительности, это... это... Боже милосердный, да ведь я и сам не понимаю, о чем пишу! Пишу как под диктовку... Наверное, из-за шифра, который я вынужден сначала переводить про себя. Завтра же перепишу весь дневник обычным языком. Господи, не оставь меня в эту долгую ночь... 10 ноября Это существа реальные, они мне рассказывали во сне о своих предсмертных муках. Господи, защити меня! Они хотят меня задушить! Я проверил: все правильно — курарин действует именно так, абсолютно точно!.. Откуда им это знать, если они всего-навсего призраки?.. Господи, почему ты меня не предупредил о загробной жизни? Я бы не убивал. Почему ты не открылся мне, как дитя? снова пишу как говорю; хоть мне все это и не нравится. 12ноября Сейчас закончил переписывать дневник и прозрел: я болен! И теперь меня могут спасти лишь твердость, мужество и холодный расчет. На завтрашнее утро договорился с доктором Веттерштрандом; надеюсь, с его помощью удастся обнаружить ошибку в моей теории. Расскажу ему все и во всех подробностях, он, разумеется, подумает, что я сошел с ума, и не поверит ни единому моему слову, но, чтобы не волновать меня, виду не подаст и дослушает до конца, а потом поделится со мной теми сведениями о внушении, которых мне так недостает... Ну, а о том, чтобы сей гуманист, верный своему врачебному долгу, на следующий день не выкинул какой-нибудь фортель, уж я позабочусь: стаканчик доброго домашнего винца!!! На посошок... 13ноября …............................................................................................Лихорадка
Алхимик. Ответствуй, кто ты — виденье мрачное в стекле. Материя в реторте. Ater corvus sum[113]. Жил-был человек, который так сильно разочаровался в жизни, что порешил никогда больше не вставать с постели. А всякий раз, когда спать было уже невмоготу, переворачивался на другой бок и снова засыпал... Но однажды испытанное средство отказало. Человек встревожился, уж как он только не вертелся, и на этом боку полежит, и на том, а сон нейдет, и все тут. Как вдруг зябкий холодок прошел по его спине. «Этого еще не хватало, — перепугался человек, — если и дальше так ворочаться буду, простуды не миновать», — мигом свернулся под одеялом калачиком и замер, не шелохнется. Лежит на пуховых подушках лицом к окну, рад бы отвернуться, да страшно — а вдруг простудишься! — лежит, смотрит, и надо ж такое — именно сейчас, когда у него сна ни в одном глазу, дело к ночи идет... Подернутое туманной дымкой солнце клонилось за горизонт, там, на западном крае небосвода, чуть пониже огромного темного облака — сейчас оно было похоже на голову — зияла широкая, червонного золота, резаная рана. «Вот оно, з-знамение! Само небо пред-достерегает!.. Воистину, не сносить мне г-головы, если вылезу из-под од-деяла, — причитал, стуча зубами, человек (очень уж он простуды боялся, и чем дальше, тем больше). — Н-на ночь глядя и зеленый юнец — хлебнул бы он с моё! — поостережется высовывать нос на улиц-цу...» И он обреченно уставился на туманную дымку, нижний край которой, насквозь пропитанный закатной кровью, вселял в его разочарованную душу смутную тревогу. Темное облако между тем быстро меняло свои очертания, становясь каким-то перистым, легким, стремительным... Крыло на взмахе, да и только!.. Все дальше уносилось оно на запад... И тут в мозг человека стало вкрадчиво вползать что-то мягкое, округлое — нежный пушок плесени скрывал истинную его форму, но, похоже, это было воспоминание, таившееся до сих пор в глубине сознания, в какой-то укромной и сырой норе... Воспоминание об одном сне... А приснился ему тогда ворон, который высиживал человеческие сердца. Эта черная птица еще преследовала его всю ночь, и, как он ни старался, прогнать наваждение не мог... Да, да, так оно и было, теперь он точно припомнил. «Необходимо во что бы то ни стало выяснить, кому принадлежит это крыло», — сказал себе человек, поднялся с постели и сошел по лестнице на улицу... Так он и брел в одной ночной рубашке, босиком, стараясь не терять из виду зловещее крыло, которое улетало все дальше на запад... Встречавшиеся на пути люди безропотно расступались, уступая ему дорогу, и только опасливо перешептывались вслед: — Тс-с, тс-с, тихо, ради Бога, тихо, мы ему7 снимся! Не разбудите его! Лишь просвирник Фрисландер не мог не отмочить одну из своих идиотских шуточек: выставился, олух, посреди улицы, сложил губы дудочкой, выпучил по-рыбьи глазищи бестолковые, чахлую портновскую бороденку воинственно выставил вперед — как есть выходец с того света. Да еще приплясывает, дурень, так и выписывает ногами кренделя, разве что в суставах не вывихивает тощие свои конечности, силясь изобразить на манер бродячих фигляров не то пантомиму какую-то непотребную, не то танец... Только какой уж тут танец — ни дать ни взять корчи припадочного... — Тссс, тссс, сспокойсствие, полное сспокойсствие... Сслышь ты, — ядовито шипит просвирник испуганному лунатику. — Да знаешь ли ты, кто я такой?.. Я есмь хиханьки, я есмь хахань... — и вдруг зеленеет как свинец и, сложившись пополам — острые коленки к подбородку, — разинув слюнявый рот, валится на мостовую — не иначе кондрашка хватил шута горохового!.. От ужаса у человека волосы встали на голове дыбом, и бросился он из города прочь... Босиком, по полям и лугам, то и дело поскальзываясь на лягушках, прямо на запад... Ближе к ночи, когда червонная кровоточащая рана на небосклоне уже затянулась, вышел он к белой стене, простиравшейся сколь хватало глаз с севера на юг. За ней-то и скрылось облако-крыло... Сел разочарованный странник на пригорке, пригорюнился. «Куда это меня занесло? — прошептал он и огляделся. — Уж больно на кладбище смахивает... Нечего сказать, пришел! Ох, не нравится мне все это. Если б не проклятое крыло...» А вокруг уже ночь, над стеной медленно всплыла полная луна, стало светлее... С видом сумрачного изумления застыли небеса. И вот, когда лунное сияние обильно разлилось по мраморным плитам, из тени надгробий стали вдруг возникать иссиня-черные птицы... Мрачными стаями бесшумно взмывали они в воздух и чинно рассаживались в ряд по гребню белой, крашенной известкой стены. И снова все замерло до поры в мертвенном оцепенении. Но что это там темнеет в тумане? Посредине что-то круглое возвышается, на голову смахивает... «Лес, что же еще... — решил во сне человек в рубашке, — дремучий лес, а в самой чаще холм, поросший деревьями», — но когда присмотрелся, оказалось, что это гигантский ворон!.. Сидит себе на стене особняком, нахохлившись, распластав крылья... «О, крыло... — растаял от удовольствия лунатик, — то самое...» А ворон угрюмо пробурчал: — ...под сенью коего дозревают человеческие сердца. Я их высиживаю — заботливо, как наседка... А попасть ко мне под крылышко нетрудно: трещинка в сердце — одна-единственная — и вашего брата с почестями отправляют в мои широкие объятия... И, взмахнув крылами — сразу повеяло скорбным запахом увядших цветов, — перелетел на одно из надгробий. Там, под мраморной плитой, покоился тот, кто еще сегодня утром мирно здравствовал в кругу своего многочисленного семейства. На всякий случай человек в рубашке напряг зрение и с трудом, но разобрал имя, высеченное на могильной плите. «Так оно и есть!.. Ну что ж, посмотрим, что за птица вылупится из этого скоропостижно треснувшего сердца». Покойный слыл завзятым филантропом, всю свою жизнь трудился он на ниве просвещения, и словом и делом сея в умах погрязших во грехе ближних только доброе, возвышенное, вечное: писал нравоучительные книжки, произносил душеспасительные речи, во всеуслышанье ратовал за очищение Библии... Глаза его, честные, бесхитростные, простые, как глазунья, в любое время дня и ночи излучали кроткий свет христианской благожелательности, так же как теперь сияли вещие глаголы, золотом начертанные на скромной могилке безвременно усопшего их творца... Сдается, сама смерть оказалась бессильной пред вечной мудростью сих бескомпромиссно правдивых, исповедальных строк, в коих воплотилось жизненное кредо добродетельного пиита: Будь в вере тверд, блюди себя до гробовой доски и ни на шаг не отступай от правого пути. Из гроба донеслось тихое потрескивание... Изнывая от любопытства, человек в рубашке весь обратился в слух — птенец вылуплялся из сердца... Но вот раздалось громкое, отвратительно наглое карканье — и черная как смоль птица, взлетев на стену, слилась с сидевшим там вороньем. — Что и следовало доказать, — удовлетворенно констатировал ворон и, увидев замешательство человека, насмешливо осведомился: — Или, может быть, ваша милость ожидала увидеть что-нибудь более светлое и аппетитное, белую куропаточку, например? Под винным соусом, а?.. — И все равно было в нем что-то чистое, — хмуро процедил сквозь зубы обманутый в своих ожиданиях путник, имея в виду одинокое белое перышко, сиротливо выделявшееся на фоне траурного оперенья. Ворон так и покатился со смеху7: — Это гусиный-то пух?.. Нет, вашмилость, это все наносное... От пуховых перин, которые ваш негасимый светоч о-оченно уважал! И, довольный собой, стал деловито порхать с одной могильной плиты на другую; то здесь посидит, то там, и всюду из-под земли являлись зловещие тени пернатых, с карточным треском лихо расправляли безукоризненно черные крылья и, оглашая воздух мерзким карканьем, вливались в ряды кладбищенских татей. Человек крепился, крепился и наконец не выдержал: — Неужто все без исключения черные? — сдавленным голосом спросил он. — Все, вашмилость, все-с... Других, пардон, не держим-с! — паясничал ворон. Совсем тут закручинился сновидец — вот ведь понесла не легкая на ночь глядя, и чего, спрашивается, не лежалось в теплой постели?.. И, обратив взор свой к небу, до того расчувствовался, что слезу едва не пустил от жалости к себе, скитальцу горемычному, глядя, какими скорбными, мерцающе влажными очами взирали на него с высоты звезды. И лишь бестолковая луна тупо и равнодушно таращила свое слепое немигающее бельмо. Хотя что с нее взять — дура круглая!.. Но вдруг, случайно повернув голову, человек заметил на одном из каменных крестов неподвижно сидящую птицу. Это был несомненно ворон, только белый как снег, ни единого черного пятнышка, — казалось, все мерцание этой ночи исходит от него одного. Но что это? Человек не верил своим глазам: на кресте значилось имя, давно ставшее притчей во язьщех у всех добропорядочных бюргеров. А белый ворон сидел аккурат на могиле этого беспутного гуляки, который — и это доподлинно известно! — всю свою жизнь предавался праздности и пороку. Было тут отчего призадуматься!.. — Что же содеял этот никчемный прожигатель жизни, что сердце его преисполнилось вдруг такой чистоты и света? — во просил наконец оскорбленный в лучших чувствах лунатик. Однако черный ворон пропустил вопрос мимо ушей и с таким видом, будто не было для него дела важней, стал играть с собственной тенью, пытаясь перепрыгнуть через нее. Человек не отставал. — Что, что, что? — упрямо допытывался он. Тогда ворон не выдержал: — Уж не вообразил ли ты, что, совершая те или иные деяния, можно себя обелить? Это ты-то, ты, который просто не способен на истинное действо! Да я скорее перепрыгну через собственную тень!.. Видишь то маленькое надгробие с гнилой марионеткой в изголовье? Она когда-то принадлежала младенцу, лежащему сейчас там, внизу... Так вот, эта гнилушка тоже до поры до времени воображала, что вольна махать руками и строить рожи всюду, где ей заблагорассудится. Преисполненная чувством собственного достоинства, она не желала замечать ниток, на которых висела, и упорно отказывалась признавать, что ею играет младенец... А ты? Ты?! Как по-твоему, что с тобою будет, когда... когда «младенец» найдет себе другую игрушку взамен старой, надоевшей?.. Тут же, как миленький, раскинешь свои ручки-ножки и из... — ворон хитро подмигнул в сторону стены, — и из... — ...дохнешь! — дружным хором гаркнула воронья стая, довольная, что вспомнили и о ней. Человек в рубашке не на шутку перепугался, но все равно продолжал вопрошать дрожащим от страха голосом: — Но что же, что убелило сердце этого повесы «паче снега»? Что очистило его от мирской скверны? Удивленный такой настырностью, ворон нерешительно переступил с ноги на ногу: — Должно быть, та неистовая страсть, которая с детства по селилась в нем, неутолимая жажда чего-то неведомого, сокровенного, того, что не от мира сего. Все мы видели, как мучительно долго тлели его чувства, как от маленькой искорки занялась душа, с какойкатастрофической быстротой разгорелось пламя и, наконец, как огненная волна сметающей все на своем пути страсти захлестнула этого человека с головы до ног, сжигая его кровь, испепеляя мозг... А мы... мы смотрели и не понимали — не могли охватить разумом этого парадоксально го самосожжения... И тут босоногого странника словно пронзило ледяной иглой: «И Свет Во Тьме Светит, И Тьма Не Объяла Его!»[114] — ...да, объять сего мы не смогли, — продолжал ворон, — но одна из тех гигантских огненных птиц, которые с сотворения мира гордо парят в недосягаемых безднах космоса, заметила пылающее горнило и камнем ринулась вниз... Раскаленным добела протуберанцем... И из ночи в ночь, как собственного птенца, высиживала Она сердце того человека... А перед глазами лунатика запрыгали, замелькали как в калейдоскопе видения, отчетливые, словно выхваченные из тьмы ослепительными вспышками... Видения-ожоги, которые уже, наверное, ничем не вытравишь из памяти... отдельные эпизоды роковой судьбы беспутного прожигателя жизни... Казалось, ожили вдруг легенды, которые до сих пор передаются в народе из уст в уста... Вот он под виселицей... Палач завязывает ему глаза черной холщовой повязкой... Ставит на крышку люка... Одевает на шею петлю... И в самый последний момент пружина, которая должна открыть люк, отказывает... Несчастного грешника уводят, крышку спешно чинят... Снова черная повязка, снова ноги на крышке люка, снова петля на шее и... и снова отказывает пружина... А через месяц, когда проклятого нечестивца, от которого отказалась сама смерть, вновь поставили с завязанными глазами на тот же люк, пружина — лопнула... А вместе с нею и терпение судей — они рассвирепели, но зло свое сорвали на... плотнике: дескать, из рук вон плохо отрегулировал священный механизм смерти... — Так что же сталось с этим повесой? — робко спросил человек в рубашке. — Я склевал его, всего без остатка — и плоть и кости, так что земля осталась ни с чем, похудела на величину моей добычи, — тихо сказал белый ворон. — Да, да, — задумчиво прошептал черный, — могила пуста... Ловкач — даже смерть обвел вокруг пальца!.. «Эх, пан или пропал!» — решил человек, рванул на груди рубаху и бросился к сидящему на кресте альбиносу: — Вот мое сердце, высиживай его! Оно сгорает от страсти!.. Но черный ворон одним взмахом могучего крыла повалил его наземь и всей тяжестью своего тела взгромоздился сверху... От крепкого траурного аромата увядших цветов голова у поверженного сновидца пошла кругом... — А чтоб вашей милости в другой раз неповадно было совершать столь опрометчивые «деяния», так уж и быть, скажу я вам по секрету: черная алчная зависть, а не пламенная, бескорыстная страсть точит ваше сердце, так что не стоит, право, тешить себя радужными надеждами. М-да-с, кое-кому следовало бы очень серьезно и беспристрастно попытать свою совесть перед тем, как из... — и проклятый стервятник хитро подмигнул в сторону стены, — из... — ...дохнуть! — грянуло воронье в полном восторге, что и на сей раз их не обошли вниманием. «Ну и пекло под этой тушей! И жар какой-то странный — болезненный, лихорадочный, — а сердце так и колотится как сумасшедшее, кажется, вот-вот лопнет...» — успел еще подумать человек, перед тем как его сознание было безжалостно растерзано в клочья... Первое, что он увидел, когда наконец очнулся, была луна... Удобно примостившись в зените, она, подобно уличному зеваке, без всякого стеснения, в упор, глазела на простертого средь могил человека, явно наслаждаясь его беспомощным положением. В полной тишине серебряными струями низвергались с небес мерцающие лучи, лило как из ведра — куда ни глянь, все было утоплено в призрачной люминесценции, попрятались даже тени, пережидая в укромных уголках неистовый лунный ливень. Черную стаю бесследно смыло... И только все еще першило в ушах от злорадного картавого карканья... Раздраженно скрипнув зубами, человек перелез через стену и... и оказался в своей постели... И медицинский советник был уже тут как тут — откуда только взялся?! Важный, чинный, в строгом черном сюртуке, он брезгливо щупал его запинающийся пульс и, глубокомысленно щуря за толстенными, в золотой оправе стеклами хитрющие глаза, долго и нечленораздельно нес какой-то ученый вздор. Потом невыносимо долго копался в своем пухлом саке, извлек оттуда изрядно потрепанную записную книжку и, по-прежнему что-то приборматывая, как курица лапой нацарапал рецепт: Rp, Cort chin. reg. rud. tus 3 β coque c. suff. quant, vini rubri, per horam j ad colat 3viij cum hac inf. herb, abs 3j postea solve acet. lix 3β tune adde syr. cort. aur 3β M. d. ad vitr. s. 3 раза в день по столовой ложке. Справившись с писаниной, каналья церемонно прошествовал к выходу, однако в дверях оглянулся и, многозначительно подняв указательный палец, изрек: — Пготив лихогадки, пготив лихогадки...Коагулят
Хамилкар Балдриан, одинокий чудаковатый старик, сидел у окна и задумчиво взирал на осенние сумерки, быстро сгущавшиеся за стеклом. В небе стояли облака; светлые, серо-голубые, они медленно меняли свои очертания, все больше наливаясь тьмою, — казалось, чья-то гигантская рука в запредельной, недоступной человеческому глазу дали лениво забавляется с собственной тенью. Тусклое печальное солнце погружалось в морозную дымку, окутывавшую землю прозрачной пеленой. Потом облака ушли, небо расчистилось — только западный его край был сплошь обложен мрачной гнетущей массой, — и прямо над головой в разверстой бездне таинственно перемигивались мерцающие звезды... Погруженный в думы, Балдриан встал и принялся расхаживать из угла в угол. Сложное и опасное это дело — заклинание духов! Но разве он самым строжайшим образом не исполнил всех предписаний Большого гримуара Гонориуса?! Пост, бодрствование, миропомазание и ежедневные молитвы, взятые из «Стенаний святой Вероники»... Итак, прочь сомнения, все должно удаться, нет и не может бьпъ на земле ничего превыше человека, и силам преисподней придется подчиниться его воле... Балдриан снова подошел к окну и, прижав пылающий лоб к ледяному стеклу, надолго замер; он стоял так до тех пор, пока юный полумесяц не просунул свои мутновато-желтые рога меж заиндевелых ветвей вяза. Потом дрожащей от волнения рукой зажег старый светильник и принялся извлекать из шкафов и сундуков весьма странные предметы: магический круг, зеленый воск, жезл с причудливым набалдашником, сухие травы... Увязал все это в узелок, осторожно положил его на стол и, бормоча молитву, разделся догола. Трепещущее пламя бросало яркие отсветы на немощное старческое тело с иссохшей пожелтевшей кожей, злорадно высвечивая его почти гротескную худобу: эти торчащие ребра, неправдоподобно острые локти и колени — обтягивающих! их пергамент, казалось, вот-вот лопнет, — костлявые бедра и тощие плечи... Плешивая голова склонилась на впалую грудь, и ее жутковато отчетливая, овальная тень нерешительно покачивалась на извесгково-белой стене, словно в мучительном сомнении пыталась что-то вспомнить. Ежась от холода, старик подошел к печи, достал глиняный глазурованный горшок и бережно совлек с горлышка шелестящую обертку: жирно лоснилась гладкая поверхность густой, дурно пахнущей массы. Сегодня ровно год, как он приготовил этот состав: корень мандрагоры, белена, воск, спермацет и... и... - его передернуло от брезгливого отвращения — вываренный трупик некрещеного младенца (куплен по случаю у кладбищенской сторожихи). Пересилив себя, Балдриан погрузил пальцы в жир, размазал его по всему телу и принялся тщательно втирать, особенно следя за тем, чтобы не пропустить такие потаенные места, как подколенные ямочки и подмышки; потом вытер руки о грудь, одел старую вылинявшую рубаху — «наследственное рубище», без которого не обходится ни одна магическая операция, — поверх набросил халат. Час пробил! Короткая молитва... Узелок со всем необходимым... Только бы чего-нибудь не забыть, иначе его заклятью не совладать с могущественными демонами внутренних кругов ада, и тогда поди знай, чья взяла, ведь лукавое племя виду не подаст, а сыграет с ним одну из своих злых шуток, и обретенные с таким трудом сокровища обратятся при свете дня в кучу грязи... О, таких случаев сколько угодно!.. Ладно, еще раз: медное блюдо взял?.. Взял! Жаровню взял?.. Взял! Трут на растопку взял?.. Взял! Ну и с Богом!.. Неверным шагом Балдриан спустился по лестнице. В прежние времена дом относился к числу монастырских строений, теперь же старик жил в нем в полном одиночестве, о съестных припасах заботилась жившая по соседству прачка. Скрип и скрежет тяжелой металлической двери... Затхлый, спертый воздух подземелья, сплошная паутина, по углам песчаные осыпи и осколки плесневелых цветочных горшков. Так, пару пригоршней песку или чего там еще на середину подвала — ноги экзорциста должны покоиться на земле, — старый ящик вместо кресла, и можно разворачивать пергаментный круг... Священным именем Тетраграмматон строго на север, иначе навлечешь на свою голову великие несчастья. Теперь поджечь трут и растопить жаровню с углями!.. Что это? Крысиный писк, только и всего. Травы в жаровню: дрок, паслен, дурман... Корчится, чадит дьявольское зелье на тлеющих углях... Старик гасит светильник, склоняется к жаровне и глубоко вдыхает ядовитые дымы; он едва стоит на ногах, его раскачивает из стороны в сторону... Страшная какофония едва не разрывает барабанные перепонки! Черным жезлом касается он комочков воска — они медленно оплавляются на медном блюде — и из последних сил, запинающимся голосом, бормочет заклинания гримуара: — ...истинный хлеб наш насущный и манна небесная, ангелами непорочными вкушаемая... страх диаволов есмь... аз ли скверной греховной преисполнюсь... достойным бысть власти, пред коей покорствуют и волки сии рыщущие, и козлища сии смердящие... броня... всю тщету медления вашего... Аймаймон Астарот... сокровища сии хранить втуне возбранивший впредь... Астарот... заклинаю... Эхейя... Эшерейя... Ноги подгибаются, придется присесть... Смертельный ужас охватывает Балдриана... Душный неопределенный страх восходит из земли, надвигается от потрескавшихся стен, нависает с потолка... Кошмар, парализующий волю кошмар — мрачный предвестник преисполненных ненавистью обитателей тьмы! Писк... Опять крысы?.. Нет, нет... это не крысы... Свист... пронзительный, сверлящий, он ввинчивается в мозг... Звуки! В ушах глухой, ровный шум... Это кровь... Свистят, рассекая воздух... гигантские крыла... Тихо потрескивая, догорают угли... И вот, вот... там, на стене... тени... Старик как завороженный не сводит с них остекленелых глаз... Нет, это пятна плесени, проплешины осыпавшейся штукатурки... Но... но они шевелятся, они надвигаются... Череп с жутким оскалом... Рога!.. И... и зияющие дыры черных глазниц... Судорожно, словно пытаясь обрести в этом мире хоть какую-нибудь точку опоры, тянутся лапы скелета, пядь за пядью в полной тишине из стены вырастает монстр... в полусогнутом положении, но все равно под потолок... Костяк гигантской жабы с бычьим черепом. Белые кости с кошмарной отчетливостью вырисовываются в полумраке подвала... Астарот — гнусное исчадие ада! Обезумев от страха, старик выскакивает из магического круга и, дрожа всем телом, забивается в угол; он не может, у него нет сил произнести спасительное заклинание... Одно-единственное слово, но черные страшные глазницы неотступно преследуют его... И даже закрыв глаза и вжавшись в стену, он чувствует у себя на губах неподвижный взгляд, от которого костенеет язык, а из парализованного ужасом горла вырывается лишь дикий нечленораздельный хрип... Медленно, неотвратимо заполняет собой подвал чудовище... Старику кажется, что он слышит — и от этого звука кровь стынет у него в жилах, — как скрежещут ребра, протискиваясь сквозь каменную кладку... Тяжело, неуклюже ковыляет монстр, на ощупь, выставленными вперед хрящеватыми жабьими лапами пытаясь поймать тщедушное старческое тело... Инфернальные жмурки... На тощих фалангах угрюмо позвякивают серебряные кольца с тусклыми пыльными топазами, истлевшие перепонки отвратительными лохмотьями болтаются меж пальцев, источая невыносимое зловоние гниющего мяса и болотной тины... И вдруг... вдруг эти кошмарные персты дотягиваются до его угла... Все... Мертвая хватка... От потусторонней стужи леденеет сердце. Он хочет... хочет... Но сознание уже покидает его, и он падает как подкошенный — летит куда-то в бездну... Угли потухли, наркотический туман стелился под потолком толстыми ватными слоями. Сквозь зарешеченное подвальное оконце желтоватые косые лучи лунного света падали в угол, где лежал простертый без сознания старик. А Балдриану казалось, что он все еще летит... Яростные порывы ветра стегали его тело. Прямо перед ним рассекал ночную мглу большой черный козел, косматые ляжки так и ходили взад и вперед, имитируя привычный земной галоп, но раздвоенные копыта попадали в пустоту и, не находя опоры, проносились в опасной близости от Балдрианова носа. Там, внизу, далеко-далеко, земля, совсем маленькая и какая-то чужая... Потом закружило, завертело, и он стал падать, круги сужались, ни дать ни взять воздушная воронка, выложенная нежным черным бархатом обморочного забытья; над самой землей его бешено закрутило, и вот, словно пройдя сквозь невидимую горловину, он уже парит над знакомым ландшафтом... Да-да, он его знает как свои пять пальцев: поросший мхом могильный камень, на холмике — старый клен, голые черные ветви, листва с которых уже давно облетела, подобно тощим высохшим дланям судорожно тянутся к небу в немой мольбе... Болотная трава, седая от ночного осеннего инея. Огромным невидящим бельмом мерцает в тумане мелкая стоячая вода, прикрывающая гибельную трясину. А что это там за люди в темных кагулах, разместившиеся полукругом в тени могильного камня?! Как будто собрались на призрачное судилище. Нет-нет да и сверкнет оружие или тускло блеснет на латах бляшка... «Вот оно, — вздрагивает старик, холодея от счастья, — клад! И призраки мертвых тут как тут — охраняют сокровища!» А сердце сладко замирает в алчном предчувствии богатой добычи. Зорко поглядывая с высоты, он как коршун начинает чертить круги над заветным местом. Все ближе придвигается земля, уже можно схватиться за ветви клена... Так, теперь самое главное — не выдать себя каким-нибудь неосторожным звуком... Тихо, только тихо... Проклятье! Иссохший сук с треском ломается... Мертвые задирают головы... Держаться не за что, и он падает... падает прямо перед зловещими фигурами... И со всего размаху стукается головой о могильный камень... Первое, что он увидел, когда пришел в себя, были пятна... Пятна плесени на стене... Колени подгибались, но он все же, кряхтя и спотыкаясь, доковылял до дверей и стал подниматься по лестнице. Рухнул на кровать... От страха и холода его трясло как в лихорадке, беззубые челюсти глухо стучали в болезненном ознобе. Красное ватное одеяло навалилось всей своей тяжестью, не давая дышать, зажимая рог и глаза, и, видимо, всерьез намеревалось утопить его в душной вязкой трясине матраца. Хотел перевернуться на бок и не мог: поверх одеяла на его груди, удобно примостившись в толстых мягких складках, нахохлился отвратительный пушистый нетопырь — кошмарная летучая мышь с гигантскими пурпурными крылами... После той ночи старик так и не смог оправиться, за всю зиму ни разу не поднялся со своего ложа. По всему было видно, что он уже не жилец на этом свете. Лежал и часами смотрел либо в маленькое окошко, за которым в объятиях неистовой вьюги стремительно проносились суетливые легкомысленные снежинки, либо на потолок, обсиженный безнадежно сонными мухами, с тупым, невыносимо нудным постоянством совершающими свои хаотичные бессмысленные перелеты. А когда от старинной кафельной печи тянуло запахом горелого можжевельника (Кхе, кхе, кхе... Проклятый кашель!), он закрывал глаза и предавался сладким грезам о том, как придет по весне на нечистое место и откопает наконец заветный клад, по праву принадлежащий отныне ему одному... Все бы хорошо, если б не подспудный страх, не дававший покоя ни днем ни ночью, ведь что ни говори, а заклинание Астарота не было доведено до конца, и несметные сокровища — кровные его денежки! — могли уже давно превратиться в кучу грязи. Опасаясь провалов памяти, старик на всякий случай нарисовал точный план на обороте какой-то потрепанной книжной обложки: одинокий клен, небольшую, подернутую болотной ряской заводь и... и его — клад, рядом с заброшенным могильным камнем, тем самым, который знает в нашем городке каждый мальчишка. По весне потрепанная книжная обложка покоилась в архиве бургомистра, а ее хозяин, Хамилкар Балдриан, — на кладбище. «Нет, вы только подумайте, этот старый сумасброд нашел-таки клад... Везет идиотам! Несметные сокровища! Миллионы!!! Найти-то нашел, да больно тяжел оказался сундук — сколько старик ни тужился, а вытащить так и не сумел, только надорвался... Теперь уж ему не до сокровищ», — ходили по городку слухи, обрастая самыми нелепыми подробностями. Здравомыслящая часть населения качала головами и сгорала от черной зависти к единственному наследнику, проживавшему в столице племяннику Балдриана — не то писателю, не то поэту, одним словом, сочинителю. Место на плане было обозначено совершенно четко, страсти накалялись с катастрофической быстротой, и к раскопкам решили приступить немедленно... Несколько ударов заступом и... и вот оно... вот: ур-ра, ур-ра, ур-ра! Покрытый слоем ржавчины металлический ларец! Ликованию толпы не было предела, перенесение ларца в здание городской ратуши вылилось в поистине триумфальное шествие. Слухи о сенсационной находке докатились до столицы, племянник старика был официально извещен о своих наследственных правах, к месту событий отрядили специальную комиссию, снабженную чрезвычайными полномочиями, — и так далее, и тому подобное... Маленький уютный провинциальный вокзальчик бурлил от невиданного стечения народа: весь город как один человек присутствовал здесь, множество приезжих гостей, кругом какие-то служащие в парадной униформе, юркие репортеры, загадочные детективы, фотографы-любители, и — подумать только! — сам господин директор Государственного архивного музея пожаловал, дабы воочию лицезреть историческое место и составить опись найденных сокровищ. Толпа валом валила на болото и, сгрудившись вокруг свежевырытой дыры, к которой для пущей важности был приставлен полевой сторож, часами благоговейно пожирала глазами земную утробу, породившую столь великое богатство. Сочная болотная трава, втоптанная в грязь рифлеными каучуковыми подошвами неисчислимых паломников, являла собой зрелище поистине жалкое, тем более нарядными в своем девственно свежем весеннем уборе казались ярко-зеленые островки кустарника — то здесь, то там торчали они среди топи, лукаво перемигиваясь желтовато-махровыми вербными почками, а когда налетал порыв ветра, эти немые заговорщики вдруг разом, словно в приступе неслышного смеха, перегибались пополам, едва не касаясь водной глади. С чего бы?.. Вот и королева жаб — толстая, в крапленой красными пятнышками мантии, наслаждается она на своей веранде из лютиков и стрелолиста терпким майским воздухом — хоть ей и присуще величавое, впору почтенному возрасту (как-никак 100 003 года!) достоинство, но и на нее сегодня нашло: прямо извелась вся, сдерживая смех... Судорожно, во всю ширь то и дело разевает безгубую пасть, да так, что маленькие глазки совсем утопают в рыхлых складках пупырчатой кожи, и что есть мочи, давясь от немого хохота, как припадочная трясет левой лапкой. Едва кольцо с пальца не слетело — серебряное, с тусклым топазом... Между тем в присутствии столичной комиссии таинственный ларец был торжественно вскрыт. Из-под ржавой крышки пахнуло таким нестерпимым зловонием, что даже самые любопытные в первое мгновение отпрянули назад, зажимая носы... На вид содержимое ларца вполне соответствовало своему запаху и ничего, кроме брезгливого отвращения, не вызывало. Черно-желтая, желеобразная, необычайно тягучая масса с блестящей поверхностью. Гробовое молчание повисло в воздухе, по рядам прошелестел насмешливый шепоток, отцы города, оскорбленные в лучших чувствах, неодобрительно качали плешивыми головами. Словом, конфуз был полный. — Ничего особенного, какой-то алхимический препарат, — промямлил наконец господин директор, пытаясь разрядить обстановку. — Алхимический, алхимический, алхимический... — эхом отозвалось в толпе. — Алхимический? А как это пишется? С двумя «л» или с одним? — протиснулся вперед один из газетчиков. — Алхимитский, алхимитский!.. А по мне, дерьмо оно и есть дерьмо, как ты его ни назови! — угрюмо буркнул себе под нос какой-то небритый тип. Ларец снова закрыли, опечатали и отправили от греха подальше на экспертизу в физико-химический институт. Дальнейшие раскопки, предпринятые под покровом ночи какими-то бравыми старателями, судя по всему, ничего не дали. Пытались даже найти скрытый смысл в полустертой надписи на могильном камне, но как ни изощрялись доморощенные каббалисты, а ничего такого, что пролило бы хоть малую толику света на мрачную тайну ржавого ларца, выжать из безнадежно конкретного текста не могли: ВИЛЛИ ОБЕРКНАЙФЕР, лейтенант в отставке А чуть ниже угадывалось изображение двух скрещенных ног — знак, по всей видимости, намекающий на какое-то роковое, может быть далее трагическое, событие в жизни покойного. И дабы местные любители шарад не зашли слишком далеко в своих герменевтических изысканиях и не истолковали зловещий крест из двух задних конечностей в каком-нибудь гаденьком, порочащем честь мундира смысле, местные власти почли за лучшее официально объявить, что в свое время отставной лейтенант Вилли Оберкнайфер пал смертью храбрых. Что же касается единственного наследника старика, столичного сочинителя, то участь его оказалась плачевной: дорожные расходы, номер на постоялом дворе, стол и прочее практически целиком поглотили скудные средства поэта, остаток же ушел на оплату высококомпетентной научной экспертизы. Документально зафиксированное свидетельство, составленное в рекордно короткий срок консилиумом ученых мужей, пришло через три месяца... Вначале следовал ряд страниц, на которых весьма пространно, со всеми подробностями излагался ход многочисленных экспериментов, потребовавших от добросовестных исследователей полной интеллектуальной и физической самоотдачи, однако, к великому сожалению, так и не увенчавшихся успехом, далее столь же многословно и невразумительно — вся эта словесная размазня была, само собой разумеется, обильно пересыпана загадочными специальными терминами — перечислялись свойства таинственной субстанции, зато заключение поистине являло собой образец спартанского лаконизма: «...согласно всему вышеизложенному, исследуемое вещество ни в коей мере не может быть причислено к известным науке химическим элементам». Из всей этой галиматьи явствовало одно: содержимое ларца не представляет ни малейшей ценности! Не стоит и ломаного гроша! В тот же вечер хозяин постоялого двора при всем честном народе выставил некредитоспособного поэта за дверь. Засим, казалось бы, на скандальной истории с кладом можно было поставить точку... Однако на этом дело не кончилось... Сенсация на сей раз была совсем маленькой, неприметной, даже никудышной какой-то, но городишко наш сонный всколыхнула... На следующее утро после своего позорного изгнания с постоялого двора отверженный поэт без шляпы, с нечесаными, беспорядочно торчащими волосами мчался по улицам в направлении магистрата. — Мне открылось! Открылось! — вопил он, задыхаясь от восторга. — Я знаю!!! Его окружила толпа. — Что, что вы знаете?.. — Сегодня ночью я ночевал на болоте... — с трудом переводя дух, ответствовал, скромно потупившись, изгнанник, — ...на болоте... уф... там на меня снизошло... мне явился призрак, трубным гласом возвестивший, что сие есть... В общем, в былые времена... уф... на том самом месте вершили суд чести... уф... и вот однажды... уф... — К черту с честью, он вам про эту вонючую гадость в ларце что-нибудь рассказал? — сгорая от нетерпения, заорали любопытные. Затравленно озираясь, несчастный наследник бубнил: — ...удельный вес двадцать три, поверхность блестящая, двухцветная, легко распадается на мельчайшие элементы, при этом обладает феноменальной клейкостью, не уступающей самым липким смолам... необычайно растяжима и въедлива... Толпа оскорбленно переминалась с ноги на ногу. Он что, их за дураков принимает? Ведь все это черным по белому значится в заключении научной экспертизы! — А напоследок, — блаженно закатив глаза, вещал духовидец, — призрак посвятил меня в тайну ларца. Да будет известно вам отныне, возлюбленные мои братья и сестры, что сия неведомая материя, перешедшая ко мне на правах наследства, есть не что иное, как ископаемый коагулят честного офицерского слова! А дабы поправить мое бедственное материальное положение, я немедленно, с высшего соизволения, отписал в один знакомый банкирский дом, предложив членам правления приобрести у меня за кругленькую сумму сию чудесную реликвию. Ибо свершилось поистине чудо: слово, честное офицерское слово воплотилось и... Тут-то «возлюбленные братья и сестры» убедились в полнейшей правоте самых мрачных своих подозрений: бедняга спятил... Терпение толпы лопнуло; новоявленного пророка живо скрутили... Кто знает, может быть, в один прекрасный день к несчастному еще вернулся бы разум, если бы не одно письмо, которое вскоре пришло на его имя: «Очень сожалеем, но вынуждены известить Вас, что предлагаемая Вами "реликвия" не может претендовать — ни в качестве заклада, ни в качестве товара — на сколь-нибудь значительную ссуду или цену, ибо мы, члены правления, по нескольку раз на день имеем дело с сей материей, в ее самом что ни на есть натуральном, некоагулированном виде, и посему со всей ответственностью смеем Вас уверить, что еще никому не удалось обнаружить в оной ни малейшей ценности. Примите наш добрый совет и попытайте счастья в близлежащей лавке старьевщика. С глубочайшим уважением. Банкирский дом "Наследники А. Б. В. Вухерштайна"»[115]. Этот последний удар был настолько страшен и сокрушителен, что даже безумный поэт осознал всю безнадежность своего положения и в отчаянии перерезал себе горло... Теперь он мирно покоится на местном погосте бок о бок со своим сумасбродным дядюшкой Хамилкаром Балдрианом.Кольцо Сатурна
На ощупь, ступень за ступенью, поднимались ученики по винтовой лестнице. Наверху царил сумрак, тонкими холодными струйками звездные лучи стекали по мерцающим латунным трубкам телескопа в темную полусферу обсерватории, таинственно, сверкающими каплями росы переливались на полированных до зеркального блеска приборах; то здесь, то там вспыхивали они искрящимися фонтанчиками, заставляя настороженно оглядываться по сторонам, а в следующее мгновение уже осыпались колючими брызгами со свисающих с потолка металлических маятников и сразу впитывались стелющейся по полу непроглядной тьмой. — Сегодня он наблюдал за Сатурном, — нарушил молчание Аксель Вайкандер и кивнул в сторону большого телескопа. Казалось, какая-то гигантская золотая улитка просунула меж створок люка один из своих влажных, чувствительных рожек. Кто-то на всякий случай заглянул в линзу и, убедившись в правоте товарища, молча отступил, давая место другим, однако никто этим предложением не воспользовался: все они уже давно привыкли к чудесной способности своего преуспевшего в астрологии собрата, и лишь один удивленный голос раздался в гулкой тишине: — Невероятно! Как, почти в полной темноте, не глядя в окуляр, вы, Аксель, называете звезду — одну-единственную из мириадов, ту, на которую направлен телескоп?! Неужели это в самом деле возможно?.. — Ничего сверхъестественного в этом нет, доктор Мохини, просто я чувствую сидерические эманации, ну а поскольку в данный момент обсерватория буквально переполнена удушающими сатурнальными миазмами, совершенно понятно, что на сей раз телескоп присосался к Сатурну... Да-да, поверьте мне, доктор, наши телескопы подобно вампирам присасываются к тем звездам, на которые направлены, и втягивают ненасытными воронками своих увеличительных линз видимое и невидимое излучение! Кто, как я, в течение долгих лет просиживал ночами у окуляра, готовый к любому сюрпризу, тот умеет не только узнавать каждое созвездие по его призрачному дыханию, по его вдохам и выдохам, приливам и отливам, но и безошибочно определять степень воздействия различных планетарных духов на живые организмы Земли. Да будет вам известно, что эти космические флюиды проникают в человеческий мозг, мертвой хваткой овладевают сознанием и, коварно подменив наши мысли, безраздельно властвуют над нами, молча, с ожесточением сражаясь меж собой за право стоять у штурвала людских судеб. Маэстро научил нас спать с открытыми глазами, и мы увидели, как в глухие ночные часы жадные до жизни призраки мертвых небесных тел просачиваются в царство видимого и странными заискивающими жестами, вселяющими в наши души темный, неизъяснимый ужас, пытаются с нами о чем-то договориться... Ради Бога, доктор, не трогайте ничего на столе, маэстро не любит, когда вещи лежат не на своем месте... Эй, кто-нибудь, включите свет, только осторожней, пожалуйста, не опрокиньте ничего... Кто-то подошел к стене и стал нащупывать выключатель. Стояла такая тишина, что слышно было, как кончики пальцев скользят по каменной кладке... Потом вспыхнул электрический свет, и ослепительный блеск полированного металла брызнул в глаза. Ночь, которая только что, прильнув к окну своей нежной бархатной щечкой, заглядывала в помещение, испуганно отшатнулась и, затаившись за звездами, теперь настороженно вслушивалась в ледяную бесконечность. — Вон тот большой сферический сосуд, доктор, о котором я вам вчера говорил, — сказал Вайкандер. — Это его использовал маэстро для своего последнего эксперимента. От этих двух металлических пластин на стенах исходят так называемые волны Герца, которые создают в сосуде мощное электромагнитное поле. Итак, доктор Мохини, напомню вам еще раз о вашей клятве хранить нерушимое молчание обо всем, что вы здесь увидите и услышите. Маэстро явится с минуты на минуту и, не подозревая о нашем присутствии, займется своими делами, о коих я вам только намекнул, ибо обет молчания сковывает и мои уста, но перед тем мне бы хотелось задать вам, известному специалисту-психиатру, любезно согласившемуся помочь нам по мере своих сил и возможностей, несколько вопросов. Вы по-прежнему уверены, что визуальных наблюдений будет достаточно для исчерпывающего заключения о вменяемости учителя? Далее, не исключено, что душевное состояние маэстро окажется какой-нибудь редкой, еще не изученной наукой формой глубокого транса, одну из разновидностей которого индийские йоги традиционно называют «турийя»; сумеете ли вы в таком случае правильно диагностировать этот феномен и с полной ответственностью утверждать: нет, это не безумие? А если вам это не удастся, то хватит ли у вас мужества, доктор, подняться над академическими предрассудками и открыто признать свое бессилие? И... и помните, пожалуйста, о вашем обещании, ибо вы увидите то, что никогда доселе не открывалось взору непосвященного. Только забота о горячо любимом учителе принудила нас к крайнему средству, и мы решились привести человека постороннего сюда, в святая святых нашего братства. Доктор Мохини развел руками: — Можете не сомневаться, все, что в моих силах, будет добросовестно исполнено, а на те... гм... феномены, о которых вы мне вчера рассказали под великим секретом, я обращу особое внимание. Однако... гм... тут есть от чего схватиться за голову: неужели это неведомое нам, простым смертным, знание, эта тайная мудрость, дающая универсальный ключ к пониманию всей совокупности вещей и явлений, действительно существует?! Но вы... гм... говорили не только о магии, черной и белой, вы упомянули также о страшных мистериях какой-то сокровенной Зеленой страны и о невидимых обитателях... гм... фиолетового мира!.. И если я вас правильно понял, ваше тайное братство, с незапамятных времен сохранившее свои ритуалы и арканы, практикует именно эту... гм... эту фиолетовую магию... А «душа»?.. Вы рассуждаете о сей спорной для ученых всего мира субстанции как о чем-то само собой разумеющемся, не требующем дальнейших доказательств!.. По вашим словам, это некий особый, практически неуловимый, но тем не менее материальный... гм... вихрь, носитель высшего сознания! А как прикажете понимать сие: вы утверждали, будто ваш многомудрый маэстро заключил один из таких... гм... «вихрей» в этот стеклянный сосуд и, поместив оный между полюсами вибратора Герца, воздействовал на него сильным электромагнитным полем? Но это уж, пардон, черт знает что такое: вытворять эдакое с бессмертной человеческой душой! Гм... Ничего не могу с собой поделать, но, видит Бог, все это чистой воды... Аксель Вайкандер раздраженно вскочил, хотел что-то сказать, но, махнув рукой, отошел к большому телескопу и погрузился в созерцание далеких звездных миров. — Видите ли, доктор Мохини, — смущенно помявшись, про бормотал один из учеников, — как бы то ни было, а все, рассказанное вам нашим собратом, истинная правда: маэстро действительно в течение весьма долгого времени держал в этом герметическом сосуде человеческую душу; одну за другой, как с морской луковицы, отшелушивал он с нее защитные оболочки, многократно преумножал ее силы, а однажды... однажды она исчезла — прорвалась сквозь толстую стеклянную стенку, каким-то непонятным образом преодолела мощное электромагнитное поле и... и вырвалась на свободу!.. В этот момент раздался сдавленный крик Акселя Вайкандера, все удивленно повернулись в его сторону. От волнения у Вайкандера перехватило дыхание: — Кольцо, кружевное кольцо!.. Ажурное, с фестонами по краю... Невероятно, чудовищно!.. — выкрикивал он в диком возбуждении. — Новое кольцо... У Сатурна появилось еще одно кольцо!.. Ученики ринулись к телескопу... Один за другим они нетерпеливо приникали к окуляру и отходили, недоуменно разводя руками... Не будучи астрономом, доктор Мохини весьма смутно представлял себе весь ужас случившегося и о тех страшных катаклизмах, кои неминуемо должны были воспоследовать за образованием второго кольца Сатурна, мог только догадываться, но едва не на шутку перепуганный психиатр открыл рот, чтобы задать соответствующий вопрос, как с винтовой лестницы донеслись тяжелые шаркающие шаги... — Быстро по местам!.. Свет!.. Да выключите же, ради Бога, свет! Маэстро идет!.. — бросал приказания Вайкандер. — А вы, доктор, чго бы ни случилось, оставайтесь в этой нише... Слышите, что бы ни случилось!.. Если маэстро увидит вас, все пропало... В следующее мгновение обсерватория вновь погрузилась во тьму, мертвая тишина воцарилась под сводами. Шаги приближались, и вот на пороге возникла фигура в белой шелковой мантии... Не включая света, смутная тень подошла к столу, вспыхнула крошечная лампа, узкий, ослепительный луч четко очерченным кругом упал на бумаги... — Нет, не могу, это разрывает мне сердце, — еле слышно прошептал Вайкандер. — Бедный, бедный маэстро, какими глубокими морщинами избороздила скорбь его чело! Старик остановился у телескопа, долго, не отрываясь, смотрел в него, пристроившись на краешке кресла, потом обреченно откинулся на спинку. — Растет... С каждым часом оно становится все больше... А теперь еще и эти... как бишь эта мерзость у них называется?.. «фестончики» появились... Кошмар, какой кошмар!.. — простонал адепт и в отчаянье закрыл лицо руками. Долго, очень долго сидел он так, а его ученики в своем укрытии тайком глотали слезы. Внезапно маэстро вскочил, словно решившись на последнее, крайнее средство, подкатил сосуд к телескопу и бросил в него три каких-то предмета — разобрать в темноте, что это за вещи, было невозможно. Потом упал посреди обсерватории на колени и, замирая попеременно в каких-то немыслимых позах, поразительно напоминавших геометрические фигуры, принялся бормотать что-то монотонное, время от времени прерывавшееся протяжными воющими возгласами... — Боже Всемогущий, помилуй его, ибо это заклинание Тифона, — в ужасе прошептал Вайкандер. — Он хочет во что бы то ни стало вернуть назад сбежавшую душу... В случае неудачи он обречен и должен будет принести себя в жертву... Ритуальное самоубийство!.. Братья, по моему сигналу бросаемся на него... Доктор, соберите все свои силы, ибо, когда Тифон встает из бездны, человеческое сердце не выдерживает еще задолго до появления Князя Тьмы! Адепт по-прежнему стоял коленопреклоненный, казалось, он окаменел, и лишь возгласы его становились все более пронзительными и душераздирающими... Маленький огонек на столе как-то померк, начал коптить и теперь тлел в сгустившейся тьме подобно заплывшему кровью оку... Но вот он конвульсивно затрепетал, и его угрюмый отсвет стал постепенно приобретать зеленовато-фиолетовый оттенок. Бормотание заклинателя почти совсем стихло, и лишь после долгих, ритмически правильных пауз голос его взвывал вдруг так, что от невыносимой жути кровь стыла в жилах даже у видавших виды учеников... А потом все, ни звука — тишина, страшная, изматывающая, сверлящая, как неотступная смертная мука... Такое чувство, словно все вещи вокруг выгорели изнутри и превратились в пепел — тронь, и они рассыпятся серым прахом, словно темная полусфера обсерватории куда-то проваливается и с головокружительной быстротой, так что захватывает дух, летит все дальше и дальше вниз, в бездну кромешного забвения... Потом вдруг неуклюжее шлепанье — вязкие, чавкающие звуки, словно что-то невидимое, склизкое, дряблое передвигается в помещении частыми, судорожными прыжками... Какие-то фиолетовые ладони зловещими, фосфоресцирующими кляксами медленно проступают на полу; осторожно, вслепую ощупывают они чуткими усиками пальцев каменные плиты и судорожно, изо всех сил напрягаются, отчаянно пытаясь покинуть опостылевшую плоскость и стать полноценной трехмерной реальностью, но это им не удается, и раз за разом студенистые, похожие на жутких морских звезд обрубки бессильно, по-жабьи, плюхаются вниз... Бледная, призрачная нежить, отдельные части тел, ветхие, полуистлевшие останки мертвых бесшумно отделяются от стен и плавно скользят, проплывая мимо — без смысла, без цели, в беспробудном сомнамбулическом забытьи; пошатываясь словно пьяные, руки-ноги как на шарнирах, олигофрены, калеки, они с идиотски блаженной ухмылкой таинственно надувают щеки и медленно, завороженно производят загадочные гипнотические пассы, будто своей макабрической пантомимой пытаются отвлечь внимание от какого-то необъяснимо чудовищного, инфернального действа, или, коварно замерев, таращат пустые глаза вдаль, а потом вдруг — бросок, молниеносный, как у гадюки, и уже на другом месте снова застывают, бестолково выпучив бельма... В полной тишине рушатся откуда-то из-под сводов бескровные трупы, катаются по полу, ползают на четвереньках, сталкиваются лбами... Мерзкие белесые пауки, населяющие сферы самоубийц, плетут уродливыми крестами липкие ловчие сети, и с каждой минутой эта сатанинская паутина становится все шире и шире... Ужас ледяным сквозняком гулял по обсерватории; неуловимый, немыслимый, находящийся по ту сторону разума смертельный страх, которому уже не требуется корней, который в причинах уже не нуждается, — вот оно, бесформенное, изобильно плодоносящее чрево кошмара. Что-то с глухим стуком падает на пол: это рухнул замертво доктор Мохини. Шея его как-то странно свернута — тело лежит ничком, а искаженное ужасом лицо с разверстым в неслышном вопле ртом обращено вверх. «Когда Тифон встает из бездны, человеческое сердце не выдерживает...» — далеким эхом доносится голос Акселя Вайкандера, и тут как прорвало: события, одно страшнее другого, словно с цепи сорвавшись, обрушились на оцепеневших от страха учеников со всех сторон... Большой сосуд внезапно взорвался, усеяв все вокруг тысячью опасно острых осколков, злокачественная фосфоресценция все больше расползалась по стенам, разлагая материю прямо на глазах... Края смотровых люков и оконные проемы обметало налетом какой-то инородной экземы; быстро превратив массивную каменную кладку в дряблую аморфную массу, похожую на распухшие цинготные десны, она немедленно дала свои инфернальные метастазы и с роковой неизбежностью пожара продолжала прогрессировать, жадно вгрызаясь в стены и потолок... Адепт вскочил... Как в сильный шторм, его раскачивало из стороны в сторону... Видимо, все еще пребывая в глубокой медитации, он воздел руки в каком-то ритуальном жесте... В правой что-то блеснуло... Ученики бросились к нему, но было поздно: острый жертвенный нож уже торчал в груди маэстро... Вновь вспыхнул яркий электрический свет, и сразу исчезли и пауки, и призраки, и плесень... И лишь осколки... Они сверкали повсюду, и было в форме этих стеклянных кристаллов что-то странное, враждебное, неизъяснимо зловещее... Да еще на каменных плитах пола, словно клейменных адским тавром, навек запечатлелись глубокие пятипалые ожоги. Маэстро истекал кровью на руках учеников... Жертвенный нож как сквозь землю провалился, и сколько его ни искали, найти не могли. Рядом с телескопом лежал ничком труп доктора Мохини — сведенные судорогой члены, вывернутое к потолку лицо, застывшее в жутком предсмертном оскале... Наспех соорудив из циновок что-то вроде постели, ученики перенесли умирающего на это убогое ложе. И как ни умоляли они его поберечь силы, он все же заговорил слабым, прерывающимся голосом: — Дети мои, мне необходимо сказать вам кое-чтона прощание, только, ради Всевышнего, не прерывайте меня. Жизнь мою уже никому не удержать, но душа моя не боится расстаться с телом, ибо жаждет исполнить то, что ей не удалось здесь, в тесных путах земного бытия. Вы ведь видели, с какой катастрофической быстротой распространялся чумной дух разложения и смерти! Еще мгновение, и он бы материализовался — так призрачный ночной туман выпадает холодными, прозрачными каплями утренней росы, — и тогда обсерватория и все, что в ней находится — и вы и я, — уже давно превратились бы в плесень и тлен... Вы только взгляните, какие следы прожег в полу своей раскаленной пятерней кто-то из пылающих ненавистью обитателей бездны, безуспешно пытаясь поймать мою душу!.. Так что выбора у меня не было: не принеси я свое тело в жертву, стало бы явным, подобно этим огненным стигматам на каменных плитах, и другое творение инфернальных рук... Ибо, дети мои, мир сей во всем своем «непреходящем величии», как выражаются населяющие его высокопарные болтуны, был когда-то призраком, видимым или невидимым, но призраком, миражем... Он и поныне являет собой не что иное, как конденсированный призрак. А посему во всем прекрасном и отвратительном, возвышенном, добром или злом, радостном со скрытой печалью в сердце или печальном со скрытой радостью в сердце — во всем присутствует нечто призрачное. И хотя лишь очень немногие чувствуют иллюзорность этого лучшего из миров, она заключена в нем изначально и пребудет с ним до скончания века. Доктрина, на коей созиждется наш орден, призывает нас, верных своих паладинов, на приступ горнего мира, и мы карабкаемся по отвесным стенам жизни вверх, к недоступной вершине, туда, где одиноко царит гигантский Маг и ослепительными зеркалами затмевает дьявольское наваждение земных обманчивых бликов! Итак, взыскуя высшей премудрости, пустился я на поиски человеческого существа, дабы, убив грешную его плоть, без помех предаться исследованию бессмертной души. Мне нужна была жертва, кто-то, чье исчезновение с лица земли не только бы никак не отразилось на судьбах Вселенной, но попросту осталось бы незамеченным. В общем, требовался какой-нибудь никчемный, невесть зачем обретающий в мире сем человечек. Теша себя надеждой, что найти такого особого труда не составит, я смешался с простолюдинами... Но напрасно ваш наивный учитель, дети мои, искал среди пропахших чесноком мужиков и кряжистых баб... Потом меня осенило, и я, окрыленный уверенностью, что теперь-то найду нужное мне существо, бросался то к судейским и адвокатам, то к лекарям и военным... И вот среди гимназических преподавателей — уж тут-то, казалось, проблем не будет! — я почти наткнулся на него... Почти!.. О это вечное «почти»! Сколько раз мне казалось, что он у меня в руках, но всегда в самый последний момент вдруг обнаруживалось что-то совсем крошечное, ничтожное, никому, кроме меня, не видное, но... но оно тем не менее существовало, и... и я, проклиная все на свете, вынужден был отступать... И наконец — о, блаженный миг! — пришел и мой час... Я не смел верить в свою удачу, ибо судьба даровала мне не отдельную особь — нет, то было целое семейство!.. Вот уж воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь: так, подняв в сыром погребе старый, заплесневелый горшок, обнаруживаешь под ним несметное множество мокриц. Пасторские самки! Вот то, что я так долго и безуспешно искал! В течение продолжительного времени терпеливо наблюдал я за довольно многочисленным выводком этих существ; они неустанно старались «приносить пользу», не покладая рук трудились «во благо ближнего»: устраивали собрания «с целью просвещения домашней прислуги», ночами напролет вязали для «голеньких несчастных негритят» теплые омерзительные гетры, со слезами умиления на глазах раздавали «падшим братьям и сестрам» дрянные миткалевые перчатки и дешевые протестантские молитвенники, ну и, конечно, в поте лица своего насаждали повсюду нравственность и мораль... А сколько «священных обязанностей» повесили они на шею бедному, погрязшему в грехе человечеству! С каким неистовым пылом увещевали они нас, своих заблудших сограждан, собирать станиоль, бутылочные пробки, старые газеты, какие-то кости, когти и прочий хлам, ибо «все должно быть впрок»!.. Поразительно, но эти добродетельные самки непрерывно плодились, к тому же их мозги ни в чем не уступали их утробам: они были постоянно беременны новыми благотворительными начинаниями, миссионерскими обществами, бесконечными сборами пожертвований «в пользу малоимущих слоев населения» и прочее в том же духе. Короче, эта отвратительная «Армия спасения» расползалась по миру подобно моровой язве... Ну а когда я увидел, что эти ханжи, стремясь во что бы то ни стало наставить на путь истинный падшее человечество, разбавляют сточной зловонной жижей «нравственного» просветительства священные мистерии сакральных текстов, чаша гнева моего переполнилась... Но не тут-то было!.. Одна из них — белобрысая «немецкая» тварь, великолепный экземпляр вендо-кашубо-ободритских кровей — уже лежала у меня под ножом, как вдруг обнаружилось, что она... Как это у них говорится? Ах да — в положении, и древний закон Моисея заставил меня отступить... Я изловил вторую, десятую, сотую, и все они... уже вынашивали потомство! Я засел в засаду, я ждал дни и ночи, как истекающий голодной слюной пес на ловле раков, и счастье мне наконец улыбнулось: улучив момент, я выкрал ее сразу после родов... Это была прилизанная на прямой пробор саксонская стерва с водянисто-голубыми глазами мечтательной гусыни. В течение девяти месяцев я строго выдерживал ее в полнейшей изоляции — так, на всякий случай, хотел убедиться, что она выметала весь свой помет, да и, честно говоря, опасался: а что, если эта любвеобильная популяция размножается непорочным зачатием или как глубоководные моллюски и простейшие — «делением»?.. И ведь надо же, не уследил: за те считанные часы, когда за ней не наблюдали, она умудрилась-таки разродиться толстенным томом «Сердечное слово, или Смиренное напутствие моим юным немецким сестрам в благословенную пору вступления оных в общество взрослых». Хорошо, что я вовремя обнаружил эту сентиментальную мерзость и немедленно испепелил новорожденное «Сердечное слово» в неистовом пламени кислородно-водородной горелки!.. Но вот наступил долгожданный миг, и я, отделив протестантскую душу от тела, поместил ее в герметический сосуд, однако завершить эксперимент мне так и не удалось... Однажды мои ноздри уловили невесть откуда взявшийся запах козьего молока; предчувствуя недоброе, я бросился к вибратору Герца, который почему-то отказал, но было уже поздно: anima pastoris бесследно исчезла, улетучилась, воспарила в небеса... Уловить дистиллированную душу, увы, практически невозможно, но ваш бедный учитель, дети мои, все же попытался... Не теряя понапрасну время, я сразу прибегнул к самым сильным средствам. В качестве приманки мною было использовано то, перед чем не устояла бы ни одна добродетельная христианка, а уж благоверная пасторская овечка и подавно: пара дамских панталон из нежно-розовой бумазеи с фирменным клеймом «Лама», резной скребок слоновой кости для чесания спины, ну и, конечно, поэтический альбом в роскошном переплете из ядовито-голубого бархата с вычурными золотыми уголками и помпезными застежками... Все эти сокровища я сложил на подоконник и стал ждать... Какое там, это ничтожество, дорвавшееся до звезд, видимо, всерьез уверовало в свое «чудесное вознесение» и даже не снизошло до того, чтобы взглянуть на сии причиндалы! Попробовал сбить с нее гонор магическими приемами оккультной телепатии, так эта одержимая преисполнилась еще большего рвения... И уж теперь-то, — маэстро от волнения стал задыхаться, — она непременно дойдет до самых отдаленных уголков космоса, проповедуя какое-нибудь свое «Сердечное слово» и обучая наивных, не тронутых цивилизацией планетных духов инфернальным навыкам женского рукоделия. А сегодня, сегодня, дети мои, пасторская душонка решила наставить на путь истинный самого Сатурна... И для начала — задобрить, видать, хотела — напялила на старого грешника, без зазрения совести сожравшего в свое время собственных детей, кружевной воротничок, который сама и связала в благостном порыве христианского милосердия. Теперь у Сатурна второе кольцо - с кокетливыми фестончиками!!! После такого кощунства жизнь моя утратила всякий смысл. С первой же минуты, обнаружив побег, я днями и ночами терзал свой мозг в поисках выхода и понял, что оказался между Сциллой и Харибдой: либо прибегать к воздействию раздражением, либо сдаться, иного пути у меня не было. Вам, дети мои, конечно, известен гениальный постулат великого Иоганнеса Мюллера, который гласит: «Если сетчатку глаза раздражать тем или иным способом — облучать, давить, нагревать, электризовать, — то у испытуемого возникнут не те ощущения, которые соответствуют объективным раздражителям (свету, давлению, теплу, электричеству), а ощущения зрительные; если подвергнуть таким же раздражениям кожу, то ощущения, возникшие в результате, будут не чем иным, как осязательньми ощущениями со всеми их характерными признаками». Сей неумолимый закон действует и в нашем случае: испытывает пасторская душа — или что там у этой самки есть — какое-либо раздражение — она вяжет, если же таковое отсутствует... — голос маэстро становился все тише и тише, — она... разрешается... от... бремени... проще говоря... раз...мно...жа...ет...ся... И несчастный адепт, испустив дух, откинулся на спину... Потрясенный Аксель Вайкандер сложил руки: — Помолимся, братия. Бессмертная душа нашего любимого маэстро вступила в Царствие Небесное, и да пребудет она там в мире во веки веков!.. Амен!..Мозг
Как искренне радовался пастор возвращению из тропиков своего брата Мартина! С каким нетерпением ждал! Однако, когда тот наконец вошел в старомодную гостиную — часом раньше, чем его ожидали, — вся радость вдруг куда-то исчезла, остался только тусклый ноябрьский день за окном и гнетущее ощущение такой безысходной тоски, что, казалось, весь мир вот-вот рассыплется в пепел. В чем тут дело, растерянный пастор никак не мог взять в толк, даже старая Урсула, похоже, что-то уловила и поначалу не могла издать ни звука. А Мартин, коричневый как египтянин, приветливо усмехаясь, тряс пасторскую руку. Разумеется, ужинать он останется дома и совсем не устал. В ближайшее время ему, правда, необходимо на пару дней в столицу, ну а уж потом он все лето дома, с братом... Они вспомнили юность, когда был еще жив отец, — и пастор видел, как все больше сгущалось что-то странное, меланхоличное на лице Мартина. — Тебе не кажется, что неотвратимость некоторых событий, которые внезапно вторгаются в нашу жизнь, вызвана лишь неспособностью человека преодолеть свой внутренний страх перед ними? — были последние слова Мартина в этот вечер. — Помнишь, какой безумный ужас охватил меня, когда я, еще совсем малыш, увидел на кухне окровавленный телячий мозг?.. Уснуть пастор не мог; какой-то туман, душный и призрачный, повис в его прежде такой уютной комнате. Слишком много новых впечатлений, успокаивал себя пастор. Однако новые впечатления были тут ни при чем, то, что принес с собой его брат, заключалось в другом. Мебель казалась вдруг ни с того ни с сего чужой и незнакомой, при взгляде на старинные портреты почему-то появлялась мысль о каких-то незримых силах, которые прижимают рамы к стенам. Само собой рождалось опасливое предчувствие, что уже один только краешек какой-нибудь странной, загадочной мысли неотвратимо повлечет нечто неожиданное, невероятное... «Только не думай ни о чем необычном, оставайся при старом, повседневном, — предостерегал внутренний голос. — Как молнии, опасны мысли!» А из головы никак не шло приключение брата после битвы при Омдурмане. Как он попал в руки негров из племени короманти; туземцы привязали его к дереву... Колдун Оби выходит из своей хижины, опускается перед ним на колени... Рабыня подносит барабан, и колдун возлагает на него еще кровоточащий человеческий мозг... В черных пальцах появляется стальная, остро отточенная спица, и колдун, не сводя с пленника пустых, ничего не выражающих глаз, начинает последовательно вонзать сверкающее жало в различные участки этого мозга, и всякий раз заходится от дикого крика Мартин, ибо каждый укол взрывается ослепительной болью в его собственном черепе... Что все это значит?! Боже, смилуйся над ним! Английские солдаты доставили Мартина в полевой госпиталь. Он был полностью парализован... Однажды, вернувшись домой, пастор застал брата лежащим без сознания. — Зашел мясник... Только он со своим лотком и через порог-то не успел ступить, а господин Мартин вдруг как стоял, так и рухнул во весь рост, — бормотала насмерть перепуганная Урсула. — Так дальше продолжаться не может, тебе необходимо проконсультироваться в лечебнице профессора Диоклециана Бюфелькляйна; это ученый с мировым именем, — сказал пастор, когда брат пришел в себя. Мартин согласился... — Господин Шляйден? Ваш брат, пастор, мне уже рассказывал о вас. Пожалуйста, садитесь и выкладывайте... Только вкратце, — сказал профессор Бюфелькляйн, когда Мартин вошел в кабинет. Мартин присел на краешек стула и начал по порядку: — Спустя три месяца после тех событий при Омдурмане вы, конечно, знаете — последние симптомы паралича... — Покажите-ка язык — гм, никаких отклонений... Тремор умеренный, — прервал его профессор. — Что же вы замолчали? Рассказывайте дальше... — ...последние симптомы паралича... — Нуте-с, а теперь ногу на ногу, — распорядился ученый. — Так. Поудобней... Так... — и стукнул маленьким стальным молоточком чуть ниже коленной чашечки пациента. Нога дернулась вверх. — Повышенные рефлексы, — задумчиво сказал профессор. — У вас всегда повышенные рефлексы? — Не знаю, я никогда не стучал себя по колену, — смутился Мартин. — Закройте один глаз. Теперь другой. Откройте левый, так-Теперь правый — хорошо... Световые рефлексы в порядке. Световые рефлексы у вас были в порядке, господин Шляйден? Особенно в последнее время? Мартин понуро молчал. — Вот на какие симптомы вам следовало бы обращать внимание, — с легким упреком заметил профессор и велел больному раздеться. В ходе долгого тщательного обследования ученый обнаружил все признаки глубочайшего раздумья; при этом он что-то бормотал по-латыни. — Вы утверждаете, что у вас наблюдаются паралитические симптомы, однако я их не нахожу, — заявил он внезапно. — Нет, я только хотел сказать, что через три месяца они исчезли, — возразил Мартин Шляйден. — Неужели вы так давно больны, сударь? Лицо Мартина вытянулось. — Любопытно, почти все наши соотечественники говорят о своих болезнях крайне невнятно, — доверительно сообщил профессор. — Вам бы поприсутствовать при обследовании в какой- нибудь французской клинике. Как ясно и толково изъясняется там даже простолюдин. Впрочем, в вашей болезни нет ничего особенного. Неврастения, не более... Вероятно, вам будет так же небезынтересно знать, что нам, врачам, совсем недавно удалось докопаться до истоков современных методов исследования, — сегодня мы знаем совершенно точно, что абсолютно никаких лекарственных средств применять нельзя. Целенаправленно контролировать ход болезни! День за днем! Вы были бы поражены той перспективой, которую открывает перед нами этот метод. Вы понимаете? Нуте-с, а теперь главное: из бегайте волнений, для вас это яд, и через день — ко мне на при ем. Итак, еще раз: никаких волнений! Профессор вяло пожал руку больному, интеллектуальная нагрузка его явно утомила. Санаторий, массивное каменное строение, располагался в конце одной неприметной улочки в малонаселенном городском квартале. Напротив высился старинный дворец графини Заградки; его всегда зашторенные окна усиливали болезненное впечатление от мертвенно спокойной улицы. Редко кто ходил по ней, вход в санаторий — а заведение посещали весьма часто — находился с другой стороны, рядом с цветниками; у дверей — два старых каштана... Мартин Шляйден любил одиночество, и сад с похожим на ковер газоном, скрипучими креслами на колесиках, капризными больными, скучным фонтаном и дурацкими стеклянными шарами внушал ему отвращение. Его влекли тихая улочка и древний дворец с темными зарешеченными окнами. Что там внутри? Старинные выцветшие гобелены, зачехленная мебель, закутанные люстры? Старуха с седыми кустистыми бровями и жесткими суровыми чертами лица, давно забытая и жизнью и смертью?.. Ежедневно Мартин прохаживался вдоль дворца. На таких улицах, чтобы разминуться, приходилось прижиматься вплотную к стенам домов. Мартин Шляйден с его размеренной походкой, характерной для человека, проведшего долгое время в тропиках, не нарушал общего настроения улицы: они так подходили друг другу, эти две бесконечно далекие формы бытия. Наступила жара; три дня подряд он встречал на своем одиноком пути какого-то старика с гипсовым бюстом в руках. Один и тот же бюст с ничем не примечательным бюргерским лицом... На этот раз они столкнулись — старик был так неловок. Бюст наклонился и стал медленно падать. Все падает медленно, только люди, у которых нет времени для созерцания, этого не замечают. Гипсовая голова разбилась — и из белых осколков вытек кровоточащий человеческий мозг... Мартин Шляйден смотрел на него не мигая, он весь как-то вытянулся и побелел. Поднял руки и спрятал лицо в ладони. Со стоном рухнул на землю... Профессор и два ассистента случайно видели случившееся из окна. Больного внесли в лабораторию. Он был без сознания и полностью парализован. Через полчаса наступила смерть. Пастор был вызван в санаторий телеграммой и теперь, утирая слезы, стоял перед ученым мужем. — Но как же это, господин профессор? И так скоропостижно? — Это следовало предвидеть, любезный пастор, — сказал ученый. — Что касается нашей лечебной методики, то здесь мы строго придерживаемся опыта, накопленного медициной в течение многих лет, но если сам пациент не следует нашим предписаниям, то тут уж, извините, наше искусство бессильно. — А тот человек с бюстом, кто он? — прервал его пастор. — Ну, это к делу не относится, разбираться в такой ерунде у меня нет ни времени, ни желания. С вашего разрешения я продолжу. Здесь, в этом кабинете, я неоднократно и самым убедительным образом предписывал вашему брату полнейшее воздержание от каких-либо волнений. Предписывал как специалист! Ваш брат не пожелал следовать советам медика. Разумеется, вся эта история потрясла меня до глубины души, но, любезный друг, согласитесь: неукоснительное соблюдение рекомендаций лечащего врача было и остается главным условием скорейшего выздоровления. Я лично был свидетелем этого несчастного случая... Больной в чрезвычайном возбуждении хватается руками за голову и. пошатнувшись, надает на землю. Разумеется, тут уже никакое медицинское вмешательство не поможет. Предсказать результат вскрытия я могу хоть сейчас: крайняя недостаточность кровоснабжения коры головного мозга вследствие диффузного склероза серой мозговой ткани. А теперь успокойтесь, любезный, вдумайтесь лучше в пословицу: как постелешь, так и ляжешь... Звучит сурово, но вы же знаете, что истина требует от своих последователей мужества.Болонские слезки
Вы видите того уличного торговца со спутанной бородой? Его зовут Тонио. Сейчас он подойдет к нашему столику... Купите у него что-нибудь — маленькую гемму или пару болонских слезок. Как, вы не знаете? Это такие стеклянные капли, но стоит сломать тонкий, как волосок, кончик — и они брызнут крошечными осколками, похожими на кристаллики соли. Забава, не более... Но обратите внимание на выражение его лица! Не правда ли, во взгляде этого человека есть что-то трагичное? А его глуховатый голос, когда он предлагает свой товар: болонские слезки, плетеный женский волос? Никогда не скажет он — плетеное стекло, всегда — женский волос. Я расскажу вам его историю, только не здесь, в этом убогом трактире, а по дороге домой, где-нибудь у озера, в парке... Его историю я уже не смогу забыть никогда, и не потому, что он был моим другом — да-да, тот, кого вы сейчас видите как уличного торговца и который уже не узнает меня... Можете мне поверить, мы были настоящими друзьями — раньше, когда он жил полной, настоящей жизнью и безумие еще не овладело его душой... Почему я ему не помогаю? А разве в его ситуации возможна помощь извне? Неужели вы не понимаете, что ослепшей душе поводырь не нужен, у нее свой собственный таинственный путь, которым она медленно, на ощупь пробирается к свету, быть может, к какому-то неизвестному, ослепительному сиянию. Ведь, предлагая посетителям болонские слезки, Тонио — его душа — инстинктивно нащупывает путь к спасительному воспоминанию! Сейчас вы услышите эту историю. Только пойдемте отсюда. Как сказочно искрится озеро в лунном свете! И тростник на том берегу! В сумерки так темно — как ночью! И тени вязов уже уснули на водной глади — там, в бухте! Летними ночами, когда ветерок, что-то нашептывая, крадется в камыше и сонные волны лениво плещут под корни прибрежных деревьев, я, сидя на этой скамейке, мысленно погружаюсь в чудесные таинственные глубины озера и вижу мерцающие переливы рыб, когда они тихо, во сне, шевелят красноватыми плавниками, вижу древние, поросшие зеленым мхом камни, причудливые коряги, топляки и отраженное свечение раковин на белой гальке. Не лучше ли лежать там, внизу, на мягчайшем ложе колышущихся водорослей, забыв о суетных желаниях?! Но я хотел рассказать вам о Тонио... Все мы жили тогда в этом городе; Тонио — так его называли только мы, на самом деле у него другое имя. Наверное, и о прекрасной Мерседес вы ничего не слышали? Рыжеволосая креолка с необычайно светлыми глазами. Откуда она появилась в городе, я не знаю — прошло уже много лет, как она бесследно исчезла. Когда я и Тонио познакомились с нею — на каком-то торжественном вечере в клубе орхидей, — она была возлюбленной одного русского юноши. Мы сидели на веранде и молча наслаждались волшебными звуками испанской мелодии, которая доносилась из зала. Роскошные гирлянды тропических орхидей свисали с потолка: Cattleya aurea — королева этих бессмертных растений, одонтоглоссумы и дендробиумы на гнилых пнях, райские мотыльки белых светящихся лелий, каскады темно-синих ликаст... Из гущи этих словно сплетенных в томном танго цветов веяло таким оглушительным ароматом, что у меня до сих пор — при одном воспоминании — голова идет кругом и передо мной встают эпизоды той ночи; ясно и отчетливо, как в магическом зеркале, запечатлелись они в моей душе: Мерседес на лавочке из неотесанных бревен, полускрытая живой завесой фиолетовых ванд... Узкое страстное лицо таится под паранджой тени. Как видение из «Тысячи и одной ночи»... Мне вспомнилась сказка о бегуме, которая в полнолуние превращалась в гуль и тайком ходила на кладбище лакомиться мясом покойников. Взгляд Мерседес подолгу — словно изучая — останавливался на мне... И смутное воспоминание пробуждалось во мне, как будто однажды, в далеком прошлом — в какой-то далекой-далекой жизни, — на меня так же неподвижно и зачарованно смотрели ледяные змеиные глаза. Она сидела, слегка наклонив голову вперед, и фантастические, крапленные пурпуром и чернью язычки бирманского бульбофиллума, запутавшись в ее локонах, казалось, нашептывали ей на ухо новые неслыханные пороки. Тогда я впервые понял, что ради женщины можно продать душу дьяволу. Русский лежал у ее ног. И тоже молчал. Торжество было необычным — как и сами орхидеи, — полным странных сюрпризов. Вот из-за портьер вышел чернокожий слуга и стал предлагать гостям сверкающие болонские слезки в яшмовой чаше. Я видел, как Мерседес, смеясь, что-то сказала русскому и он, взяв в губы болонскую слезку, некоторое время держал ее так, а потом преподнес своей возлюбленной. В это мгновение из сумеречных зарослей подобно пружине вырвалась гигантская орхидея с лицом демона, с алчными плотоядными губами, без подбородка — только пронизывающий взгляд и зияющая голубоватая пасть. Этот жуткий лик покачивался на стебле и, дрожа в приступе злорадного смеха, не сводил взгляда с ладоней Мерседес. Сердце мое остановилось, как будто душа заглянула в бездну... Вы бы поверили в то, что у орхидей есть разум? В то мгновение я понял — как понимают ясновидящие, — что есть, что эти фантастические цветы ликуют сейчас вместе со своей повелительницей. Да, она была королевой орхидей, эта креолка с ее алыми чувственными губами, с кожей слегка зеленоватого оттенка и волосами цвета мертвой меди. Нет, нет — орхидеи не цветы, а порождение Сатаны. Креатуры, которые выставляют напоказ лишь свою колдовскую прелесть, — их глаза, губы, языки завораживают нас пьянящим вихрем экзотических красок, чтобы мы не заметили их отвратительные гадючьи тела, которые — невидимые и смертоносные — затаились в царстве теней... Хмельные от одуряющего аромата, вернулись мы наконец в зал. Русский крикнул нам вслед что-то на прощанье. Это в самом деле было прощанье, так как смерть уже стояла за ним. На следующее утро взрывом котла он был разорван в клочья... Спустя несколько месяцев возлюбленным Мерседес стал его брат Иван, замкнутый высокомерный человек, избегавший общества. Они поселились на вилле у городских ворот, вдали от знакомых, и жили лишь дикой безумной любовью. Тот, кто видел, как они, тесно прижавшись друг к другу, не разбирая дороги, проходили в сумерки по парку и о чем-то почти шепотом переговаривались, позабыв обо всем на свете, сразу ощущал какую-то страшную, чуждую нашей крови страсть, сковавшую эту влюбленную пару. И вдруг приходит известие о несчастье, случившемся на сей раз с Иваном: во время полета на воздушном шаре, предпринятого, очевидно, без всякой подготовки, он каким-то загадочным образом выпал из гондолы и разбился... Все мы думали, что Мерседес не перенесет удара. Через несколько недель, весной, она проезжала мимо меня в открытой коляске. Ни одна черточка на неподвижном лице не выдала перенесенного горя. Мне показалось, что мимо меня проехала не живая женщина, а бронзовая египетская статуя; руки ее покоились на коленях, а взгляд был устремлен в потустороннее. Это впечатление преследовало меня и во сне: каменное изваяние Мемнона, сверхчеловечески спокойное, с пустыми глазами едет в современном экипаже навстречу рассвету — все дальше и дальше, сквозь пурпурный туман и клубящиеся испарения — к солнцу. Тени колес и лошадей — бесконечно длинные, причудливо искаженные, серовато-фиолетовые; такие в первых лучах восходящего солнца пляшут, как привидения, по мокрой от росы дороге... Потом я долго путешествовал и видел много удивительного, но ничего не могло затмить того впечатления. Когда наша душа плетет живой узор воспоминаний, она отдает предпочтение определенным краскам и формам. Жалобный стон уличной решетки под вашей ногой в поздний ночной час, вкрадчивый всплеск весла, внезапный запах, хищный профиль красной крыши, грустные капли дождя, которые падают вам на ладони, — все это слова заклинаний, которые возвращают нашим чувствам давно утраченные впечатления. Таким воспоминаниям присущ особый, глубоко меланхоличный тон, похожий на звучание арфы. Вернувшись, я понял, что Тонио теперь для Мерседес преемник русского. Такой же пьяный от любви, преданный душой и телом, опутанный по рукам и ногам... Я часто встречался и разговаривал с Мерседес: в ней жила та же безудержная страсть. И я по-прежнему ловил на себе ее испытующий взгляд. Как тогда, в ночь орхидей... Время от времени мы, я и Тонио, сходились на квартире Мануэля, нашего общего друга. Однажды я застал его там сидящим у окна — поникшим, внутренне сломленным. Черты лица искажены, как будто его подвергли какой-то изощренной пытке. Мануэль молча отвел меня в сторону. То, что он мне поспешно прошептал, было поразительно: Мерседес — сатанист-ка, ведьма! Тонио узнал это из писем и записей, найденных у нее. Оба русских были убиты ею магической силой воображения, при помощи болонских слезок... Позднее мне довелось ознакомиться с этими записями. Там я обнаружил следующий рецепт: жертва должна подержать болонскую слезку во рту, а потом преподнести возлюбленной в знак своей горячей любви. Если теперь эту болонскую слезку разбить в храме во время мессы, то жертва будет тотчас разорвана на куски. Вот почему Иван и его брат погибли такой внезапной и ужасной смертью! Мы понимали оцепенелое отчаяние Тонио. Даже если в удачном исходе колдовства был повинен лишь случай, все равно — какая бездна демонически извращенного любовного чувства скрыта в этой женщине! Чувства настолько чуждого и непостижимого, что наше нормальное человеческое сознание утопало в зыбучих песках, как только мы пытались проникнуть в ужасную загадку этой безнадежно больной души. Мы — трое — просидели тогда полночи, прислушиваясь, как тикали, обгладывая время, старинные часы. Я искал и не находил ни в голове, ни в сердце, ни в горле слов утешения; глаза Тонио были прикованы к моим губам: он ждал спасительной лжи, которая даровала бы ему еще немного забвения. Когда Мануэль — он стоял за мной — собрался открыть рот, я почувствовал сразу, даже не оборачиваясь: сейчас — сейчас он это скажет... Он откашлялся, двинул стулом — и снова тишина, долгая, бесконечная... Мы почти видели, как ложь — дряхлый, безголовый призрак — неуверенно, на ощупь ковыляет по комнате вдоль стен... Наконец слова — спасительная ложь — как опадающие листья: — Может быть... может быть... она тебя любит иначе... не так... не так, как других... Мертвая тишина. Мы сидим, затаив дыхание: лишь бы не издохла ложь — а она стоит, покачиваясь из стороны в сторону, на дряблых студенистых ножках и, кажется, вот-вот упадет, ну, еще... еще хоть секунду! Медленно, очень медленно лицо Тонио начинает проясняться: предательский огонь надежды! И тогда ложь стала плотью! Надеюсь, вы догадываетесь, что было потом? Я не люблю рассказывать эту историю до конца. Давайте встанем, знобит меня что-то, засиделись мы с вами здесь на скамейке. Да и ночь сегодня холодная... Понимаете, фатум гипнотизирует человека, как змея, спасенья нет... Тонио снова погрузился в водоворот бешеной страсти, он всегда рядом с Мерседес, всегда — ее тень. Дьявольская любовь всосала его, как глубоководный моллюск свою жертву... Удар судьбы пришелся на Страстную пятницу. Ранним утром в апрельское ненастье Тонио с непокрытой головой, в растерзанной одежде, сжав кулаки, стоял в дверях храма и пытался помешать праздничной мессе. Мерседес написала ему — и это свело нашего друга с ума; в его кармане нашли письмо, в котором она просила у него в подарок болонскую слезку... Забава, не более... Но с той Страстной пятницы сознание Тонио погрузилось в кромешную тьму.Страданья огнь — удел всей твари
К шести в камерах окружного суда уже темно — свечей заключенным не полагается, — а в такие зимние вечера, как сегодня, пасмурные и беззвездные, кромешная ночь... Хоть глаз коли... Позвякивая тяжелой связкой ключей, надзиратель бредет по бесконечному коридору... Вечерний обход... Неторопливо, от двери к двери, ни одного липшего движения, все в строгом соответствии с уставом: подошел, посветил в зарешеченное смотровое отверстие, проверил массивные кованые засовы — дальше... Подошел, посветил, проверил— дальше... Наконец шаркающие шаги затихают в глубине коридора, и вновь могильная плита тюремной тишины наваливается на несчастных... Беда тут у всех одна — отсутствие свободы; заключенные, расфасованные по бесчисленным каменным ячейкам раз и навсегда установленными четверками, — о, этот нескончаемый ад вчетвером! — спят, ибо ничего другого как спать, простершись на жестких деревянных нарах, им не остается. Старый Юрген, лежа на спине, задумчиво смотрит на тускло мерцающий туман — там, под самым потолком, в маленьком тюремном оконце. Отсчитывает про себя размеренные удары неблагозвучного, словно надтреснутого башенного колокола, но мысли его далеко: завтра суд, и надо что-то сказать присяжным... Кто знает, может быть, его и оправдают... В первые недели своего заключения он места себе не находил: как, по какому праву его, совершенно невинного человека, так долго держат взаперти; чувство справедливого возмущения сменилось дикой, бессильной яростью, преследовавшей и во сне и наяву, часто от отчаянья он волком готов был выть... Но толстые стены, тесная камера — неполных пять шагов в длину — загоняли боль вглубь, не давая прорываться наружу; когда же было совсем невмоготу, он, скрипя зубами, прижимал пылающий лоб к холодной каменной кладке или, взобравшись на нары, прятал невидящий взор в синий лоскуток неба в тюремном окне. Потом все эти страсти как-то разом погасли, и душа его стала жить по другим, совершенно неведомым свободным людям законам... Странно, но даже то, будет ли он завтра оправдан или осужден, не так уж его и волновало, во всяком случае гораздо меньше, чем прежде. Отныне он отверженный, и удел его там, на воле, попрошайничество и воровство! Ну, а если приговор, тогда... тогда в петлю — немедленно, при первой же возможности! — и пусть тот страшный сон, приснившийся ему в первую ночь в этих проклятых стенах, окажется вещим... Трое сокамерников давно храпят; в ближайшие годы никаких изменений в их судьбе не предвидится, и никаким самым радужным надеждам не смутить свинцовый сон этих горемык, очень хорошо усвоивших, что только забытье, глубокое, беспробудное, способно хотя б на время снять с души невыносимый гнет огромного, кажущегося бесконечным срока. Он же, как ни старается, не может погрузиться в это блаженное состояние: на плаву держат мысли, легкие, сумбурные, туманные, в смутной их мгле вырисовываются то неопределенные контуры будущего, то зыбкие картины прошлого — воспоминания, воспоминания... Вначале, когда у него была пара крейцеров, ему еще как-то удавалось скрасить тяготы тюремной жизни куском колбасы, кружкой молока или огарком свечи, но все это продолжалось лишь до тех пор, пока он сидел с подследственными. Через некоторое время, видимо нисколько не сомневаясь в суровом приговоре, его перевели к осужденным, а в этих камерах ночь наступала рано и царила большую часть суток... В душах тоже... Кромешная!.. За целый день, а тянется он ни много ни мало — вечность, всего и развлечений, что ключник откроет дверь и дежурный заключенный молча внесет плошку с водой или жестяной котел с вареным горохом. Так что убить время можно лишь двумя способами — либо спать, либо сидеть, подперев голову руками, и обреченно пережевывать унылую арестантскую думу... Вот и он с утра до вечера просиживал на своих нарах и, неподвижно глядя в одну точку, так и эдак прикидывал, кто бы это мог совершить то убийство... Все сходилось на его брате — и чем дальше, тем неопровержимей выстраивалась роковая цепочка. Недаром он тогда так поспешно исчез из города... И вновь мысли Юргена обращаются к завтрашнему суду, к адвокату, который должен его защищать... Завтра... Завтра!.. Впрочем, чего ждать от человека, который всегда так демонстративно рассеян, так пренебрежительно невнимателен к своему подзащитному и так подобострастно изгибается при виде следователя? Да и какое еще может быть внимание к подозреваемому в убийстве, у которого к тому же ни гроша за душой? Издали, как с другого конца света, донесся привычный грохот дрожек... Ежедневно, в один и тот же час, они проезжают мимо здания суда... Кто бы это мог быть?.. Врач?.. Или какой-нибудь служащий?.. Но как звонко, будто бы и нет этих толстых тюремных стен, цокают подковы о булыжную мостовую!.. Присяжные Юргена оправдали... За недостатком улик... И вот он в последний раз вошел в свою камеру. Трое заключенных тупо смотрели, как он трясущимися руками пристегивал к рубашке мятый, несвежий воротничок и надевал свой изношенный летний костюм, принесенный в камеру хмурым надзирателем. Арестантскую робу, в которой страдал восемь месяцев, он с проклятьем швырнул под нары. Его провели в канцелярию, размещавшуюся рядом с главными воротами, сонный тюремщик записал что-то в свой гроссбух, и... и он оказался на свободе... На улице все выглядело каким-то чужим и незнакомым: эти снующие люди, вольные идти куда им заблагорассудится и ничего удивительного в том не находящие, эти голые деревья, растущие вдоль аллеи, и этот ледяной ветер, который буквально валил с ног... От слабости голова шла кругом, и он, чтобы не упасть, вынужден был схватиться за ствол одного из деревьев, при этом ему бросилась в глаза надпись, высеченная над аркой тюремных ворот: Nemesis bonorum custos[116]. Что бы это значило?.. Он еле волочил свои словно свинцом налитые ноги... Дрожа от холода, дотащился до какой-то скамейки в кустах и сразу провалился в глубокий, как обморок, сон... Очнулся в больнице, когда отмороженную левую ногу уже ампутировали... А потом из России пришли деньги — двести гульденов... «Не иначе как от брата... Совесть, видать, замучила», — решил Юрген. Присмотрев подвал подешевле, он снял его и занялся продажей певчих птиц... Жил одиноко, едва сводя концы с концами, спал тут же, за дощатой перегородкой, в своей убогой лавчонке. По утрам, когда крестьянские дети приходили в город, он за несколько крейцеров покупал у них маленьких пернатых певуний, по неосмотрительности угодивших в хитроумно расставленные силки, и распихивал свой хрупкий голосистый товар по грязным и тесным клеткам, в которых уже боязливо жались по углам их понурые молчаливые собратья по несчастью. Посреди подвала к ввинченному в потолок железному крюку была подвешена на четырех веревках старая потрескавшаяся доска, на которой горбатилась, поджав колени под подбородок, древняя, как сама вечность, шелудивая обезьяна... Юрген выменял ее у своего соседа-старьевщика за ореховку. С утра до вечера простаивала ребятня перед подслеповатым подвальным окном, наблюдая за обезьяной, — стоило какому-нибудь посетителю открыть дверь, и эта жалкая пародия на человека, угрюмо оскалив желтые, кривые зубы, начинала беспокойно прыгать, раскачивая свою зловеще скрипящую качель. А вообще-то покупатели случались редко, если кто и заходил, то только до полудня, однако старик все равно просиживал на своей жесткой, как тюремные нары, скамейке допоздна и, грустно глядя на деревянную ногу, мысленно переносился к себе в камеру: что-то сейчас поделывают заключенные?.. Как там господин следователь?.. А адвокат — все так же перед ним лебезит?.. Иногда мимо проходил живший поблизости полицейский, и всякий раз у него прямо руки чесались схватить железную кочергу и... Хоть душу бы отвел на этом самодовольном пугале в расшитом золотом мундире... О Господи, если бы однажды народ поднялся и отомстил этим ничтожествам за те мерзости, которые они совершают тайно, чтобы потом официально, с помощью правосудия, списать на несчастных, имевших неосторожность попасть в их грязные лапы... Вдоль стен, почти до самого потолка, громоздились одна на другой клетки, и когда кто-нибудь из посетителей подходил к ним слишком близко, маленькие узницы, трепеща крылышками, метались из угла в угол. Были и такие, которые не поддавались общей панике и продолжали сидеть на своих жердочках с печально-отрешенным видом — поутру Юрген находил их лежащими лапками кверху, с ввалившимися бусинками глаз... Тогда он открывал дверцу и равнодушно выбрасывал крошечные трупики в мусорный ящик — какой теперь прок от этой падали, хоть бы оперенье пестрое было, а то ведь у певчих птиц ничего, кроме божественного голоса, нет, внешность у них серенькая, невзрачная... Однако назвать подвал тихой обителью при всем желании было бы трудно: и днем и ночью там что-то шебуршало, царапалось, тихонько попискивало, — старик этого не слышал, слишком привык он к этим звукам. И даже малоприятный запах птичьего помета его не беспокоил... Однажды какой-то студент, зашедший купить сороку, забыл на прилавке книгу, а Юрген, который в тот день был как никогда рассеян, слишком поздно заметил ее. «Ничего, зайдет еще раз», — подумал он и, движимый каким-то странным предчувствием, взял томик в руки... Недоуменно перелистал, взглянул на титульный лист... Что за чертовщина: перевод с индийского, слова как слова — немецкие, понятные, — вот только складывались они в нечто такое, что ускользало от его сознания, и как он ни старался, как ни тряс в раздражении головой, а проникнуть в темный смысл этой абракадабры не мог. И лишь одна строфа — вновь и вновь повторял он шепотом проникнутое грустным очарованием четверостишие — отзывалась в его душе каким-то далеким, загадочным эхом: Страданья огнь — удел всей твари. Но тот, кто истину сию постиг, ужели не отвергнет жалкий жребий, путь к просветлению избрав своей стезей?.. Но тут взгляд его упал на неуклюжую пирамиду из тесных, грубо сколоченных клеток, в которых в ожидании своей участи понуро сидели маленькие пушистые комочки, и невыносимая боль раскаленной иглой пронзила сердце: это была тоска — и он ее ощутил вдруг так, как будто сам стал птицей, — тоска по утраченной безбрежной выси. Чувство было настолько мучительным, что у него даже слезы навернулись... Юрген плеснул в клетки свежей воды, насыпал лишнюю порцию корма... Забытой сказкой из далекого детства вспомнились ему зеленые шумящие дубравы в золотом солнечном сиянии... Ушедший в свои воспоминания старик внезапно вздрогнул: перед ним стояла какая-то дама, сопровождавший ее слуга держал в руке клетку с печальными, обреченно нахохлившимися соловьями. — Извольте видеть, этих птичек я купила у вас, — капризно зачастила юная особа, поправляя шляпку, —но... но они поют так редко... Не дожидаться же всякий раз, когда они соизволят хоть что-нибудь прочирикать... В общем, мне их посоветовали для пользы дела ослепить... Так что будьте любезны... — Что? Ослепить? — ошарашенно пробормотал Юрген. — Да, да, ослепить... Выколоть, выжечь — или как там у вас делается — глаза... Вам, торговцу птицами, это лучше знать. И не церемоньтесь, если даже одна-другая из этих лентяек и околеет, ничего страшного, вам ведь, надеюсь, не составит труда заменить мне отбракованные экземпляры... Но только поскорее... Самое лучшее, если б вы мне их завтра же и прислали... У вас ведь есть мой адрес?.. Адье... Старик еще долго стоял посреди подвала в тяжелой задумчивости... Всю ночь просидел он на своей скамейке, не встал даже тогда, когда сосед-старьевщик, удивленный, что лавка в столь поздний час стоит нараспашку, постучал в окно. В кромешной темноте — вот уж действительно хоть глаз коли! — он впервые услышал трепет маленьких хрупких крылышек, который странной, незнакомой болью отдавался в его грудной клетке, и почти физически ощутил, как испуганные беззащитные пичуги бьются о черствое, старое сердце, умоляя пустить их внутрь... Когда забрезжило утро, Юрген вышел на улицу и, как был без шляпы, так и брел, припадая на свою деревянную ногу, до тех пор, пока не оказался на рыночной площади... Долго стоял посреди пустого, вымощенного булыжником рынка и, задрав голову, смотрел в просыпающееся небо. Потом тихо вернулся в лавку и стал сосредоточенно, стараясь не пропустить ни одной, открывать дверцы клеток, а если перепуганная птаха не сразу вылетала, осторожно помогал ей выбраться... Теперь все это пернатое братство: маленькие соловьи, чижи, малиновки, дрозды — носилось как безумное под старыми, закопченными сводами, но вот Юрген, ласково улыбаясь, распахнул входную дверь — и радостно гомонящий рой ринулся на волю, в пронизанную солнечными лучами божественную бездну... Прислонившись к дверному косяку, старик стоял и смотрел им вслед, пока все они не растворились в лазурной выси... И снова вспомнились ему зеленые шумящие дубравы в золотом солнечном сиянии... По-прежнему озаренный своим воспоминанием, отпустил он обезьяну, веревки, на которых висела потрескавшаяся доска, снял... Оставил только одну... На ней он и завязал петлю и, забравшись на скамейку, набросил себе на шею... В сознании прощальным эхом отозвалась та странная строфа из книги студента, и он одним ударом деревянной ноги «отверг» скамейку...Bal macabre[117]
Лорд Хоуплес был настойчив: он усадил меня за свой стол и представил каким-то господам. Было уже далеко за полночь, и большинство имен я не запомнил. С доктором Циттербайном мы были знакомы. — Извините, но нам просто жаль лишать себя общества такого прекрасного собеседника, как вы, — сказал он, пожимая мне руку и спросил: — Почему вы сидите всегда один? Я выпил совсем немного, однако отдельные слова, казалось, доносились издалека, сквозь легкий неуловимый кейф, какой обычно наступает в поздние ночные часы, когда табачный дым, женский смех и звуки канкана обволакивают вас особенно плотно. Каким образом здесь, среди цыган, кекуока и шампанского, мог возникнуть разговор о вещах фантастических? Правда, лорд Хоуплес утверждал, что такое братство существует на самом деле — его члены, покойники или спящие летаргическим сном, принадлежали когда-то к высшему кругу, для всех живых людей они давно мертвы, лежат на кладбище в своих склепах, и их имена и даты смерти высечены на надгробных плитах. В действительности же, скованные вечной каталепсией, они находятся где-то в городе, в стенах какого-то древнего здания, бесчувственные и нетленные, покоятся в особых выдвижных ящиках под охраной горбатого слуги в башмаках с пряжками и в напудренном парике, которого зовут «залатанным Аароном». В определенные ночи у них на губах проступает матовое фосфоресцирующее свечение, которое служит горбуну знаком к началу таинственной процедуры на шейных позвонках этих лжемертвецов. Теперь они, сбросив ненадолго оковы мертвого сна, могут свободно предаваться порокам большого города. С той исступленной жадностью, которая немыслима даже для самых рафинированных либертинов. Жизненную энергию они либо крадут, обогащаясь за счет нервного зуда толпы, либо вампирически, наподобие клещей, всасываются в какого-нибудь пресыщенного распутника, душа которого уже не способна сопротивляться. У этого клуба, который носит странное имя Аманита, есть свои заседания, устав и строгий регламент приема новых членов. Но все это скрыто непроницаемым покровом тайны. Конец я не расслышал, слишком громко взвизгнул избитый уличный мотив: Да, да, да, Клара, ты без обмана. Трала, трала, трала, тр а-лалала-ла. Этот неоконченный рассказ, как все искалеченное и уродливое, производил тягостное впечатление, а парочка мулатов, которая выворачивала суставы в каком-то негритянском канкане, только усиливала его. Здесь, в ночном ресторане, среди размалеванных уличных проституток, кельнеров с бритыми затылками и набриолиненных сутенеров с их непременными подковами на счастье, история эта казалась мне каким-то жутким порождением кривого зеркала. Время, когда оно остается без присмотра, всегда внезапно учащает свой бесшумный шаг, часы сгорают в секунды, вспыхивая в душе как ослепительные искры, чтобы высветить болезненные сплетения странных рискованных снов, сотканных из обрывков мыслей, из прошлого и будущего. Подобно тому, как сейчас в тумане моих грез снует уток чьего-то голоса: «Мы должны послать приглашение клубу Аманита». Ага, соображаю я, собеседники за столом вновь и вновь возвращаются к прежней теме... Происходящее уже доходит до моего сознания, правда, какими-то короткими вспышками: вот разбивается бокал с ликером, тихое посвистывание — и на моих коленях сидит какая-то француженка, целует меня, вдувает мне в рот дым сигареты и кончиком языка щекочет ухо. Потом, в который уже раз, мне подсовывают украшенную завитушками открытку: я должен подписать, но перо выпадает из моих пальцев — и вот снова неудача, так как кокотка опрокидывает шампанское мне на манжеты. Да, да, да, Клара, ты без обмана, — пронзительно выводят рефрен скрипки и вновь погружают мое сознание в глубокую ночь. Стоит закрыть глаза, и кажется, что лежишь на толстом черном бархатном ковре, на котором зловеще тлеют алые рубины цветов. «Надо бы перекусить, — доносится до меня. — Что-что?.. Икра? Чепуха... Принесите-ка нам... да — принесите-ка нам маринованные грибы». И мы едим маринованные грибы, которые вместе с какой-то пряной травой плавают в светлом, насыщенном волокнами рассоле. Да, да, да, Клара, ты — не отрава. Трала, трала, трала, тра-лалала-ла. За нашим столом вдруг оказывается странный акробат в болтающемся трико и справа от него какой-то горбун в маске и в белом льняном парике. Рядом — незнакомая женщина; и все смеются... Вот только как он сюда проник — с этими? Я оборачиваюсь: кроме нашей компании, в зале никого. «Ерунда, — думаю я себе, — ерунда!» Стол, за которым мы сидим, очень длинный, и большая часть скатерти, свободная от тарелок и бокалов, белоснежно искрится. — Месье Фаллоид, станцуйте же нам. — Кто-то из господ похлопал акробата по плечу. «Уже без церемоний, — грезил я, — ви... видимо, он давно сидит здесь, этот... этот... это трико». И я смотрю на горбуна, и наши взгляды встречаются... Белая лакированная маска и поблекший светло-зеленый камзол, сильно изорванный, весь в заплатах... Оборванец! Его смех напоминает звук какой-то жуткой трещотки. «Crotalus! Crotalus horridus!»[118] — всплывает в памяти школьная латынь; я уже забыл, что эти слова означают, однако, прошептав их, содрогнулся... Рука юной кокотки уже под столом, на моем колене. Я перехватываю ее. — Меня зовут Альбина Вератрина, — прошептала девица, за пинаясь, словно посвящая меня в тайну. Она придвинулась вплотную, и я смутно припомнил бокал с шампанским, вылитый мне на манжеты. Ее платье источало такой пряный запах, что я с трудом сдерживался, чтобы не чихнуть. — В общем-то, ее зовут Жермэ — фрейлейн Жермэ, да будет вам известно, — громко сказал доктор Циттербайн. Акробат хохотнул, посмотрел на нее и, словно извиняясь, пожал плечами... Глядя на него, я не мог подавить в себе чувство брезгливого отвращения: с его шеи свисали бледные складки омертвелой кожи — что-то похожее на зоб индюка, только на манер жабо. Он был хил и узкогруд, и трико цвета сырого мяса болталось на нем сверху донизу. Голову покрывала плоская зеленоватая панама, крапленная мушками белых пуговок. Он танцевал с какой-то девицей, шею которой обвивали бусы из ягод в крапинку. Новые женщины? Откуда? Я вопросительно посмотрел на лорда Хоуплеса. — Это Игнация — моя сестра, — сказала Альбина Вератрина и, подмигнув мне, истерически захохотала. Потом ни с того ни с сего показала язык, и я с ужасом увидел, что он разделен надвое длинной запекшейся бороздой красного цвета. «Как при интоксикации, — подумал я, — откуда у нее эта красная борозда?.. Как при интоксикации...» Тут как-то исподтишка ввернулся расхристанньй мотивчик: Да, да, да, Клара, ты — не отрава — и я с закрытыми глазами видел, как дергаются в такт головы... Как при интоксикации, грезил я и вдруг очнулся в ознобе: горбун в зеленом залатанном камзоле сдергивал с сидящей у него на коленях проститутки платье; судорожные марионеточные движения его рук напоминали пляску святого Витта под рваный ритм неслышной какофонии. Потом доктор Циттербайн с трудом поднялся и расстегнул ей бретельки... — Между секундой и секундой пролегает граница, которая не во времени - она лишь подразумевается. Это такие ячейки, как на сетях, — слышу я горбуна. — Но сосчитать все ячейки — это еще не время, и все же мы отсчитываем их — одна, другая, третья, четвертая... Но если мы живем на такой границе и забываем и минуты и секунды и ничего больше не знаем — значит, мы умерли и живем смертью. Вам отпущено пятьдесят лет жизни, школа крадет десять; в итоге — сорок. Сон пожирает двадцать: в итоге — двадцать. На хлопоты уходит десять — в итоге десять. Пять лет идет дождь — остается пять. Из этих пяти лет четыре вас гложет страх перед завтрашним днем; итак, живете вы один год — в лучшем случае! Почему же вы не хотите умереть?! Смерть прекрасна. Там покой, вечный покой. И никаких страхов перед завтрашним днем. Там вечное безмолвное настоящее, которого вы никогда не знали; там нет ни прошлого, ни будущего. Там простерлось вечное безмолвное настоящее, которого вы никогда не знали! Это тайные ячейки между секундой и секундой в сетях времени... Слова горбуна отзываются в моем сердце страстной мелодией, я поднимаю глаза и вижу, как падает платье, и девица сидит у него на коленях голая. Верхняя часть ее тела — какая-то фосфоресцирующая туманность, от ключиц до бедер. Он погружает в нее пальцы, и там что-то дребезжит, как басовая струна, а наружу с грохотом вываливаются куски известковой накипи. Вот оно, чувствую я, смерть как накипь... Тут середина скатерти начинает медленно вздуваться огромным белым пузырем, струя ледяного воздуха рассеивает туман. Становятся видны сверкающие струны, которые тянутся от ключиц проститутки к ее бедрам. Женщина-арфа! Горбун импровизирует на ней тему смерти, которая выливается в какой-то странный гимн: Страданьем обернется страсть. Блаженством? — Нет. — Наверное! Кто ищет страсть, кто понял страсть, тот выбрал боль, тот ищет боль. Кто страсть не ищет и не ждет — не ждет, не ищет и страданья. Меня охватывает ностальгия по смерти, я жажду смерти. Но в сердце темным инстинктом взбунтовалась жизнь. Жизнь и смерть встали угрожающе друг против друга; это уже судорога... Мои зрачки неподвижны, акробат склонился надо мной, и я увидел его болтающееся трико, зеленоватую шапочку с мушками и бледное жабо. «Каталепсия», — хотел прошептать я и не мог. По тому, как он переходил от одного к другому, выжидающе заглядывая в глаза, я понял, что все мы парализованы, а он — ядовитый мухомор. Нас накормили мухоморами с Veratrum album[119], пряным зельем белокурой Жермэ. Все это лики ночи! Я хотел громко крикнуть — и не мог. Я хотел повернуть голову — и не мог. Горбун в белой лакированной маске тихо поднялся, остальные последовали за ним, молча выстраиваясь в пары. Акробат с француженкой, горбун с женщиной-арфой, Игнация с Альбиной Вератриной. Так, пара за парой, манерно пританцовывая, проходили они мимо и исчезали в стене... Лишь Альбина Вератрина обернулась и сделала непристойный жест в мою сторону. Я хотел отвернуться или закрыть глаза — и не мог; мой взгляд был прикован к висящим на стене часам, стрелки которых, подобно чутким воровским пальцам, обшаривали циферблат. В ушах застрял наглый куплет: Да, да, да, Клара, лишь ты мне пара. Трала, трала, трала, тр а-лалала-ла. A Basso ostinato[120] проповедовал из бездны: Страданьем обернется страсть: кто страсть не ищет и не ждет — не ждет, не ищет и страданья. Я еще долго, очень долго наслаждался этой эйфорией интоксикации, все остальные давно покоились в объятиях смерти. «Они были уже безнадежны», — сказали мне, когда подоспела помощь. Однако я подозреваю, что они уснули летаргическим сном и их похоронили живыми. Врач, правда, говорил, что интоксикация ядовитыми грибами не может сопровождаться параличом — отравление мускарином протекает по-другому; но я подозреваю, что их похоронили живыми, и с ужасом думаю о клубе Аманита и призрачном горбатом слуге, «залатанном Аароне» в белой маске.Катастрофа
Нет, вы только подумайте, Хлодвиг Дона на грани нервного срыва! Говорят, он превратился в настоящего невротика, который постоянно — и днем и ночью! — вынужден с предельным вниманием, можно сказать, затаив дыхание, контролировать каждый свой шаг, чтобы не утратить хрупкое душевное равновесие и не сорваться в бездну пугающе странных, невесть откуда взявшихся у человека нашего круга мыслей. И это Дона, вся жизнь которого была расписана буквально по минутам, этот бездушный механизм, из которого слова-то не выжмешь, который, чтобы лишний раз не открывать рта, даже с клубной прислугой объяснялся письменно, педантично, на неделю вперед, занося на специальные бланки свои распоряжения! Это ж надо такое придумать: Дона — и вдруг какие-то нервы! Смех, да и только! «Необходимо пресечь эти нелепые слухи» — таково было общее мнение, и господа решили под предлогом какого-нибудь выдуманного на скорую руку торжества затащить Дону в клуб, чтобы здесь, в непринужденной обстановке, осторожно свести разговор на щекотливую тему и самым деликатнейшим образом попытаться порасспросить своего беспардонно оклеветанного приятеля. Они очень хорошо знали, что подчеркнуто предупредительное и корректное поведение — единственный способ развязать язык этому сухарю. Расчет оправдался с поразительной точностью, Дона заговорил, и даже раньше, чем кто-либо ожидал. — Честное слово, господа, плюнул бы на все и, как в былые времена, махнул куда-нибудь на побережье, в одно из тех прелестных курортных местечек, с которыми у меня связано столько счастливых воспоминаний, — внезапно признался он с тоской в голосе. — Если б только не эти обнаженные человеческие тела! Трудно поверить, господа, но еще пять лет назад вашему покорному слуге даже нравилось смотреть на хорошо сложенных людей, не говоря уж о греческой скульптуре, лицезрение которой доставляло мне истинное наслаждение. А теперь? С тех пор как спала пелена с глаз моих, я при виде самых совершенных античных статуй не испытываю ничего, кроме мучительной душевной боли. Произведения современных скульпторов с их прихотливо стилизованными формами — это еще куда ни шло, но живой обнаженный человек... Нет для меня ничего более кошмарного! Классическая красота — это академизм, мертвый школярский шаблон, который подобно наследственной болезни переходит из поколения в поколение. Вы только взгляните, господа, на человеческую руку! Отвратительная мясная культя, оканчивающаяся пятью мерзкими обрубками различной длины! Нет, нет, господа, как-нибудь сядьте и спокойно всмотритесь в вашу руку, но, пожалуйста, отбросьте все привычные стереотипы, связанные с телом, таким, разумеется, привычным и родным; короче, созерцайте свою переднюю конечность как нечто совершенно новое, не имеющее к вам никакого отношения, и вы поймете, что я имею в виду. А теперь расширьте рамки эксперимента на все тело и попытайтесь взглянуть на себя как бы со стороны. Ручаюсь, вас охватит ужас, более того — отчаянье! Еще бы — ежечасно ощущать у себя под сердцем страшное жало смерти, которое медленно, по капле, день за днем, год за годом высасывает вашу жизнь, и быть бессильным что-либо предпринять!.. Вот тогда-то вы на собственной, пардон, шкуре узнаете, что такое проклятье изгнания из рая. Да-да! Истинно прекрасно лишь то, что не предполагает границ, космос например; все прочее, конечное, ограниченное, будь то даже крыло экзотического мотылька, производит гнетущее впечатление ущербности, незавершенности, уродства... Края, границы вещей когда-нибудь доведут меня до самоубийства — острые, отточенные как скальпель, они по живому кромсают мою несчастную больную душу... Странно, но, как я уже говорил, манерный, невероятно выразительный рисунок сецессиона действует на меня не так болезненно, как все природное, взращенное в квазиестественной среде... И прежде всего человек!.. Человек!.. Ну почему, почему так мучительно невыносим вид обнаженного человеческого тела?! Нет, объяснить это я не в силах. Может быть, ему чего-то не хватает — перьев, или чешуи, или... или ореола?.. Оно производит на меня впечатление какой-то предельной наготы, с которой безжалостно сорваны последние, самые тонкие покровы... Что-то подобное вы, господа, наверное, испытываете при виде скелета или пустой рамы с трепещущими на холодном ветру лохмотьями выдранного с мясом шедевра. А как быть с глазами, такими живыми и бездонными, которые залогом бессмертия победно сияют средь мертвой пустоши костяка?.. Хлодвиг Дона закончил свою речь так же внезапно, как и начал; целиком погрузившись в свои мысли, он некоторое время молчал, потом вскочил и принялся расхаживать по комнате взад и вперед, нервно покусывая ногти. — Вы, наверное, много занимались метафизикой и физиогномикой? — осторожно поинтересовался молодой русский, месье Петров. — Я?.. Физиогномикой?.. Бог с вами, молодой человек, к чему физиогномика, если мне достаточно взглянуть на обшлага брюк совершенно незнакомого человека, и я уже знаю его лучше, чем он сам. Напрасно смеетесь, любезнейший, я совершенно серьезно. Этот нелепый вопрос, должно быть, прервал Дону на какой-то очень важной и неожиданной мысли; с рассеянным видом он сел на место, потом вдруг сразу поднялся и, сухо откланявшись, удалился... Господа молча обменялись недоуменными взглядами и разочарованно развели руками: как хочешь, так и понимай этого сумасброда... А на следующий день Дону нашли мертвым. Он застрелился, сидя в своем рабочем кресле за письменным столом; перед ним лежал большой, зеркально поблескивающий горный кристалл с чрезвычайно острыми, отточенными как скальпель гранями... А ведь еще пять лет назад покойный, веселая и общительная натура которого требовала постоянных развлечений, вел довольно рассеянный образ жизни: в поисках удовольствий он колесил по европейским курортам, и дома его застать было почти невозможно. Примерно в ту пору на водах в Левико он познакомился с одним индийским брамином по имени Лала Булбир Сингх, который произвел настоящий переворот в его душевном мире. Долгие часы они проводили в дружеских беседах на берегу неподвижной глади озера Кальдонадцо; затаив дыхание, Дона внимал индусу и не мог прийти в себя от изумления: этот человек, обладавший поистине феноменальной эрудицией, великолепно разбиравшийся во всех самых последних достижениях научной мысли, даже не считал нужным скрывать своего презрения к западной науке и отзывался о ней таким снисходительно-пренебрежительным тоном, каким взрослые обычно говорят о детских погремушках. Но вот брамин переходил к своей излюбленной теме — непосредственное познание истины, — и его речь, проникнутая каким-то странным, завораживающим ритмом, начинала звучать с такой всепокоряющей силой, что сердце природы, казалось, замирало, даже вечно шелестящий камыш как будто затихал и напряженно прислушивался, впитывая в себя каждый звук этой древней священной мудрости. В числе прочего индус поведал Доне о сокровенном учении секты Парада, с помощью которого посвященные в таинство адепты еще при жизни достигали бессмертия плоти. Бессмертие?.. Здесь?.. На земле?.. Чепуха! И Дона, расскажи ему об этом кто-нибудь другой, ни за что бы не поверил, но в устах мудрого брамина самые фантастические вещи обретали какой-то темный, загадочный смысл и уже не казались такими невероятными, — наверное, действовала та непоколебимая вера, которой было проникнуто каждое слово индуса. Взять хотя бы его пророчество о грядущем конце мира... При всей своей абсурдности оно тем не менее воспринималось как высочайшее откровение: в году 1914-м, после серии сокрушительных подземных толчков, большая часть Азии, соответствующая по площади территории современного Китая, постепенно превратится в один гигантский огнедышащий кратер, который извергнет на поверхность земли целое море раскаленной лавы. Эта чудовищная, пышущая жаром масса в полном соответствии с законами природы начнет быстро окисляться, забирая из земной атмосферы кислород до тех пор, пока не выберет весь. Каким образом будет развиваться дальше эта глобальная химическая реакция, неведомо, ясно одно: человечество обречено на удушье. По словам Лала Булбир Сингха, сведения о сей чудовищной катастрофе он почерпнул в одном из тех хранящихся в чрезвычайном секрете манускриптов, которые доступны в Индии лишь посвященным в высшие тайны браминам. «Но пути истины неисповедимы, — сказал в заключение индус, — есть на земле избранники, коим нет нужды копаться в пыльных манускриптах, они получают знание из глубин собственного Я». И поведал потрясенному Доне об одном новоявленном европейском пророке, по имени Ян Долежал, который обитал в Праге и проповедовал о грядущем светопреставлении так, словно читал древние индийские письмена. Голосом, не допускающим и тени сомнения, брамин утверждал, что Долежал, отмеченный тайными стигмами на лбу и груди, являет собой инкарнацию некоего знаменитого йога из секты сикхов, который жил во времена гуру Нанака, и что именно на этого человека возложена историческая миссия спасения избранной части человечества от тотальной катастрофы. В настоящее время богемский пророк, как 3000 лет назад великий Патанджали, посвящал членов своей общины в тайны традиционной дыхательной техники, позволяющей, остановив дыхание и сконцентрировав мысли на определенном нервном центре, переключить жизнедеятельность человеческого организма на иные, куда более чистые и субтильные ресурсы, нежели атмосферный воздух. Не теряя понапрасну времени, Дона в сопровождении Лала Булбир Сингха отправился в Богемию, чтобы лично познакомиться с пророком. Встреча состоялась в загородном поместье какого-то князя неподалеку от Праги; присутствовали только члены секты да несколько «оглашенных», допущенных по особой милости. Долежал производил впечатление потрясающее, даже брамин, с которым богемца, кстати сказать, связывали узы искренней и крепкой дружбы, несколько поблек на его фоне. Пылающий, обращенный в бесконечность взгляд непроницаемо черных глаз был невыносим — подобно раскаленному стержню, он проникал в мозг и выжигал свое зловещее тавро на каждой, самой мимолетной, мысли. Дона был буквально раздавлен величием этих двух людей, уже одно присутствие которых заставляло его цепенеть в благоговейном восторге. Отныне он себе не принадлежал, жил как в дурмане, большую часть дня вместе с общиной проводя в предписанных уставом напряженных медитациях. В полузабытьи до него доносились мрачные исступленные проповеди пророка, темный их смысл до сознания не доходил, но ритм, тяжелый, сокрушающий, подобно ударам молота отдавался в сердце, рождая болезненное эхо во всем теле, преследовавшее его потом в мучительных кошмарных снах. По утрам он вместе со всеми поднимался на холм, где рабочие под руководством индуса заканчивали строительство странного восьмиугольного сооружения, сходство которого с храмом, наверное, бросилось бы в глаза каждому, если 6 только не жутковато прозрачные стены, оказавшиеся при ближайшем рассмотрении огромными, необычайно толстыми кусками стекла. Внимательный наблюдатель, к своему немалому удивлению, отметил бы и другую странность: загадочные отверстия в полу храма; гигантские, проложенные под землей трубы тянулись от них к находившемуся неподалеку машинному отделению. Через месяц Дону в крайне тяжелом психическом состоянии доставили в Нормандию, где в маленькой рыбачьей деревушке он провел под наблюдением знакомого врача довольно длительное время. С тех пор его как подменили — замкнутый, болезненно чувствительный, он редко выходил из дому, все свое время проводя в настороженном созерцании природных форм, с которыми этот затворник, казалось, вел постоянный, ни на миг не прерывавшийся диалог на каком-то таинственном, никому не ведомом языке. Инициация едва не кончилась для него трагически, и жуткие воспоминания о последнем кошмарном испытании не оставляли его до самой смерти. В тот день он вместе со всеми мужчинами и женщинами секты был заперт в стеклянном храме. В центре на красном постаменте сидел, поджав ноги, погруженный в медитацию пророк. Время, казалось, остановилось. Незаметно стемнело, и прозрачные стены сразу превратились в огромные зеркала, которые, многократно повторяя неподвижное лицо богемца с мертвым, устремленным в ничто взглядом, создавали иллюзию какого-то страшного тысячеликого демона. Над курильницей с тлеющей беленой вилась струйка отвратительно пахнувшего дыма, ядовитый туман уже стелился слоями и, постепенно сгущаясь, тяжело и неотвратимо, подобно гигантской бескостной туше, подминал под себя сознание. Потом из подпола донеслось какое-то всхлипывающее чавканье: мощные насосы методично пережевывали тушу. Процесс пищеварения начался, по толстым кишкам воздух откачивали из храма. Один кошмар сменил другой, удушье, обвившись вокруг шеи удавом, медленно сокращало свои тугие кольца. Дыхание с хрипом рвалось из груди, в висках били бешеные тамтамы: сердце, казалось, не выдержит и вот-вот взорвется... Сектанты катались по полу, тщетно ловя широко открытым ртом спасительный глоток воздуха. И только пророк сидел, словно вырубленный из камня; спрятаться, уйти от страшного гипнотизирующего взгляда неумолимых черных глаз было невозможно — тысячекратно размноженные зеркальными стенами, они преследовали повсюду, изо всех углов тлели зловещими угольями. Стойте, остановитесь! Ради Бога, воздух... воздух!.. Я задыхаюсь... Все вокруг сцепилось в один дьявольский клубок, тела скручены судорогой, посиневшие пальцы терзают хрипящее горло... Умопомрачительная боль, кажется, обретает голос — это вопль, жуткий несмолкаемый вопль, черным смерчем взметнувшийся под купол; небытие всасывает в себя бренную плоть, оставляя голый скелет... Человеческие тела, переплетенные чудовищной мукой в одно целое, извиваются в инфернальных корчах, кто-то из женщин, словно пытаясь сбросить с себя душную, ненавистную плоть, впивается ногтями в грудь и раздирает ее в кровавые борозды... А черных, всевидящих глаз в зеркалах становится все больше, вот они уже сплошными, зловеще мерцающими коврами покрывают стены. В сознании галопом проносятся какие-то давным-давно забытые эпизоды, смутные воспоминания, порванные в клочья безумным шквалом, странные галлюцинации, с калейдоскопической быстротой сменяющие друг друга: озеро Кальдонаццо грохочет океанским прибоем, суша тает подобно кусочку льда на солнцепеке, берега оплывают, мгновенно превращаясь в раскаленную лаву, озеро разрастается с каждой секундой, вот это уже море — гигантское море огнедышащей магмы и зеленые языки пламени беснуются над кратером... Последний удар сердца подобно гонгу доносится из раздавленной удушьем груди — и Лала Булбир Сингх коршуном взмывает над морем огня... Все, каждая клеточка, каждый нерв — все, все сломлено, задушено, смято, растерзано... Слабая конвульсивная вспышка: глаза — устремленные со всех сторон мертвые потухшие глаза пророка, нечеловеческая усмешка, подобно кошмарной маске, застыла на каменном лике. Risus sardonicus - гримаса смерти — так называли ее древние. Потом ночь... Кромешная тьма, ледяной потусторонний сквозняк, пронизьшающий тело до мозга костей... Космическая стужа сковывает легкие, и чавканье насоса смолкает... Откуда-то с другого конца ночи ритмичной волной докатывается голос Лала Булбир Сингха: «Долежал не мертв... не мертв... не мертв... он в самадхи... в самадхи... в самадхи!..» После перенесенного потрясения Дона так и не сумел оправиться, врата его души рухнули... И в минуту слабости в них беспрепятственно ворвалась смерть. Душа его покинула сей мир раненой. Так пусть же хотя бы его телу земля будет пухом...Экспонат
Двое приятелей, сдвинув головы, сидели у углового окна в кафе Радецкого. — Все в порядке. Сегодня, во второй половине дня, он уехал в Берлин — вместе со своим слугой. В доме — никого; я только что оттуда, проверил все сам. — Значит, уловка с телеграммой удалась?! — В этом я нисколько не сомневался: имя Фабио Марини действует на перса как магнит. — И тем не менее странно: ведь он прожил с ним вместе не один год — до самой смерти итальянца, ну что он может узнать еще нового в Берлине? — Не скажи! Несомненно, профессор Марини еще многое держал от него в секрете; это он сам как-то случайно обронил в разговоре — года полтора назад, когда наш добрый Аксель был еще среди нас. — Так, значит, во всех этих слухах о таинственном методе препарирования, разработанном Фабио Марини, действительно есть что-то реальное? Ты в самом деле в это веришь, Синклер? — При чем тут «вера», когда я своими собственными глазами видел во Флоренции один из препарированных Марини детских трупиков. Любой бы присягнул, что ребенок просто спит: ни малейшего намека на окоченение, ни морщинок, ни складок — мало того, на его лице был здоровый розовый румянец. — Гм. Ты думаешь, этот перс мог убить Акселя и... — Этого я не знаю, Отакар, но все, что касается судьбы Акселя, мы должны выяснить до конца — это долг нашей совести. А если то был яд, если его отравили и он теперь спит каким-нибудь летаргическим сном?! Боже, как я тогда уговаривал врачей анатомического института, как умолял их сделать еще одну — только одну! — попытку реанимации!.. Ну что вы, собственно, хотите, звучало в ответ, этот человек мертв, никаких сомнений, и дальнейшее медицинское вмешательство невозможно без особого разрешения доктора Дараша-Кога. И они предъявили мне контракт, в котором черным по белому значилось, что тело Акселя после его смерти поступает в полное распоряжение подателя сего документа, за что вышеупомянутому Акселю выплачивается сумма в 500 флоринов и прилагается расписка в получении. — Нет, какая мерзость — и подобные сделки в наш век имеют силу закона! Стоит мне только подумать об этом — и меня охватывает неописуемая ярость. Бедный Аксель! Если бы он знал, что этот контракт попадет в руки перса, его заклятого врага! Он всегда думал, что анатомический институт сам... — И адвокат ничего не может сделать? — Все напрасно. Не помогло даже свидетельство старой молочницы, которая видела, как однажды утром Дараш-Ког в своем саду проклинал Акселя до тех пор, пока у него в пароксизме не выступила пена на губах... Конечно, если бы Дараш-Ког не был medicinae doctor, европейским светилом... Да что тут говорить — ты идешь или нет? Решай, Отакар! — Конечно, я хочу пойти — но подумай, если нас застигнут как взломщиков! В научных кругах у перса безукоризненная репутация! Одна только ссылка на какие-то подозрения, видит Бог, вряд ли сможет послужить оправданием. Не обижайся, но ведь не исключено, что голос Акселя тебе просто послышался. Синклер, пожалуйста, не нервничай — расскажи лучше еще раз, как это все произошло. Может, ты был тогда слишком возбужден? — Нисколько! Я бродил по Градчанам, любовался капеллой святого Вацлава и собором святого Витта. Эта фантастическая готика с ее скульптурами, словно отлитыми из запекшейся крови! Сколько бы я ни смотрел на нее, она не перестает волновать мою душу. А «Башня голода» и переулок Алхимиков?.. Потом, спускаясь по Старой замковой лестнице, я невольно остановился, так как маленькая дверь в стене, ведущая к дому Дараша-Кога, была приоткрыта. И в то же мгновение я услышал совершенно отчетливо — из его окна, в этом нет никаких сомнений — голос; я могу чем угодно поклясться: это был голос Акселя. Он вскрикивал: «Раз-два-три-четыре!..» О Боже, мне бы тогда сразу ворваться в дом! Но прежде чем я успел опомниться, слуга-турок захлопнул дверь. Повторяю, мы должны осмотреть дом! Мы должны! А что, если Аксель действительно еще жив?! Уверяю тебя, с нами ничего не случится. Ну скажи, кто ходит по ночам по Старой замковой лестнице?! И потом, ты глазам своим не поверишь, как я ловко теперь справляюсь с защелками замков.* * *
Обсуждая план, приятели до темноты проходили по улицам. Затем перелезли через стену и оказались перед старинным домом, принадлежавшим персу. Одинокое строение — других на склоне Фюрстенбергского парка не было — подобно мертвому стражу жалось к боковой стене поросшей травой замковой лестницы. — В этом сумрачном парке и в этих гигантских вязах есть что-то жуткое, — прошептал Отакар Донал, — ты только посмотри, как зловеще вырисовывается хищный профиль Градчан на фоне неба. И эти освещенные бойницы Града! Поистине, странные ветры веют здесь, на Малой Стране! Как будто все живое, страшась затаившейся смерти, ушло глубоко в землю. У тебя никогда не возникало чувства, что в один прекрасный день этот призрачный образ вдруг растворится как видение, fata morgana,что вся спящая, съежившаяся здесь жизнь пробудится какимто апокалиптическим зверем для чего-то нового и ужасного:! Смотри, там, внизу, белые дорожки из гальки — как вены... — Ладно, пойдем, — торопил Синклер, — у меня и так коле ни подгибаются... Возьми у меня план дома... Дверь легко открылась, и оба оказались на выложенной кирпичом лестнице; в круглых окнах застыло темное, неприветливо смотревшее небо, слабое мерцание редких одиноких звезд едва-едва освещало ступени... — Не зажигай, свет могут заметить снизу — из садового домика. Слышишь, Огакар! Держись за меня... — Осторожней, здесь неровная ступенька... Дверь в коридор открыта... сюда, сюда — левее... Они стояли в какой-то комнате. — Только не шуми так! — Это не я: двери сами захлопываются. — Придется включить свет. Боюсь что-нибудь опрокинуть, кругом столько стульев. В это мгновение на стене сверкнула синяя искра и послышался чей-то вздох. Или это был не вздох?.. Тихий скрежет, как будто кто-то скрипел зубами, проникал, казалось, из-под пола, из всех щелей и стыков комнаты... На секунду снова мертвая тишина. Потом, медленно и громко, хриплый голос начал считать: «Раз-два-три...» Отакар Донал вскрикнул и как безумный стал чиркать спичками, которые ломались, так как его руки ходили ходуном. Наконец — свет... Свет! Приятели смотрели друг другу в белые как мел лица: «Аксель!» — ...че-е-етыре-пять-шеесссть-се-е-емь... — Зажги свечу! Быстро, быстро! — .. .восемь-д евять-д е-е-есять-одиннадцать... В стене было углубление, что-то вроде ниши, в его потолке торчал медный прут, на нем висела белокурая человеческая голова. Прут проникал в самую середину теменного бугра... Шея была замотана шелковым платком, из-под него виднелись два красноватых легких с трахеями и бронхами. Ритмично пульсировало сердце, обмотанное золотой проволокой проводов, тянувшихся по полу к небольшому электрическому аппарату. По туго наполненным артериям кровь из двух тонкошеих сосудов поступала вверх, в мозг... Огакар Донал укрепил свечу на маленьком подсвечнике и, чтобы не упасть, вцепился в руку своего друга. Это была голова Акселя, с красными губами и здоровым, розовым румянцем на лице. Широко раскрытые глаза с каким-то жутким выражением неподвижно смотрели на увеличительное стекло, укрепленное на противоположной стене, которая была украшена туркменским и киргизским оружием и коврами... Причудливые узоры восточных орнаментов... Множество препарированных змей и обезьян в странных, неестественных позах лежало в комнате вперемешку с книгами. На стоявшем в стороне столике в стеклянной ванне, наполненной синеватой жидкостью, плавал человеческий желудок. Гипсовый бюст Фабио Марини серьезно взирал с постамента. Друзья утратили дар речи; как под гипнозом, они не могли отвести глаз от сердца этих кошмарных человеческих часов, которое билось как живое. — Ради Бога — прочь отсюда — я теряю сознание. Будь проклято это персидское чудовище! Они повернулись к дверям. И тут снова жуткий скрежет — это инфернальный экспонат скрипел зубами! Потом сверкнули две синие искры и увеличительное стекло отразило их в мертвые зрачки. Рот открылся — неуклюже высунулся язык — изогнулся за передние зубы — и захрипело: «Чет-ве-ррр-ть...» Рот закрылся, и лицо снова застыло, глядя прямо перед собой... — Кошмар! Мозг функционирует — живет!.. Прочь — прочь отсюда... на воздух! Свеча — захвати свечу, Синклер! — Ну, открывай же, ради Бога, — почему ты не открываешь? — Не могу, там — там... смотри! Вместо ручки в дверь была вделана человеческая кисть; белые пальцы трупа — на безымянном тускло блеснуло знакомое кольцо, — вцепившись в пустоту, коченели в последней судороге. — Вот, вот, возьми платок! Что ты боишься — ведь это рука нашего Акселя! Они снова стояли у входа и оторопело смотрели на дверь, которая медленно и как-то задумчиво закрылась на защелку. Укрепленная на ней черная стеклянная табличка гласила: Доктор Мохаммед Дараш-Ког анатом Пламя свечи беспокойно металось: ветер гулял по широким пролетам лестницы. Покачнувшись, Отакар прислонился к стене и со стоном опустился на колени. — Смотри! Там... — И он указал на то, что казалось шнуром колокольчика. Синклер поднес свечу ближе и тут же с криком отпрянул назад; свеча упала и погасла... Жестяной подсвечник с грохотом катился по ступенькам вниз. Как безумные, с волосами, вставшими дыбом, мчались они, жадно хватая воздух, по ночной Старой замковой лестнице... — Персидский сатана... Персидский сатана!Растения доктора Синдереллы
Вон видишь маленькую, почерневшую от времени бронзу между канделябрами? Она-то и есть причина тех загадочных наваждений, которые преследуют меня на протяжении последних лет. С неумолимой последовательностью звеньев одной цепи сплетены эти сосущие из меня жизнь эксцессы, и когда я, звено за звеном, возвращаюсь в прошлое, то неизбежно прихожу к одной и той же исходной точке — к этой бронзе. И даже если, пытаясь обмануть самого себя, я выдумываю другие причины, все равно — рано или поздно она встает на моем пути подобно роковой вехе. А куда этот путь ведет: к свету прозрения или дальше, в еще более кромешный мрак кошмара, — я не знаю, да и знать не хочу, судорожно цепляясь за те немногие дни, когда мой злой рок оставляет меня в покое до следующего потрясения... В Фивах нашел я ее — выкопал в песке пустыни... Так, совершенно случайно, ковырнул тростью... Но с той секунды, когда я впервые увидел эту статуэтку, меня охватило болезненное любопытство: что же она означает? А ведь я никогда не отличался особой любознательностью! Для начала я опросил специалистов, всех подряд, — безрезультатно. Лишь один старый арабский антиквар как будто что-то уловил: «Имитация египетского иероглифа, а странное положение рук фигуры, видимо, указывает на какое-то неизвестное экстатическое состояние». Эту бронзовую статуэтку я взял с собой в Европу, и не было вечера, чтобы, размышляя над ее таинственным значением, я не путался в головоломных лабиринтах своих мыслей. При этом меня не оставляло жуткое предчувствие: я копаюсь в чем-то ядовитом, враждебном, с каким-то коварным удовлетворением, слой за слоем, снимаю с безжизненной мумии набальзамированные пелены, чтобы потом она, подобно неизлечимой болезни, впилась в меня и превратилась в черного вампира моей жизни. И вот однажды — я занимался чем-то посторонним — разгадка так внезапно и с такой силой пронзила мой мозг, что я вздрогнул... Озарения — как метеоры, рассекающие темный небосклон нашей души. Мы не знаем их родины, мы только отмечаем их белое раскаленное свечение и фиксируем место падения... Сначала — почти всегда — ужас... потом — что-то неуловимо вкрадчивое, так... так, словно какой-то пришелец... пришелец... Что же я хотел сказать?.. Извини, с тех пор как моя левая нога парализована, на меня, бывает, находит... Так вот, ответ был до предела прост: имитация! Это слово обрушило дамбу, и через мое сознаниепрокатилась мощная прибойная волна, сметающая на своем пути последние сомнения, имитация — вот истинный ключ ко всем загадкам нашего бытия! Скрытая, бессознательная, постоянная, она — невидимый рулевой всех живых существ! Всемогущий таинственный инкогнито, лоцман под темной маской, который молча, в зыбких предрассветных сумерках, всходит на палубу человеческой жизни. Тот, который является из тех бездн, куда наша душа заглядывает лишь тогда, когда глубокий сон накрепко смыкает створки дневных врат! И может быть, там, глубоко внизу, на дне потустороннего, воздвигнута бронзовая статуя демона, который возжелал, чтобы мы, люди, стали его образом и подобием... Этот зов «ниоткуда», прозвучавший для. меня словом «имитация», указал путь, на который я и вступил, не мешкая ни секунды. Я выпрямился, поднял руки над головой, как у статуэтки, и стал опускать пальцы до тех пор, пока мои ногти не коснулись макушки. Но ничего не произошло. Никаких перемен — ни во мне, ни вне меня... Чтобы не допустить ошибки в позе, я всмотрелся в фигурку внимательнее и заметил, что ее глаза закрыты, как во сне. Я прервал свои экзерсисы и стал дожидаться ночи. Убрал подальше тикающие часы и улегся, воспроизведя положение рук статуэтки. Минуты шли, но сон не приходил — по крайней мере мне так казалось. Внезапно послышался какой-то гул, он доносился изнутри, из глубин моей души, и непрерывно нарастал, как будто огромный валун скатывался вниз. Мое сознание сорвалось и устремилось вслед за ним по бесконечной лестнице, перепрыгивая сначала через две, потом через четыре, восемь и далее через все большее и большее количество ступенек, — в какой-то момент все мои воспоминания о жизни подверглись полной диссолюции и призрак летаргии накрыл меня... О том, что наступило потом, рассказывать не буду, об этом не говорят. Может быть, кто-то и посмеется: как, из тысяч египтян и халдеев, посвященных в великие мистерии, охраняемые змеем Уроборосом, не нашлось ни одного, кто бы проговорился? Значит, и говорить было не о чем! Ведь все мы уверены, что нет клятв, которых бы нельзя было нарушить. Когда-то и я так думал, но в то мгновение пелена упала с глаз моих... За всю историю человеческого существования до нас не дошло ни единого свидетельства подобного таинства, которое бы последовательно, без каких бы то ни было пробелов, лакун и фигур умолчания описывало мистериальную церемонию, и дело здесь не в клятве, «роковой печатью сковывающей уста», — нет, просто неофит, даже если б захотел, не смог бы ничего сказать, ибо тайна доверена темной, ночной стороне его сознания, достаточно одной только мысли о том, чтобы попытаться облечь сокровенное в слова здесь, по сю сторону, — и гадюки жизни уже поднимают, шипя, свои головы. Воистину, таинство сие велико настолько, что выразить его может лишь молчание, — имеющий уши да слышит! — вот потому-то и суждено ему остаться тайной до тех пор, пока «мир сей пребудет»... Но все это имеет косвенное отношение к тому ожогу, боль от которого мне уже никогда не загасить. Ведь и внешняя, обыденная судьба человека меняет свои ориентиры, если хоть на мгновение его сознание превысит предел, установленный смертным. Факт, живым примером которого являюсь я. С той ночи, когда я впервые вышел из своего тела — по-другому назвать это не могу, — траектория моей жизни — такой прежде уютной! — изменилась и стала меня кружить от одного загадочного, внушающего ужас наваждения к другому, сужая круги над темной неведомой целью. Казалось, какая-то дьявольская рука ведет меня от кошмара к кошмару, которые с каждым разом становились все более невыносимыми, а паузы между ними — все более краткими. Действуя расчетливо и чрезвычайно осмотрительно, она словно экспериментировала, синтезируя во мне некий новый, неизвестный вид безумия, который бы никто извне даже не заподозрил, и лишь жертва осознавала бы его в припадках несказанных мук. На следующий же день после моей первой попытки имитации я стал замечать такие явления, которые принял поначалу за обман чувств. Странные посторонние шумы — грохочущие или пронзительно свистящие — врывались вдруг в повседневный звуковой фон, фантастические краски, которых я раньше никогда не видел, мерцали у меня перед глазами. Загадочные существа возникали предо мной и совершали в призрачных сумерках какие-то непонятные манипуляции. Они произвольно меняли свою внешность, падали вдруг замертво, потом длинными слизистыми кишками ускользали в водосток или в дурацком отупении сидели нахохлившись в темных прихожих. Такое состояние обостренной чувствительности не было постоянным — оно, подобно луне, проходило через различные фазы, погружая меня иногда в настоящий транс. А почти полная потеря интереса к людям, чьи надежды и чаянья доносились до меня как далекое эхо, свидетельствовала, что моя душа совершает какое-то таинственное паломничество в сторону, прямо противоположную человеческой природе. Вначале я лишь прислушивался к шепоту наполнявших меня голосов, вскоре же повиновался ему, как зашоренная кляча... Как-то ночью этот шепот погнал меня на улицу; бесцельно кружа по тихим переулкам Малой Страны, я восхищался фантастическими старинными дворцами этого самого мрачного в мире городского квартала. В любое время суток — днем и ночью — здесь царит вечный сумрак. Какое-то смутное свечение, как фосфоресцирующая дымка, оседает с Градчан на крыши домов. Сворачиваешь в какой-нибудь переулок, сразу погружаясь в омут мрака, и вдруг из оконной щели тебе в зрачок вонзается длинная колдовская игла призрачного света. Потом из тумана выплывает дом с надломленными плечами и покатым лбом; как давно околевшее животное, бессмысленно таращится он в небо пустыми люками крыши. А рядом выворачивает шею другой, жадно кося горящими окнами вниз, на дно колодца: быть может, сын золотых дел мастера, который утонул лет сто назад, еще там. А ты идешь дальше, спотыкаясь на горбатом булыжнике мостовой, и если вдруг резко обернешься, то можно побиться об заклад, что встретишься глазами с какой-нибудь бледной расплывшейся мордой, глядящей тебе вслед из-за угла — и не на высоте человеческого роста, нет, много ниже, на уровне головы крупной собаки... На улицах никого. Мертвая тишина. Древние ворота молчат, закусив потрескавшиеся губы. Я свернул в Туншенский переулок, к дворцу графини Моржины. Там, во мгле, притаился узкогрудый, в два окна дом — зловещее, чахоточное строение; меня что-то остановило, и я почувствовал, что погружаюсь в транс. В таких случаях, марионетка чужой воли, я действую молниеносно и даже не подозреваю, что случится в следующую секунду. Я толкнул слегка притворенную дверь, уверенно, как будто этот дом принадлежал мне, прошел по коридору и спустился по лестнице в подвал. Внизу невидимые нити, которые направляли меня, ослабли, и я остался во мраке с мучительным сознанием своей подневольной зависимости. Зачем я спустился в это подземелье, почему мне никогда не приходило в голову положить конец болезненному наваждению? Я болен, просто болен, а следовательно, и речи не может быть ни о каком таинственном потустороннем влиянии. Но тут я вспомнил, как открыл дверь, вошел в дом, спустился по лестнице — ни разу не споткнувшись, как тот, кто отлично знает каждый свой шаг! — и все мои надежды враз улетучились. Постепенно мои глаза привыкли к темноте, и я осмотрелся. Там, на ступеньках лестницы, кто-то сидел. Как же я его не задел, когда проходил мимо?! Смутно вырисовывалось скрюченное тело. Черная борода спадала на обнаженную грудь. Голые руки. Лишь ноги, казалось, были закутаны в какие-то лохмотья. В положении рук было что-то странное — выкрученные в локтях в обратную сторону, они торчали почти под прямым углом к предплечьям. Я долго рассматривал сидящего на ступеньках человека. Трупная окоченелая неподвижность была настолько противоестественна, что его фигура казалась просто контуром, который навечно въелся в темную стену. Меня знобило от ужаса, и я двинулся дальше, следуя изгибам подземного хода. В одном месте, нащупывая стену, я схватился за ветхую деревянную решетку, какие обычно употребляют при разведении вьющихся растений. Как оказалось, они здесь росли в изобилии — я почти повис в сетях лианоподобных зарослей. Меня только смущало, почему эти растения — или то, что там было, — такие тугие и теплые и почему при их осязании появлялось ощущение живой человеческой плоти? Я стал ощупывать один из стеблей, и вдруг мои пальцы сжали что-то выпуклое, величиной с желудь, холодное и склизкое. Я испуганно отдернул руку... Ядовитый жук? В этот момент впереди мигнул какой-то слабый отблеск и на секунду осветил стену. Страх, ночные кошмары — все, что у меня раньше связывалось с подобными понятиями, — было ничто по сравнению с этим мгновением. Каждая фибра моего существа вопила в неописуемом ужасе. Неслышный вопль парализованных голосовых связок, который ледяным клинком пронзает человека сверху донизу. Вся стена до самого потолка была опутана густой сетью кроваво-алых вен, как ягодами усыпанной сотнями вытаращенных глаз. Один, который только что выскользнул из моих пальцев, еще покачивался на кровавом стебле и злобно косился в мою сторону. Я почувствовал, как к горлу подступает тошнота, и, теряя равновесие, сделал еще два-три шага дальше во мрак; в ноздри ударил тяжелый тучный дух перегноя, запах грибов и айлантов. Колени подгибались, и я бешено замахал руками, пытаясь удержаться на ногах. И тут я увидел перед собой маленький тлеющий нимб — гаснущий фитиль масляной лампы; в следующее мгновение он полыхнул снова. Я бросился к лампе и дрожащими пальцами вывинтил фитиль — крошечный коптящий огонек был спасен. Я резко обернулся, словно для защиты выставив лампу... Помещение было пусто. На столе, где стояла лампа, лежало что-то продолговатое, тускло отсвечивающее. Моя рука потянулась к нему, как к оружию. Но в моей ладони оказался легкий чешуйчатый предмет. Ничто не шелохнулось, и стон облегчения вырвался из моей груди. Осторожно, стараясь не загасить пламя, я стал освещать стены... Повсюду тянулись деревянные шпалеры, увитые сложными сплетениями вен — очевидно, искусственно сращенных; густая темная кровь пульсировала в них. Жутко мерцали грозди бесчисленных глазных яблок, растущие вперемешку с какими-то отвратительными, похожими на малину наростами; когда я проходил мимо, они провожали меня настороженным взглядом. Глаза, большие и маленькие, всех цветов и оттенков. С чистой, ясной радужной оболочкой, и рядом — водянисто-голубой лошадиный глаз, с мертвым, направленным вертикально вверх взглядом. Некоторые, сморщенные и почерневшие, напоминали засохшие дикие вишни. Стволы артерий, которые пышно ветвились каскадами сосудов, оплетенных тончайшими паутинками синеватых капилляров, росли из наполненных кровью колб, каким-то непонятным образом всасывая в себя алую влагу. Я наткнулся на чаши; беловатые кусочки жира лежали в них, облепленные целыми колониями красных, обтянутых прозрачной кожицей мухоморов. Грибы из кровоточащего мяса, которые нервно вздрагивали при малейшем прикосновении. Все это были кровеносные системы, взятые из живых организмов и привитые друг к другу с непостижимым искусством; всякое человеческое, одушевленное начало в них было изничтожено, низведено на чисто вегетативный уровень существования. Но жизнь присутствовала в них, я это понял, когда поднес к глазам огонек лампы и увидел, как зрачки сразу сузились. Кем был тот инфернальный садовник, который заложил эту кошмарную оранжерею?! Я вспомнил человека на лестнице... Инстинктивно сунул руку в карман в поисках какого-нибудь оружия и наткнулся на продолговатый предмет, который нашел на столе. Он топорщился, как рыбья чешуя... Это была шишка из розовых человеческих ногтей! Содрогнувшись от ужаса, я швырнул ее наземь и стиснул зубы: прочь отсюда, прочь, даже если человек на лестнице очнется и накинется на меня! И вот я уже рядом с ним и готов к схватке, но тут замечаю, что он мертв — желт, как воск. Из пальцев выкрученных рук вырваны ногти. Небольшие надрезы на груди и висках свидетельствовали, что неизвестный подвергался вскрытию. Проходя мимо, я задел его. Или мне померещилось? Но он, соскользнув на две ступеньки, внезапно выпрямился, поднял руки, а ладони опустил к макушке. Та же поза — та же поза! Имитация египетского иероглифа! Потом — провал, помню только, как погасла лампа, как резким ударом я распахнул входную дверь и как демон каталепсии сжал в своих ледяных пальцах мое трепещущее сердце... Позже, немного придя в себя, я начал что-то понимать — локти человека были привязаны к потолку веревками, которых, когда он сидел, не было видно, но стоило ему соскользнуть вниз, и его тело, повиснув, выпрямилось... а потом — потом меня кто-то тряс: «Пройдемте к господину комиссару...» Я вошел в плохо освещенную комнату,- у стены — курительные трубки, на вешалке — служебный китель. Полицейское управление. Какой-то шуцман поддерживает меня. За столом сидит комиссар; глядя куда-то мимо, он бормочет: — Вы записали его анкетные данные? — При нем была визитная карточка, — ответил шуцман. — Что вы делали в Туншенском переулке — у входной двери, открытой настежь? Продолжительная пауза. — Эй! — толкнул меня шуцман. Я залепетал что-то об убийстве в подвале... Шуцман вышел. Комиссар, по-прежнему не глядя на меня, произнес какую-то длинную реплику. Я расслышал только: — Ну что вы говорите? Какое еще убийство? Доктор Синдерелла — известный египтолог, ученый; создал новые сорта плотоядных растений — непентии, дрозерии или как их там — не знаю... Сидели бы вы лучше, господин хороший, дома, а не шлялись ночью по чужим подвалам... За моей спиной открылась дверь, я обернулся... На пороге стоял высокий человек с клювом цапли — египетский Анубис!.. У меня потемнело в глазах. Анубис поклонился комиссару и, подходя к нему, почтительно кивнул мне: — Честь имею кланяться, доктор Синдерелла... Доктор Синдерелла! И тут я вспомнил что-то очень важное из моего прошлого и — и тут же снова забыл... Когда я посмотрел на Анубиса вновь, он уже превратился в писаря — правда, в лице у него осталось что-то птичье... Он вернул мне мою визитную карточку, на которой черным по белому значилось: доктор Синдерелла. Комиссар вдруг посмотрел прямо на меня и сказал: — Стало быть, это вы и есть! Доктор Синдерелла собственной персоной... И все же рекомендую по ночам оставаться дома... Писарь помог мне выйти из комнаты, но, проходя мимо вешалки, я задел служебный мундир. Он медленно соскользнул и повис на рукавах. Его тень на выбеленной стене вскинула руки над головой, беспомощно пытаясь повторить позу египетской статуэтки... Ну вот и все. Это последнее наваждение случилось со мной три недели назад. С тех пор меня разбил частичный паралич: я приволакиваю левую ногу и мое лицо теперь состоит как бы из двух независимых половин... А того узкогрудого чахоточного дома я так и не нашел, и в комиссариате никто ничего не знает о той ночи.Кабинет восковых фигур
— Телеграфировать Мельхиору Кройцеру — мысль, конечно, отличная! Но, Синклер, ты действительно думаешь, что он примет наше предложение? Если он успел на первый поезд, — Себалд посмотрел на часы, — то с минуты на минуту должен быть здесь. Синклер вскочил и вместо ответа торжествующе постучал указательным пальцем по оконному стеклу... Высокий сухощавый человек поспешно поднимался по улице. — Повседневные события кажутся иногда — на мгновение — какими-то устрашающе незнакомыми, необычными... Синклер, тебе никогда не приходило в голову, что такие мгновения обычно проскальзывают мимо нашего сознания? Как будто внезапно просыпаешься и, прежде чем тут же заснуть вновь, успеваешь между двумя ударами пульса заглянуть в странный, неожиданный мир, наполненный каким-то загадочным смыслом. Синклер внимательно посмотрел на своего друга: — Что ты хочешь этим сказать? — Этот кабинет восковых фигур... Какое-то тревожное чувство охватило меня, когда я туда вошел... — Себалд вдруг запнулся. — Уж очень я сегодня чувствителен. Вот только что: я заметил Мельхиора еще издали, и чем ближе он подходил, тем выше и выше становилась его фигура, и в этом было что-то мучительное для меня, что-то — как бы это сказать? — антитаинственное... Да, пространство способно поглотить любую вещь, будь то тело или звук, мысль, фантазия или событие. Издали мы видим их крошечными, но постепенно они растут — всё, всё, даже то, что невещественно, чему нет необходимости преодолевать пространство. Но я не нахожу нужных слов. Понимаешь, что я имею в виду? Тот же самый закон, видимо, распространяется и на слова! Синклер задумчиво кивнул. — Ну, а некоторые события и мысли подкрадываются к нам тайком, словно «там» есть что-то, напоминающее неровности почвы, за которыми они могут спрятаться. Из своих укрытий они выскакивают всегда внезапно и предстают перед нами страшными, загадочными исполинами... Открылась дверь, и в кафе вошел доктор Кройцер. — Мельхиор Кройцер — Кристиан Себалд Оберайт, химик, — представил своих знакомых Синклер. — Догадываюсь о причинах, побудивших вас телеграфировать мне, — сказал доктор. — Давнее горе госпожи Лукреции?! Меня тоже всего передернуло, когда я наткнулся во вчерашних газетах на имя Мохаммеда Дараша-Кога. Вам уже удалось что-нибудь выяснить? Это тот самый?.. Посреди немощеной рыночной площади возвышался балаган кабинета восковых фигур, из множества маленьких зеркальных осколков, укрепленных на парусиновом фронтоне, слагалась розетка: Восточный паноптикум Мохаммеда Дараша-Кога под управлением мистера Конго-Брауна На розетке отражался последний розовый отсвет заходящего солнца. Паруса балаганных стен, пестро размалеванные диким воображением ярмарочного зазывалы, тихо колебались и, когда кто-нибудь из работавших внутри облокачивался на них, вздувались как гигантские щеки. Две деревянные ступеньки вели ко входу, над которым под стеклянным колпаком стояла натуральной величины восковая фигура женщины, одетая в трико с блестками. Женщина медленно поворачивала свое бледное лицо и обводила мертвым взглядом стеклянных глаз собравшуюся внизу толпу; достигнув крайнего положения, она ненадолго замирала, словно ожидая какого-то тайного приказа от сидящего за кассой темнокожего египтянина, потом резко, так что разлетались длинные черные волосы, в три приема разворачивала голову в противоположном направлении, чтобы ровно через пятнадцать секунд медленно вернуться в исходную позицию и, обреченно глядя перед собой, повторить все сначала... Время от времени руки и ноги фигуры судорожно выворачивались, голова запрокидывалась, и она, прогнувшись назад, касалась лбом пяток. — Вот откуда эти отвратительные корчи, — сказал вполголоса Синклер и указал на стоявший с другой стороны входа четырехтактный механизм, который работал с каким-то утробным чавкающим звуком. — Electrissiti, жизнь, да, все живое, да, — монотонно пробубнил египтянин и сунул программку. — Через полчаса начало, да. — Неужели вы думаете, что этот цветной что-нибудь знает о местопребывании Мохаммеда Дараша-Кога? — спросил Обе-райт. Но Мельхиор Кройцер не слышал: целиком углубившись в изучение программки, бормотал про себя особенно заинтересовавшие его места: — «Магнетические близнецы Вайю и Дхананджайя (с пением!)». Это еще что такое? А вчера вы этот номер видели? — спросил он вдруг громко. Синклер качнул головой: — Живые исполнители вчера не выступали и... — Доктор Кройцер, это правда, что вы были лично знакомы с Томасом Шарноком, мужем Лукреции? — перебил его Себалд Оберайт. — Разумеется, на протяжении многих лет мы были друзьями. — И не заметили, что он злоумышляет против ребенка? Доктор Кройцер развел руками: — Конечно, я видел, как душевная болезнь медленно разъ едала его, но никто не мог предполагать такой внезапной вспышки. Он мучил бедную Лукрецию ужасными сценами ревности и почти не слушал нас, своих друзей, когда мы доказывали ему полную беспочвенность его подозрений. Ничего не поделаешь, идефикс! Когда на свет появился ребенок, мы думали, что теперь их супружеская жизнь пойдет на лад. И уже казалось, что так оно и есть. Однако его недоверие просто ушло вглубь, и однажды мы получили отчаянное послание, в котором сообщалось, что в припадке буйного помешательства он выхватил младенца из колыбели и скрылся. Розыски ничего не дали. Кто-то как будто видел его вместе с Мохаммедом Дарашем-Когом на какой-то железнодорожной станции... А через несколько лет из Италии пришло извещение, что иностранец по имени Томас Шарнок, которого часто видели с маленьким ребенком и каким-то неизвестным мужчиной восточного типа, найден повешенным. И никаких следов — ни Дараша-Кога, ни ребенка. Все наши поиски были напрасны! Вот почему я не могу поверить, что этот ярмарочный балаган имеет какое-то отношение к азиату. С другой стороны, снова это странное имя — Конго-Браун! Я не могу избавиться от мысли, что Томас Шарнок в свое время упоминал его. Однако Мохаммед Дараш-Ког — перс знатного происхождения, а его интеллект поистине не имеет себе равных. Каким образом он мог опуститься до кабинета восковых фигур? — Может быть, Конго-Браун был его слугой и теперь использует имя своего господина? — предположил Синклер. — Может быть! Проверим и эту версию. Не думаю, что азиат только подстрекал Томаса Шарнока, — уверен: ему принадлежит сама идея похищения ребенка. Лукрецию он ненавидел беспредельно. Она как-то обронила несколько слов, из которых можно было заключить, что когда-то он не давал ей прохода навязчивыми предложениями руки и сердца, хотя ничего, кроме отвращения, она к нему не испытывала. Однако за этим должна таиться еще какая-то, куда более глубокая тайна, объясняющая страшную месть Дараша-Кога! Но от Лукреции ничего не добьешься, стоит лишь вскользь упомянуть о тех событиях — и она уже на грани обморока. Дараш-Ког был вообще злым демоном этой семьи. Томас Шарнок целиком находился под его влиянием и не раз в порыве откровения говорил, что считает перса единственным смертным, посвященным в кошмарные мистерии секретного проада-мова искусства, которое позволяет разъять человека на множество составных частей, способных жить сами по себе. Цель этого мрачного ритуала была ему неизвестна. Разумеется, мы считали Томаса фантазером, а Дараша-Кога злобным шарлатаном, но доказать это нам так и не удалось... Ну вот, представление, похоже, начинается. Египтянин уже гасит вокруг балагана фонари... Закончился очередной номер — «Фатима, жемчужина Востока», — и зрители разбрелись кто куда. Одни через смотровые отверстия в красном занавесе смотрели на грубо раскрашенную панораму осады Дельф. Другие молча сгрудились вокруг стеклянного саркофага, в котором, тяжело дыша, лежал умирающий турок, в его обнаженной груди, пробитой осколком пушечного ядра, зияла ужасная рана, обожженные края которой уже посинели. Когда восковая фигура поднимала свинцового цвета веки, было слышно, как в ящике тихо потрескивает часовая пружина; кое-кто из зрителей, чтобы лучше слышать, прикладывал ухо к стеклянной стенке. Мотор на входе сбавил обороты, и заиграла механическая пианола. Обрывочная, запинающаяся мелодия; в ее звучании, звонком и одновременно каком-то приглушенном, было что-то странное, потустороннее, словно доносилась она сквозь толщу воды. В воздухе повис тяжелый запах воска и копоть масляных ламп... — «№ 311, Обеауанга — магический череп воду», — прочел Синклер в программке и вместе с Себалдом принялся рассматривать три человеческие головы, выполненные с какой-то кошмарной достоверностью; широко раскрыв глаза и рты, они с отвращением взирали на посетителей со специального стеллажа. — Ты знаешь, они не из воска, они — настоящие! — взволнованно сказал Оберайт и извлек лупу. — Только не пойму, каким образом препарированы. Обрати внимание, срез на шее сплошь покрыт кожей. Или зарос? И никаких следов шва! Словно они выросли сами по себе, как тыквы, и никогда не сидели на человеческих плечах... Если бы можно было немного приподнять стеклянную крышку... — Все воск, да, живой воск, да, головы трупов слишком дороги и пахнут — фи... Приятели вздрогнули, услышав голос египтянина, который незаметно подобрался сзади; лицо его подергивалось, словно он давился бешеным хохотом. Им стало не по себе, они переглянулись. — Как бы этот черномазый чего-нибудь не пронюхал, ведь мы только что говорили о Дараше-Коге, — сказал Синклер, когда египтянин отошел. — Доктор Кройцер сейчас там, снаружи, разговаривает с Фатимой. Может быть, ему все же удастся что-нибудь узнать у нее?! В противном случае нам придется пригласить ее вечером на бокал вина... В это мгновение музыка смолкла, ударил гонг и из-за занавеса раздался пронзительный женский фальцет: — Вайю и Дхананджайя, магнетические близнецы, восьми лет от роду, величайшее чудо природы. Они сспоют! Толпа напирала на подмостки, стоявшие в глубине балагана. Подошел доктор Кройцер и, довольный, сжал руку Синклера. — Перс в Париже, живет под чужим именем, — возбужденно прошептал он, — адрес у меня... Вот он. — И тайком показал приятелям узкую полоску бумаги. — Ближайшим поездом едем в Париж! — Вайю и Дхананджайя — они сспоют! — взвизгнул женский фальцет. Занавес пошел в сторону, и на сцену, неуверенно покачиваясь, вышло существо поистине инфернальное. Полуразложившийся труп пьяницы с лицом ребенка, в пестрых бархатных лохмотьях с золотым позументом, которые, по всей видимости, должны были изображать костюм пажа. Волна отвращения прокатилась в толпе. Руки, ноги, голова — все тело урода, даже пальцы — были по какой-то непонятной причине отечными, как тонкий раздутый каучук. Бесцветная, почти прозрачная кожа на губах и руках как будто наполнена воздухом или водой, глаза потухшие, без малейших признаков сознания. На руках существо держало какой-то сверток и беспомощно осматривалось. — Вайю, ссэтэрший брэт, — представил фальцет на каком-то неведомом диалекте. Из-за занавеса со скрипкой в руках вышла обладательница этого неприятного голоса в костюме дрессировщицы и в красных польских сапогах с меховой опушкой. — Вайю, — повторила дрессировщица и указала смычком на урода. Потом раскрыла огромную папку и громко зачитала: — «Почтеннейшая публика! Дамы и господа! Перед вами величайшее чудо природы — единоутробные близнецы мужеского пола, восьми лет от роду, кои являются, по сути, одним существом, так сказать, двумя его ипостасями, ибо — внимание, почтеннейшая публика! — они связаны тончайшей прозрачной пуповиной, длиной в три локтя. Жизнь, висящая на пуповине! Феноменально! Три локтя между "я" и "я"! Ученый мир в растерянности! Закон сообщающихся сосудов в натуре: духовное начало преобладает у Дхананджайя, его интеллектуальные способности повергают в изумление, в то время как Вайю — явный олигофрен, который, однако, в своем физическом развитии далеко превзошел свою вторую половину. Да будет известно почтеннейшей публике, что Дхананджайя родился бескожим, а потому так и остался грудным младенцем. Под наблюдением своего нежно любящего брата он плавает в особом питательном растворе, залитом в мочевой пузырь свиньи. Родители двойного существа не установлены. Магнетические близнецы — величайшее чудо природы! Спешите видеть!!!» По ее знаку Вайю неуверенно приоткрыл сверток. На свет появилась головка величиной с кулачок, злые колючие глазки буравили толпу... Личико, подернутое голубоватой сеткой пульсирующих капилляров, было младенческим, тем отвратительнее оно казалось из-за старческого выражения, которое по непонятной причине присутствовало в нем, кроме того, оно было искажено злостью, коварной ненавистью и такой неописуемой порочностью, что зрители невольно подались назад. — Мо-мо-мой блатиц Д-дха-нан-сай-я, — пролепетало раздутое существо и снова беспомощно уставилось в публику. — Выведите меня отсюда. Господи, я теряю... сознание, — прошептал Мельхиор. Подозрительный взгляд египтянина был почти осязаем, когда приятели осторожно выводили доктора, который впал в полуобморочное состояние. Дрессировщица вскинула скрипку, и они еще слышали, как она запиликала какую-то песенку, а пухлый урод умирающим голосом запел: Бил у меня това-а-лись, усь пля-а-мо бла-ат ла-а-ной... А младенец, не способный артикулировать согласные, пищал, словно царапал по стеклу: И-ии-и ми — ия — а-а-али-и уу — ля-а-ма — ла-аа — а-ой... Опираясь на руку Синклера, доктор Кройцер жадно глотал свежий воздух. Из балагана доносились аплодисменты. — Это лицо Шарнока! Кошмарное подобие, — простонал Мельхиор Кройцер, — как это только... Нет, я не в состоянии — мой разум отказывается это понимать. У меня все вдруг поплыло перед глазами, и я почувствовал, что теряю сознание... Себалд, пожалуйста, возьмите мне извозчика. Мне нужно в жандармерию... Готовится что-то страшное! А вы оба сейчас же поезжайте в Париж. Мохаммед Дараш-Ког... Вы должны арестовать его с поличным. Приятели снова сидели в пустынном кафе и смотрели в окно, за которым высокий сухощавый мужчина поспешно поднимался по улице. — Все в точности как тогда, — сказал Синклер. — Никогда не думал, что судьба так прижимиста — даже на декорациях экономит. Хлопнула дверь, доктор Кройцер подошел к столику, и они пожали друг другу руки. — Итак, за вами должок, и мы готовы выслушать ваш подробный отчет, — сказал Себалд Оберайт, когда Синклер закончил красочное повествование о том, как они битых два месяца безрезультатно охотились за персом в Париже. — Вы нам так редко писали! — У меня очень скоро атрофировались все литературные способности, впрочем, вербальные тоже, — извинился Мельхиор Кройцер. — Мне кажется, за последнее время я очень постарел. Жить в постоянном напряжении, в душной блокаде таинственного — как это выматывает! Большая часть людей даже представить себе не может, что значит для человека быть пожизненно прикованным воспоминаниями к одной и той же вечно неразрешимой загадке! Да еще ежедневные нервные срывы несчастной Лукреции! Недавно, сломленная горем, она скончалась — впрочем, я вам писал... Конго-Браун сбежал из следственной тюрьмы, и, таким образом, последний источник, из которого можно было почерпнуть какие-то сведения, иссяк. Как-нибудь, когда время сгладит впечатления, я расскажу вам об этом более подробно... — Понятно, но неужели нет ничего, за что можно было бы ухватиться в наших поисках? — спросил Синклер. — Это был какой-то безумный калейдоскоп... Факты, которым наши судебные врачи не могли или просто не хотели верить... Мрачное суеверие, патологическая ложь, истерический самооговор — только и было слышно от них, и тем не менее некоторые детали проступили устрашающе рельефно. Нам тогда удалось арестовать их всех сразу. Конго-Браун признался, что получил близнецов, да и весь паноптикум, в качестве вознаграждения за верную службу от Мохаммеда Дараша-Кога. Вайю и Дхананджайя — искусственно созданное двойное существо, которое восемь лет назад перс препарировал из сына Томаса Шарнока. С помощью известных ему одному тайных приемов он развел магнетические токи, которые циркулируют в каждом человеке, и потом, заменив какие-то органы на животные эквиваленты, добился в конце концов того, что из одного организма получилось два, с совершенно разными свойствами и независимыми сферами сознания. Дараш-Ког, несомненно, владеет каким-то неведомым нашей науке искусством. Как выяснилось, те три черепа Обеауанга были не чем иным, как отработанным материалом предыдущих экспериментов; кстати, жизнь сохранялась в них в течение длительного времени. Это подтверждает Фатима, любовница Конго-Брауна, и весь остальной персонал кабинета — люди по своей природе безобидные и добропорядочные... В дальнейшем Фатима показала, что Конго-Браун был эпилептиком и в период определенных лунных фаз погружался в какой-то загадочный транс, в котором воображал себя Мохаммедом Дарашем-Когом. В этом состоянии его сердце останавливалось, дыхание прекращалось и черты лица менялись до тех пор, пока перед ней не возникал Дараш-Ког — сомнений на этот счет не могло быть, так как раньше они неоднократно встречались в Париже. Но это еще не все — в трансе он излучал настолько мощную магнетическую энергию, что молча, не проронив ни единого слова, мог принудить любого человека повторять за собой всевозможные движения и самые невероятные позы. Это действовало на человека как пляска святого Витта — так же заразительно и непреодолимо. Он обладал фантастической гибкостью и в совершенстве владел дайя — традиционным мастерством дервишей, которые, выкручивая свое тело каким-то нечеловеческим образом — ни один человек-змея в мире не сумел бы повторить этих поз, — достигали определенных смещений сознания и вызывали различные паранормальные феномены. Всему этому его обучил перс. Во время их совместных гастролей, переезжая из города в город с кабинетом восковых фигур, Конго-Браун не раз пробовал с помощью своей магнетической силы сделать из того или иного ребенка человека-змею. У большинства при этом ломался позвоночник, у других не выдерживал мозг, и слабоумие на всю жизнь становилось их уделом... Выслушивая показания Фатимы, наши медики только качали головами, однако дальнейшие события должны были заставить их очень серьезно призадуматься... В один прекрасный день Конго-Браун сбежал из комнаты для допросов через соседнее помещение!.. Следователь рассказал, что он уже собирался составлять протокол, но египтянин вдруг как-то странно уставился на него и стал делать руками непонятные пассы. Охваченный подозрением, блюститель порядка хотел позвать на помощь, но все его тело сковал паралич, а язык стал сам по себе выкручиваться таким образом, что он до сих пор не понимает, как это было возможно (это наваждение всегда начинается с полости рта). Что случилось потом, он не знает, сознание покинуло его... — А нельзя ли узнать поподробнее о том, каким образом Мохаммеду Дарашу-Когу удалось создать близнецов, не умертвив при этом ребенка? — прервал Себалд. Доктор Кройцер покачал головой: — Нет, но моя память хранит многое из того, что в былые времена мне рассказывал Томас Шарнок. «Человеческая жизнь — нечто совсем иное, чем мы воображаем, — говорил он, — она состоит из множества магнетических токов, одни из которых циркулируют внутри тела, другие — вне его; наши ученые заблуждаются, утверждая, что человек, лишенный кожного покрова, обязательно погибнет от нехватки кислорода. Функция кожи состоит не в том, чтобы поглощать из атмосферы кислород, а совсем в другом. Она является своего рода решеткой, создающей поверхностное натяжение этих магнетических флюидов. Приблизительно как проволочная сетка — если ее резко погрузить в мыльный раствор, то на поверхности, от ячейки к ячейке, натянется пленка. Душевные свойства человека тоже зависят от того, какой ток доминирует в данной личности. Поэтому, осуществив перевес какого-нибудь одного флюида, вполне возможно создать такое порочное чудовище, какого наше воображение даже представить себе не в силах...» Отдавшись своим мыслям, Мельхиор помолчал. — Эта теория находила страшное своей неопровержимой наглядностью подтверждение в патологических свойствах карлика Дхананджайя и олигофрена Вайю. — Вы говорите о близнецах в прошедшем времени. Они умерли? — спросил удивленный Синклер. — Несколько дней назад! И это для них лучший выход — раствор, в котором Дхананджайя проводил большую часть жизни, высох, и никто не знал его состава. Мельхиор Кройцер нервно вздрогнул: — Там было еще такое — настолько чудовищное и невыразимо кошмарное! Слава Богу, что Лукреция не дожила до этого! Она только взглянула на двойного гомункула, и ее материнское сердце разорвалось пополам. Позвольте мне сегодня больше об этом не говорить! Образ Вайю и Дхананджайя... мой мозг до сих пор цепенеет... — Он тяжело задумался, потом вдруг вскочил и закричал: — Подайте вина — я больше не хочу, не хочу, не хочу об этом думать! Быстро, что-нибудь еще, другое... Музыку... что-нибудь — лишь бы не думать! Музыку... У стены стоял полированный музыкальный автомат; шатаясь, доктор подошел к нему, порылся в карманах... Дзынь... Было слышно, как провалилась монетка. Аппарат загудел... Сначала из него выскочили три каких-то разбитных беспризорных звука. Потом, после небольшой паузы, по залу забренчала песенка: Был у меня товарищ, уж прямо брат родной...Альбинос
I — До полуночи — шестьдесят минут, — сказал Ариост и, вынув изо рта длинную голландскую трубку, указал на потемневший от времени, закопченный портрет: — Вот кто был великим магистром ровно сто — без шестидесяти минут — лет назад. Без шестидесяти минут... — А когда пришел в упадок наш орден? Я имею в виду, Ариост, когда мы стали тем, что являем собой сегодня, ведь мы опустились до эбриатов? — спросил чей-то голос из клубов табачного дыма, который густым туманом стлался в небольшой старинной зале. Запустив пальцы левой руки в длинную седую бороду, Ариост помедлил, теребя правой кружевное жабо своей бархатной мантии: — Это случилось в последние десятилетия... возможно... а началось давно — очень давно... — Не надо, Фортунат, это его незаживающая рана, — прошептал Баал Шем, архицензор ордена в одеянии средневекового раввина; выйдя из полумрака оконной ниши, он подошел к столу и громко спросил: — А как же звали магистра профаны? — Граф Фердинанд Парадиз, — быстро ответил кто-то рядом с Ариостом и, помогая архицензору сменить тему, продолжал: — Да, какие имена! Какое время! А еще раньше? Графы Шпорк, Норберт Врбна, Венцель Кайзерштайн, поэт Фердинанд ван дер Рохас! Все они праздновали «гонсла» — орденский ритуал «Азиатских братьев» — в древнем Ангельском саду, там, где сейчас находится городская почта. Место это поистине овеяно духом Петрарки и Кола Риенцо, которые тоже входили в число наших братьев. — Все верно. В Ангельском саду! Названном в честь Ангелуса из Флоренции, лейб-медика императора Карла Четвертого, у которого нашел прибежище Риенцо, пока его не выдали Папе, — с восторгом подхватил Скриб — Исмаэль Гнайтинг. — Но знаете ли вы, что «Сат-Бхаис», ложей первых «Азиатских братьев», были основаны Прага и... и даже Аллахабад, в общем, все те города, название которых означает «порог»?! Боже Всемогущий, какие деяния, какие деяния! И все, все исчезло, рассеялось как дым. Как сказал Будда: «Не оставляет след летящий». Это были наши предшественники! А мы — эбриаты! Пьяные свиньи! Гип-гип-ура! Смех, да и только... Баал Шем сделал говорившему знак, чтобы он наконец замолчал. Но тот его не понял и продолжал говорить до тех пор, пока Ариост не оттолкнул свой бокал и не вышел из зала. — Ты расстроил его, — грустно сказал Баал Шем Исмаэлю Гнайтингу, — уважай хотя бы его седины. — Ну вот, — пробурчал тот, — как будто я его хотел обидеть! Да хоть бы и так! Все равно он вернется, ибо через час начнется празднование столетнего юбилея, на котором он должен присутствовать. — Вечно эти ссоры, надоело, — подал голос кто-то из молодых, — ведь так хорошо пили... Недовольство нависло над круглым столом. Братья молча сосали свои глиняные голландские трубки. В смутном свете масляных ламп, который едва достигал углов зала и готических окон, они в своих средневековых орденских мантиях, увешанных каббалистическими знаками, казались странным призрачным сонмом. — Пойду успокою старика, — нарушил молчание Корвинус, встал и вышел из зала. Фортунат наклонился к архицензору: — Корвинус имеет на него влияние? Корвинус?! Баал Шем пробормотал в бороду, что Корвинус обручен с Беатрис, племянницей Ариоста. Снова слово взял Исмаэль Гнайтинг и заговорил о преданных забвению догматах ордена, заложенных на заре человечества, когда демоны сфер еще учили наших предков. О мрачных пророчествах, которые все — все! — со временем исполнились — буква в букву, слово в слово, — так что иного это заставило бы усомниться в свободной воле человека; о «запечатанном пражском письме» — последней реликвии ордена... — Странное пророчество! Тот, кто дерзостно посмеет его вскрыть, это «sealed letter from Prague», раньше назначенного срока, тот... как там в оригинале, Лорд Кельвин? — и Исмаэль Гнайтинг вопросительно посмотрел на дряхлого брата, который неподвижно сидел напротив, скрючившись в резном позолоченном кресле, — ... погибнет, едва посмеет покуситься на него! И лик его поглотит вечный мрак?.. — Вплоть до Страшного Суда десница Судьбы сокроет его обличье в царстве форм, — медленно произнес старец, кивая каждому своему слову плешивой головой, как будто желая придать им особую силу, — и будет его личина изгнана из мира очертаний. Невидимым отныне станет лик его: навеки невидимым! Сокрытым, подобно ядру ореха... подобно ядру ореха... — Подобно ядру ореха? — переглянулись удивленно братья за круглым столом. Подобно ядру ореха! — странное, непонятное сравнение!.. Тут открылась дверь, и вошел Ариост. За ним — молодой Корвинус. Он весело подмигнул друзьям, давая понять, что со стариком все в порядке. — Свежий воздух! Надо впустить свежий воздух, — сказал кто-то и, подойдя к окнам, раскрыл их. Полная луна заглянула в зал. Многие встали и,отодвинув кресла, стали смотреть, как серебрится в лунном свете горбатый булыжник Старгородской площади. Фортунат указал на густую тень глубокого синего, почти черного цвета, которая, падая с Тынского храма, делила древнюю, безлюдную в этот ночной час площадь на две половины: — Смотрите, гигантский кулак тени с двумя оттопыренными рогаткой пальцами — указательным и меркуриальным, — обращенными на запад. Это же фугитив!.. Слуга внес в залу кьянти — фляги с длинными шеями, как у розовых фламинго... Молодые друзья окружили Корвинуса в углу и, посмеиваясь, вполголоса рассказали ему о «запечатанном пражском письме» и о связанном с ним сумасбродном пророчестве. Корвинус все внимательно выслушал, и его глаза вспыхнули в предвкушении очередной мистификации. Быстрым прерывающимся шепотом он посвятил в свою идею друзей, которую те с восторгом приветствовали. Кое-кто в нетерпении даже подпрыгивал на одной ноге. Старейшины остались одни. Корвинус со своими компаньонами отпросился на полчаса под тем предлогом, что ему необходимо еще до полуночи, до наступления торжества, срочно отлить у одного скульптора свою гипсовую маску — ради веселого сюрприза... — Легкомысленная юность, — пробормотал Лорд Кельвин. — Что за странный скульптор, который работает так поздно? — удивился кто-то вполголоса. Баал Шем поиграл своим перстнем: — Какой-то чужестранец по имени Иранак-Кессак, они недавно говорили о нем. Работает только ночью, а днем спит; он альбинос и не выносит света. — Работает по ночам? — переспросил рассеянно Ариост, не расслышав слова «альбинос». И братья надолго замолчали. — Хорошо, что молодые ушли, - нарушил наконец молчание усталый голос Ариоста. — Мы, двенадцать старейшин, как ос колки прошлого, и нам надо держаться вместе. Быть может, тогда наш орден еще даст свежий зеленый росток... Горе мне, ибо главная вина за упадок ордена лежит на моей совести. — Голос его дрогнул. — Мне необходимо рассказать вам одну мрачную историю, снять бремя с моей души еще до того, как те — другие — вернутся и наступит новое столетие. Лорд Кельвин в своем похожем на трон кресле поднял глаза и сделал движение рукой; остальные согласно кивнули. Ариост начал: — Постараюсь быть кратким, с тем чтобы моих сил хватило до конца. Итак, слушайте... Тридцать лет назад великим магистром нашего ордена, как вам хорошо известно, был доктор Кассеканари, а я при нем — первым архицензором. Орденом управляли лишь мы вдвоем. Доктор Кассеканари — физиолог, известный ученый; предки его были из Тринидада — думаю, негры, — им он обязан своим ужасным экзотическим уродством! Но все это вы и сами знаете. Мы были друзьями; но для горячей крови нет ничего святого... Короче, я обманывал Кассеканари с его женой Беатрис, прекрасной, как солнце, которую мы оба любили без памяти... Вот так, братья, я впервые нарушил орденский устав! ...Беатрис родила двух мальчиков; один из них — Паскуаль — был моим сыном. Обнаружив неверность жены, Кассеканари поспешно уладил свои дела и вместе с мальчиками покинул Прагу. Все произошло так стремительно, что я просто не успел вмешаться. Мне он больше не сказал ни слова, ни разу не взглянул в мою сторону. Но месть его была ужасной! До сих пор у меня в уме не укладывается, каким образом я все это пережил. — Ариост на секунду замолчал, уставившись отсутствующим взглядом в противоположную стену. Потом продолжал: — Лишь мозг, соединивший в себе сумрачные фантазии туземца с острым как ланцет интеллектом ученого, глубочайшего знатока человеческой души, мог породить тот чудовищный план, в результате которого сердце Беатрис было испепелено, а я, коварно лишенный свободной воли, был незаметно вовлечен в преступление как соучастник, — ничего более кошмарного представить себе невозможно. Безумие вскоре милосердно погасило разум моей несчастной Беатрис, и я благословил час ее избавления... Руки говорящего дрожали, как в лихорадке, и вино, когда он хотел поднести бокал к губам, расплескалось... — А теперь, братья, внимание! Кассеканари вскоре дал о себе знать письмом с адресом, через который все «важные известия», как он выразился, будут незамедлительно передаваться ему — где бы он ни находился. Далее он писал, что после долгих размышлений понял окончательно: мой сын — это старший, Мануэль, а младший, Паскуаль, — его, и никаких сомнений на этот счет быть не может. В действительности же все обстояло наоборот. В его словах звучала какая-то темная угроза, и я не мог заглушить в себе тихий вкрадчивый шепоток обывательского эгоизма, ведь мой маленький Паскуаль, которого я никак не мог защитить, в результате этой путаницы был избавлен от вспышек ненависти со стороны Кассеканари. Итак, я промолчал и, сам того не сознавая, сделал первый шаг к той бездне, из которой уже нет выхода. Много, много позже мне открылась эта коварная хитрость: заставив меня поверить в то, что он перепутал мальчиков, Кассеканари обрекал мою душу на неслыханные муки. Петлю чудовище затягивало медленно. Со строго дозированными интервалами, с какой-то нечеловеческой точностью стали приходить его отчеты об экспериментах по физиологии и вивисекции, которые он, «во искупление чужой вины и на благо науки», осуществлял на маленьком Мануэле — ведь «с твоего молчаливого согласия он не является моим ребенком» — так, как их можно проводить лишь на существе, более далеком твоему сердцу, чем какая-нибудь подопытная крыса. А фотографии, которые прилагались, подтверждали ужасную правоту его слов. Когда приходило очередное письмо и передо мной клали запечатанный конверт, я готов был сунуть свои руки в пылающий огонь, чтобы болью заглушить боль той изощренной пытки, которая раздирала меня при мысли, что надо вновь, с самого начала, переживать этот невыносимый кошмар, через все стадии которого медленно, ступень за ступенью, смакуя каждую деталь, вел меня Кассеканари. Лишь надежда наконец-то, наконец выяснить настоящее местопребывание Кассеканари и спасти несчастную жертву удерживала меня от самоубийства. Часами лежал я перед Распятием, моля Бога ниспослать мне сил, дабы смог я, оставив очередное письмо нераспечатанным, сжечь его. Но сил на это у меня так и недоставало... Снова приходило письмо, снова я вскрывал его и — падал без сознания. Но если я открою ему ошибку, терзал я себя, его ненависть обратится на моего сына... зато тот, другой, — невинный — будет спасен! И хватался я за перо, чтобы обо всем написать, доказать... Но мужество всякий раз покидало меня — я хотел, но не мог, я мог, но не хотел, — и молчание превращало меня в соучастника: я тоже истязал бедного маленького Мануэля — сына моей возлюбленной Беатрис. И все же самым страшным был темный, неизвестной природы огонь, искра которого каким-то загадочным образом попала в мое сердце, незаметно и неотвратимо разгорелась в пламя, и теперь моя душа, уже не властная над ним, корчилась в адских муках, когда ядовитые языки дьявольского, исполненного ненависти удовлетворения — как же, ведь чудовище надругалось над собственной плотью и кровью — жалили ее... Привстав со своих мест, старейшины не сводили с Ариоста глаз, внимая каждому его слову, которые он, судорожно вцепившись в подлокотники кресла, произносил почти шепотом. — В течение года, пока смерть не вырвала скальпель из его рук, он истязал Мануэля, подвергая мальчика таким садистским пыткам, описывать которые отказывается мой язык: переливал ему кровь каких-то белых выродившихся тварей, подверженных светобоязни; экстирпировал у него те участки головного мозга, в которых, согласно его теории, находились центры добра и милосердия, — и в конце концов превратил его своими экспериментами в «душевномертвого», как он определял это состояние в своих отчетах. А с дегенерацией доброго начала, с умерщвлением всего человеческого: сочувствия, сострадания, любви — у бедной жертвы, как и предсказывал в одном из писем Кассеканари, проявились также признаки дегенерации телесной — жуткий феномен, который африканские колдуны традиционно называют «реальный белый негр»... После долгих-долгих лет отчаянных поисков — дела ордена и мои собственные я оставил на произвол судьбы — мне наконец удалось найти сына — уже взрослого (Мануэль исчез бесследно). И тут меня постиг последний удар: мой сын носил имя Эммануил Кассеканари... Тот самый брат Корвинус, который состоит в рядах нашего ордена. Эммануил Кассеканари. И он непоколебимо стоит на том, что его никогда не называли Паскуалем. С тех пор меня неотступно преследует мысль, что Кассеканари мне солгал, что он искалечил Паскуаля, а не Мануэля, что жертвой был, таким образом, мой сын. На фотографиях черты лица были размыты, а в детстве мальчики походили друг на друга как две капли воды... Но ведь этого же не может, не может, не может быть, иначе преступление, вечные муки совести — только слова! Разве не правда, — как безумный вскричал вдруг Ариост, — скажите, братья, разве не правда, что мой сын — Корвинус? Ведь он — вылитый я! Братья печально опустили глаза, не желая ложью осквернять свои уста. Лишь молча кивнули... Тихо закончил свой рассказ Ариост: — Иногда, в ночных кошмарах, я вижу, как мое дитя преследует отвратительный беловолосый урод с красными воспаленными глазами; задыхаясь от ненависти, он, клейменный светобоязнью, поджидает его во мраке: Мануэль, пропавший Мануэль — ужасный... ужасный... белый негр... Никто из братьев не мог издать ни звука. Мертвая тишина... Тут — как будто услыхав немой вопрос — Ариост вполголоса, словно объясняя самому себе, произнес: — Душевномертвый! Белый негр... реальный альбинос... — Альбинос? — Баал Шем, покачнувшись, прислонился к стене. — Боже милосердный, скульптор! Иранак-Кессак — альбинос! II — На рассвете разнесся глас фанфар боевых, — стоя под окнами своей невесты Беатрис, пропел Корвинус под аккомпанемент виртуозного свиста друзей сигнал к началу турнира из «Роберта-Дьявола». Оконные створки распахнулись, и на мерцающий в лунном свете Тынский двор выглянула юная девушка в белом бальном платье; смеясь, она спросила, не вознамерились ли господа брать штурмом ее дом. — Вот оно что, ты собралась на бал, Триси, и без меня? — крикнул ей Корвинус. — А мы-то, наивные, боялись, что ты уже давно спишь! — Теперь ты можешь убедиться, как я без тебя скучаю — еще и полуночи нет, а я уже дома! Что вы там свистите, случилось что-нибудь? — Разве может с нами что-нибудь случиться? У нас к тебе огро-о-омная просьба. Ты не знаешь, где твой папа держит «запечатанное пражское письмо»? Беатрис приложила ладони к ушам: — Запечатанное — что?.. — «Запечатанное пражское письмо» — древняя реликвия, — закричали все разом. — Я не могу разобрать ни слова, когда вы так горланите, месье. Подождите, я сейчас спущусь, только найду ключ и проскользну мимо бдительного ока гувернантки! — И Триси закрыла окно... Через несколько минут она была перед ними. — Прелестно, великолепно — белое бальное платье в зеленом сиянии луны, — обступила ее братия, целуя ей руки. — Зеленое бальное платье — в белом сиянии луны, — Беатрис сделала кокетливый книксен и спрятала свои миниатюрные ручки в огромную муфту, — а вокруг сплошной траур черных судей Фемы! Нет, все-таки в вашем почтенном ордене есть что-то сумасбродное! И она с любопытством стала рассматривать длинные средневековые одеяния молодых людей — угрюмые капюшоны и вытканные золотом каббалистические знаки. — Мы мчались сюда сломя голову, у нас не было времени на переодевание, Триси, — оправдывался Корвинус, нежно поправляя ее шелковую кружевную шаль. Потом он в двух словах рассказал ей о реликвии — «запечатанном пражском письме», о нелепом пророчестве и о своей великолепной полуночной мистификации. Итак, сейчас они бегут к Иранаку-Кессаку — странный субъект, альбинос, поэтому и работает по ночам; он, впрочем, придумал такой состав гипса, который мгновенно твердеет и становится несокрушимым, как гранит. Так вот, этот альбинос и должен на скорую руку сделать слепок с его лица. — Потом, да будет вам известно, фрейлейн, мы этот слепокберем с собой, — подхватил Фортунат, — далее заходим за «таинственным письмом», кое вы любезно раскопаете в архиве ваше го папочки и не менее любезно выбросите нам из окна. Мы, разумеется, его тут же вскроем, дабы выяснить, что за вздор там написан, и, наконец, «с повинной головой» отправимся в ложу. Понятное дело, нас сразу призовут к ответу — куда вы девали Корвинуса? Тогда мы, громко вопия и проливая неутешные слезы, покажем оскверненную реликвию и покаемся, что Корвинус не только покусился, но и распечатал ее — и тогда в клубах серного дыма явился Вельзевул и, подхватив его за шиворот, уволок в неизвестном направлении; но что Корвинус, мудро предвидя все это, отлил на всякий случай своего двойника из гипсового монолита Иранака-Кессака. Дабы кошмарно-идиотское пророчество о «безвозвратном изгнании из мира форм» довести ad absurdum. Итак, вот она, его форма, а если кто-либо из почтенных старейшин — или все они вместе, или адепты, легендарные основатели ордена, пусть даже сам Господь Бог — думает иначе, пусть выйдет вперед и уничтожит маску, если, конечно, сможет. Ну, а брат Корвинус всех сердечно приветствует и не далее как через десять минут собственной персоной прибудет из ада. — Понимаешь, Триси, это будет всем во благо, — прервал его Корвинус. — Во-первых, этим мы покончим с последним орденским суеверием, во-вторых, сократим нудный столетний юбилей и, в-третьих, тем скорее усядемся за праздничный стол. А сейчас адье и доброй ночи, ибо: только сунул ногу в стремя — раз, два, три — промчалось время... — Я с вами, — с восторгом подхватила Беатрис и повисла на руке жениха. — Далеко отсюда до... Иранака-Кессака, так ведь его зовут? А его случайно не хватит удар, если мы такой компанией ввалимся к нему?! — Истинного творца удар никогда не хватит, — заверил Сатурнилус. — Братья! Гип-гип-ура, да здравствует храбрая Беатрис! И они вприпрыжку помчались через Тынский двор, под арку средневековых ворот, кривыми переулками, мимо ветхих дворцов эпохи барокко. — Стойте, номер тридцать три, нам сюда, — задыхаясь, крикнул Сатурнилус. — Рыцарь Кадош, а ну глянь своим рыцарским глазом. И он уже хотел было позвонить, как входная дверь внезапно открылась и резкий голос проскрипел с лестницы что-то на корявом английском негритянских кварталов. Корвинус удивленно качнул головой: — The gentlemen already here?! Джентльмены уже здесь — похоже, нас ждали! Итак, вперед, только осторожно, здесь тем но как в могиле; огня у нас нет — на наших мантиях карманы не предусмотрены, таким образом, спички тоже... Шаг за шагом продвигались на ощупь молодые люди — впереди Сатурнилус, за ним Беатрис, потом Корвинус и другие братья: рыцарь Кадош, Иеронимус, Фортунат, Ферекид, Кама и Илларион Термаксимус. По узкой витой лестнице вверх, налево, направо, вперед и назад... Через открытые настежь двери и пустые, лишенные окон комнаты шли они как слепые, следуя за голосом, который невидимым поводырем указывал им путь, сохраняя довольно значительную дистанцию. Наконец они поняли, что достигли конечной цели своего путешествия, так как здесь, в этом помещении, где они остановились, голос куда-то пропал и не отвечал на их вопросы. Все будто вымерло. — Это какое-то совсем древнее строение — столько ходов и выходов! Как лисья нора; наверное, один из тех загадочных лабиринтов, которые сохранились в этом квартале с семнадцатого века, — подал голос Фортунат. — А то окно выходит в какой-то глухой двор, через него не проникает ни малейшего отсвета! Едва-едва выделяется переплет на темном фоне. — Мне кажется, прямо за окном стоит высокая стена и загораживает свет, — тихо откликнулся Сатурнилус. — Темно, хоть глаз коли. Вот только пол чуть светлей. Или нет? Беатрис судорожно сжимала руку своего жениха: — Я ужасно боюсь этой темени. Почему не принесут какую-нибудь лампу... — Тсс, тссс, тихо, — прошептал Корвинус, — тсс! Вы что, не слышите?! Как будто что-то тихо подкрадывается. Или оно уже в комнате? — Там! Там кто-то стоит, — вздрогнул вдруг Ферекид, — там, в десяти шагах от меня. Сейчас я вижу его уже лучше. Эй, вы! — окликнул он громко, и было слышно, как его голос дрожал от возбуждения и затаенного страха. — Я - скульптор Паскуалъ Иранак-Кессак, — произнес кто-то голосом, который не был хриплым, и тем не менее какая-то странная афония присутствовала в нем. — Вы хотите отлить маску! Не правда ли? — Не я, а наш друг, музыкант Кассеканари, — представил Корвинуса в темноте Ферекид. Секундная пауза. — Я вас не вижу, господин Иранак-Кессак, где вы? — спросил Корвинус. — Разве вам недостаточно светло? — насмешливо сказал альбинос. — Смелее, два шага влево, здесь фальшивая стена, потайная дверь открыта — входите в нее, смотрите, я иду вам навстречу... Последние слова голос произнес уже ближе, и вдруг друзьям померещилась какая-то серовато-белая дымка, смутно мерцающая на стене, — размытые очертания человека. — Не ходи, не ходи, ради Бога, если ты меня любишь, не ходи, — прошептала Беатрис, удерживая Корвинуса. Тот осторожно убрал ее руки: — Но, Триси, я не могу позорить себя, а то он, чего добро го, и в самом деле вообразит, что мы все боимся. И он решительно двинулся к беловатой массе, чтобы в следующее мгновение скрыться с ней за потайной дверью — во мраке... Напуганная Беатрис тихонько всхлипывала, и братья делали все возможное, чтобы приободрить ее. — Вам нечего беспокоиться, милая Беатрис, — успокаивал Сатурнилус, — с ним ничего не случится. Жаль, что мы не можем наблюдать за процессом отливки, вам было бы очень интересно. Вначале на волосы — брови, ресницы, шевелюру — накладывают пропитанную жиром папиросную бумагу. Лицо смазывают маслом, чтобы готовая форма легко снялась, ложатся на спину и вдавливают затылок в чан с влажным гипсом. Потом слой гипса, толщиной с кулак, накладывается на лицо, так что голова оказывается заключенной в большой ком. После того как масса затвердеет, места сращения надбивают — и вот вам полая форма для множества великолепных отливок. — Но ведь непременно задохнешься, — сквозь слезы проговорила девушка. Сатурнилус засмеялся: — Разумеется, но, чтобы этого не случилось, в рот и ноздри вашему избраннику, перед тем как запечатать его в гипс, вставят специальные дыхательные соломинки, которые будут торчать над поверхностью гипса. И чтобы лишить Беатрис последних сомнений, он громко крикнул в соседнюю комнату: — Маэстро Иранак-Кессак, вы там надолго? И не причиняет ли это боль? Мгновение царила полная тишина, потом откуда-то издали—из третьей или даже из четвертой комнаты — донесся глухой, как сквозь толстый платок, голос: — Мне-то уж конечно нет! Ну а что касается отважного гос подина Корвинуса, то он вряд ли будет жаловаться, хе-хе. А на долго ли? Обычно это продолжается не более двух-трех минут. Голос альбиноса был как-то слишком возбужден, а в его интонации сквозило такое неописуемое злорадство, что молодые люди в ужасе оцепенели. Ферекид сжал руку своему соседу: — Странно!.. Что он там говорит? Ты слышал? Меня душит какой-то безотчетный страх. Впрочем, откуда ему известно орденское имя Кассеканари — Корвинус? И ведь он с самого на чала знал, зачем мы пришли! Нет, нет — я должен видеть, что там происходит. В это мгновение Беатрис громко вскрикнула: — Там — там, наверху, что это за белые круги — там, на стене? — Гипсовые розегки, обычные белые гипсовые розетки, — успокаивал ее Сатурнилус, — я их тоже заметил — сейчас как будто посветлее, да и наши глаза уже привыкли к темноте... Он поперхнулся: грохот от падения чего-то тяжелого прокатился по дому. Стены задрожали, и белые розетки, сорвавшись вниз, покатились по полу со звонким эхом глазурованной глины, потом, сужая крути, забились в агонии — и все стихло... Гипсовые отливки искаженных человеческих лиц и посмертные маски лежали на полу и, застыв в немых гримасах, созерцали потолок пустыми слепыми бельмами. Из ателье послышался адский шум: кто-то яростно топал, столы и стулья летели в разные стороны. Грохот... Треск, как будто в щепы разносили дверь, как будто какой-то одержимый в смертельных судорогах крушил все вокруг, в отчаянии прокладывая себе путь на свободу... Оглушительный топот, потом удар... Столкновение... И в следующую секунду тонкую фальшивую стену пробил светлый бесформенный ком — голова Корвинуса в окаменевшем гипсе! Вздрагивая, она, казалось, излучала призрачное белое мерцание. Тело и плечи застряли в переплетении реек... Чтобы помочь Корвинусу, Фортунат, Сатурнилус и Ферекид одним махом высадили дверь — но никакого преследователя там не было. Корвинус, застряв в стене по самую грудь, бился в конвульсиях. Его ногти в смертельной судороге вонзались в руки друзей, которые, ничего не соображая от ужаса, пытались ему помочь. — Инструменты! Что-нибудь железное! — ревел Фортунат. — Надо разбить гипс — он задохнется! Чудовище вытащило дыхательные соломинки... и запечатало гипсом рот! Молодые люди носились по комнате, лихорадочно хватаясь за рейки, ножки стульев... Все напрасно! Скорее треснул бы гранитный монолит... Несколько человек обыскивали сумрачные комнаты в поисках альбиноса — спотыкаясь и падая, проклиная его имя, сметая все на своем пути... j Тело Корвинуса уже не шевелилось. В немом отчаянье обступили его братья. Душераздирающие крики Беатрис жутким эхом метались по дому, свои пальцы она в кровь разбила о камень, скрывающий голову ее возлюбленного. Полночь давным-давно миновала, когда они наконец выбрались из темного кошмарного лабиринта. Сломленные горем, молча несли по ночным переулкам труп с окаменевшей головой. Никакая сталь, никакой резец не могли совладать с этой инфернальной скорлупой. Так и похоронили Корвинуса в мантии ордена, «с невидимым ликом, сокрытым, подобно ядру ореха».Человек на бутылке
Меланхтон танцевал с Летучей мышью, висевшей, казалось, вниз головой на большой золотой диадеме: ради такого чрезвычайно странного эффекта она держала ее над собой в когтях, росших на кончиках перепончатых крыльев, в которые она завернулась, как в кожаный кокон. И без того изрядно сбитый с толку своей танцующей «вверх ногами» партнершей, бедный теолог вынужден был вальсировать, глядя сквозь этот драгоценный обруч, находившийся на уровне его глаз; неудивительно, что он уже начинал терять пространственную ориентацию. Эта Летучая мышь была самой оригинальной — самой страшной, разумеется, тоже — маской на балу персидского князя. Даже хозяин, его светлость Дараш-Ког, отметил ее. — Прекрасная маска, я тебя знаю, — шепнул он ей, чем немало повеселил стоявших рядом гостей. — Это маленькая маркиза, интимная приятельница княгини, — небрежно заметил Голландский ратман, как будто сошедший с холста Рембрандта; догадаться ему было нетрудно: судя по разговору, ей известны все закоулки замка, кроме того, он мог об заклад побиться, что узнал сверкнувший на ее запястье гиацинтовый браслет, когда Летучая мышь, резвясь как дитя, кинулась вслед за остальными гостями в парк — большая часть кавалеров вдруг решила поиграть в снежки, и все, сунув ноги в принесенные старым камердинером валенки, с факелами высыпали на свежий воздух. — Ах, как интересно, — вмешался в разговор Синий мотылек, — а не мог бы Меланхтон как-нибудь деликатно прозондировать, насколько верны слухи, что граф де Фааст в последнее время пользуется особым расположением ее светлейшей покровительницы? — Тише, маска, смотри не обожгись, — прервал Мотылька Голландский ратман. — Хорошо, что музыканты заканчивают вальс fortissimo — только что князь стоял совсем рядом! — Да, да, о таких вещах лучше помалкивать, — посоветовал шепотом Египетский Анубис, — ревность этих азиатов ужасна; боюсь, в этих стенах скопилось гораздо больше взрывчатки, чем мы предполагаем. Граф де Фааст слишком долго играет с огнем, и если Дараш-Ког узнает... Какая-то ворсистая фигура, напоминавшая собой моток грубого морского каната, улепетывала от Эллинского воина в сверкающем панцире, продираясь в толпе масок, которые недоуменно наблюдали, как они проворно прошмыгнули на резиновых подошвах по зеркально отполированному каменному полу. — А ты бы не испугался, что тебя разрубят, минхер Ктонемогузнаат, если бы сам был Гордиевым узлом и Александр Великий гнался за тобой? — насмешливо обернулась Летучая мышь и легонько задела веером кончик серьезного голландского носа. — Ай-ай-ай, прекрасная маркиза Летучая мышь, остроумие, как шило, в мешке не утаишь, — укоризненно покачал головой длинный, как телеграфный столб, Юнкер Ганс с хвостом и копытами. — Жаль, ах, как жаль, что тебя вот так — ножками кверху — можно увидеть только в обличье летучей мыши... Кто-то оглушительно загоготал. Все обернулись и увидели пожилого толстяка в широченных брюках и с воловьей головой. — Ну конечно, кто же это еще, как не наш дорогой господин вице-президент коммерческого суда, — сухо обронил Юнкер Ганс.* * *
Глухие удары бронзового колокола торжественно прокатились по огромной зале; в центре, опершись на сверкающий топор, стоял Палач в красной мантии вестфальской Фемы. Из ниш и галерей стекались маски: арлекины, Ladies with the rose[121], людоеды, ибисы и коты в сапогах, пятерки пик, китаянки, немецкий поэт с надписью «Хоть на четверть часика», Дон-Кихот и Всадник Валленштейна, коломбины, баядерки и домино всех цветов и расцветок. Красный Палач раздал таблички из слоновой кости с выгравированной золотом надписью: ЧЕЛОВЕК НА БУТЫЛКЕ Театр марионеток князя Мохамиеда Дарашд-Кога Комедия в стиле Обри Бердслея Действующие лица Человек в бутылке.....Мигель граф де Фааст Человек на бутылке...князь Мохаммед Дараш-Ког Дама в паланкине.....XXX Вампиры, марионетки, горбуны, обезьяны, музыканты Место действия: пасть тигра — Что?! Комедия самого князя? — Наверное, что-то из «Тысячи и одной ночи»? — Но кто же играет Даму в паланкине?.. — слышна была разноголосица заинтригованных масок. — Сегодня будут потрясающие сюрпризы, да, да, — зачирикала хорошенькая кокетка в горностае, повисая на руке чопорного Аббата, — ты только подумай, тот Пьеро, с которым я танцевала тарантеллу, — граф де Фааст! Ну — человек в бутылке! И он мне по секрету рассказал тако-ое! В общем: марионетки будут жутко страшные, но только для тех, кто в этом разбирается, представляешь? А князь даже специально заказал по телефону из Гамбурга— слона... но ты меня совсем не слушаешь... — И оскорбленная красотка, капризно оттолкнув руку своего кавалера, исчезла в толпе. В настежь распахнутые двери из соседних покоев вливались нескончаемые потоки новых масок — закручивались водоворотом в середине, разбегались в стороны, напоминая яркий, вечно изменчивый калейдоскоп, или, вытесненные в стоячую воду толпящихся у стен гостей, любовались чудесными фресками Гирландайо, которые, переходя в синий, усыпанный звездами потолок, превращали зал в пеструю, радостную, трепещущую заводь жизни, окаймленную крутыми берегами фантастических видений; заставив однажды замереть от восторга сердце художника, они теперь на своем простом, неспешном языке напрасно шептали что-то вслед несущимся без оглядки душам современных людей. Слуги внесли на серебряных подносах освежающие напитки — шербет и вино. Кресла были составлены в оконные ниши. И вот стена одной из узких сторон зала, потрескивая, подалась назад, и из темноты медленно выкатилась разверстая тигриная пасть: иллюзия достигалась красно-бурым, с желтыми подпалинами обрамлением сцены, сверху и снизу торчали ослепительно-белые клыки. В середине, как будто застряв в розовой шелковой глотке кулис, — огромная, почти в два человеческих роста, пузатая бутылка из толстого двенадцатидюймового стекла. Потом распахнулись колоссальные, эбенового дерева, створки, и в зал мерным, величественным шагом вступил слон, его гигантский лоб украшала сетка из золота и сверкающих драгоценных камней, Красный Палач сидел на его шее и правил заостренной на конце рукоятью своего топора. Аметистовые цепи свисали с бивней, лениво покачивались опахала из павлиньих перьев, пурпурные кисти златотканых покрывал, ниспадавших с боков благородного животного, волочились по полу. Торжественно и невозмутимо шествовал слон по залу. Вереницы масок тянулись за ним, приветствуя знатных актеров, сидевших в паланкине на его спине: князь Дараш-Ког в тюрбане с аграфом, в котором торчало перо цапли, рядом — граф де Фааст в костюме Пьеро. Неподвижно и мертво, как деревянные куклы, свисали марионетки и музыканты. Достигнув сцены, слон стал хоботом снимать седоков... Вот под аплодисменты и крики ликования он подхватил Пьеро и опустил в горлышко бутылки; металлическая пробка закрылась, а князь, скрестив ноги, устроился сверху. Рассевшись полукругом, музыканты извлекли странные, тонкие, какие-то призрачные инструменты и снова замерли. Слон серьезно посмотрел на них, потом повернулся и медленно направился к выходу. Дурачась как дети, маски гроздьями висли у него на хоботе и бивнях, дергали за уши, пытались удержать, а он, казалось, даже не замечал этой возни. Представление началось. Неизвестно откуда, как из-под земли, в зал проникла тихая музыка. Но кукольный оркестр и марионетки, словно отлитые из воска, были по-прежнему безжизненны. Флейтист таращил на потолок свои стеклянные бессмысленные глаза; женщина-дирижер, одетая в стиле рококо — парик, шляпа с пером, — как будто вслушиваясь, держала свою палочку вскинутой и таинственно прижимала тонкий пальчик к губам, которые змеились в зловещей похотливой усмешке. На авансцене — три марионетки: горбатый карлик с белым как мел лицом, седой ухмыляющийся дьявол и бледная размалеванная певичка с красными, алчными губами; казалось, в своей сатанинской злобе они проникли в какую-то страшную тайну, знание которой заставило их окаменеть в последней судороге гнусного животного оргазма. Умопомрачительный кошмар летаргии высиживал эту неподвижную группу, как яйца. Зато Пьеро в бутылке находился в непрерывном движении: размахивал своей конусообразной фетровой шляпой, кланялся, потом, задрав голову вверх, приветствовал персидского князя, который, скрестив по-турецки ноги, безучастно восседал на пробке, — и снова принимался строить какие-то дикие гримасы... Его кульбиты и кривлянье вызывали смех зрителей — до чего странный клоун! Искаженный толстыми стеклянными стенками, он выглядел в высшей степени гротескно: то его глаза выкатывались из орбит и сверкали подобно двум огромным карбункулам, а то вдруг — никаких глаз, один лоб и подбородок, и вслед за этим — сразу три лица; на одну секунду толстый и раздутый, он уже в следующую казался тощим, как скелет, на длинных паучьих ножках. Или его живот неожиданно вздувался, как пузырь. И каждый видел его по-своему, в зависимости от угла зрения. Через небольшие промежутки времени, вне всякой логической связи, в марионеток возвращалась призрачная жизнь, но уже через секунду они вновь застывали в жутком трупном окоченении; казалось, живая картина, перескакивая мертвые паузы, фиксирует поочередно чьи-то болезненные впечатления — так стрелка башенных часов дергаными, сомнамбулическими шажками завороженно двигается от минуты к минуте. Но вот марионетки, невероятным образом выкручивая суставы, сделали несколько балетных па в сторону бутылки; на заднем плане стал виден уродливый ребенок, который извивался в странном извращенном наслаждении. Один из музыкантов — башкир с блуждающими, лишенными ресниц глазами и головой, по форме напоминающей вишню, — одобрительно кивал уроду и с патологической порочностью растопыривал свои тощие, отвратительные пальцы, подобно барабанным палочкам раздутые на концах, — восковые символы какого-то загадочного вырождения. А к певичке подскакивал фантастического вида гермафродит в болтающихся кружевных панталонах и замирал в манерном реверансе. И вот наконец в одну из мертвых пауз шелковый розовый занавес на заднем плане раздвинулся, и под общий вздох облегчения два мавра вынесли на сцену паланкин сандалового дерева; как только они поставили его рядом с бутылкой, луч бледного, почти лунного света упал на него сверху. Публика разделилась на две части: одна замерла, утратив дар речи, завороженная потусторонним, вампиричным балетом марионеток, от которого исходил демонический флюид необъяснимого ядовитого эротизма, — другая, слишком тупая для такого рафинированного кошмара, помирала со смеху, глядя на клоунаду «человека в бутылке». И хотя тот прекратил свои забавные штучки, однако его теперешнее поведение веселило никак не меньше. Всеми возможными средствами он словно старался объяснить что-то, кажущееся ему чрезвычайно важным, сидящему на пробке князю. Мало того, он пинал стенки и даже бросался на них, словно хотел их разбить или перевернуть сосуд. При этом создавалось впечатление, что он громко кричит, хотя сквозь толстое стекло наружу, само собой разумеется, не проникало ни звука. На всю эту пантомиму перс время от времени отвечал легкой усмешкой или указывал пальцем на паланкин. Любопытство публики достигло предела, когда она заметила, что Пьеро, плотно прижав лицо к стеклу, довольно долго что-то разглядывал в глубине паланкина и вдруг закрыл лицо руками, словно увидел что-то ужасное, упал на колени и как безумный стал рвать на себе волосы. Потом вскочил и с такой скоростью завертелся в бутылке, что его фигура за выпуклыми стеклянными стенками слилась в один светлый трепещущий лоскут. А публика ломала себе голову, что там случилось с «дамой в паланкине»; об этом оставалось только гадать, так как из-за тени ничего, кроме бледного лица, прижатого к стеклу дверцы и неподвижно глядящего на бутылку, не было видно. — Но в чем же смысл этого зловещего кукольного представления? — спросило шепотом Синее домино и боязливо прижа лось к Юнкеру Гансу. Взволнованные маски приглушенными голосами обменивались впечатлениями. — Какого-то буквального смысла пантомима, конечно, не имеет — лишь те вещи, в которых нет ничего надуманного, сугубо рационального, могут найти скрытый ход к человеческой душе, — выразил свое мнение Саламандр, — и как есть люди, которые при одном взгляде на водянистую секрецию бескровных трупов со стоном наслаждения содрогаются в оргазме, точно так же есть и... — Короче говоря, ужас и эротика растут от одного корня, — прервала его Летучая мышь, — но поверьте, я вся дрожу как в лихорадке, меня душит невыносимый кошмар, от которого я никак не могу освободиться; он облепляет меня толстым слоем какой-то инфернальной ваты. Это что, тоже от пантомимы? Нет, это исходит от князя Дараша-Кога. Почему у него такой подчеркнуто безучастный вид? И лишь иногда его лицо передергивает странный тик!.. Здесь происходит что-то ужасное, и, что бы вы ни говорили, вам не убедить меня в обратном. — Известное символическое толкование всего этого я тем не менее могу дать, а то, что ты сейчас сказала, только подтверждает его, — вмешался Меланхтон. — Разве не олицетворяет собой «человек в бутылке» заключенную в нас душу, которая, бессильная что-либо сделать, вынуждена наблюдать, как нагло забавляются чувства — марионетки — и все с роковой неизбежностью тонет в омуте растленного порока... Громкий хохот и аплодисменты прервали его. Судорожно царапая ногтями горло, Пьеро скорчился на дне бутылки. Потом вскочил и в безумном отчаянии стал указывать то на свой широко раскрытый рот, то наверх, на пробку, — и, наконец, повернувшись к публике, умоляюще сложил руки. — Он хочет пить — еще бы, такая огромная бутыль — и ни капли шампанского! Эй, марионетки, ну-ка дайте ему прополоскать глотку, — крикнул кто-то из зрителей. Все засмеялись и захлопали в ладоши. Пьеро подпрыгнул, разорвал на груди свой белый костюм, сделал какое-то судорожное движение и во весь рост рухнул на дно. — Браво, браво, Пьеро, великолепно; da capo! da capo![122] — ликовала толпа. Но так как человек в бутылке не шевелился и никак не реагировал на крики «бис», аплодисменты постепенно стихли, и общее внимание обратилось к марионеткам. Они по-прежнему стояли в тех же неестественных позах, только теперь в них ощущалось напряжение, которого раньше никто не замечал. Казалось, они ждали чьей-то реплики... Горбатый карлик с белым как мел лицом украдкой скосил глаза на князя Дараша-Кога. Перс не шевельнулся. Выражение его лица было каким-то утомленным. Тогда один из мавров неуверенно подошел к паланкину и открыл дверцу. И тут произошло нечто чрезвычайно странное. Негнущееся женское тело с глухим деревянным стуком выпало на помост. Мгновение — мертвая тишина, потом раздался многоголосый вопль — зал бушевал. — Что это? Что произошло?! Марионетки, обезьяны, музыканты — все бросились к телу; маски карабкались на сцену... Княгиня, жена Дараша-Кога, втиснутая в металлический каркас, лежала совершенно голой. Там, где сталь врезалась в тело, набухли страшные синие отеки. Шелковый кляп торчал во рту. Все замерли, как парализованные... — Пьеро! — полоснул зал чей-то крик. — Пьеро! Какое-то безумное, неопределенное предчувствие, как удар кинжала, пронзило сердца. — Где князь?! Воспользовавшись общим замешательством, князь бесследно исчез... Меланхтон забрался на плечи Юнкера Ганса; напрасно — поднять пробку он не мог, а маленький воздушный вентиль был... завинчен! — Так разбейте же стенки! Быстрей, быстрей! Голландский ратман выхватил у Красного Палача топор и одним махом запрыгнул на сцену. Удар за ударом обрушивался на стеклянные стенки, звеневшие как надбитый колокол — ни с чем не сравнимый, зловещий набат. Глубокие трещины разбегались по стеклу белыми молниями; лезвие топора погнулось. Наконец - наконец бутылка лопнула... На дне, вонзив в грудь посиневшие ногти, лежал задохнувшийся граф де Фааст. Черные птицы ужаса, правя свой полет бесшумными взмахами крыльев, пересекали праздничную залу — гигантские и невидимые.
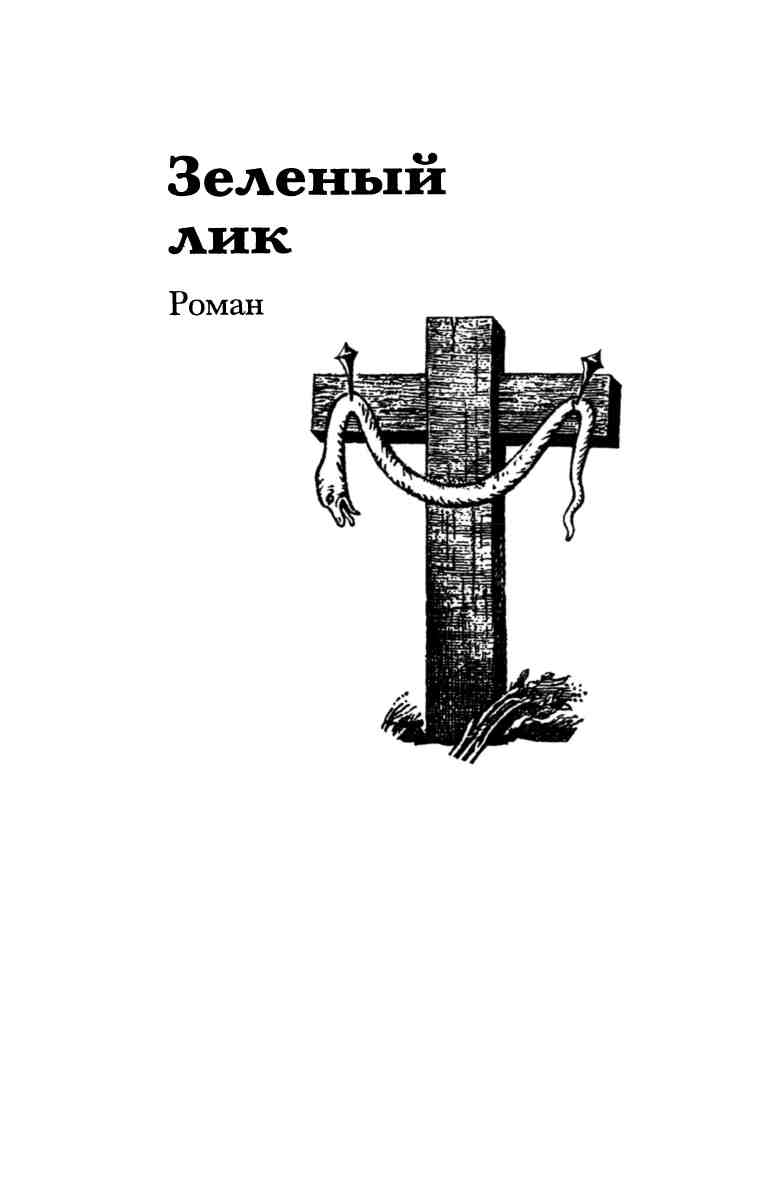
ЗЕЛЕНЫЙ ЛИК
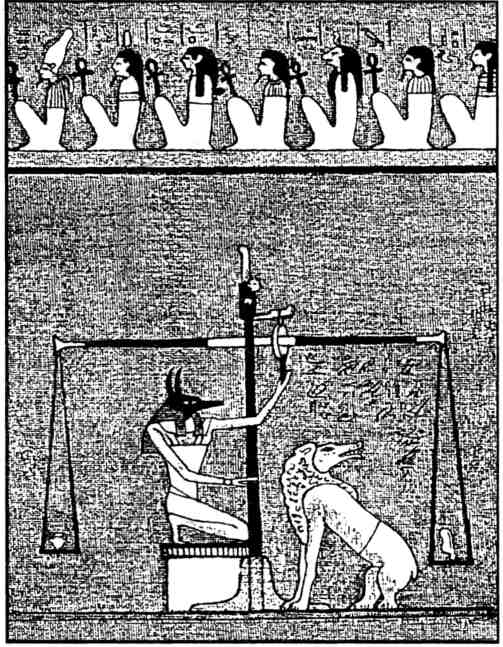
Глава I
Кунштюк-салон Хадира Грюна — прочел хорошо одетый незнакомец на вывеске, красовавшейся на одном из домов с противоположной стороны Иоденбре-страат, и нерешительно остановился, не сводя глаз со странной надписи — белые, вычурно витиеватые буквицы и мрачный, непроницаемо черный фон... Трудно сказать, что заставило его вдруг свернуть на мостовую и, лавируя между тележками зеленщиков с впряженными в них собаками, двинуться в направлении чудного заведения: может, и в самом деле, заинтересовался, а может, просто хотел укрыться от любопытных взглядов прохожих, которые с присущей голландцам застенчивой бесцеремонностью неуклюже, по-медвежьи, обступили его и, глуповато посмеиваясь, обменивались замечаниями по поводу изящного, с иголочки, сюртука, блестящего цилиндра и белоснежных перчаток — предметы туалета, явно не пользовавшиеся популярностью в этой части Амстердама; как бы то ни было, а уловка удалась: лишь пара уличных подростков увязалась за незнакомцем — засунув руки в бездонные карманы синих парусиновых клешей, худосочные, сутулые, с отвислыми задами и тонкими гипсовыми трубками, воткнутыми в узлы красных галстуков, они вразвалочку, лениво волоча ноги в тяжеленных деревянных башмаках, брели следом. Грязные безжизненные окна дома, который «салон» Хадира Грюна опоясывал по периметру, справа и слева выдаваясь в параллельные проулочки небольшими стеклянными пристройками, взирали на мир мутно и угрюмо, было в этом взгляде что-то казенное, свойственное казармам и складским помещениям; скорее всего здесь действительно размещался какой-то склад, выходивший задней своей стеной на так называемый грахт — один из бесчисленных грузовых каналов, подобно артериям пересекающим этот большой портовый город вдоль и поперек. Дом казался таким непропорционально приземистым, что невольно закрадывалась мысль о древней, мрачной четырехугольной башне, год за годом погружавшейся в мягкий торфяной грунт, пока не ушла в него по самый край своего кружевного жабо — теперешняя стеклянная пристройка. Посреди витрины на драпированном красной тряпицей постаменте покоился темно-желтый череп, неумело и косолапо склеенный из папье-маше, — глазницы и височные тени были отретушированы неестественно густо, слишком широкая и массивная верхняя челюсть могла принадлежать разве что человекообразной обезьяне, но никак не человеку, тем не менее на засаленном пиковом тузе, который гордо сжимала в зубах сия жалкая пародия на символ смерти, значилось: «Het Delphische Orakel, of de stem uit het Geestenrijk»[123]. Через всю витрину тянулись длинные цепи, сплетенные из больших медных колец, унизанных гирляндамигрубо размалеванных картинок, на которых в самом широком ассортименте были представлены дорогие сердцу всякого женатого мужчины образы: от кислых, прыщавых физиономий тещ с огромными висячими замками на тонких иезуитских губах до искаженных злобой ангельских личиков милых женушек, в праведном гневе потрясающих вениками и скалками; впрочем, средь этой варварской пестроты встречались и другие, выполненные в более нежных, интимных тонах: пышнотелые юные особы жеманно кутались в полупрозрачные кружевные неглиже, с притворной стыдливостью пытаясь прикрыть свои роскошные формы: по нижнему краю сих неземных видений вились маленькие изящные буковки: «Tegen het licht te bekijken. Voor Gourmands»[124]. Вокруг «Дельфийского оракула» громоздилась всевозможная причудливая мишура, чего здесь только не было: стальные наручники, для пущего шику снабженные особой надписью: «знаменитая гамбургская восьмерка», груды пыльных египетских сонников, искусственные клопы и тараканы — «для бросания в пивную кружку соседа по постоялому двору», — потешные каучуковые носы, склянки в виде алхимических реторт, наполненные розоватой водицей: «Любовный термометр — чудодейственный эликсир для начинающего ловеласа», плошки с жестяными деньгами, стаканы для игры в кости, «купейные ужасы» — «безотказное средство для господ коммивояжеров, позволяющее быстро и непринужденно завязывать дорожные знакомства», — представленные ощеренной волчьей пастью, «комфортно крепящейся пониже усов», а над всем этим легкомысленным изобилием, как бы благословляя его, из зловеще черной задней стенки витрины торчала восковая женская рука с бумажным кружевным манжетом на бледном запястье. Незнакомец поспешно вошел в лавку; сделал он это конечно же не для того, чтобы приобрести какой-нибудь чудодейственный эликсир или фальшивого таракана, — скорее всего просто спасался бегством от невыносимого рыбьего запаха, который зловонной аурой окутывал следовавшую по пятам парочку. В углу, в кресле, положив левую ногу, обутую в расшитый арабесками лаковый туфель, на правое бедро, сидел, изучая газету, какой-то жгучий брюнет — тип лица явно балканский — с роскошными, лихо закрученными вверх черными усами и безукоризненным, жирно поблескивающим от избытка бриолина пробором; метнув в посетителя острый как нож испытующий взгляд, кавалер глубокомысленно потер свой выбритый до синевы подбородок и снова углубился в чтение, одновременно в перегородке, которая была чуть выше человеческого роста и отделяла «салон» от служебного помещения, с грохотом провалилось вниз что-то вроде непроницаемо темного вагонного окна и в открывшемся проеме появилась стриженная под пажа декольтированная блондинка со светло-голубыми манящими глазами. По первым же словам, произнесенным на ломаном голландском: «Покупать... все равно что... что-нибудь», волоокая барышня мгновенно поняла, что перед ней соотечественник, австриец, и, бойко тараторя на родном немецком языке набор стереотипных фраз, принялась демонстрировать некий «магический» кунштюк с тремя бутылочными пробками; при этом искушенная в искусстве обольщения дамочка, видимо, желая произвести впечатление на незнакомого, но такого интересного мужчину, пустила в ход весь свой женский шарм и то легонько, словно невзначай, касалась острыми кончиками грудей стоящего напротив клиента, то охмуряла его неуловимой, почти телепатической эманацией тончайших ароматов своего холеного тела, а дабы сгустить их и придать им пикантной терпкости, она периодически вентилировала подмышечные впадины, для чего поминутно вскидывала руки и озабоченно поправляла какой-то непокорный локон у себя на затылке. — Извольте видеть, сударь, перед вами три пробки, не так ли? Теперь смотрите внимательно: на ладонь правой руки я кладу сначала одну пробку, потом другую и зажимаю их в кулаке. Так. Готово. Третью пробку... — зардевшись, она смущен но улыбнулась, — третью я прячу... в карман. Сколько пробок у меня в правой руке? — Две. — Нет, три. Пальцы разжались — на ладони лежали три пробки... — Этот фокус, сударь, называется «Летающая пробка» и стоит всего-навсего два гульдена. — Отлично, а теперь покажите, как вы это делаете! — Пожалуйста, сударь, но деньги вперед. Таково наше правило. Уплатив два гульдена, незнакомец сподобился не только посвящения в тайну «летающей пробки», — ловкость рук и никакой магии! — но и повторного каждения знойным благоуханьем потеющей женской плоти; «салоном» было предусмотрено также бесплатное приложение в виде четырех бутылочных пробок, которые клиент, окончательно покоренный щедростью и деловой хваткой фирмы Хадира Грюна, растерянно сунул в карман, хотя прекрасно понимал, что ни за что на свете не заставит «летать» ни одну из этих четырех. — Извольте видеть, сударь, перед вами три гардинных кольца, — не тратя понапрасну времени, пошла по второму кругу предприимчивая барышня, — первое я кладу... Дикое улюлюканье, донесшееся с улицы, вперемежку с пронзительным свистом прервало демонстрацию; в следующее мгновение дверь лавки распахнулась настежь... Когда она с грохотом захлопнулась, незнакомец невольно обернулся и увидел существо, внешний вид которого поверг его в крайнее изумление. В дверях стоял гигантского роста зулусский кафр с черной курчавой бородой и выпяченными, словно вывернутыми наизнанку губами; ничего, кроме клетчатого плаща и багряного металлического обруча вокруг шеи, на нем не было, искусно зачесанные дыбом волосы распространяли невыносимый запах бараньего жира и издали казались нахлобученным на голову горшком эбенового дерева. В руке он сжимал копье. Балканский тип вскочил с кресла и, церемонно склонившись перед чернокожим, принял у него копье, которое водрузил в стойку для зонтов, потом, услужливо распахнув портьеру, пригласил странного посетителя в соседнее помещение: — Als't u belieft, Mijnheer; hoe gaat het, Mijnheer?[125] — Будет лучше, сударь, если вы пройдете сюда... Ненадолго... — обратилась барышня к незнакомцу и открыла в перегородке дверцу. — Пожалуйста, пока этот уличный сброд не угомонится, — добавила она уже на ходу, бросаясь к стеклянной двери, которая распахнулась вновь... На пороге возник какой-то увалень — его неуклюжая фигура, казалось, застряла в дверях; косолапо расставив ноги, громила смачно плюнул на середину «салона» и принялся изрыгать поток проклятий: «suk, verrek, god verdomme, val dood, steek de moord», однако подоспевшая барышня мигом прекратила безобразие, вытолкав грубияна вон... Щелкнул дверной замок, и воцарилась тишина... Внутреннее помещение лавки, в котором оказался незнакомец, было перегорожено шкафами и турецкими портьерами, бросалось в глаза множество кресел и низеньких восточных табуреток, теснившихся вокруг большого круглого стола; двое солидных мужей, на вид купцы, не то гамбуржцы, не то местные, сидели за столом и, приникнув к небольшому темному ящичку, смотрели при свете вмонтированной электрической лампочки в специальные глазки — судя по слабому жужжанью, что-то вроде портативного синематографического аппарата. Сумрачный, образованный книжными стеллажами проход кончался крошечной канцелярией, тусклые матовые окна которой выходили в боковой переулок; древний, похожий на библейского патриарха седобородый еврей в черном таларе[126], с пейсами, на макушке круглая шелковая ермолка, неподвижно стоял за конторкой и что-то вносил в огромный гроссбух. — Тысяча извинений, фрейлейн, но что это за странный негр посещает ваше заведение? — осведомился незнакомец, когда барышня подошла к нему, явно намереваясь продолжить свое по вествование о трех гардинных кольцах.— Негр? О, да это же мистер Узибепю! Из труппы зулусов... Ну те, что выступают сейчас в цирке Карре. Гвоздь программы! — защебетала блондинка и прибавила, восторженно округлив свои безупречно голубые, томные глаза: — Ну очень, очень шикарный господин! У себя на родине они medicinae doctor... — Да-да, доктор медицины, понимаю. — Доктор, доктор... Только им этого мало, вот они у нас и изучают какие-то высшие науки. Видно, у себя, у дикарей этих неотесанных, соплеменников своих, карьеру сделать хотят, может, даже на престол — или что там у них? — метят... Извольте видеть, сударь, как раз сейчас господин Циттер Арпад, знаменитый профессор пневматизма из Пресбурга, дает им урок. — Слегка раздвинув тяжелые портьеры, она позволила незнакомцу заглянуть в обитый игральными картами кабинет. С двумя крест-накрест вонзенными в горло кинжалами, острия которых торчали наружу, и окровавленным топором, по самый обух застрявшим в жутко зияющем проломе расколотого надвое черепа, балканский тип невозмутимо проглотил куриное яйцо и тут же, целым и невредимым, извлек его из уха стоящего перед ним с разинутым ртом зулусского кафра, сменившего свой клетчатый плащ на шкуру леопарда. Незнакомец охотнее всего понаблюдал бы еще, но барышня, заметив косой, раздраженный взгляд профессора, поспешно запахнула портьеры и умчалась на телефонный звонок. «Какой удивительной, яркой и многообразной показалась бы жизнь, если бы люди не ленились присмотреться к ней поближе и, не придавая значения ее так называемым "серьезным сторонам", которые ничего, кроме забот и раздражения, человеку не приносят, сосредоточили свое внимание на "мелочах"!» — подумал незнакомец и, сняв с книжной полки, заваленной дешевыми побрякушками, маленькую открытую шкатулку, наполненную крохотными резными коровами и деревцами с пышными кудрявыми кронами из ядовито-зеленого мочала, рассеянно принюхался... Ни на что не похожий запах смолы, лака и красок погрузил его на мгновение в сладостный сон... Сочельник! Детство! Затаив дыхание, замереть у замочной скважины и ждать... Шаткий колченогий стул, обтянутый красным репсом, с масляным пятном на сиденье... Шпиц Дурудельдут — да-да, именно так его и звали! — ворчит из-под софы, отгрызая заводному солдатику ногу, и вдруг, отчаянно взвизгнув, поникший и виноватый, выбирается наружу с зажмуренным левым глазом: какая-то коварная пружинка отомстила за растерзанного воина... Потрескивают елочные иголки, и с горящих красных свечей свисают длинные восковые бороды... Казалось бы, какой пустяк — обычная нюрнбергская шкатулка, а поди ж, одним своим запахом разом воскресила прошлое!.. Быстро проведя рукой по лбу, незнакомец смахнул пленительные чары... «Ничего, кроме горького разочарования, эти грезы о безоблачном детстве не приносят: поначалу все кажется таким красочным, чудесным и таинственным, но однажды жизнь вдруг усыхает в скучную морщинистую физиономию классного наставника, чтобы в конце концов обернуться мерзкой кровожадной рожей какого-нибудь фельдфебеля... Нет, не надо, не хочу!» — И он отвернулся к стоящей рядом круглой вращающейся этажерке с книгами. «Гм, сплошь золотые корешки?..» Удивленно качая головой, принялся изучать чудные, совершенно не вяжущиеся со своим окружением названия: Ляйдингер Г. «История боннской хоровой академической капеллы»; Акен Фр. «Основы древнегреческого учения о времени и модусе»; Нойнауге К. В. «Профилактика и лечение хронического геморроя в античную эпоху»?.. «Слава Богу, хоть здесь без политики обошлось!» — отметил он с признательностью и, взяв наудачу толстенный фолиант — Аалке Потт. «Медикаментозные свойства рыбьего жира», III том, — заглянул в него. Отвратительная печать и скверная бумага никоим образом не соответствовали роскошному кожаному переплету. «Что-то тут не так! А может, под этим тисненным золотом надгробием скрывается вовсе не гимн целительным свойствам зловонной ворвани?» — забеспокоился было незнакомец, но все стало на свои места, когда он, открыв титульный лист, прочел: «Библиотека Содома и Гоморры» Коллекция для старых холостяков (Юбилейное издание) ИСПОВЕДЬ ПОРОЧНОЙ ГИМНАЗИСТКИ (Продолжение знаменитого романа «Пурпурная улитка») «Вот уж воистину кот в мешке: берешь в руки книгу, полагая, что перед тобой "Фундаментальные основы философской мысли XX века", а там, глядь, — вместо чванливого академического занудства душераздирающий вопль: "Хлеба и женщин"», — усмехнулся он. В это время один из сидевших за столом дородных купцов, с трудом оторвавшись от проекционного ящика, поднялся (другой, голландец, словно прилип к своему глазку); пыхтя и отдуваясь, он суетливо огляделся, заметив незнакомца, смущенно пробормотал что-то о «веикоепных гооских видах» и хотел уже ретироваться, дабы, собравшись с силами на свежем воздухе, поскорее придать своему несколько расплывшемуся выражению лица, ставшему от изнурительного оптического наслаждения каким-то свиноподобным, прежние чеканные черты благородного германского негоцианта, ни на йоту не отступающего от строгих моральных устоев, но тут злой демон всех простодушных отцов семейств, видимо, не желая, чтобы душа честного бюргера и далее изнывала в мучительном неведении относительно того, в каком фривольном окружении она находится, прикинулся лукавым случаем и отколол в высшей степени непристойную шутку... Купец, стремившийся как можно скорее унести ноги, так широко размахнулся, набрасывая на плечи пальто, что, задев рукавом маятник больших стенных часов, привел его в движение, и тотчас открылась разрисованная идиллическими семейными сценами дверца, однако из домика вместо привычной, милой сердцу кукушки высунулась сначала восковая голова, а за ней и пышный, но крайне скудно одетый бюст какой-то на редкость нагло глядящей девицы, которая, кощунственно вторя торжественному перезвону двенадцатого часа, хриплым, пропитым голосом принялась горланить вульгарный уличный куплет: Ночи напролет скрип да скрип станок. А чё? Д'ничего — палочки строгаем. Крепок, стоек — вот так столик... «Олик, олик, олик...» — надрывно, с правильными интервалами, загудела вдруг девица, срываясь на мерзкий скрипучий бас: не то в демоне внезапно проснулась совесть, не то на граммофонную иглу попал волосок. Не желая больше служить мишенью для гнусных шуток инфернального пересмешника, морской волк, оскорбленно пискнув: «Возмуиельно», обратился в бегство. И хотя незнакомцу неоднократно приходилось сталкиваться с весьма курьезными проявлениями болезненно развитого чувства моральной чистоплотности у представителей арийской расы, тем не менее смущение пожилого господина показалось ему несколько чрезмерным, и в его душу стало постепенно закрадываться подозрение: уж не знакомы ли они — возможно, были представлены друг другу где-нибудь в обществе?.. Промелькнувший обрывок воспоминаний, каким-то образом связанный с застенчивым купцом — стареющая дама с тонкими печальными чертами и рядом с ней очаровательная девочка, — подтвердил его подозрения, вот только ни названия места, ни имен в памяти не возникало. Да и лицо голландца, который только что поднялся из-за стола и, смерив его с головы до пят холодным оценивающим взглядом, удалился, лениво переваливаясь с ноги на ногу, ничего не подсказало — брутальный, самоуверенный, но совершенно незнакомый человек. Барышня все еще висела на телефоне. Судя по доносившимся до него репликам, речь шла о большом заказе для какого-то званого вечера. «Пора бы, наверное, и мне идти, — рассеянно подумал незнакомец. — Чего я, собственно, жду?» Но никуда не пошел — утомленно зевнув, развалился в кресле... «И как только у человека голова выдерживает и он не сходит с ума, — шевельнулась мысль в его охваченном внезапной вялостью мозге, — от того несусветного вздора, который пестрым вульгарным частоколом городит вокруг него судьба?! Вот уж воистину чудо из чудес!.. А если голове ни по чем все это свинство, тогда с какой вдруг стати бунтовать желудку, стоит только глазу остановиться на какой-нибудь мерзости? Ну, скажите на милость, при чем здесь пищеварение?! Нет, с уродливостью это тошнотворное чувство явно не связано, — продолжал размышлять незнакомец, — ведь и при достаточно долгом пребывании в картинной галерее посетитель зачастую ощущает внезапный рвотный позыв. Должно быть, существует нечто вроде музейной болезни, о которой медицина пока ничего не знает... А что, если от всех вещей, созданных человеком — хороши они или нет, — исходит что-то гадкое, тлетворное, болезненное?.. По всей видимости, так оно и есть, ибо не припомню, чтобы мне при виде любой, даже самой дикой местности хоть раз стало дурно. Зато всему, что называется "сюжетом", присущ привкус жестяной консервной банки! Эдак и цингу заработать недолго...» — невольно усмехнулся он, и сразу вспомнилось ироничное, исполненное духом барокко высказывание его доброго приятеля барона Пфайля — кстати, ближе к вечеру барон будет ждать в кафе «Золотой тюрк», — который от всей души ненавидел все, что хоть как-то было связано с реалистической, перспективной живописью: «Полагать, что грехопадение началось с вкушения запретного плода — дремучее суеверие. Оно началось с украшения жилищ картинами! Стоит только каменщику возвести четыре стены, а дьявол, переодетый "художником", уж тут как тут — кланяется, лебезит, предлагает купить "дыры с перспективой". От первого "реалистического сюжета" до "плача и скрежета зубовного" один шаг, а то и того меньше: вы только повесьте у себя в обеденной зале парочку портретов попомпезнее, при всех регалиях, во фраках, ну, скажем, Исидора Прекрасного, а рядом еще какого-нибудь коронованного идиота с головой грушей и челюстями ботокуда, вот тогда и посмотрим, что вы запоете, когда первый же кусок, проглоченный в столь представительном обществе, встанет у вас поперек горла...» «Да-да, надо уметь смеяться, ни при каких обстоятельствах нельзя забывать про смех, — отметил про себя незнакомец и стал развивать свою мысль: — Ведь недаром на всех дошедших до нас статуях Будда запечатлен улыбающимся, в то время как христианские святые на канонических изображениях всегда печальны или же проливают безутешные слезы. Если бы люди почаще смеялись, то и войн было бы наверняка меньше... Вот брожу я уже третью неделю по Амстердаму, не глядя на названия улиц, не интересуясь достопримечательностями, не пристаю к прохожим с вопросами, что это за здание и куда или откуда плывет тот красавец корабль, не заглядываю в газеты: мне надоело узнавать в "последних новостях" события тысячелетней давности; я живу в доме, где каждая вещь для меня чужая, и в недалеком будущем единственным, известным мне "частным лицом" буду я сам; если попадается на глаза какой-нибудь незнакомый предмет, я давно уже не шпионю за ним, стараясь вызнать, чему и как он служит — да он вовсе и не служит, а лишь позволяет себя обслуживать! — но зачем, зачем я все это делаю?.. Да просто я сыт по горло этой бесконечной интеллигентской жвачкой: сначала мир, чтобы готовиться к войне, потом война, чтобы бороться за мир, — я, подобно Каспару Хаузеру, хочу видеть перед собой новую, изначально чужую мне землю, хочу научиться новому неведомому удивлению и, уподобившись младенцу, испытать то, что испытывает он, превращаясь за одну-единственную ночь в зрелого мужчину, ибо я хочу быть точкой, а не вечной запятой. Я отказываюсь от "духовного наследства" предков в пользу государства: лучше потерпеть, но научиться смотреть на старые формы новыми глазами, чем, как это у нас принято, близоруко таращить на новый нарождающийся мир слезящиеся подслеповатые бельма; быть может, тогда это новое старое обретет вечную юность!.. Начало уже положено, и увидел я, "что это хорошо";[127] осталось только научиться ничему не удивляться и ни к чему не относиться всерьез». Пожалуй, ни одно снотворное не действует так усыпляюще, как неразборчивый, приглушенный шепот, смысл которого не доходит до сознания. Тихий и очень быстрый разговор, который вели за портьерой балканский тип и зулусский кафр, вкрадчивым неуловимым призраком скользил мимо ушей, рассеивая внимание, охмуряя чувства своей гипнотизирующей монотонностью, — и вот уже незнакомец летел в какую-то бездонную черную яму... Он тут же очнулся, но странно: на душе было легко и радостно, как будто в кратком забытьи ему открылось великое множество каких-то неразрешимых и мучительных вопросов, тайно угнетавших его в течение долгого времени; однако в сознании от всей этой стремительной лавины новообретенных откровений запечатлелся лишь один-единственный, довольно-таки причудливый вывод — фантастическая квинтэссенция последних впечатлений и лихорадочно развивающихся мыслей: «Воистину, труднее смертному вечную улыбку обрящить, нежели, перерыв несметное множество могил, сыскать череп, коий носил на плечах в своей прежней жизни; дабы воззриться человеку на мир сей новыми, вечно смеющимися очами, надобно ему допрежь того старые выплакать, да так, чтоб на их месте лишь пустые глазницы остались». «Ну что ж, если это и в самом деле так трудно, придется пуститься на поиски своего собственного черепа! — хмыкнул незнакомец, упрямо не желая расставаться с явно сумасбродной, вынесенной из забытья идеей, и, абсолютно убежденный, что бодрствует, снова соскользнул в прострацию. — Уж я заставлю вещи говорить со мной без обиняков, они от меня не отвертятся — как на духу откроют свою истинную суть; и откровение это прозвучит на новом языке, я не позволю им морочить мне голову и, как прежде, нашептывать с многозначительным видом лукавый, двусмысленный вздор, попеременно выдавая себя то за медикамент — "я излечу тебя, когда ты объешься", — то за яство, "данное тебе, чтобы ты объелся и вновь мог прибегнуть к медикаменту"... В конце концов я слишком хорошо проникся остроумной сентенцией моего приятеля Пфайля о том, что все в этом лучшем из миров норовит укусить себя за хвост, чтобы подобно несмышленому юнцу доверять этим лживым посулам, ну а если учебный план жизни не предусматривает ничего более мудрого, то лучше уж удалиться в пустыню и жить отшельником, вкушая акриды и дикий мед...» — Гм, удалиться в пустыню и, предавшись посту, посвятить себя изучению высшей магии — и об этом помышляет тот, кто был столь наивен, чтобы серебром оплатить жалкий, рассчитанный на глупцов трюк с бутылочными пробками, кто не в со стоянии отличить шулерскую лавку от мира, кто даже не подозревает, что у тисненных золотом обложек бывает весьма неприглядное нутро?.. Это вас бы, молодой человек, следовало назвать «Грюном»[128], а не меня, — послышался внезапно низ кий вибрирующий голос, и когда незнакомец, пораженный тем, что кто-то читает его мысли, поднял глаза, то увидел старого иудея, хозяина «салона», который неподвижно смотрел на него... Незнакомец вздрогнул, таких лиц, как это, перед ним, ему видеть не приходилось: гладкое, без единой морщинки — правда, лоб скрывала широкая черная повязка, — оно тем не менее было изборождено глубокими складками, подобно морю, которое может вздыматься огромными валами, однако морщинистая рябь никогда не тревожит поверхности этих гигантов... Глаза как две черные бездны, и все же это были живые, человеческие глаза, а не пустые мертвые глазницы на голом блестящем черепе. Оливковая кожа казалась отлитой из тусклой меди — наверное, так выглядели древние библейские племена, о которых сказано, что ликом они с темно-зеленым златом были схожи. — С тех пор как Луна, бледная странница, кружит по небо склону, — продолжал иудей, — пребываю я в мире сем. Мне суждено было узреть первых людишек — подобные обезьянам, они приходили из древа и уходили во древо, — мгновение он задумчиво помедлил, — из колыбели во гроб. И по сей день люди как обезьяны, и в руках у них по-прежнему топор. Потухший взор их обращен вниз, в бесконечность, коя сокрыта в малом, — там, в непроглядной бездне, тщатся они дно обрящить. Итак, познали они, что в чреве самого ничтожного червя обитают миллионы крошечных существ, а в тех в свой черед — миллиарды еще более крошечных, однако все еще невдомек пытливым исследователям, что эдак им конца во веки веков не сыскать. И хотя взору моему отверсты обе бездны, и верхняя и нижняя, да и слезы свои я давным-давно повыплакал, но, все едино, смеяться так и не научился... Вот и ноги мои омыты потопом, и весь подлунный мир исходил я вдоль и поперек, однако где тот смертный, коий бы имел повод для смеха? Такого мне встретить не довелось — быть может, я его не заметил и прошел мимо?.. Ныне стопы мои вновь омывает потоп — моря крови! — так неужели же сейчас, в это страшное время, найдется безумец, способный смеяться? Не думаю. Видно уж, придется ждать следующего потопа — огненного!.. Судорожным движением незнакомец надвинул на глаза цилиндр — лишь бы не видеть этого кошмарного лика, который своим ледяным, потусторонним взглядом, казалось, пронизывал его насквозь, вызывая в душе чувство такого панического ужаса, что у него на миг дыхание перехватило, — и потому не заметил, как иудей вернулся к себе за конторку, а барышня, прокравшись на цыпочках на его место, сняла с полки череп из папье-маше, подобный тому, на витрине, и, бесшумно водрузив его на высокий табурет, стала ждать, когда лее головной убор, съехавший странному клиенту на нос, утратит наконец свое крайне хрупкое равновесие и свалится на пол. Но вот неизбежное произошло — она с быстротой молнии ловко подхватила цилиндр на лету и, вручив его опешившему незнакомцу, как ни в чем не бывало приступила к своим прямым обязанностям: — Извольте видеть, сударь, перед вами так называемый Дельфийский оракул! Он поможет нам заглянуть в будущее и получить ответы на вопросы, дремлющие в сокровенной глубине души. — И она, видимо для пущей убедительности, таинственно скосила томные голубые глаза за вырез своего душного, пышущего жаром декольте. — Пожалуйста, сударь, задумайте про себя какой-нибудь вопрос! — Да-да, конечно, разумеется... — неуверенно пробормотал незнакомец, все еще не в состоянии опомниться от страшного видения. — Смотрите, смотрите, он уже оживает! Нижняя челюсть «оракула» медленно отвисла вниз... Наступила томительная пауза... Далее череп сделал несколько ленивых жевательных движений и, презрительно сплюнув какую-то свернутую в трубочку бумажку, облегченно клацнул зубами; барышня, поднаторевшая в обращении с капризным «прорицателем», проворно поймала послание... На узеньком листочке было написано красными чернилами — а может, то была кровь? — следующее: «Исполнится ли страсть твоей души? — Скрепивши сердце, смело приступай, и воля пусть заступает место суетных желаний». «Гм, жаль, ведь я и понятия не имею, что же это за вопрос такой "дремал у меня в сокровенной глубине души"», — скептически хмыкнул про себя незнакомец и деловито осведомился: — Почем оракул? — Двадцать гульденов, сударь, — глазом не моргнув, выпалила бойкая барышня. — Отлично. Хотя вот что... — Незнакомец помедлил, прикидывая, стоит ли прямо сейчас брать с собой всеведущий череп. «Нет, эдак меня, еще чего доброго, за Гамлета на улице примут», — резонно рассудил он и вслух сказал: — Вот что, любезнейшая, пришлите-ка вы мне этот «глас высших миров» на квартиру. Итак, двадцать гульденов, извольте видеть... Отсчитав деньги, он невольно бросил взгляд в сторону конторки у окна — неестественно прямо и недвижимо стоял старый иудей на своем рабочем месте, как будто все это время только и делал, что царапал пером в толстенном гроссбухе! — потом, быстро вписав в услужливо протянутый барышней блокнот свое имя и адрес: «Фортунат Хаубериссер, инженер. Хойграхт, 47», все еще немного не в себе, покинул «кунштюк-салон».
Глава II
Вот уже который месяц Голландия была наводнена беженцами со всей Европы; война только что кончилась, однако спокойней не стало — то здесь, то там вспыхивали внутренние, постоянно ожесточавшиеся политические схватки, принудившие доведенных до отчаяния людей сняться с насиженных мест — и нескончаемый поток устремился в портовые нидерландские города: одни надеялись обрести здесь вторую родину, другие — временное пристанище, чтобы перевести дух, оглядеться и лишь тогда, спокойно взвесив все, податься на край света в поисках лучшей доли. Туманные прогнозы того, что с окончанием европейской войны в тех или иных наиболее пострадавших от разрухи областях могут наблюдаться миграционные процессы, которые затронут главным образом неимущие слои населения, оказались в корне несостоятельными, реальность превзошла все ожидания — начался массовый исход: купить хотя бы палубный билет на рейсы в Бразилию и другие считавшиеся процветающими заокеанские страны было совершенно невозможно; вопреки безответственным расчетам, эмигрировали в основном люди состоятельные и интеллигенция — число этих категорий беженцев не шло ни в какое сравнение с числом пролетариев, худо-бедно кормившихся трудом своих рук, — причем богатые бежали, пытаясь спасти законные накопления, которые на глазах таяли в невыносимых тисках отечественных налогов, — ну что с них взять, буржуа! Безыдейные! — что же касается интеллигенции, то ей было попросту некуда деваться, ибо она не видела для себя ни единого шанса выжить в этой неслыханно жестокой борьбе за кусок хлеба. Если уж в прошлые благословенные времена довоенного инфляционного кошмара доходы какого-нибудь трубочиста или мясника намного превышали жалованье университетского профессора, то теперь европейская цивилизация достигла наконец своего апогея, когда древнее библейское проклятье: «в поте лица твоего будешь есть хлеб»[129], приобрело вполне конкретный, можно сказать, даже буквальный смысл, и те, кто потел «тайно», пытаясь снискать хлеб насущный «в поте ума своего», почувствовали себя брошенными на произвол судьбы и были обречены на вымирание, ибо, в отличие от своих потеющих «явно» собратьев, не могли поддерживать правильный обмен веществ. Бицепс дорвался-таки до скипетра власти, курс же секреции интеллектуальных желез изо дня в день неудержимо падал все ниже, если бы Маммона и по сей день восседал на троне, то можно представить, какую бы он скорчил рожу при виде наваленных вокруг него кучами грязных замусоленных бумажек, — не исключено, что оскорбленный в лучших чувствах идол на веки вечные отказался бы покровительствовать стяжателям и сребролюбцам. Запустение и хаос воцарились на земле, «и тьма над бездною», и дух коммивояжеров уж не носился, как встарь, над водами[130]. «И стало так»[131], что орды европейской интеллигенции скитались теперь из конца в конец Старого Света и, собираясь в более или менее пощаженных войной портовых городах, с надеждой взирали на Запад, подобно мальчику с пальчик, влезавшему на высокие деревья, чтобы высмотреть вдали огонек домашнего очага. В Амстердаме и Роттердаме все старые отели были забиты до последней подвальной каморки, ежедневно возникали новые, но легче не становилось; на улицах — столпотворение, смешение языков не пощадило далее респектабельные кварталы, через каждый час экстренные поезда уходили в Гаагу, до отказа переполненные погорелыми политиками и прожженными политиканами всех мастей, которые неделями разглагольствовали на мирных конференциях о том, как поймать ветер в поле и посадить под замок. В роскошных ресторанах и кафешантанах сидели, склонившись голова к голове, и пожирали глазами заморские газеты — читать местную прессу не имело никакого смысла, она все еще изнывала в пароксизме верноподданнического восторга по поводу заключенного мира, — но и в них не было ничего такого, что не сводилось бы к древней премудрости: «Я знаю, что ничего не знаю, и даже в этом не уверен». — Как, неужели барон Пфайль все еще не пришел?! Я торчу здесь уже битый час! — разносилось в темной, прокуренной, прихотливо угловатой зале кафе «Золотой тюрк», неприметно скрывавшегося в Круискаде, в стороне от оживленных улиц, — это выражала свое недовольство некая особа женского пола, возраст которой можно было определить как бальзаковский: худое, остроносое лицо, нервные бескровные губы, беспокойные водянистые глаза, вечно тусклые жирные волосы, одним словом, типичная эмансипе, такие годам к сорока пяти начинают сильно смахивать на желчного крысолова-пинчера, а в пятьдесят и в самом деле принимаются лаять с пеной у рта на несчастное, несознательное, погрязшее в распутстве человечество. Вот и сейчас прогрессивная дама в праведном гневе обрушилась на ни в чем не повинного кельнера: — 'озмутительно! Фи! Пригласить приличную женщину в какой-то притон и как продажную девку выставить на обозрение растленным пьянчугам!.. — Барон Пфайль? Не знаю такого, мефрау. По крайней мере, как он выглядит? — холодно обронил тот. — 'стественно бритый. Сорок. Сорок пять. Сорок восемь. Откуда мне знать! Я на его крестинах не присутствовала. Высокий. Худощавый. Горбоносый. Соломенная шляпа. Шатен... — Этот господин давным-давно сидит там, снаружи, мефрау. — И кельнер все так же невозмутимо указал на открытую дверь, за которой на небольшом пятачке, отделенном от улицы зеленой стеной плюща и закопченными кустами олеандра, стояло несколько столиков. — Кррреветки, кррреветки! — грозно рокотал глухой бас проходившего мимо торговца. — Бееенаны, бееенаны! — вторил ему блеющий женский голосок. — Вы что, ослепли, ведь это блондин! Да еще усатый. И в цилиндре! Фи! — вскипела выведенная из себя феминистка. — Я имею в виду господина, сидящего рядом, мефрау. Со своего места вы его видеть не можете. Коршуном рухнула дама на ничего не подозревавших приятелей и забросала барона Пфайля, который встал с несколько смущенным выражением лица и представил своего друга Фортуната Хаубериссера, градом упреков: и звонила она ему никак не менее двенадцати раз, и даже заезжала, но все напрасно, «ведь его светлости, как всегда, — ядовито добавила суфражистка, — не было дома». — И в то время, когда всякий приличный христианин почитает своим святым долгом не покладая рук трудиться на ниве прогресса, ибо сейчас, как никогда, необходимо: во-первых, упрочить такой еще, увы, шаткий мир, во-вторых, помочь президенту Тафту внять голосу рассудка, в-третьих, убедить беженцев вернуться на родину, в-четвертых, парализовать преступный орган интернациональной проституции, в-пятых, пресечь преступный курс на безнравственную торговлю женским телом, в-шестых, привить морально неустойчивым индивидам высокие нравственные принципы и... и, в-седьмых, организовать инвалидов всех стран на сбор утильсырья и особенно бутылочной фольги, — и в это самое время, — патетически воз гласила оскорбленная в лучших чувствах женщина, возмущенно распуская шелковый шнурок на своем ридикюле и снова затягивая, — находятся такие, которые, вместо того чтобы подвизаться на священном поприще любви к ближнему, с утра до вечера просиживают в сомнительных притонах и... и в обществе кокоток и сутенеров одурманивают себя шнапсом! — Закончив свою гневную тираду, она метнула испепеляющий взгляд на пару тонких, изящных бокалов, стоящих перед приятелями на мраморном столике, в которых, подобно дьявольскому зелью, переливался всеми цветами радуги великолепный ликерный коктейль. — Госпожа Жермен Рюкстина, благоверная супруга консула, увлекается... благотравительностью, — пояснил своему другу барон Пфайль, скрывая за якобы случайной оговоркой ироничную двусмысленность, — как сказал Гете, она — та сила, что вечно хочет блага и вечно совершает...[132] Гм... Ну и так далее... «Ох, и задаст же тебе сейчас эта "сила"! — подумал Хаубериссер и осторожно поднял глаза на фурию: к его удивлению, она смущенно зарделась и скромно потупилась. — Э, так вот оно, значит, что! Ну конечно же, молодец Пфайль, ведь все эти ханжи не только не знают Гете, но разве что не молятся на него; и чем грубее искажают, цитируя, великого пиита, тем глубже, кажется им, проникают они в "вечный" смысл "божественной поэзии"». — Признаюсь, мефрау, — обратился Пфайль с самым серьезным видом к притихшей поборнице женских прав, благоговейно переваривающей священные глаголы, — мне бывает иногда крайне неловко за то незаслуженное внимание, которое оказывают в ваших кругах моей скромной особе, явно недостойной столь высокой чести, а потому возьму на себя смелость предположить, что ваши благочестивые единомышленники меня несколько переоценивают как... как филантропфа[133]. Скажу как на духу: мои запасы бутылочной фольги, коей так не хватает доблестным инвалидам всех стран, много меньше, чем может показаться на первый взгляд, и если меня в один прекрасный день все же угораздит — нет, нет, ради Бога, не беспокойтесь, без всякого злого умысла, уверяю вас! — вступить в какое-нибудь общество милосердия и, следуя моде, снискать репутацию доброго самаритянина, то, боюсь, даже этой моральной прививки будет явно недостаточно, чтобы «парализовать», гм, «преступный орган интернациональной проституции», — и здесь, дабы не быть превратно понятым, мне хотелось бы напомнить славный девиз: «Honni soit, qui mal y pense...»[134] Что же касается пятого пункта вашей благотворительной программы, мефрау, то и здесь от меня толку мало, скажу честно: я бессилен повлиять на «позорный курс», взятый растленными капитанами публичных домов и панели на «безнравственную торговлю женским телом», ибо, должен признаться, за всю мою жизнь мне так ни разу и не представилась приятная возможность свести близкое знакомство с неподкупными чиновниками полиции нравов. — А как насчет старых ненужных вещей, барон? Надеюсь, хоть это пожертвовать в пользу несчастных сирот в ваших силах? — А что, несчастные сироты так сильно нуждаются в ненужных вещах? Благодетельная дама как будто не расслышала этот иронический вопрос, а может, просто сделала вид. — Ну уж пару пригласительных билетов на большой осенний бал-маскарад вам придется у меня купить, барон! Предполагаемая выручка, перерассчитанная к следующей весне, вся без остатка пойдет на нужды инвалидов войны. Этот грандиозный благотворительный праздник, уж поверьте мне, барон, станет настоящей сенсацией: соберутся сливки общества, дамы в масках, шампанское, музыка!.. Кстати, хочу вас сразу предупредить, кавалерам, купившим не менее пяти билетов, герцогиня фон Лузиньян собственноручно прикрепит на фрак почетный орден милосердия! — Ну что ж, спору нет, в подобных костюмированных танцульках есть особая пикантность, — задумчиво согласился барон, — ибо где, как не на благотворительном маскараде, любовь к ближнему обретает истинно евангельский смысл, ведь, пожалуй, только здесь левая рука не ведает, что творит правая[135], а какое, должно быть, наслаждение испытывают от своей щедрости богатые, если они еще и растягивают его блаженным сознанием того, что всей этой облагодетельствованной ими нищей братии надо еще... дождаться заветной милостыни и, стало быть, дожить до следующей весны! Что же касается меня, мефрау, то, признаюсь, я не настолько эксгибиционист, чтобы вот так, в открытую, на глазах у всех, носить в петлице непристойное свидетельство своего пятикратного, публично содеянного акта сочувствия... Но, конечно, конечно, чего не сделаешь ради прекрасной дамы! — Итак, если я вас правильно поняла, барон, пять пригласительных билетов остаются за вами? — Пожалуйста, мефрау, но, если вас не затруднит, — четыре, не более! — Сударь, пожалуйста, сударь! Господин барон! — пролепетал чей-то слабый голосок, и худая грязная рука робко дернула барона Пфайля за рукав. Обернувшись, он увидел маленькую, бедно одетую девочку с ввалившимися щеками и бледными губами, которая, протиснувшись меж бочек с олеандрами, протянула ему какой-то конверт. В полной растерянности он уже полез было в карман за мелочью... — Дедушка... он там, на улице... просил передать... — Но кто ты, дитя мое? — понизив голос, спросил барон. — Дедушка... сапожник Клинкербок... просил передать... а я его внучка... — запуталась вконец смущенная девчушка. — Вот... Что господин барон ошибся. И вместо десяти гульденов... Ну за ту последнюю пару башмаков, помните?.. Заплатил тыс... Пфайль покраснел до корней волос и, чтобы заглушить слова малышки, энергично постучал серебряным портсигаром по столу, потом откашлялся и, пытаясь скрыть замешательство, поспешно сказал: — Да-да, конечно, вот тебе двадцать центов на дорогу. Получилось как-то неестественно громко и официально, и он, смягчив голос, прибавил, что все уже улажено, что ей надо идти домой, к деду, и главное — не потерять конверт. Тогда, словно в подтверждение сказанному девочкой, меж зарослей плюща мелькнуло на секунду мертвенно-бледное лицо какого-то старика — ну, конечно, нельзя же такую огромную сумму доверять ребенку, не дай Бог, по пути к кафе потеряет, вот дед и сопровождает свое дитя, — который, видно, только что услышал последние слова барона и от волнения так расчувствовался, что утратил дар речи и вместо благодарности издавал теперь лишь какие-то сдавленные хриплые звуки... Не обращая на происходящее ни малейшего внимания, эмансипированная дама извлекла из своего ридикюля какой-то свиток и, педантично зарезервировав за бароном четыре билета, холодно попрощалась... Некоторое время приятели сидели молча и, стараясь не смотреть друг на друга, с равнодушным видом барабанили пальцами по спинкам стульев. Слишком хорошо знал Хаубериссер своего друга, чтобы задавать какие-либо вопросы: гордый Пфайль все равно ничего не скажет — насочиняет всяких небылиц, лишь бы не запятнать свою безупречную репутацию светского шалопая тяжким подозрением в сентиментальном сочувствии какому-то нищему сапожнику. А потому Хаубериссер молчал, лихорадочно подыскивая подходящую тему, которая бы, само собой разумеется, не имела ничего общего ни с «благотравительностью», ни с ремонтом обуви, а кроме того, не казалась бы притянутой за уши. Это смехотворно простое дело с каждой минутой вырастало в мучительнуюпроблему. «До чего все ж таки трудно "поймать мысль", — подумал он, — и ведь ни один человек нисколько не сомневается в том, что мысли порождаются мозгом, увы, в действительности все наоборот: мысли вытворяют с нашим несчастным, измученным, неуклюжим сознанием черт знает что такое, — юркие, неуловимые, они куда более независимы, чем мы, люди». И тут его осенило: — Скажи-ка, Пфайль, — внезапно вспомнился тот жуткий лик, который привиделся ему в кунштюк-салоне, — скажи-ка, Пфайль (кому как не тебе с твоей эрудицией разрешить мои сомнения): уж не в Голландии ли возникла легенда о Вечном жиде? Пфайль подозрительно взглянул на приятеля. — Что это ты вдруг вспомнил о нем, уж не потому ли, что он был башмачником? — Вот те раз! Но каким образом? — Известно, что Вечный жид, настоящее имя которого Агасфер, был прежде обыкновенным иерусалимским башмачником. Когда Иисус в своем мученическом крестном пути на Голгофу— череп по-гречески— изнемог и хотел присесть и отдохнуть, Агасфер с проклятиями погнал его дальше. С тех пор ему самому отказано в покое — он должен скитаться, не зная смерти, до второго пришествия Христа. Заметив, как вытянулось у Хаубериссера лицо при слове «башмачник», Пфайль торопливо продолжил свой рассказ, лишь бы поскорее отделаться от проклятой темы: — В тринадцатом веке один английский епископ утверждал, что познакомился в Армении с неким евреем по имени Картафил, по словам которого, в определенные лунные фазы его плоть обновлялась и он на некоторое время уподоблялся Иоан ну Евангелисту — это о нем Христос сказал, что он «не вкусит смерти»...[136] В Голландии Вечный жид известен под именем Исаака Лакедема — так звали человека, который, проходя мимо каменного изваяния головы Христа, внезапно остановился и, вперив в священный образ безумный взор, принялся как одержимый выкликать: «Это он, он! Именно так он и выглядел!» Когда-то в музеях Базеля и Берна даже выставляли баш маки Агасфера — в одном левый, в другом правый — эдакие невообразимые бахилы, сшитые из шкур диких животных, длиною в метр и весом в центнер; нашли их по разные стороны одного из труднодоступных горных перевалов на итало-швейцарской границе и, не зная, как объяснить загадочное происхождение этих штуковин, пустили слух, будто бы они с ноги Вечного жида. Впрочем... — Пфайль нервно закурил сигарету, — впрочем, все это ерунда, интересно другое: дело в том, что за пару минут до того, как тебе пришла в голову странная идея спросить меня о Вечном жиде, пред моим внутренним взором внезапно возник портрет, — и притом необычайно явственно! — который я много лет назад видел в одной частной галерее Лейдена. Это был портрет Агасфера, и принадлежал он кисти неизвестного мастера: оливковый, словно отлитый из бронзы лик с черной повязкой на лбу производил невероятно жуткое впечатление — особенно глаза... Ни белков, ни зрачков, — как бы тебе это объяснить? — в общем, они походили на два провала, на две черные бездны. Долго еще преследовали они меня по ночам... Хаубериссер так и подскочил, однако Пфайль как будто этого не заметил и задумчиво продолжал: — Позднее я где-то прочел, что черная повязка на лбу считается на Востоке неотъемлемым атрибутом Вечного жида. Видимо, под ней и вправду скрывается пламенеющий крест, огонь которого вновь и вновь испепеляет мозг проклятого, стоит только тому достигнуть определенной степени совершенства. Ученые же считают, что эта непроницаемо темная завеса — лишь символический намек на какие-то таинственные небесные констелляции, в первую очередь связанные с Луной, потому-то Вечный жид и зовется Хадиром, то есть «Зеленым», только мне все это кажется полнейшей чепухой. Эта маниакальная страсть — все, что современному человеку представляется в древности темным и непонятным, истолковывать исключительно в терминах астрологии, — в последнее время, похоже, возродилась вновь; а ведь уже много лет она не давала о себе знать, и случилось это после того, как один француз, очевидно понимающий толк в хорошей шутке, опубликовал мистификационный трактат: мол, не было никакого Наполеона, и личность доблестного императора — это лишь мистериальное воплощение астрального мифа о солярном боге Аполлоне, а его двенадцать генералов не что иное, как профаническая персонификация двенадцати знаков Зодиака. Думаю, что древние мистерии скрывали куда более опасные знания, чем сугубо астрономические сведения о солнечных затмениях и лунных фазах, видимо, речь шла о феноменах, которые действительно было необходимо скрывать от непосвященных — кстати, сегодня в этом нет никакой нужды, ибо глупая толпа, слава Богу, все равно бы не поверила в их реальность и предала бы осмеянию всякого, кто осмелился не согласиться с ее приговором, — феноменах, подчиняющихся тем же гармоническим законам, что и космос. В общем как бы то ни было, а пока наши ученые мужи лишь бестолково колотят по пустому мешку и при этом даже не имеют в виду осла[137]. Хаубериссер погрузился в глубокое раздумье. — А что ты вообще думаешь о евреях? — спросил он после продолжительной паузы. — Гм. Что я могу о них думать? В своей массе — это воронье без перьев. Невероятно лукавы, черны, горбоносы и не умеют летать. Но конечно же время от времени и в их среде встречаются орлы, Спиноза, например... — Стало быть, ты не антисемит? — Что за вопрос, Фортунат, и как тебе только в голову такое пришло! Разумеется, нет, хотя бы только потому, что я слишком мало уважаю христиан. Евреев упрекают за отсутствие идеалов. Что же касается христиан, то если они и имеют оные, то несомненно фальшивые. Евреи ни в чем не знают меры: в законе и беззаконии, в благочестии и безбожии, в работе и безделии, вот разве что к альпинизму и гребле — сия разновидность водного спорта у них зовется «Gojjim naches»[138] — они безразличны, да еще, пожалуй, к пафосу, который эти скептики и вовсе ни во что не ставят; христиане же пафос явно переоценивают — за что и получали не раз рикошетом. Мне кажется, что если евреи в вопросах веры — это сплошной талмуд, то христиане — сплошной баламут. — А как, по-твоему, есть у евреев какая-нибудь миссия? — Конечно! Миссия — преодолеть самих себя. Другой миссии в этом мире нет и быть не может. Тот, кто позволил другому преодолеть себя, не исполнил своей миссии; а всякий, не исполнивший свою миссию, будет преодолен другими. Если человек преодолевает себя, то этого, как правило, никто не замечает, но стоит кому-то другому преодолеть его — и небо... вспыхнет алым заревом. Сей зловещий багрянец восторженный плебс именует «зарей прогресса». Ведь дураку и при взрыве бомбы главное — огненный фейерверк!.. А теперь извини, Фортунат, я должен откланяться, — прервал себя барон и взглянул на часы, — во-первых, наш разговор несколько затянулся, а мне как можно скорее надо вернуться домой, и, во-вторых, не в моих правилах часами напролет с умным видом изрекать прописные истины. Итак, сервус[139] — как говорят у нас в Австрии, имея в виду обратное, — и если я своей великомудрой болтовней еще не совсем надоел тебе, заезжай как-нибудь на днях ко мне в Хилверсюм[140]. Бросив на стол деньги для кельнера, он отвесил приятелю шутливый поклон и покинул кафе. Оставшись один, Хаубериссер попытался привести свои мысли в порядок. «Уж не сон ли это — тот самый, давешний, в салоне? — изумленно вопрошал он себя. — Как же так? Неужели через каждую человеческую жизнь тянется красной нитью череда каких-нибудь странных совпадений, или только со мной может случаться подобная чертовщина? Возможно, отдельные звенья событий лишь тогда сцепляются меж собой и образуют цельную, логическую цепь, когда их сцеплению не препятствуют различные "планы", которые мы, люди, только и делаем, что выдумываем на свою голову, а потом с идиотским упорством стараемся "претворять в жизнь", наверное, именно это постоянное вмешательство и рвет судьбу на отдельные, казалось бы ничем меж собой не связанные части, но ведь всего-то и делов — не препятствуй высшему Промыслу, и вилась бы себе сплошная, осмысленная, чудесно кованная цепь?..» По старой, всосанной с молоком матери привычке и на основании своего жизненного опыта, все еще сохранявшего для него видимость истинного критерия, он попытался было свести «странное совпадение» — а разве не странно, что один и тот же образ в одно и то же время возникает в сознании двух различных людей (его и барона Пфайля) ? — к такой темной и зыбкой материи, как передача мыслей на расстояние, и со спокойной душой поставить на этом точку, однако на сей раз ничего не вышло: с ним и раньше случалась всякая «чертовщина», но тогда без особого труда удавалось латать эти досадные дефекты на блистающих ризах здравого смысла каким-нибудь мало-мальски приемлемым теоретическим обоснованием, теперь же куцая теория слишком явно не покрывала зловеще зияющей прорехи. Воспоминания Пфайля об оливково-зеленом лике с черной повязкой на лбу, по крайней мере, имели под собой вполне реальную основу — портрет неизвестного мастера, висевший в Лейдене, — а вот откуда взялось жуткое видение того же самого оливково-зеленого лика в салоне Хадира Грюна? «В самом деле, что за нелепая оказия: на протяжении всего лишь часа дважды столкнуться с одним и тем же именем, да еще таким редким, как "Хадир", — сначала на вывеске какой-то в высшей степени подозрительной лавки, потом в лице легендарного Вечного жида? — размышлял Фортунат. — Впрочем, наверное, почти у каждого человека в жизни хоть раз случалось нечто подобное. Все ж таки удивительно — какое-нибудь совершенно незнакомое имя, которое даже не знаешь, как правильно произнести, ни с того ни с сего вдруг обрушивается на тебя со всех сторон, или же идешь по улице, поглядьшаешь на встречных прохожих и внезапно замечаешь, что каждый следующий все более походит на одного из твоих давным-давно забытых знакомых, и, наконец, через дом-другой, глядишь, и он сам, собственной персоной, выходит из-за угла! Обман зрения? Галлюцинация? В том-то и дело, что нет: копия, фотографический двойник, похожий на оригинал как две капли воды, — тут уж волей-неволей протрешь глаза! Хорошо, но каким, спрашивается, образом происходят такие "подмены"? А что, если и вправду у людей с похожей внешностью и судьба похожа? Ведь на каждом шагу убеждаешься в справедливости этого правила! Видимо, за всяким типом лица, телосложением, цветом волос, глаз и так далее закреплена своя судьба, которая является своеобразным сопутствующим явлением, изначально связанным с внешними данными человека каким-то фундаментальным законом соответствия, распространяющимся на любые, самые, казалось бы, незначительные мелочи. Шар может лишь катиться, кубик — кувыркаться, почему бы, следуя тем же, но только тысячекратно более сложным законам предопределения, не рассчитать жизненную траекторию такого тысячекратно более сложного объекта, как homo sapiens?.. Нет ничего удивительного в том, что астрология не только не канула в Лету, но и, напротив, процветает и что сейчас у нее, возможно, намного больше приверженцев, чем когда-либо прежде, ведь каждый десятый заказывает себе гороскоп; вот только современные горе-астрологи очень сильно ошибаются, полагая, что судьбу их на редкость доверчивых клиентов определяют те самые крошечные, красиво мерцающие огоньки, которые они с важным видом наблюдают на ночном небосклоне. В действительности же все решают констелляции совсем других "созвездий" — они плывут, погруженные в поток крови, завороженно кружа вокруг сердца по своим таинственным, сокрытым от глаз орбитам, и периоды обращения этих герметических планет значительно отличаются от их небесных соответствий: Юпитера, Сатурна... Ведь если бы жизненный путь зависел от одного только места и времени рождения, то как тогда объяснить, что у родившихся сросшимися сестер Плашек — а ведь они не то что в одну минуту, в одну секунду появились на свет! — судьба сложилась столь различно: одна стала матерью, другая так и осталась старой девой?» Какой-то господин, — белый фланелевый костюм с красным галстуком, лихо сдвинутая набекрень панама, неумело зажатый в мрачно тлеющем глазе монокль и короткие волосатые пальцы, унизанные огромными вульгарными перстнями, — уже довольно давно мостившийся в отдалении под прикрытием развернутой мадьярской газеты, встал и пересел за соседний столик, там ему не понравилось, и он сместился за другой; кочуя с места на место под предлогом вездесущего сквозняка, щеголь постепенно подобрался совсем близко к Хаубериссеру, который так глубоко ушел в свои мысли, что ничего не заметил. Пришел он в себя только после того, как шикарный господин нарочито громким голосом осведомился у кельнера о местонахождении модных амстердамских ресторанов и, гм, «прочих-с» достопримечательностей портового города, — прихотливые мысли, застигнутые врасплох впечатлениями внешней действительности, испуганно юркнули назад, в привычную темноту бездны. С первого же взгляда Хаубериссер узнал в этом нелепом завсегдатае злачных мест, неуклюже пытающемся выдать себя за только что сошедшего с поезда приезжего, «балканский тип» Циттера Арпада, «пневматического профессора» из кунштюк-салона. И хоть роскошных, закрученных вверх усов уже не было и бриолин струился по другому руслу, однако все эти новации не нанесли ни малейшего урона безукоризненно плутовской физиономии «пресбургского птицелова». Фортунат был слишком хорошо воспитан, чтобы хотя б одним только легким подрагиванием ресниц обнаружить свою осведомленность: пусть себе думает, что этот жалкий маскарад ему удался, так даже забавно — противопоставить тонкую хитрость светского человека топорным уловкам уличного фигляра, который всегда и везде свято уверен в своем искусстве перевоплощения, и потому лишь, что тот, кого он хочет ввести в заблуждение, не начинает тупо и пошло, как все комедианты, закатывать глаза, морщить лоб и чесать в затылке. В данном случае конечно же и речи быть не могло ни о каком чудесном «совпадении»: разумеется, он сам привел в кафе «профессора», который тайком шел за ним следом, замышляя какую-нибудь балканскую гнусность; и все же, на всякий случай, желая окончательно убедиться, что это ему, а не кому другому, предназначается сей неряшливый фарс, Хаубериссер сделал вид, будто собирается расплатиться и покинуть заведение. И тут же жуликоватая физиономия господина Арпада вытянулась с выражением самой неподдельной досады и замешательства. Фортунат удовлетворенно усмехнулся: «фирма Хадира Грюна, — а господин "профессор", судя по всему, является одним из ее деятельных соучредителей, — похоже, и вправду, серьезное предприятие, которое располагает самым широким ассортиментом вспомогательных средств, когда в интересах дела требуется не терять клиентов из поля зрения: тут тебе и волоокие барышни с благоуханными подмышками, и летающие пробки, и призрачные старики евреи, и всеведущие черепа, и рядящиеся в белоснежные одежды бездарные филеры! Во всяком случае, надо быть начеку!» — Любезнейший, а нет ли здесь поблизости какого-нибудь банка, где можно было бы обменять пару английских тысяче фунтовых банкнот на голландские гульдены? — небрежно и вновь нарочито громко бросил «профессор» кельнеру и, получив отрицательный ответ, пришел в негодование. — В Амстердаме, доложу я вам, крайне плохо обстоит дело с мелкими разменными деньгами, — пожаловался он для затравки и, обернувшись вполоборота к Хаубериссеру, добавил, пытаясь завязать разговор: — Возмутительно, даже в отеле мне пришлось порядком побегать, чтобы поменять эти чертовы фунты! Но сочувствия не нашел — Хаубериссер не проронил ни слова. — Да, гм, прямо-таки сбился с ног... Хаубериссер не поддавался. — К счастью, хозяин отеля знал мое родовое поместье... Позвольте представиться, граф Цихоньский. Честь имею, граф Влодзимеж Цихоньский... Фортунат едва заметно склонил голову и постарался пробурчать свое имя как можно неразборчивей, однако «граф» обладал феноменально острым слухом, ибо тотчас вскочил, в радостном возбуждении шагнул к столику и, заняв пустующее место Пфайля, восторженно воскликнул: — Хаубериссер? Как же, как же, премного наслышан, знаменитый конструктор торпед! Честь имею, граф Цихоньский, вы позволите, граф Влодзимеж Цихоньский! Чувствительно рад-с... Фортунат усмехнулся и качнул головой: — Вы ошибаетесь, к торпедам я не имею никакого отношения. «Холера ясна! — добавил он про себя в сердцах. — И дернуло же эту шельму прикинуться польским графом! В качестве "профессора" Циттера Арпада из Пресбурга твоя продувная особа пришлась бы мне как нельзя кстати: по крайней мере, я бы из тебя повытряс хоть что-нибудь о твоем зеленорожем компаньоне Хадире Грюне». — Нет? Жаль. Но, пардон, ведь это же ничего не значит. Да будет вам известно, что уже одно только имя «Хаубериссер» будит во мне дорогие сердцу воспоминания, — и голос «графа» дрогнул от волнения, — оно так тесно связано с историей нашего рода, что с ним сравнится разве что имя Эжена Луи-Жана Жозефа... «Сейчас ему очень хочется, чтобы я спросил, кто такой сей достопамятный Луи-Эжен Жозеф. Как бы не так!» — подумал Хаубериссер и равнодушно затянулся сигаретой. — Слушайте же: Эжен Луи-Жан Жозеф был моим крестным отцом. Нда-с. Гм. Ну, стало быть, крестил это он меня и в тот же самый день отправился в Африку... Там и погиб... «Не иначе как от угрызений совести», — хмыкнул про себя Фортунат и, сделав скорбное лицо, буркнул вслух: — Вот как, гм, погиб, значит... Какая жалость! — Да-да, какое горе, какая утрата, какой человек! Эжен Луи-Жан Жозеф! А ведь он мог стать королем Франции! «Кто бы это?» — Хаубериссер подумал, что ослышался. — Королем Франции?! — То-то и оно! — И, лучась от счастья, Циттер Арпад с достоинством разыграл свой главный козырь: — Извольте-с, принц Эжен Луи-Жан Жозеф Наполеон Четвертый... первого июня тысяча восемьсот семьдесят девятого года пал смертью храбрых в битве с зулусами. Я всегда ношу с собой его локон. — Шарлатан утер послушно набежавшую слезу и извлек золотые карманные часы размером с бифштекс — образец поистине дьявольской безвкусицы; открыв крышку, он гордо ткнул пальцем в клок какой-то черной свалявшейся шерсти. — Часы тоже от него. Подарок-с... На крестины... Чудесный механизм, доложу я вам! Трагически погибший крестный был мгновенно забыт, а его легкомысленное духовное дитя принялось хвастливо объяснять: — Нажмите здесь, и крышка автоматически откинется, сра ботает репетир, а хронометр покажет точное время, сей секунд с обратной стороны откроется потайное окошко-с, видите?.. А за ним голую, хе-хе-с, парочку тоже видите?.. Каково?! Любовным утехам предаются! Эта кнопочка включает секундомер, а эта его отключает, если же ее надавить сильнее, то на циферблате, вот здесь, выпрыгнет сегодняшняя фаза луны, а если еще сильнее, то — дата. Видите рычажок? Поверните его налево — и из этой дырочки просочится маленькая капелька благоуханного мускуса, поверните направо — и бравурные звуки «Марсельезы» разбудят вас в любое время дня и ночи. Не правда ли, дорогой Хаубериссер, царский подарок?! Ювелирная работа! Музейная редкость! Во всем мире существуют лишь два экземпляра таких часов! — И то слава Богу! — двусмысленно брякнул Фортунат, с трудом сохраняя серьезную мину. Эта гремучая смесь поистине беспредельной наглости и полнейшего незнания элементарных правил хорошего тона приводила его в восторг. Ободренный дружеским участием собеседника, «граф» Цихоньский разоткровенничался — поведал для начала о своих необозримых владениях, затерявшихся в бескрайних просторах польско-русских губерний и в настоящее время, увы, опустошенных войной (к счастью, сие прискорбное обстоятельство нисколько не поколебало финансовую твердыню ясновельможного пана, ибо благодаря давнишним, хорошо налаженным связям с американскими деловыми кругами он ежемесячно получает от широкомасштабных спекуляций на Лондонской бирже свою кровную пару тысяч фунтов), а потом заговорил о скачках и продажных жокеях, о сгорающих от страсти дочерях миллиардеров, которые дюжинами ходили вокруг него, умоляя подыскать хоть какого-нибудь мужа, о смехотворно дешевых земельных участках в Бразилии и на Урале, о гигантских, никому неведомых месторождениях нефти на Черном море, об «ужжасных», известных только ему одному изобретениях, гарантирующих ежедневную прибыль в размере миллиона, о несметных, сокрытых в Германии сокровищах, хозяева которых либо сбежали, либо погибли, о беспроигрышной системе игры на рулетке, — таинственно приглушив голос, нашептывал о колоссальных гонорарах, выплачиваемых японцами тем, кто согласен на них шпионить (сумма перечисляется тут же, надо только открыть депозит!), о подземных увеселительных заведениях крупнейших столиц мира, куда имеет доступ лишь очень узкий круг избранных, даже золотую страну Офир царя Соломона, которая, как ему доподлинно известно из секретных бумаг почившего в Бозе Эжена Луи-Жана Жозефа, расположена в Зулуссии, расписал во всех подробностях. Он очень напоминал свой будильник, только был еще более многофункциональным — разбрасывал направо и налево тысячи наживок, одна нелепей другой, пытаясь во что бы то ни стало выловить свою золотую рыбку; подобно близорукому взломщику, безуспешно примеряющему отмычку за отмычкой к замочной скважине сейфа, ощупывал «профессор» душу Хаубериссера, однако ни малейшей лазейки, через которую он мог бы проникнуть внутрь, не обнаруживал. Умаявшись, сделал вид, что сдался, и конфиденциальным тоном попросил Хаубериссера отвести его в какой-нибудь приличный игорный дом; но и тут его надеждам не суждено было оправдаться: инженер извинился, сославшись на то, что сам в Амстердаме без году неделя и ничего не знает. «Профессор» разочарованно хлебнул своего черрикоблера и сник окончательно. Фортунат с холодным любопытством наблюдал за ним: «А не лучше ли прямо сказать ему, что он шарлатан?.. Но если расскажет мне о себе, может рассчитывать на некоторую сумму?.. Судя по всему, жизнь этого субъекта была весьма пестрой. Через какую, должно быть, грязь пришлось ему пройти! Ну он-то, разумеется, наврет с три короба для начала, а там и хамить начнет. — Какая-то невесть откуда взявшаяся горечь поднималась в нем. — До чего все ж таки скучно на этом свете! Повсюду одна шелуха, горы пустой шелухи, а стоит только наткнуться на что-либо похожее на живой орех, достойный усилий, потребных на то, чтоб его разгрызть, — глянь, а это мертвая галька...» — Жиды! Хасиды! — презрительно зашипел ряженый и указал на группу закутанных в лохмотья людей — бородатые мужчины в рваных черных кафтанах впереди, женщины с увернутыми в грязные тряпки детьми на спинах позади; молча шли они по улице, вперив безумные, широко открытые глаза куда-то в пустоту. — Переселенцы. Ни цента за душой. А ведь, поди, уверены, что, стоит им только ступить на берег, и воды морские расступятся пред ними[141]. Фанатики! Недавно в Зандворте целая орава таких вот сумасшедших едва не утонула. Пусть благодарят своего Бога за то, что их вовремя заметили и вытащили из воды!.. — Неужели правда? — А вы как думали? Все газеты об этом писали. Религиозное безумие, говорят. Оно, безумие это, сейчас всюду, куда ни глянь. Настоящая эпидемия! До сих пор ее жертвами становились такие вот оборванцы, но ничего, это только начало, хе-хе-с, — и хмурая физиономия Циттера на миг просияла при мысли, что уже недалек тот день, когда и на его улицу придет праздник, — и скоро зараза перекинется на богатеньких. Уж я-то знаю-с! Обрадованный, что Хаубериссер наконец-то клюнул, аферист с новыми силами заработал языком: — Не только в России, где вдруг, как из-под земли, на свет повылазили всякие юродивые Распутины да Иоанны Сергеевы, но и по всему миру распространились бредовые слухи... О чем бы вы думали? О пришествии Мессии! Даже среди африканских зулусов началось брожение... У них там тоже, знаете ли, объявился какой-то негритос — называет себя «черным Илией» и прельщает местных олухов невиданными чудесами. На сей счет я располагаю абсолютно точными сведениями от Эжена Луи... — Циттер поперхнулся и быстро поправился, — от одного... от одного... приятеля... Как бишь его? Ну это не важно... Он недавно охотился в тех краях на... на леопардов. Да что приятель, я и сам знаком с ихней знаменитостью... Зулусский вождь! Нас представили в Москве. — Мошенник вдруг занервничал, и в его голосе зазвучали ревнивые нотки. — Чтоб его черти взяли, но если б я своими собственными глазами не видал, то ни за что бы не поверил! Подумать только, этот черномазый, полнейший профан по части трюков, действительно владеет — клянусь, это такая же правда, как и то, что я здесь сижу! — приемами магии. Да-да, магии! Не надо смеха, дорогой Хаубериссер, я сам это видел, а уж меня, смею вас уверить, ни одному шарлатану в мире не обвести вокруг пальца! — В возбуждении «профессор» совсем позабыл о роли графа Цихоньского. — Я в этих делах собаку съел. Но вот как он это делает — черт его знает! Болтает, мерзавец, будто у него есть какой-то идол, так вот, если его призвать, идолище это поганое, то сразу станешь неуязвимым для огня. Любое пламя будет тебе нипочем, хоть в геенну огненную сходи!.. И вправду, этот чертов негритос раскалял добела здоровенные булыжники — господин, я сам проверял их! — и эдак не спеша прогуливался по ним босиком... И хоть бы что, на ступнях ни пятнышка от ожогов! И снедаемый черной завистью, прощелыга принялся грызть ногти, бормоча себе под нос: — Ну ничего, погоди, мошенник, уж я выведу тебя на чистую воду! Внезапно опомнившись, он засуетился, опасаясь, что зашел слишком далеко, и, поспешно напялив вновь маску польского графа, поднял бокал: — Прозит, дорогой Хаубериссер, прозит, прозит! Чем черт не шутит, быть может, и у вас случится оказия увидеть его, зулуса этого. Слышал я, будто он теперь в Шотландии, при строился к какому-то шапито. Холера ясна, да что это я, в самом деле, уж, наверное, все уши вам прожужжал черномазым этим! А не закатиться ли нам сейчас, душа моя, в какую-нибудь ресторацию по соседству?.. Хаубериссер быстро встал: в отличие от «профессора» Циттера Арпада «граф» Цихоньский и этот фамильярный тон его никоим образом не устраивали. — Сожалею, ясновельможный пан, но на сегодня я пас. Дела, знаете ли! Как-нибудь в другой раз. Адье. Был очень рад... Ошарашенный столь внезапным прощанием, «ясновельможный» застыл с открытым ртом и, так и не успев издать ни звука, лишь проводил свою сорвавшуюся с крючка добычу изумленным взглядом.Глава III
Смутное, безотчетное, невесть откуда взявшееся беспокойство гнало Хаубериссера по улицам. Проходя мимо цирка, в котором выступала зулусская труппа Узибепю — ее-то, разумеется, и имел в виду Циттер Арпад, — он на мгновение замедлил шаг и задумался, не взглянуть ли на аттракцион, но тут же оставил эту затею. Какое ему дело до какого-то чернокожего с его африканской магией?.. В конце концов, ведь не праздное любопытство и не жажда экзотики преследовали его, вселяя в душу странную тревогу! Нечто неопределенное, бесплотное, безобразное, зыбкой туманной дымкой висевшее в воздухе, подхлестывало нервы — та самая незримая ядовитая аура, которая еще прежде, до поездки в Голландию, временами обволакивала его такой плотной, непроницаемо удушливой ватой, что в голове сами собой начинали роиться мысли о самоубийстве. И что это вдруг на него снова нашло? Прямо как заразился... Уж не от тех ли еврейских беженцев, которые проходили по улице?.. «Должно быть, есть меж нами что-то общее, мы, похоже, подвержены одному и тому же неведомому влиянию, которое заставило этих религиозных фанатиков скитаться бесприютными по свету, а меня — покинуть родину; вот только мотивы у нас разные...» Этот подспудный душевный гнет Фортунат ощутил задолго до войны, но тогда его еще можно было как-то рассеять работой или удовольствиями; долгое время он принимал его за дорожную лихорадку, за капризную пресыщенность болезненных нервов, за неизбежное следствие своего неправильного образа жизни и лишь позднее, когда кровавое знамя поднялось над Европой, — за предвестника грядущей бойни. Но почему же сейчас — ведь война уже кончилась! — напряжение продолжает нагнетаться, изо дня в день все больше перерастая в отчаянье? И это не только с ним — почти каждый, с кем он заговаривал, рано или поздно признавался, что и его преследует гнетущее чувство безысходности. Все они — и он тоже — утешали себя тем, что с окончанием войны мир вернется и в их души, случилось, однако, наоборот... Да разве могли объяснить столь загадочное явление банальные теории тех скудоумных «экспертов», у которых всегда на все случаи жизни найдется под рукой какой-нибудь тривиальный ответ? Они и на сей раз, не мудрствуя лукаво, попытались списать этот темный, исподволь закравшийся в души лихорадочный ужас на отсутствие привычного довоенного комфорта, однако истину следовало искать много глубже... Призраки, гигантские, бесформенные, свидетельствующие о себе разве что смертью, голодом и разрухой — невидимые участники тайных заседаний, алчной сворой теснящиеся вокруг крытых зеленым сукном столов, за которыми циничные честолюбивые старцы решают судьбы мира, они собрали свой страшный многомиллионный урожай и до поры до времени впали в спячку; но сейчас проснулся самый страшный из всех фантомов — уже давно тлетворный дух загнивающей «культуры» щекотал его ноздри, — и поднял из бездны личину Медузы, и рассмеялся в лицо одураченному человечеству, ибо то, что люди принимали за прогресс, ради чего мучились, страдали и приносили неисчислимые жертвы, оказалось огромным пыточным колесом, которое эти слепцы вращали в безумной надежде снискать для грядущих поколений свободу и которое они теперь, несмотря на все свои «знания», на веки вечные обречены приводить в движение. В последнее время Хаубериссеру как будто удалось обмануть себя: следуя одной странной, но, как ему казалось, спасительной идее, посетившей его однажды, он бросил все, оставил родину и, поселившись в городе, который стечением обстоятельств за одну только ночь превратился из более или менее респектабельного центра мировой торговли в арену интернационального разгула самых диких и необузданных инстинктов, стал вести жизнь отшельника, непричастного к царившей вокруг вакханалии; до известной степени он сумел-таки осуществить свой план, и все бы ничего, если б не какая-то малость, пустяк, растревоживший старую рану, и вот прежнее отчаянье нахлынуло вновь и теперь, в общей сумятице бестолково и бессмысленно мечущихся в поисках выхода толп, захлестнуло его с удесятеренной силой. Как будто внезапно прозрев, он ужаснулся выражению лиц кишевшей вокруг людской массы. Смотрел и не находил в этих искаженных пороком и паническим страхом гримасах ничего общего с хранившимися в его памяти беззаботными и улыбчивыми чертами тех, кто спешил на представление удовольствия ради, чтобы от души посмеяться после тяжелого трудового дня! В обступивших его масках запечатлелись первые, еще только намечающиеся признаки необратимого злокачественного процесса духовного отторжения, который прогрессировал с устрашающей быстротой, поражая здоровые ткани мертвящими метастазами потерянного никчемного существования. Простая естественная борьба за выживание не оставляет на лицах таких зловещих складок и морщин. Фортунат невольно вспомнил старинные гравюры с изображениями разнузданных оргий, бушевавших в средневековых городах во время нашествия чумы, вспомнил птиц — в предчувствии землетрясения они незадолго до первых толчков взмывали в воздух и, охваченные неизъяснимым ужасом, гигантской черной стаей потерянно и сиротливо кружили в мертвой тишине над покинутой землей... Кареты, одна роскошней другой, теснились у входа в цирк, новые все подъезжали и подъезжали, лакеи едва успевали распахивать резные дверцы, а сгорающие от нетерпения дамы и господа уже выскакивали на скользкую мостовую и устремлялись к балагану с такой лихорадочной поспешностью, как будто там, внутри, решался вопрос жизни и смерти: усыпанные бриллиантами французские баронессы, подобно уличным кокоткам похотливо кривящие тонкие точеные черты, стройные, безукоризненно корректные англичанки, еще совсем недавно принадлежавшие к высшему свету, а теперь бесстыдно шествующие под руку с какими-то разбогатевшими за одну ночь безродными биржевыми спекулянтами с крысиными глазками и зубами гиен, меланхоличные русские княгини, бледные, воспаленные, трепещущие от бессонницы и болезненного возбуждения, — нигде и следа прежней ледяной аристократической невозмутимости, все сметено прибойными волнами духовного потопа. Мрачным предзнаменованием грядущих катастроф из шатра с правильными интервалами, то устрашающе громко, то вдруг снова как бы издалека, заглушённый толстыми складками прикрывающего вход брезентового полога, доносился надрывный вой диких бестий, и на улицу изливался терпкий запах хищных зверей, дамских духов, сырого мяса и конского пота... Вдохнув эту ни с чем не сравнимую смесь, Хаубериссер вздрогнул, и пред его внутренним взором возникла картина воспоминаний: огромный бурый медведь, кротко и тоскливо смотревший из зловонной клетки странствующего зверинца, — с левой лапой, прикованной к прутьям решетки, он был воплощением какого-то страшного, поистине безграничного отчаянья, ему оставалось лишь переступать с ноги на ногу — непрерывно, изо дня в день, неделями, месяцами... Через год Фортунат встретил его вновь в каком-то передвижном балагане. «Ну почему же, почему я не выкупил его?» — обожгло мозг — мысль, которую он уже сотни раз гнал от себя и которая вновь и вновь нежданно-негаданно бросалась на него из своего тайного убежища, облаченная в одни и те же пылающие ризы кровоточащей совести, такая же юная и непримиримая, как и в тот день, когда он впервые заглянул в печальные звериные глаза, — казалось бы, совсем крошка, лилипут, мелочь в сравнении с теми куда более «значительными» прегрешениями, коих предостаточно в жизни каждого человека — потому-то, наверное, с ней сначала мирятся, потом уживаются, а там, глядишь, и благополучно забывают, — однако лишь перед ней одной, пред этой ничтожной песчинкой, оказалось бессильным всемогущее время. «Тени мириадов убитых и замученных зверей прокляли нас, и кровь их взывает об отмщении! — разрозненные обрывки каких-то смутных догадок и неопределенных расплывчатых предчувствий сгустились на миг в твердую уверенность. — Горе нам, людям, если на Страшном Суде душа хотя бы одной-единственной лошади будет присутствовать на стороне обвинения!.. Ну почему, почему, почему я не выкупил его?!» Всякий раз, когда в памяти возникали глаза несчастного мишки и на душе становилось совсем скверно, Фортунат прибегал к испытанному аргументу, сводившемуся к тому, что освобождение медведя было бы так же бессмысленно, как если б какая-нибудь песчинка в бескрайней пустыне перевернулась случайно на другой бок. «А собственно, что не бессмысленно было в жизни моей? — задумался он, окидывая мысленным взором прожитые годы. — Грыз гранит науки и света белого не видел, создавая машины, делал мертвые механизмы, которые давным-давно превратились в груду ржавого металла, и не замечал, как страдают другие, не помогал им, чтобы хоть они могли радоваться белому свету, — в общем, трудился не покладая рук, внося свою лепту в дело Великой бессмысленности». Фортунат с трудом прокладывал себе путь в напирающей толпе; выйдя на свободное место, подозвал извозчика и велел ехать за город: от внезапной тоски по упущенному когда-то солнечному свету заныло под сердцем... Колеса с невыносимой медлительностью скрежетали по мостовой, а багровеющее светило уже клонилось за горизонт; в нетерпении он хотел было раздраженно прикрикнуть на своего флегматичного возницу, но вовремя сдержался. Наконец перед ним простерлась сочная зелень убегающих в бесконечность равнин, педантично разграфленных в клетку коричневыми, идеально ровными линиями каналов, по зеленеющим квадратикам были разбросаны тысячи пятнистых коров, у каждой на спине, как защита от вечернего холода, лежал матрац, а меж ними неторопливо копошились голландские крестьянки в белых чепцах, с медными барашками накрученных на уши кос и с сияющими чистотой подойниками в руках — эта мирная картина казалась неверным отражением в огромном бледно-голубом мыльном пузыре, и тощие ветряные мельницы с их черными крестообразными крыльями выделялись на зыбком и эфемерном фоне как первые зловещие предвестники надвигающейся вечной ночи. Простертые в изнеможенье низины как будто спали глубоким непробудным сном, нога смертного, видно, никогда не ступала в сии заповедные пределы, вот и он мог ехать только по кромке, по узкой проселочной дороге, отделенный от изумрудных пастбищ роковой полоской воды, алой в последних лучах заходящего солнца. От запаха стоялой воды и свежескошенных трав беспокойство, владевшее Фортунатом, незаметно улеглось и тихая умиротворенная печаль воцарилась в душе. Потом, когда на лугах сгустились тени и над землей стал подниматься серебристый туман, так что стада теперь словно плыли на облаке, он внезапно необычайно явственно ощутил себя узником, заточенным в одиночную камеру своего собственного черепа, — сидит, приникнув к глазным хрусталикам как к толстым, постепенно темнеющим оконным стеклам, и смотрит на волю, прощаясь с нею навсегда... Город был окутан вечерними сумерками, и гулкий перезвон, доносившийся с многочисленных, причудливой формы колоколен, надолго повисал в туманной дымке, когда по обеим сторонам дрожек потянулись ряды домов. Хаубериссер отпустил извозчика и пешком двинулся в направлении своей улицы; путь пролегал через кривые угрюмые переулки, вдоль грязных запущенных грахтов, в которых посреди гнилых яблок и нечистот неподвижно чернели неуклюжие плоскодонные челны, под нависающими над тротуаром низкими, закопченными фронтонами, ощетинившимися ржавыми стрелами лебедок, мимо беспризорных, забытых всеми отражений, зябко съежившихся в мертвенно-тусклом зеркале стоячей воды... То и дело приходилось обходить компании сидящих прямо посреди улицы мужчин — все как один в синих широких штанах и красных кителях, они выносили из домов колченогие стулья и, лениво развалившись, молча и сосредоточенно курили свои длинные глиняные трубки, тут же неподалеку болтали женщины, зашивая сети, и шумные ватаги детворы носились по мостовой. Из открытых настежь дверей тянуло запахом дешевой рыбы, трудового пота и серых, постылых будней; Фортунат, спешивший миновать эти убогие кварталы, ускорял шаг и выходил на какую-нибудь площадь с непременными жаровнями вафельщиков, чадившими так, что смрад пригорелого жира еще долго преследовал его в глубине узких и сырых переулков. Унылая безысходная тоска портового голландского города с его чисто выскобленными тротуарами и отвратительно грязными каналами, с его скупыми на слова жителями, блеклыми вышивками на раздвижных окнах чахлых, узкогрудых домов, скучными сырными и селедочными лавками, вечно коптящими керосиновыми фонарями и остроконечными красно-черными крышами навалилась вдруг на него и стиснула грудь тугим неподатливым обручем. На мгновение захотелось уехать прочь, подальше от этого угрюмого замкнутого Амстердама, в памяти возникли светлые и веселые города, в которых он жил раньше, и его неудержимо потянуло туда, в прежнюю и, как ему вдруг показалось, счастливую жизнь — впрочем, прошлое всегда кажется лучше настоящего, — но последние, вынесенные с родины впечатления слишком глубоко врезались в душу, и проснувшаяся было ностальгия мигом улетучилась под натиском нахлынувших воспоминаний о том чудовищном распаде, который царил на улицах и в умах этих беззаботно веселящихся метрополий. Он миновал железный мост, ведущий через грахт в центральные кварталы, пересек оживленную, залитую светом улицу с нарядными витринами и, пройдя еще несколько шагов — этот город умел молниеносно менять свои маски, — очутился в каком-то грязном и темном закоулке... Старинная амстердамская «Нес»[142], пользующаяся дурной славой улица проституток и сутенеров, придя с годами в полнейшее запустение, внезапно, подобно заразной болезни, дающей самые неожиданные осложнения, проявилась здесь, в центральной части города, с теми же отвратительными симптомами, ну, может быть, не столь грубыми и откровенными, но от этого куда более опасными. Все отребье, которое извергали Париж, Лондон, бельгийские и русские города, все те, кто в страхе перед законом или кровавыми ужасами революций садился на первый попавшийся поезд и без гроша в кармане покидал свою родину, оседали здесь, в тутошних «паариличных» заведениях. Грузные, величественные швейцары в длиннополой синей униформе — золотые позументы треуголок, жезлы с массивными медными набалдашниками — молча, как автоматы, открывали тяжелые, обитые кожей двери, и полоска яркого, какого-то мертвенного света на миг рассекала темноту под дикие, словно исторгнутые преисподней звуки: пронзительные вопли негритянского джаз-банда, неистовый грохот барабанов или надрывное рыдание цыганских скрипок... Выше, на вторых и третьих этажах, за кокетливыми красными занавесками таилась иная жизнь — скрытная, настороженная, по-кошачьи вкрадчивая... Вот чьи-то пальцы быстро пробарабанили по стеклу, то здесь, то там — полузадушенный, поспешно оборванный стон, какие-то приглушенные оклики, торопливая скороговорка всех языков мира, которая всегда, на каком бы экзотическом наречии она ни велась, предельно понятна, а вот обезглавленное женское тело в белом неглиже — головы во мраке не видно — свешивается с подоконника и машет кому-то рукой, и снова — ряды открытых, черных как сажа окон, и... и мертвая тишина, будто там, в номерах, поселилась смерть. Угловой дом в самом конце этого бесконечно длинногопереулка казался сравнительно безобидным — судя по многочисленным, расклеенным по стенам афишам, что-то среднее между кабаре и рестораном. Хаубериссер вошел. Переполненная людьми зала с круглыми столами, покрытыми чем-то желтым, мерно жующие челюсти, звон бокалов... На заднем плане возвышалась небольшая эстрада с дюжиной сидящих полукругом в ожидании своей очереди шансонеток и комиков. Пожилой мужчина с раздутым животом, неестественно правильной, шарообразной формы, и приклеенными на висках огромными выпученными глазищами деловито шушукался, болтая тонюсенькими рахитичными ножками, затянутыми в ядовито-зеленое трико с лягушачьими перепонками, со своей соседкой, французской куплетисткой, облаченной в нечто невообразимое, а публика, занятая поглощением пищи, рассеянно внимала тем незамысловатым штучкам, которые «откалывал» на ломаном немецком языке какой-то стоящий на авансцене актеришка на характерные роли, переодетый польским евреем, — в длинном кафтане и сапогах, он держал наперевес здоровенный стеклянный шприц — такими обычно прочищают серные пробки в ушах — и гнусавым, насморочным голосом напевал, после каждого куплета выделывая коленца в гротескном «тэнце с шэпагами»: — Я-ах приктикую с трех до четрех и визвращаюсь на свой шесток; кэк спесьялист известен бысть прифессор Файгльшток... Хаубериссер огляделся в поисках свободного места: кругом — яблоку негде упасть, публика — в основном представители среднего класса — сидела вплотную, плечом к плечу, и лишь за одним столом в самом центре бросались в глаза два пустующих места. Три зрелые полнотелые женщины восседали с постными лицами, скромно потупив очи к лежащему на коленях вязанию, перед одиноко маячившей посреди стола чашкой кофе, накрытой красным шерстяным колпачком в виде петушиного гребня, при них четвертая — в летах, совсем седая, со строгим, бдительным взглядом из-под массивных роговых очков, съехавших на кончик хищного носа; неторопливо сновали спицы — было в этой группе что-то основательное, нерушимое, благонадежное, издали она казалась мирным островком домашнего уюта. Окинув Фортуната оценивающим взором, старуха благосклонно кивнула, позволяя ему сесть. В первое мгновение он принял этих четырех за мать с овдовевшими дочерьми, однако, присмотревшись поближе, понял, что они едва ли были связаны родственными узами. Те три, что помоложе, хотя и не походили друг на друга, тем не менее производили впечатление типичных голландок — упитанные блондинки лет сорока пяти, флегматичные, по-коровьи сонные и медлительные, — а вот родина седовласой матроны находилась, очевидно, много южней... Юркий кельнер поставил перед ним бифштекс и чему-то ухмыльнулся, сидящая вокруг публика переглядывалась и, смущенно посмеиваясь, обменивалась тихими замечаниями — что бы все это значило?.. Хаубериссер никак не мог понять причину этой общей веселости, тайком покосился на своих соседок — нет, невозможно, они являли собой живое воплощение чинной, непроницаемо серьезной мещанской добродетели. Уже один только степенный возраст служил залогом их благопристойности. В это время на эстраде какой-то жилистый рыжебородый хлюст в звездном цилиндре, куцых бело-голубых полосатых штанишках, из кармана которых торчала дохлая утка, и с огромным будильником, болтающимся на тесном жилете в коричневую и зеленую клетку, под бравурные звуки янки-дудл проломил-таки лысую башку своему коллеге, тому самому пучеглазому, животастому «лягушатнику», а вышедшая им на смену супружеская пара роттердамских старьевщиков затянула «met pianobegeleiding»[143] старинную сентиментальную песню о вымершей «Zandstraat»:[144] Zeg Rooie, wat zal jij verschrikken Als jij's thuis gevaren ben: Dan zal je zien en ondervinden Dat jij de Polder nie meer ken. De heele keet wordt afgebroken, De heeren krijgen nou d'r zin. De meiden motten nit d'r zaakies De Burgemeester trekt erin[145]. Растроганная, как будто это был протестантский хорал — заспанные, бледно-голубые глаза трех дородных голландок блестели от навернувшихся слез, — публика бубнила, подпевая: Ze gaan de Zandstraat netjes maken 't Wordt 'n kermenadebuurt De huisies en de stille knippies Die zijn alan de Raad verhuurd. Bij Nielsen ken je nie meer dansen Bij Charley zijn geen meisies meer. En mo eke Bet draag al'n hoedje Die wordt nu zuster in den Heer[146]. Беспорядочно, без каких-либо пауз, с калейдоскопической быстротой, от которой рябило в глазах, сменялись номера программы: устрашающе невинные английские Babygirls в пуделиных кудряшках, роковые апаши, препоясанные кроваво-алыми шерстяными шалями, сирийская исполнительница танца живота, набитая жгутами эластичных, причудливо перевитых кишок, толстые как пивные бочки имитаторы колоколов и краснощекие здоровяки-баварцы, бодро отрыгивающие лужеными глотками мелодичные австрийские рулады... Но странно, от этого пестрого набора бессмысленностей, казалось, исходила какая-то колдовская сила, усмиряющая нервы подобно наркотику, в этой аляповатой галиматье было что-то от детских игрушек, и лечила она усталое от жизни сердце получше возвышенных произведений искусства. Время пролетело как во сне, и только в заключительном апофеозе, венчающем представление, когда труппа в полном составе промаршировала со сцены с развернутыми знаменами всех стран — сие триумфальное шествие, видимо, должно было символизировать благополучно заключенный мир и крепнущую солидарность народов планеты — и пританцовывающем в кекуоке негром во главе с неизбежным: Oh Susy Anna Oh don't cry for me I'm goin' to Loosiana My true love for to see[147], только тогда Хаубериссер пришел в себя и, оглянувшись, с изумлением увидел, что, поглощенный зрелищем, даже не заметил, как большая часть зрителей уже покинула залу; помещение было почти пустым. Грузные, пышнотелые соседки тоже исчезли — бесшумно, словно испарились... И как трогательный прощальный подарок на его бокале лежала нежно-розовая визитная карточка с двумя целующимися голубками и надписью: МАДАМ ГИТЕЛЬ ШЛАМП Всю ночь для приватных: визитов площадь Ватерлоо, 21 15 дам!!! В собственных апартаментах! Так вот оно что!.. — Не желает ли господин продлить входной билет? — деликатно, вполголоса осведомился кельнер, потом, проворно сменив несвежую тряпицу цыплячьего цвета на белоснежную камчатую скатерть, водрузил в середину вазу с тюльпанами и разложил серебряные приборы. Где-то под потолком натужно загудел мощный вентилятор, вытягивая наружу нечистый плебейский воздух. Слуги в ливреях опрыскали помещение благовониями, бархатная дорожка раскатала свой багровый язык через всю залу до самой эстрады, появились клубные кресла из добротной серой кожи... А с улицы уже слышался скрип подъезжающих экипажей и сытое урчанье дорогих авто. Дамы в изысканно-элегантных вечерних туалетах и облаченные во фраки господа устремились в залу: тот самый интернациональный высший свет, который Фортунат видел вечером у цирка. Через несколько минут не осталось ни одного свободного места. Залу было не узнать: тихое позвякиванье цепочек на лорнетах, приглушенный смех, вкрадчивый шелест шелковых юбок, аромат тубероз и надушенных дамских перчаток, таинственные переливы жемчужных ожерелий и сверкающие вспышки бриллиантовых слез, шипение шампанского, влажный шорох подтаявшего льда в серебряных ведерках, заливистый лай болонки, мраморные, слегка припудренные женские плечи, ажурная пена кружев, сладковато-пряный запах кавказского табака... И вновь за столом Хаубериссера сидели четыре дамы: самая старшая с золотым лорнетом, остальные три помоложе, одна красивей другой — это были русские с узкими нервными запястьями хрупких точеных рук, великолепные белокурые волосы странно контрастировали с надменными, никогда не мигающими темными глазами, которые не снисходили до того, чтобы избегать нескромных мужских взглядов, — они их просто не замечали. Какой-то молодой англичанин, чей фрак за версту выдавал лучшего лондонского портного, проходя мимо, остановился на минутку, чтобы обменяться с соседками Фортуната парой любезных фраз — тонкое, благородное, смертельно усталое лицо с моноклем, словно вросшим в глубокую глазную впадину, левый рукав, пустой до самого плеча, свободно свисал вниз, еще больше подчеркивая почти противоестественную худобу высокой сухощавой фигуры. Вокруг сидели те, к кому мещане всех стран спокон веку питают врожденную ненависть, подобно тому, как кривоногая деревенская дворняжка ненавидит статного породистого пса, — кто всегда остается загадкой для широких масс, предметом их всегдашнего презрения и одновременно черной мучительной зависти, — кто может и глазом не моргнув искупаться в крови и упасть в обморок при звуке вилки, царапающей по тарелке, — кто от одного лишь косого взгляда хватается за пистолет и невозмутимо усмехается, когда его ловят на нечистой игре, — кто каждый день изобретает какой-нибудь новый порок, от которого у добропорядочного бюргера волосы встают на голове дыбом, и предпочитает три дня изнывать от жажды, чем выпить из чужого стакана, — кто верит во Всевышнего всем своим существом и тем не менее отпадает от Бога, считая Его неинтересным, — кого просвещенные простолюдины называют «надменными пустышками», с тупой самоуверенностью принимая за внешний лоск то, что в действительности, выпестованное многими поколениями предков, стало истинной сутью этих качественно иных существ, которые уже не являются ни «полными», ни «пустыми», — создания, у которых больше нет души, и, стало быть, понятие «отвратительный» к ним неприменимо, оно для толпы, которая изначально отвращена, ибо никогда не имела души, — аристократы, готовые скорее умереть, чем просить пощады, они, движимые безошибочным инстинктом крови, мгновенно, под любым обличьем, угадывают плебс, ставя его ниже животного, и первые беспрекословно склоняются пред самым низким подонком, когда тот по воле изменчивого случая вдруг оказывается на троне, — сильные мира сего, они становятся беспомощней ребенка, стоит только слегка нахмуриться судьбе, — беспощадные орудия Сатаны, они одновременно его любимые игрушки... Невидимый оркестр отыграл последние такты свадебного марша из «Лоэнгрина». Пронзительно зазвенел звонок. Все стихло. Над эстрадой высветилась надпись, образованная крошечными электрическими лампочками: La Force d'Imagination![148] Потом из-за занавеса вышел какой-то господин, похожий на французского парикмахера, — смокинг, белые перчатки, редкие прилизанные волосы, бородка клинышком, желтые отвислые щеки, маленькая красная розетка в петлице и густые траурные тени под глазами, — небрежно поклонился и, не говоря ни слова, уселся в кресло посреди сцены... Полагая, что сейчас последует какая-нибудь более или менее двусмысленная реприза, обычная для кабаре такого рода, Хаубериссер брезгливо отвел глаза, когда болезненный господин, то ли от стеснения, то ли не очень удачно пытаясь развеселить публику, принялся почесываться в самых интимных местах. Прошла минута, а в зале и на сцене по-прежнему царила мертвая тишина. Потом в оркестре вступила под сурдинку пара скрипок, и откуда-то издали донеслись томные заклинания валторны: «Храни тебя Господь, то было как во сне, храни тебя Господь, но так не должно быть». Фортунат удивленно поднес к глазам театральный бинокль и от ужаса едва не выронил его из рук... Что это?! Уж не сошел ли он с ума? Холодный пот проступил на лбу — да-да, конечно, никаких сомнений: он сошел с ума! Нет, это невозможно, это просто не может быть! Бред, абсурд, галлюцинация — невероятно, чтобы такое происходило на сцене, на глазах у тех, кто еще несколько месяцев назад принадлежал к высшему свету! Ну, ладно, в каком-нибудь гнусном портовом притоне на Ниувендейк или в медицинской аудитории в качестве редкого патологического курьеза, но здесь?! Или он и вправду спит? А что, если произошло чудо и он перенесся в эпоху Людовика XV?.. Господин замер, судорожно сдавив кончиками пальцев глазные яблоки, — казалось, он изо всех сил пытается удержать пред внутренним взором ускользающую фантазию... Потом его руки бессильно упали... Через несколько минут он поднялся. Поспешно поклонился. И исчез... Хаубериссер как бы невзначай окинул беглым взглядом своих соседок и ближайшие столы: никто и бровью не повел. Лишь какая-то русская княгиня сделала вид, что аплодирует, и пару раз неслышно коснулась пальцами ладони. Общество, как будто ничего не произошло, оживленно обсуждало светские новости. Фортунат внезапно почувствовал себя среди призраков; проведя рукой по скатерти, он вдохнул пропитанный мускусом цветочный аромат — и, окончательно утратив чувство реальности, ощутил холодок подступающего ужаса. Но вновь зазвенел звонок, и зала погрузилась в полумрак. Воспользовавшись представившейся возможностью, Хаубериссер встал и тихо вышел... Стоя в переулке, он почти устыдился своей впечатлительности. «В сущности, что такого страшного произошло? — спрашивал он себя. — Ничего, что в еще более шокирующем виде через еще более длительные отрезки времени не повторялось бы вновь в истории человечества: просто упала одна из масок, которые всегда служили прикрытием сознательному или бессознательному лицемерию, прикинувшейся добродетелью старческой немочи и любовно выношенному чахлым монашеским мозгом аскетическому непотребству!.. Плод воспаленного ума, колоссальное сооружение, вознесшееся до небес мрачной храминой, несколько столетий подменяло собой истинную духовность, теперь же оно рухнуло и, поверженное во прах, начало порастать плесенью. Разве не лучше смело и решительно вскрыть опасный нарыв, чем, беспомощно опустив руки, обреченно наблюдать, как он наливается ядовитым гноем? Лишь дети да идиоты, которые не знают, что яркие краски осени — это цвета увядания, горюют, когда вместо ожидаемой ими солнечной весны приходит угрюмый ненастный ноябрь». Но как ни старался Хаубериссер восстановить душевное равновесие, как ни усмирял свои вышедшие из-под контроля эмоции холодными доводами разума, ужас не отступал под натиском самых, казалось бы, неотразимых аргументов — упрямо стоял на своем, не сдвинулся ни на пядь, подобно каменной глыбе, ибо и его сокровенную суть составляла тяжесть, которая не поддается никаким логическим увещеваниям. И лишь постепенно, как будто чей-то голос слог за слогом терпеливо нашептывал ему на ухо, до него стало наконец доходить, что ужас этот не что иное как все тот же давно знакомый смутный удушливый страх перед чем-то неопределенным, внезапное прозрение на краю бездонной пропасти, в которую неудержимо и с каждым днем все быстрее сползало человечество. То, что еще вчера считалось верхом невозможного, сегодня воспринимается как нечто само собой разумеющееся — вот от чего захватывало дух, как будто неторопливо и покорно ковылявшее время, заметив на пути привидение, встало вдруг на дыбы и, не слушаясь поводьев, понесло куда-то в сторону, в непроглядную тьму последней ночи. Хаубериссер почувствовал, как сейчас он еще ближе соскользнул к порогу тех страшных пределов, где все, что от мира сего, тем скорее расплывается в призрачное мерцание небытия, чем ярче и заметней оно здесь, в посюсторонней жизни. Он пошел по одному из двух узких проулков, слева и справа огибавших кабаре, и уже через несколько шагов заметил, что идет вдоль какой-то стеклянной галереи, которая показалась ему почему-то знакомой... Завернув за угол, Фортунат опешил — прямо перед ним угрюмо темнел опущенными железными шторами «салон» Хадира Грюна: заведение, где он только что имел удовольствие наблюдать силу человеческого воображения, было, оказывается, обратной стороной того мрачного, приземистого дома, похожего на погрузившуюся в грунт башню, по Иоденбрестраат, в котором сегодня днем его посетило жутковато-странное видение! Он поднял голову, пытаясь поймать взгляд этих двух настороженных, непроницаемо мутных окон: леденящее ощущение небытия стало еще острее — здание в темноте поразительно походило на гигантский человеческий череп, мертвой хваткой вцепившийся зубами верхней челюсти в тротуар... По пути домой Хаубериссер невольно сравнил фантастический хаос, царящий внутри этого кирпичного черепа, с теми невероятными и шальными мыслями, которые иногда роятся в человеческой голове, и неопределенная тревога — ведь за этим сумрачным каменным лбом могло скрываться такое, что ничего не подозревающему Амстердаму и в кошмарном сне бы не приснилось! — оформилась в тягостное предчувствие каких-то опасных, притаившихся у порога событий. «А что, если видение оливково-зеленого лика, явившееся мне под сводами этой зловещей черепной коробки, было вовсе не сном?..» И в памяти вдруг возникла стоящая за конторкой неподвижная фигура старого иудея и стала быстро обретать все необходимые признаки призрачного миража — скорее уж ее следовало отнести к туманным сферам грез, чем этот страшный, предельно отчетливый лик. Полноте, да касался ли этот седобородый старик ногами пола? И чем настойчивей пытался Фортунат всмотреться в зыбкий умозрительный образ, тем больше сомневался, что у проклятого еврея вообще были ноги. Наконец его осенило (ведь он тогда еще, в кунштюк-салоне, заметил, только почему-то не придал этому значения!): выдвижные ящики конторки явственно просвечивали сквозь кафтан! Внезапное недоверие к органам чувств и к обманчиво реальной вещественности внешнего мира сверкнуло, вырвавшись из глубин души, подобно вспышке молнии, и высветило одну давно, еще со школьной скамьи, знакомую истину, явившуюся сейчас как настоящее откровение: лучам далеких звезд Млечного Пути для того, чтобы достигнуть Земли, потребно что-то около семидесяти тысяч лет, а потому, даже если бы наши телескопы были достаточно мощными, мы могли бы наблюдать на поверхности этих небесных тел лишь те происшествия, которые уже семьдесят тысяч лет тому назад стали прошлым. Следовательно, — потрясающая мысль! — в бесконечно протяженном космическом пространстве любое однажды случившееся событие обретает бессмертие в виде некоего вечно странствующего по Вселенной образа, заживо погребенного в луче света. «А стало быть, — заключил он, — существует возможность, не входящая, правда, в число человеческих, возвращения прошлого!» И тщедушная, полупрозрачная фигурка старика иудея, словно легитимированная этим универсальным законом призрачного возвращения, стала быстро уплотняться, прорисовываться все более четко, прямо на глазах преисполняясь какой-то жутковатой жизненной силой. Хаубериссер почувствовал, как фантом прошел совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, невидимый и все же намного более реальный, чем та далекая мерцающая звезда Млечного Пути, которую каждый может видеть из ночи в ночь и которая тем не менее могла потухнуть еще семьдесят тысяч лет назад... Добравшись до своего жилья — тощего, в два окна, старинного дома с крошечным палисадником, — он остановился и открыл тяжелую дубовую дверь. Фортунат так отчетливо ощущал идущий рядом призрак, что, прежде чем войти, невольно оглянулся. Вскарабкался по тесной, в ширину плеч, лестнице, которая, как это принято в голландских домах, круто, подобно приставной пожарной стремянке, единым пролетом взбегала до самого чердака, и вошел в свою спальню. Узкая вытянутая комната, обшитый деревянными панелями потолок, в середине лишь стол да четыре стула, все остальное — шкафы, комоды, туалетный столик и даже кровать — встроено в глубокие, обитые желтым шелком стенные ниши. Приняв ванну, Фортунат лег в постель. Уже выключая свет, заметил на столе какую-то зеленую картонку правильной кубической формы. «Ну да, конечно, Дельфийский оракул из папье-маше, "си-речь глас высших миров", присланный волоокой жрицей кунштюк-салона», — успело еще пронестись в его цепенеющем мозгу, и он уснул... Среди ночи ему послышались какие-то странные звуки, в полусне он прислушался: как будто что-то деревянное — посох или трость — постукивало по полу. Значит, в комнате кто-то есть! Но как же так, ведь он точно помнил, что закрыл входную дверь на ключ!.. Фортунат осторожно провел рукой по обивке ниши, пытаясь нащупать выключатель, но тут в стене тихо тренькнуло, — легонько хлопнув его по пальцам, откинулось что-то плоское, похожее на небольшую дощечку, и какой-то бумажный сверток скатился по лицу... В следующее мгновение он повернул выключатель, и вспыхнувший свет заставил его зажмуриться. И вновь послышалось постукиванье посоха. Оно доносилось из стоящей на столе зеленой коробки. «Просто-напросто сработал механизм в дурацкой картонной башке, только и всего», — раздраженно заключил Хаубериссер и, пошарив по одеялу, нашел таинственный сверток. Спросонья он толком ничего не понял: какие-то свернутые в трубочку пожелтевшие от времени страницы, испещренные убористым неразборчивым почерком. Фортунат бросил бумаги на пол, выключил свет и устало закрыл глаза. «Видно, нащупывая в темноте выключатель, я случайно наткнулся на чей-то тайник», — промелькнуло в его угасающем сознании, но, по мере того как он засыпал, эта мимолетная мысль стала постепенно приближаться, сгущаясь и меняя очертания, пока не оформилась в какое-то фантастическое видение, бестолково скроенное из обрывков дневных впечатлений: пред ним стоял зулусский кафр, увенчанный красным шерстяным колпаком в виде петушиного гребня, и, щегольски пошлепывая ядовито-зелеными лягушачьими перепонками тонюсеньких ножек, пытался всучить визитную карточку графа Цихоньского, и проклятый черепообразный дом по Иоденбрестраат был тоже тут как тут — торчал себе из-под земли, ухмылялся, ощерив стеклянные клыки, и заговорщицки подмигивал то одним своим бельмом, то другим... Далекий приглушенный вой корабельной сирены, донесшийся из порта, был последним осколком чувственного мира, который еще несколько мгновений сопровождал Хаубериссера в его стремительном нисхождении в темные бездны сна.Глава IV
Барон Пфайль, не оставлявший надежды успеть на шестичасовой поезд в Хилверсюм — там находилось его родовое поместье «Буитензорг», — бросился в направлении Центрального вокзала; благополучно миновав скопление ларьков и торговых палаток с царящей вокруг предвечерней ярмарочной суетой, он почти поравнялся с портовым мостом, когда оглушительный колокольный звон, словно по мановению дирижерской палочки обрушившийся на город с сотен церквей и храмов, возвестил, что уже шесть и что спешить больше некуда. Задумавшись на миг, барон решительно повернул назад в Старый город. Опоздание не только не огорчило его, но, напротив, обрадовало, ибо те два часа, которые оставались до следующего поезда, были сейчас как нельзя более кстати: представлялась прекрасная возможность разрешить один вопрос, не дававший ему покоя с тех пор, как он расстался с Хаубериссером. На Херенграхт, под сенью сумрачных вязов, растущих вдоль канала, он остановился возле старинного барочного дома причудливой архитектуры, сложенного из красноватых кирпичей с нарядными выбеленными кантами, и, взглянув на огромное, во всю стену, раздвижное окно второго этажа, потянул за скрытое в углублении портала тяжелое бронзовое кольцо — где-то в глубине зазвенел колокольчик... Прошла вечность, прежде чем старый слуга в белых чулках и шелковых панталонах по колено открыл дверь. — Доктор Сефарди дома?.. Да вы, никак, не признали меня, Ян? — Барон ощупал карманы в поисках визитной карточки. — Пожалуйста, отнесите это наверх и узнайте, не... — Господин уже ожидает вас, менеер. Будьте любезны, следуйте за мной. — И старик стал, кряхтя, подниматься по узкой лестнице, устланной индийскими коврами и увешанной вдоль стены китайскими вышивками: ступени так круто взбегали вверх, что ему, то и дело терявшему равновесие, приходилось хвататься за гнутые медные перила. Весь дом был пропитан тяжелым, пряным ароматом сандалового дерева. — Ожидает? Меня? Но каким образом? — изумленно спросил Пфайль, так как уже несколько лет не видел доктора Сефарди, а мысль о том, чтобы навестить его, пришла ему в голову всего лишь полчаса назад — хотелось внести наконец определенность в некоторые детали портрета Вечного жида, которые как-то странно двоились у него в памяти, а при малейшей попытке «навести резкость» и вовсе расплывались в нечто весьма далекое от того, что он рассказывал Хаубериссеру в «Золотом тюрке». — Сегодня утром господин телеграфировал вам в Гаагу, чтобы просить вас навестить его, менеер. — В Гаагу? Но ведь я давным-давно вернулся к себе в Хил-версюм. И то, что я сейчас зашел, — чистой воды случайность. — Немедленно извещу господина, что вы хотите его видеть, менеер. В ожидании барон Пфайль присел. Ничто не изменилось в этой комнате с тех пор, как он был здесь в последний раз: сиденья тяжелых резных стульев покрывали сверкающие накидки из самаркандского шелка, по сторонам роскошного камина с колоннами, выложенного зеленым как мох нефритовым кафелем с золотыми инкрустациями, стояла пара южноголландских кресел, на черно-белых каменных плитах пола переливались всеми цветами радуги персидские ковры, нежно-розовые фарфоровые статуэтки японских принцесс таинственно мерцали в глубоких стенных нишах, манерно изогнув дубовые ноги, цепенел в церемонном полупоклоне чопорный стол с черной мраморной доской, по стенам висели картины кисти Рембрандта и других известных мастеров — в основном портреты предков Исмаэля Сефарди, знатных португальских евреев-эмигрантов, поколения которых жили и умирали в этом доме, построенном по их заказу в семнадцатом веке знаменитым Хендриком де Кейзером. Бросалось в глаза поразительное сходство этих людей, живших в иных, давно канувших в Лету эпохах, с их далеким потомком, доктором Исмаэлем Сефарди: тот же узкий, вытянутый череп и острый нос с небольшой горбинкой, те же огромные, темные, миндалевидные глаза и тонкие, надменно поджатые губы — да, это был тот возвышенный, гордо, почти презрительно взирающий на мир тип испанских евреев с неестественно тонкими ступнями ног и изящными белыми руками, который едва ли имеет что-либо общее, кроме религии, с остальными своими собратьями из рода Гомера, так называемыми ашкенази[149]. В этих прошедших сквозь столетия точеных чертах ничто не изменилось на потребу времени. Минуту спустя доктор Сефарди уже приветствовал барона, представив его какой-то стройной, белокурой и очень красивой даме лет двадцати шести. — Вы что, и правда телеграфировали мне, дорогой доктор? — спросил Пфайль. — Ян сказал мне... — У барона Пфайля настолько чувствительные нервы, — пояснил, усмехнувшись, Сефарди своей спутнице, — что с ним совсем необязательно общаться вслух — достаточно о чем-нибудь подумать, а уж он об этом непременно будет знать. Извольте видеть, пришел, даже не получив моей депеши! — Доктор повернулся к Пфайлю. — Фрейлейн ван Дрюйзен — наших с ней отцов, барон, связывала давняя и крепкая дружба — специально приехала из Антверпена, чтобы с моей помощью разобраться в одном деле, пролить свет на которое, как мне кажется, способны только вы. Помните тот портрет, о котором вы мне однажды рассказывали?.. Ну, портрет Агасфера, вы еще говорили, будто бы наткнулись на него в Лейдене в археологическом музее?.. Видите ли, дело нашей прекрасной гостьи каким-то образом связано — или могло бы быть связано — с этой картиной... Пфайль удивленно вскинул бровь. — Поэтому вы и хотели меня видеть? — Да. Вчера мы были в Лейдене, хотели осмотреть портрет, однако нам сказали, что такой экспонат в музейных каталогах не значится. Директор Оливерда, которого я хорошо знаю, уверил меня, что у них вообще нет никакой живописи, так как в музее хранятся лишь египетские древности и... — Позвольте, господин доктор, я расскажу барону, почему меня так заинтересовала эта история с портретом! — живо вмешалась в разговор девушка. — Мне бы не хотелось надоедать вам, барон, подробным описанием нашей семьи, а потому ограничусь лишь самым необходимым: в жизнь моего покойного отца, которого я бесконечно любила, вторгся один человек или — это звучит, наверное, странно — «видение», нередко преследовавшее несчастного старика месяцами, лишая покоя, заполняя все его мысли днем и ночью... Тогда я была еще слишком юна — да и, пожалуй, слишком безалаберна, — чтобы проникнуть во внутреннюю жизнь отца (мама уже давно покоилась в могиле), однако сейчас все тогдашние впечатления вдруг проснулись и вновь мне не дает покоя мысль об этом загадочном «видении», с которым уже давно следовало разобраться раз и навсегда. Вы, наверное, примете меня за особу взбалмошную и экзальтированную, но я вам все же скажу, что хоть сегодня готова покончить с собой... Не сочтите за кокетство, но мысль о самоубийстве преследует меня куда более настойчиво, чем самого отпетого прожигателя жизни... — Внезапно она смутилась и, только убедившись, что Пфайль, чутко уловив природу ее душевного состояния, слушает внимательно и серьезно, без тени иронии, успокоилась. — Хорошо, скажете вы, но какое отношение ко всем этим суицидальным настроениям имеет портрет Агасфера и «видение» вашего покойного отца? На это я вам вряд ли сумею толком ответить. Отец не раз повторял — я, тогда еще совсем ребенок, частенько расспрашивала его о религии и о Господе Боге, — что приблизилось время, когда из-под человечества выбьют последние подпорки и духовный шквал сметет все, когда-либо построенное человеческими руками. На краю бездны устоят лишь те — я запомнила в точности каждое его слово, — кто сумеет разглядеть в себе медно-зеленый образ нашего предтечи-патриарха. И всякий раз, когда я, сгорая от любопытства, приставала к нему и просила объяснить, как выглядит этот предтеча — человек ли это или привидение, а может, сам Господь, — и как мне его узнать, если случайно повстречаю по пути в школу, он отвечал одно: «Будь спокойна, дитя мое, и не ломай себе понапрасну голову. Патриарх не привидение, но, даже если он тебе явится в зловещем обличье потустороннего призрака, не пугайся, ибо зеленоликий предтеча воистину единственный реальный человек в сем призрачном мире. На лбу у него черная повязка, скрывающая знак вечной жизни, тот же, у кого этот знак открыт на общее обозрение, а не сокрыт в тайное тайных, — клейменый, точно Каин. И пусть он явится тебе во всем блеске сияния неземного, помни, дитя мое: это призрак либо орудие призраков. А вот можно ли считать нашего предтечу богом, — этого я тебе не скажу: ты все равно не поймешь. Встретить же его можно всюду, и особенно тогда, когда меньше всего ожидаешь. Ты только должна созреть для этой встречи. Святой Хуберт тоже встретил на охоте белого оленя и сразу схватился за арбалет...»[150] Когда потом через много лет, — продолжала девушка после небольшой паузы, — началась эта ужасная война и христианство покрыло себя несмываемым позором... — Извините, фрейлейн: не христианство, а христиане! Это большая разница! — усмехнулся барон Пфайль. — Да-да, конечно, именно христиане... Так вот тогда я подумала, что мой отец, пророчески провидя будущее, намекал на эту великую кровавую бойню... — Он, разумеется, имел в виду не войну, — задумчиво сказал Сефарди, — внешние события, пусть далее такие кошмарные, как война, касаются далеко не всех, ведь никто не обращает внимания на раскаты грома, если только молния не ударит в землю прямо у ног, впрочем, и тогда люди чувствуют лишь одно: «Слава Богу, кажется, пронесло». Война разбила человечество на два лагеря, которым уже никогда не понять друг друга: одни заглянули в преисподнюю и до конца своих дней сохранят в душе страшное видение, для других же весь этот кромешный ужас не более чем чернота типографской краски. К этим последним отношусь и я. Долго и беспристрастно пытал я душу и, к стыду своему, должен признать открыто: страдания миллионов бесследно скользнули мимо, не задев меня. Зачем лгать?! Если кто-то может сказать о себе обратное и если он говорит правду, я тут же, ни слова не говоря, покаянно сниму пред ним шляпу, но поверить в то, что я во сто крат более подл, чем он, извините, не могу... Извините и вы, Ева, я перебил вас. «Вот воистину прямодушный человек, который не скрывает своих самых тайных помыслов», — отметил про себя барон Пфайль и с уважением вгляделся в гордое смугловатое лицо ученого. — Поначалу я действительно думала, что отец намекал на войну, — вернулась к своему рассказу фрейлейн ван Дрюйзен, — однако мало-помалу стало до меня доходить то, что сегодня чувствует каждый, если только он не из камня: гнетущий, удушливый ужас исходит из земли — и страх смерти здесь ни при чем, господа! — именно эту томительную изматывающую тревогу, эту роковую невозможность ни жить, ни умереть, судя по всему, имел в виду отец, когда говорил о «последних подпорках», которых лишится человечество. Когда же я рассказала доктору Сефарди о «медно-зеленом образе патриарха» и попросила его, как специалиста, объяснить мне, что следует обо всем этом думать и не стоит ли за словами отца нечто большее, чем просто болезненный бред, он вспомнил, что слышал от вас, барон, будто вы видели один странный портрет... — ...который, к сожалению, не существует, — закончил Пфайль. — И тем не менее все, что я рассказывал вам, доктор, об этом портрете, правда; кроме того, еще сегодня, совсем не давно, я был твердо уверен, что много лет тому назад видел эту картину в Лейдене — по крайней мере, так мне казалось, — и это тоже правда. Но вот не прошло и часа, а для меня ясно одно: никогда в жизни я не видел этого портрета. Ни в Лейдене, ни где бы то ни было еще... Сегодня днем, беседуя с приятелем об этой картине, я, предавшись воспоминаниям, буквально увидел ее висящей на стене — жуткий, оливково-зеленый лик, бездонные провалы глаз, потемневшая от времени массивная рама... Впрочем, чуть позже, на пути к вокзалу, меня внезапно осенило, что рама существует лишь в моем воображении — она, так сказать, дофантазирована мной, — и тогда... тогда я решил навестить вас, доктор, ибо мне было необходимо выяснить, действительно ли много лет назад я рассказывал вам об этом портрете или тот давний разговор тоже плод моего больного ума. Как этот образ возник в моем сознании, для меня неразрешимая загадка. В былые времена он частенько преследовал меня во сне; а может, и портрет, и Лейден, и неведомая частная коллекция мне просто приснились и воспоминания об этом сне постепенно трансформировались в реальные переживания? И это еще не все: пока вы, фрейлейн, рассказывали нам о вашем отце, оливково-зеленый лик явился мне вновь, — и поразительно отчетливо! — только теперь он уже не выглядел мертвым и неподвижным изображением на холсте, — нет, это был живой, реальный человек, и губы его слегка подрагивали, словно пытались что-то сказ... Внезапно Пфайль застыл, оборвав себя на полуслове, — казалось, он вслушивался в себя, как если бы таинственный лик действительно отверз уста... Доктор Сефарди и молодая дама тоже невольно замерли... Наступила мертвая тишина, и только снизу, с Херенграхт, доносились потусторонние меланхоличные звуки пианолы — в Амстердаме ее обычно устанавливают на тележку, запряженную маленьким грустным пони, и медленно катают вечерами по улицам. — Думаю, вы недалеки от истины, — нарушил наконец молчание Сефарди, обращаясь к барону, — похоже, речь в вашем случае идет о так называемом гипноидальном состоянии: видимо, однажды в глубоком сне, когда ваше сознание было полностью отключено, вы и вправду пережили нечто, глубоко поразившее вас; впоследствии это переживание под маской портрета смешалось с дневными впечатлениями, обретая таким образом гипотетическую реальность... Вам не следует опасаться, что в этом есть что-то болезненное или анормальное, — прибавил он, заметив, что при слове «гипотетический» Пфайль вскинул руки, словно стремясь защититься от необоснованных обвинений, — подобные ретроспективные подмены случаются много чаще, чем думают... О, если бы люди, вместо того чтобы пугаться этих «подставных лиц», сумели найти с ними общий язык и понять их истинную природу!.. Убежден, завеса бы пала с наших глаз и мы бы сразу ощутили себя полноправными участниками второй, параллельно протекающей жизни, которую сейчас, в теперешнем, полуслепом состоянии, нам приходится вести лишь в глубоком сне, да человек, как правило, и не догадывается о своих ночных похождениях, — он попросту забывает о них, вступая на мост между сном и явью, ибо мир, открывающийся по ту сторону привычной материальной действительности, настолько фантастичен и парадоксален, что даже обрывки воспоминаний о нем могли бы серьезно травмировать наше дневное сознание... То, что христианские мистики называли «рождением в духе», без коего невозможно смертному «узреть Царствие Небесное», кажется мне не чем иным, как пробуждением спящего летаргическим сном Я в реальности, существующей независимо от наших органов чувств, — короче говоря, в «парадизе»... Доктор взял с полки какой-то толстый фолиант и, открыв его на нужной странице, показал своим гостям: — Эта старинная алхимическая гравюра «Воскресение» как нельзя лучше иллюстрирует сокровенный смысл сказки о Спящей Красавице: нагой человек, встающий из отверстого гроба, а рядом — череп с горящей свечой на темени!.. Впрочем, коль скоро мы заговорили о христианских экстатиках, фрейлейн ван Дрюйзен и я приглашены сегодня вечером в одно мистическое общество, обосновавшееся на Зеедейк. Вам, барон, будет небезынтересно знать, что и в этих кругах было отмечено призрачное явление оливково-зеленого лика. — Мистики? На Зеедейк? — изумился Пфайль. — Но ведь это же один из самых злачных кварталов! И кто только вас туда пригласил? — Я слышал, там сейчас совсем не так скверно, как в былые времена, на всю округу один-единственный, пользующийся, правда, весьма дурной славой матросский трактир «У принца Оранского». Теперь на Зеедейк ютятся все больше нищие, безобидные ремесленники... — И среди них сумасшедший любитель бабочек, по имени Сваммердам, со своей сестрой, — весело вставила фрейлейн ван Дрюйзен. — Представьте себе, барон, этот старый чудак в один прекрасный день вообразил себя царем Соломоном! К нему-то мы и приглашены... Моя тетушка, госпожа де Буриньон, целыми днями пропадает в его доме. Ну, что вы теперь скажете, барон, о моих аристократических родственниках, предпочитающих Зеедейк светским салонам? И чтобы сразу предупредить возможные недоразумения: она порядочная дама, живущая при монастыре бегинок и известная своим неуемным, бьющим через край благочестивым энтузиазмом. — Как, старый Ян Сваммердам еще жив?! — воскликнул смеясь барон Пфайль. — Но ведь ему уже, наверное, лет девяносто? Он еще не сносил своих знаменитых каучуковых подметок в два пальца толщиной? — Вы знаете его? В таком случае расскажите нам, пожалуйста, что это за человек! — попросила приятно удивленная девушка. — Он что, действительно пророк, как утверждает моя тетушка? Ну же, рассказывайте, барон... — С удовольствием, если это вас позабавит. Вот только мне придется быть несколько кратким, так как времени у меня в обрез, а вторичное опоздание на поезд не входит в мои планы. На всякий случай лучше уж я вам заранее скажу адье. И сразу предупреждаю: не ждите ничего таинственного и ужасного — мой рассказ будет скорее забавным. — Тем лучше. — Итак, Сваммердама я знаю с четырнадцати лет — потом он как-то потерялся из виду. В то время я был отъявленным сорванцом, а если уж находил какое-нибудь занятие — само собой разумеется, учеба не в счет, — то предавался ему как одержимый, весь без остатка. Среди других тогдашних моих увлечений были террариум и энтомология. Стоило только какой-нибудь лягушке-великану или азиатской жабе, величиной с небольшой саквояж, появиться в зоомагазине, и я уже не мог думать ни о чем другом, как об этой пучеглазой твари, покой сходил в мою истерзанную душу лишь тогда, когда приобретенное на родительские деньги сокровище переселялось в мой самодельный террариум — большой стеклянный ящик с подогревом. По ночам мои квакушки закатывали такие концерты, что в домах по соседству дребезжали стекла. А что это были за обжоры! Мешками таскал я насекомых, а им все было мало! Признаюсь без ложной скромности, что исключительно благодаря моим фуражирским способностям поголовье мух в Голландии до сих пор значительно отстает от других европейских стран. Я стал настоящим стихийным бедствием: например, тараканы в нашем городе были истреблены мною все поголовно. Но вот беда, своих питомцев я практически не видел: днем они отсыпались под камнями, а по ночам спать приходилось мне — в этом пункте мои родители были неумолимы. Кончилось тем, что матушка посоветовала мне оставить в террариуме одни камни, а лягушек отпустить на волю — «все равно, сынок, ты ничего, кроме этих булыжников, не видишь, да и не надо будет тебе больше гоняться за каждой мухой» — само собой разумеется, это безответственное предложение было мной с возмущением отвергнуто. Вскоре благодаря своему рвению я снискал себе славу настоящего коллекционера насекомых и в один прекрасный день удостоился благосклонного внимания со стороны городского энтомологического кружка, в состав которого в то время входили: кривоногий брадобрей, страдающий одышкой торговец мехами, три железнодорожных машиниста-пенсионера и тихий, тщедушный препаратор из естествоведческого музея — впрочем, этот последний все равно не мог принимать участия в наших совместных вылазках на лоно природы, так как находился под каблуком у своей не в меру серьезной супруги, полагавшей, что для пожилого солидного мужчины, отца семейства, легкомысленно, предосудительно и,наконец, просто неприлично средь бела дня гоняться с сачком за мотыльками. В общем, костяк сего благородного союза составляли милые чудаковатые старички, собиравшие кто жуков, кто бабочек и превыше всего почитавшие свое шелковое знамя с вышитой на нем золотыми буквами гордой надписью: «Исследовательско-биологическое общество "Осирис"». Так вот, несмотря на свой нежный возраст, я был приобщен к избранному кругу. До сих пор хранится у меня диплом с «искренними поздравлениями по случаю Вашего вступления в члены нашего славного общества» и так далее, и тому подобное, а заканчивалась вся эта высокопарная галиматья словами: «Примите, юный друг, наш горячий биологический привет...» Однако вскоре я понял, почему эти дряхлые почитатели египетского бога с таким воодушевлением приветствовали мое вступление в их ряды: просто с годами они стали столь близоруки, что уже не могли разглядеть скрывавшихся в дупле дерева ночных мотыльков, вдобавок еще варикозное расширение вен, кое весьма чувствительно давало о себе знать в наиболее напряженные мгновения азартной охоты, ведь за каким-нибудь редким жуком приходилось иногда часами гоняться в прибрежных дюнах, по колено увязая в песке, ну и, в довершение всего, приступы сухого трескучего старческого кашля — с удручающей регулярностью (наверное, от чрезмерного возбуждения) в самый ответственный момент, когда капризный и непредсказуемый «павлиний глаз» оставалось только накрыть сачком, он нападал на несчастного энтомолога, полчаса кряду ползшего по-пластунски к предмету своей страсти, и — прощай, мечта, прощай, надежда! — вожделенная добыча бесследно растворялась в пестром многоцветье полевых трав. Для меня же, свободного от этих возрастных недугов, не составляло особого труда исходить всю округу вдоль и поперек в поисках какой-нибудь гусеницы; ничего удивительного, что находчивым биологическим стариканам пришла в голову счастливая мысль использовать меня и моего школьного приятеля в качестве своих ищеек. Но до одного из них, этого самого Яна Сваммердама, которому уже тогда перевалило за шестьдесят пять, даже мне, признанному охотнику за насекомыми, было далеко. Стоило ему только перевернуть какой-нибудь булыжник, неприметно лежащий на обочине, и на свет являлась либо куколка редкого жука, либо что-нибудь еще не менее ценное, при виде чего сердце каждого энтомолога начинало учащенно биться. Ходили слухи, будто он за свой благочестивый образ жизни сподобился дара ясновидения... Вам, конечно, известно, как у нас в Голландии преклоняются перед добродетелью! Невозможно представить себе его без черного сюртука — промеж лопаток явственно проступают округлые очертания сачка, с которым почтенный муж никогда не расставался, пряча его сзади, под жилет, однако зеленая деревянная ручка слишком длинна и ее кончик предательски выглядывает из-под потертых лоснящихся фалд. Ну, а почему вместо воротничка он обвязывал шею полотняной кромкой старой географической карты, я узнал только после того, как посетил однажды его убогую квартирку, расположенную на последнем этаже какого-то ветхого, покосившегося дома. «Не могу проникнуть внутрь, — пожаловался он, указывая на платяной шкаф, и прошептал со значительным видом: — Hipocampa Milhauseri! — Однако, заметив, что это имя не произвело на меня никакого впечатления, снизошел до комментариев: — Эта уникальная в наших краях гусеница окуклилась аккурат рядом с петлей на дверце, вот и боюсь ненароком потревожить... Ну да ничего, года через три она покинет свое укрытие...» Отправляясь на экскурсии, мы пользовались обычно услугами железной дороги, и только Сваммердам в оба конца топал пешком, так как был слишком беден, чтобы платить за билет, а дабы не снашивать подметки, он додумался покрыть их какой-то таинственной каучуковой массой, которая со временем затвердела в лавообразную корку, не менее двух пальцев толщиной. Я и сейчас вижу их пред собой, эти неуклюжие неснашиваемые котурны... Хлеб насущный старик зарабатывал продажей экзотических бабочек — разводить их он умудрялся прямо у себя в комнате, — но барыши были слишком скромны, чтобы помешать его супруге, которая терпеливо сносила с ним бремя нищеты и на все чудачества своего непрактичного мужа лишь благодушно улыбалась, умереть от истощения... После смерти жены финансовая сторона жизни окончательно перестала существовать для Сваммердама, всего себя посвятившего поискам своего идеала — зеленого навозного жука; сей полулегендарный представитель скарабеев, как утверждали солидные энтомологические справочники, настолько привередлив и раздражителен, что может обитать только под землей, на тридцатисемисантиметровой глубине, да и то лишь в тех местах, поверхность которых обильно унавожена шариками овечьего тука. Мы с моим школьным приятелем, принципиально отказывавшиеся верить в существование неуловимого навозника, в порочном пылу наших юных и дерзких сердец дошли до такого кощунства, что стали потихоньку разбрасывать в наиболее каменистых местах проселочных дорог овечьи экскременты, которые теперь постоянно таскали в карманах, а потом злорадно посмеивались, наблюдая из своих индейских укрытий, как Сваммердам при виде этих зловонных шариков становился сам не свой и, уподобившись сумасшедшему кроту, тут же принимался лихорадочно вгрызаться в землю. Но однажды утром случилось чудо, потрясшее нас до глубины души. Произошло это во время одного из наших естествоведческих походов... Впереди семенили старцы и слабыми скрипучими голосами блеяли гимн нашего славного братства: Eu-prep-ia pudica (так называлась по-латыни одна очень красивая бабочка-медведица) поди-ка, подойди-ка! Но я не унываю — клянусь сачком, поймаю, — а замыкал наши нестройные ряды Ян Сваммердам — одетый в свой неизменный черный сюртук, с маленькой лопаткой в руке, длинный как телеграфный столб и такой же тощий. С его милой морщинистой физиономии не сходило выражение какой-то прямо-таки библейской просветленности; на все вопросы о причинах столь возвышенного состояния духа он таинственно ответствовал, что видел ночью вещий сон. Обогнав группу, мы с приятелем незаметно высыпали на дорогу пригоршню овечьего тука. Завидев кучку, Сваммердам встал как вкопанный, обнажил седины, тяжко вздохнул и, преисполненный веры и надежды, смотрел на солнце до тех пор, пока зрачки не сделались величиной с булавочную головку; тогда он пал на колени и принялся копать — да так, что только комья летели... Мы же — я и мой приятель — стояли рядом, и в наших циничных душах ликовал Сатана. Внезапно Сваммердам мертвенно побледнел, выронил свою лопатку и, прижав к губам сведенные судорогой пальцы, уставился в свежевырытую яму. Чуть помедлив, он запустил дрожащие руки в отверстие — и извлек большого, отсвечивающего призрачным зеленым цветом жука... Старик был настолько потрясен, что долгое время не мог вымолвить ни слова, лишь две большие слезы катились по его щекам; наконец он, запинаясь, еле слышно пробормотал: — Сегодня ночью я видел мою жену... Она явилась во сне... От лица ее исходило неземное сияние. Она утешила меня и пообещала, что сегодня я обрящу своего скарабея... Мы, двое сорванцов, молча пошли восвояси и целый день не могли от стыда глаз друг на друга поднять. Через несколько лет мой приятель признался мне, что еще долго страшился своей собственной руки, которой он хотел сотворить зло, поглумиться над несчастным стариком, и которая, вопреки его злому умыслу, содеяла добро, став на один краткий миг орудием Высшей воли... Когда стемнело, доктор Сефарди проводил фрейлейн ван Дрюйзен на Зеедейк — темный кривой переулок, расположенный в самом опасном амстердамском квартале на стрелке двух грахтов, неподалеку от сумрачной церкви св. Николая. Красноватый отсвет празднично иллюминированных балаганов и шатров, висевший над фронтонами домов соседней улицы, где ключом кипела летняя ярмарка, смешивался с белесой вечерней дымкой и ярким серебристым сиянием полной луны в какую-то смутную, фантастически мерцающую ауру, в которой траурными вуалями парили густые стрельчатые тени церковных башен. Подобно ударам гигантского сердца доносилось мерное чавканье моторов, приводящих в движение многочисленные карусели. Ни на миг не замолкающее, скрипучее нытье шарманок, сверлящее тарахтенье трещоток и пронзительные вопли зазывал, то и дело прерываемые оглушительными щелчками невидимого бича из передвижного тира, разносились по каменным закоулкам темного квартала, вызывая в памяти знакомую с детства картину ярмарочных народных гуляний: толпы весело галдящих, празднично разодетых горожан в неверном факельном свете что есть мочи напирают на длинные дощатые прилавки, ломящиеся от пряников, разноцветных конфет, диковинных сладостей и вырезанных из кокосовых орехов страшных бородатых рож сказочных людоедов, тут же, неподалеку, во весь дух несутся по кругу аляповато размалеванные деревянные лошадки, лихо раскачиваются украшенные пестрыми лентами качели, после каждого меткого выстрела покорно кивают потешные, темноликие мавры с белыми гипсовыми трубками, гогочут подвыпившие матросы, тщетно пытаясь набросить непослушные фанерные кольца на черенки ножей, воткнутых в грубые, неструганые столы, в огромных дубовых бадьях, наполненных грязной водой, плещутся гладкие лоснящиеся тюлени, вьются по ветру фантастические вымпелы на палатках кривых зеркал, в которых покатываются от хохота заезжие крестьяне, сидят нахохлившись на своих серебряных кольцах картавые какаду, гримасничают вертлявые обезьяны, а на заднем плане сомкнутые плечом к плечу ряды тощих узкогрудых домов, подобно компании сумрачных, почерневших от времени великанов, безмолвно взирают на буйный вертеп мутными белками в решетчатых переплетах... Скромная обитель Яна Сваммердама находилась в стороне от шумной ярмарочной площади, на пятом этаже сутулого, клонящегося вперед дома, в подвале которого ютился печально знаменитый матросский трактир «У принца Оранского». Дурманящий запах лекарственных трав и неведомых злаков, изливавшийся из расположенной у входа аптекарской лавки, пропитывал чахлое строение до самой крыши, а соблазнительная вывеска «Hier verkoopt men sterke dranken»[151] выдавала, что здесь же обосновался некий Лазарь Айдоттер, день и ночь орошающий ниву страждущего населения Зеедейка живительной влагой горячительных напитков. По узкой, невероятно крутой лестнице, более уместной в деревенском курятнике, чем в городском доме, доктор Сефарди и его миловидная спутница взобрались наверх и сразу предстали пред госпожой де Буриньон, тетушкой фрейлейн ван Дрюй-зен, преклонных лет дамой с белоснежными локонами и круглыми детскими глазами, которая радушно приветствовала их: — Добро пожаловать, Ева, добро пожаловать, царь Бальтазар, к нам, в Новый Иерусалим!.. В крошечной комнатке вокруг стола чинно восседала компания из пяти человек, все они при виде гостей смущенно встали и были представлены госпожой де Буриньон: — Итак, Ян Сваммердам со своей сестрой — пожилая, сморщенная женщина в традиционном голландском чепце с барашками накрученных на уши кос заученно приседала в каком-то нелепом книксене, — далее, господин Лазарь Айдоттер, который, хоть пока еще и не принадлежит нашей общине, тем не менее уже наречен «Симоном Крестоносцем»[152], — («таки тож, с позволения сказать, квартируем у этом доме», — прибавил гордо господин Айдоттер, дряхлый русский еврей в черном лапсердаке до пят), — а это госпожа Мари Фаац из Армии спасения, ее духовное имя «Магдалина», и, наконец, наш возлюбленный брат Иезекииль, — она указала на молодого человека с воспаленными, лишенными ресниц глазами на рябом расплывшемся лице, казалось, оно было слеплено из сырого, непропеченного теста, — он служит внизу, в аптекарской лавке, а «Иезекиилем» назван потому, что, когда исполнятся сроки, назначено ему судить род человеческий... Доктор Сефарди растерянно посмотрел на фрейлейн ван Дрюйзен. Ее тетушка, заметив этот взгляд, пояснила: — У нас у всех есть свои духовные имена: к примеру, Ян Сваммердам — царь Соломон, его сестра — Суламифь, а я — Габриэла, женская ипостась архангела Габриэля, но обычно меня называют «Хранительницей порога», ибо мне надлежит собирать заблудшие, рассеянные по миру души и, наставляя их на путь истинный, препровождать в парадиз. Все это вы со временем усвоите лучше, господин доктор, ведь, сами того не ведая, принадлежите к нам и ваше настоящее имя — царь Бальтазар! А кстати, вы еще не испытали крестных мук? Сефарди окончательно смешался. — Боюсь, сестра Габриэла слишком энергично взялась за наших гостей, — усмехнувшись, взял слово Ян Сваммердам. — Много лет тому назад именно в этом доме явился миру истинный пророк Господень, и был он простым сапожником, по имени Ансельм Клинкербок. Вы с ним сегодня познакомитесь. Он живет над нами. Не думайте, менеер, мы вовсе не спириты, наоборот, мы их полная противоположность, ибо не хотим иметь ничего общего с загробным миром. Наша цель — жизнь вечная... Всякому имени присуща некая тайная сила, и если это имя повторять непрестанно, день и ночь, до тех пор, пока не зазвучит оно безглагольно в сокровенной глубине души и все существо не преисполнится им, то сия духовная сила, войдя в кровь и циркулируя по венам, со временем пресуществит и плоть нашу. Это последовательное обновление тела — ибо лишь ему одному должно изменяться, дух совершенен изначально — свидетельствует о себе чередой особых, весьма странных состояний, ступень за ступенью восходящих к той запредельной вершине, коя называется «воскресение в духе». В одном из таких состояний человека периодически преследует ощущение гложущей сверлящей боли, природа которой нам неведома, — вначале она проникает в плоть, потом вгрызается в кости и, наконец, прободает все существо наше; на этой низшей ступени, именуемой также «Распятие», мы обретаем стигматы «первого крещения» — «крещения водой»: на ладонях неким непостижимым образом открываются глубокие раны и из них изливается влага... Сваммердам и другие, за исключением Лазаря Айдоттера, воздели руки — посреди ладоней горели зловещим пунцовым цветом круглые, слегка затянутые кожей язвы, как будто в них и в самом деле вколачивали гвозди. — Но ведь это же истерия! — воскликнула в ужасе фрейлейн ван Дрюйзен. — Если вам угодно, называйте это истерией, только имейте в виду, милая барышня, что в нашей «истерии» нет ничего болезненного. Между истерией и истерией большая разница. Лишь та истерия, которая идет рука об руку с экстазом и помрачением сознания, может быть приравнена к болезни и духовному вырождению, другая же — есть духовное возрождение, это путь просветления сознания, ведущий человека к непосредственному «ясновидческому» знанию. В Писании сия цель называется «сокровенным словом», и если простой смертный думает на обычном, повседневном языке. бессознательно втискивая свою мысль в прокрустово ложе косных, ничего не выражающих слов, то духовно воскресший человек обретает иной, тайный язык, в обновленные слова которого любая, самая отвлеченная мысль облекается без всякого ущерба для себя — легко, естественно и точно. Это новое мышление уже не жалкий посредник, а магия — лучезарное откровение истины, пред светом которой меркнут обманчивые огоньки иллюзий, ибо отныне волшебные кольца мыслей сопрягаются в единую цепь, а не лежат, разрозненные, там и сям... — Неужели вы, господин Сваммердам, настолько преуспели? — Если бы я преуспел настолько, меня бы здесь не было, милая барышня. — Вы сказали, что обычный человек думает, облекая свою мысль в слова; ну а как тогда быть, — заинтересованно спросил Сефарди, — с тем, кто рожден глухонемым и не знает никаких слов? — Он мыслит образами либо на праязыке. — Сваммердам, Сваммердам, с вашего позволения я имею сказать господину дохтуру пару слов! — горячился, во что бы то ни стало желая поспорить, Лазарь Айдоттер. — Таки вот: у вас каббала, и у меня каббала. А теперь будьте известны, что «В начале было слово» перетолмачено неправильно: «Bereschith»y слушайте сюда, означает по-немецки «глава», «верховная сущность», а не «в начале»!.. Что это еще за «в начале»?.. — Глава?! — пробормотал Сваммердам и погрузился в глубокое раздумье. — Да-да, понимаю, понимаю... Но смысл-то остается прежний... Остальные благоговейно внимали и лишь многозначительно переглядывались, не осмеливаясь нарушить наступившее молчание. При слове «глава» Ева ван Дрюйзен невольно подумала об «оливково-зеленом лике» и в полной растерянности посмотрела на доктора Сефарди, который, стараясь не привлекать внимания, ободряюще кивнул ей. — Каким образом ваш учитель Клинкербок снискал свой пророческий дар и как он у него проявляется? — прервал он на конец затянувшуюся паузу. Ян Сваммердам словно проснулся: — Клинкербок?.. Ах, ну да, конечно, — старик собрался с мыслями, — всю свою жизнь учитель искал Бога, и ни о чем другом он уже думать не мог; скажу только, что эта снедающая его страсть многие годы не давала ему спать. Так вот, сидел он однажды ночью перед своим сапожным шаром — вы, наверное, знаете, сапожники используют такие стеклянные шары с водой в качестве линзы: ставят их перед лампой, чтобы свет не рассеивался, — как вдруг в центре шара вспыхнула яркая точка и стала быстро разрастаться в некий образ, весьма схожий с ангельским; потом видение вышло из шара, и повторилось сказанное в Апокалипсисе: ангел дал ему книгу и рек: «Возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед»[153]. Лик же ангельский был сокрыт, лишь лоб его светился во мраке — зеленый крест пламенел посредине. Ева ван Дрюйзен вспомнила слова отца о призраках, носящих явно знамения жизни, и на мгновение ее сковал ледяной ужас. — С тех самых пор Клинкербок обрел «сокровенное слово», — продолжал Сваммердам, — и оно глаголало ему, а чрез него и мне — ибо я тогда был его единственным учеником, — как нам должно жить, дабы вкушать от древа жизни, кое произрастает у Господа в раю. И было нам обетование: потерпеть еще самую малость, и все муки земной юдоли рассеются пред нами, и подобно Иову получим мы «вдвое больше того, что имели прежде»[154]. Доктор Сефарди хотел было возразить, как легкомысленно и опасно доверять голосу подсознания, но вовремя удержался, вспомнив рассказ барона Пфайля о зеленом жуке. Кроме того, он отлично понимал, что сейчас уже слишком поздно о чем-либо предостерегать. Старик как будто угадал ход его мыслей: — Да-да, конечно, вот уж пятьдесят лет минуло с той поры, но надо уметь ждать, надо набраться терпения и, несмотря ни на что, продолжать духовные экзерсисы — непрерывно, денно и нощно, возглашать в глубине души сакральные имена наши, и так до тех пор, пока не воскреснем в духе... Он произнес эти слова спокойно и с кажущейся твердостью, однако голос его нет-нет да подрагивал в предчувствии страшного грядущего разочарования, можно было только предполагать, чего стоило ему держать себя в руках, чтобы не поколебать других в их безоглядной вере. — Как, неужели вы уже пятьдесят лет практикуете эти... эти экзерсисы?! Но ведь это же ужасно! — невольно вырвалось у доктора Сефарди. — Ах, ну что вы, это так чудесно, изо дня в день собственными глазами наблюдать, как исполняется провозвестие Господне, — восторженно зачастила госпожа де Буриньон, — как они, бесплотные посланцы высших миров, стекаются сюда из самых отдаленных уголков вселенной и роятся вокруг Аврама — это духовное имя Ансельма Клинкербока, ибо он воистину праотец наш, — как здесь, на этой убогой амстердамской Зеедейк, закладывается краеугольный камень Нового Иерусалима! И вот к нам пришла Мари Фаац («раньше она была проституткой, а теперь — благочестивая сестра Магдалина», — шепнула она на ухо своей племяннице), а недавно... недавно Лазарь восстал из мертвых... Ах, ну как же это я, Ева, ведь в этом письме — ну в том, последнем, с приглашением посетить нашу общину — я ни словом не обмолвилась о случившемся чуде! Нет, ты только представь себе: благодаря Авраму Лазарь воскрес из мертвых! — Ян Сваммердам встал, подошел к окну и молча уставился в непроницаемую темноту. — Да-да, как есть, во плоти, восстал из мертвых! Он все равно что мертвый лежал, простертый на полу в своей лавке, но тут явился Аврам и вновь оживил его!.. Все взоры устремились на Айдоттера, который смущенно отвернулся и, отчаянно жестикулируя и пожимая плечами, принялся свистящим шепотом объяснять доктору Сефарди, мол, «таки, и впрямь, не обошлось без чего-то такого» — «лежу это я без сознания, ну ни жив ни мертв... А может, и впрямь, до смерти умер?.. За это не скажу, не знаю... А с чего бы Лазарю Айдоттеру и не помереть, скажите мне, господин дохтур, ведь вы человек ученый? Нет, прошу вас, господин дохтур, или не может умереть такой старый больной человек, как Лазарь Айдоттер!..» — Всеми силами души заклинаю тебя, Ева, — взмолилась госпожа де Буриньон, — не мешкая ни минуты, присоединяйся к нам, ибо, истинно говорю тебе, приблизилось Царствие Небесное, и последние будут первыми... Приказчик из аптекарской лавки — единственный, кто до сих пор не проронил ни звука, он сидел рядом с сестрой Магдалиной и, преданно заглядывая ей в глаза, бережно сжимал ее руку в ладонях — внезапно вскочил, треснул кулаком по столу и, выпучив воспаленные глаза, возопил заплетающимся языком: — И... и... и... пе-пе-первые бу-бу-будут по-по-последними, и у-у-удобнее вер-вер... — Накатило, накатило! Логос глаголет чрез него! — ликующе подхватила Хранительница порога. — Ева, да запечатлеется каждое слово в сердце твоем! — ...вер-верблюду пройти сквозь иго-иго-иго...[155] Ян Сваммердам подбежал к одержимому, лицо которого исказила гримаса животной ярости, и успокоил его плавными магнетическими пассами. — Не бойтесь, милая, это, как мы говорим, просто «негатив», — ласково обратилась сестра Суламифь, пожилая голландка, к фрейлейн ван Дрюйзен, которая в страхе устремилась к дверям. — Брат Иезекииль страдает приступами тяжкой болезни, когда низшая природа берет верх над высшей. Но все уже миновало... — Приказчик, опустившись на четвереньки, лаял и завывал подобно собаке, а новообращенная воительница из Армии спасения, встав рядом с ним на колени, заботливо гладила его по голове. — Не думайте о нем плохо, все мы грешники, а брат Иезекииль вынужден проводить свою жизнь в темной, пропахшей лекарствами лавке, вот и случается, что, когда он видит богатых людей — простите, милая, что я так, запросто, без обиняков, — горечь захлестывает его, помрачая сознание. Верьте мне, милая, нищета — тяжкое бремя, и, чтобы достойно его нести, потребно ох как много стойкости и веры в Промысел Божий, тут не каждый мужчина выдержит, где уж такому юнцу!.. Впервые в жизни открылась Еве ван Дрюйзен изнанка земного бытия и то, о чем она раньше читала в книгах, предстало перед ней во всей своей страшной неприглядности. И все же это была лишь одна краткая вспышка, которая конечно же не могла прорвать покровы непроглядной тьмы, окутывающей бездны человеческого несчастья. «Должно быть, там, в глубине, — сказала она себе, — куда не проникает взор человека, пользующегося благосклонностью судьбы, скрывается нечто поистине чудовищное». Человеческая душа, словно потрясенная каким-то мощным духовным взрывом, сбросив с себя старательно взращенную скорлупу привитых с детства норм поведения, предстала вдруг перед ней во всей своей отвратительной наготе, низведенная до животного уровня в тот самый миг, когда прозвучали слова Того, Кто ради любви взошел на крест. Сознание своей вины — ведь принадлежала она к привилегированным слоям общества и никогда не проявляла ни малейшего интереса к страданиям ближних, что, впрочем, в ее положении казалось вполне естественным (грех равнодушия, причина которого ничтожна, как песчинка, а результат — сокрушителен, как лавина), — заставило Еву содрогнуться от ужаса; то же самое, наверное, испытывает человек, который, рассеянно играя с канатом, пытается завязать его узлом и вдруг, присмотревшись, обнаруживает, что держит в руках ядовитую змею... Когда Суламифь заговорила о нищете приказчика, Ева непроизвольно потянулась за кошельком — рефлекторное движение, которым сердце пытается застать врасплох рассудок, — однако не успела она и сумочку открыть, а разум уже нашептывал, что сейчас не слишком удачное время для помощи, и вот твердое намерение — упущенное сегодня восполнить сторицей завтра или послезавтра, оттеснило поступок куда-то в сторону. И вновь победа осталась за старой, проверенной веками военной хитростью отца лжи: главное — выиграть время, а там, глядишь, и праведный порыв мало-помалу уляжется и забудется сам собой... Между тем Иезекииль, оправившись от припадка, тихо плакал, спрятав лицо в ладони. Сефарди, который, как всякий уважающий себя португальский еврей, неотступно придерживался обычаев своих предков и не входил в чужой дом без какого-нибудь, пусть совсем пустячного подарка, решил использовать традиционную обязанность, для того чтобы отвлечь внимание от несчастного молодого человека: развернув принесенный с собой сверток, он извлек маленькое серебряное кадило и с поклоном передал его Сваммердаму. — Золото, ладан и мирра — три священных царя Востока![156] — прошептала, благоговейно воздев очи, Хранительница порога. — Когда вчера стало известно, что вы, господин доктор, будете сопровождать Еву к нам, в Новый Иерусалим, Аврам нарек вас духовным именем Бальтазар, и что же: вы приходите и приносите ладан! Царь Мельхиор (в жизни его зовут барон Пфайль, я это знаю от маленькой Каатье) тоже являлся сегодня в духе, — и сестра Габриэла с таинственным видом повернулась к остальным членам общины, изумленно внимающим каждому ее слову, — и прислал золото. О, я вижу духовными очами: Каспар, царь Мавритании, уже на подходе, — с блаженной улыбкой она подмигнула Мари Фаац, которая ответила ей долгим понимающим взглядом, — да-да, гигантскими шагами приближается время к своему концу... Стук в дверь прервал ее. Вбежала Каатье, маленькая внучка сапожника Клинкербока, и срывающимся от волнения голосом воскликнула: — Скорее, ради Бога, скорее поднимайтесь к нам! У дедушки началось второе рождение.Глава V
Старый энтомолог, потрясенный известием, хотел было броситься к дверям, но Ева ван Дрюйзен удержала его и, пока остальные поднимались на чердак, в убогую каморку Клинкербока, быстро, срывающимся от волнения голосом проговорила: — Ради Бога, господин Сваммердам, я понимаю, сейчас не время, но мне необходимо задать вам один вопрос... Пожалуйста, только один, маленький, хотя их у меня к вам столько... столько... В общем, то, что вы говорили об истерии и о силе, скрытой в именах, прозвучало для меня как откровение, однако, с другой стороны... — Могу ли я дать вам совет, милая фрейлейн? — спросил Сваммердам и серьезно посмотрел в глаза девушке. — Я очень хорошо понимаю, что все услышанное вами в этой комнате только сбило вас с толку и внесло в вашу душу ненужный сумбур. Однако даже из нашей сегодняшней встречи вы могли бы извлечь немалую пользу, если бы отнеслись к ней как к первому уроку и впредь искали бы духовных наставников не среди окружающих вас людей, а в себе самой. Помните, впрок идут лишь те поучения, которые исходят от нашего собственного духа: они всегда приходят вовремя — ни раньше и ни позже, а в тот единственный неуловимый миг, когда мы открыты для их восприятия. И не давайте вводить себя в соблазн откровениям других людей, оставайтесь к ним слепы и глухи. Тропа, ведущая в жизнь вечную, узка, как лезвие ножа; и если уж вступили на эту опасную стезю, то полагайтесь сами на себя: все равно, ни вы не сможете помочь своим слабым, колеблющимся попутчикам, ни они — вам. Тот, кто оглядывается на других, теряет равновесие и срывается в бездну. В этом странствовании, в отличие от мира внешнего, ни о каком совместном продвижении не может быть и речи, а вот без проводника не обойтись, но явиться он должен из мира духа. Человек может служить провожатым лишь в путешествии по внешней земной действительности, о нем и судят по делам его. Все, что не от Духа, — мертвая земля, а мы хотим молиться только одному Богу — Тому, что открывается нам в сокровенной глубине нашего собственного Я. — А если в глубине моего Я Бога нет? — разочарованно спросила Ева. — Тогда в тихий ночной час вам нужно собраться с силами и воззвать к Нему всею страстью души вашей. — И вы думаете, Он явится? Как бы это было просто! — Он явится! Но не пугайтесь: сначала как мститель — и вам придется искупать ваши прежние прегрешения! — как грозный Бог Ветхого Завета, повелевший: око за око, зуб за зуб[157]. И откроется Он вам чередой внезапных событий, которые круто изменят вашу жизнь. Первое, что вас постигнет, — это утрата, утрата всего, даже... — Сваммердам произнес дальнейшее так тихо, словно боялся, что Ева услышит, — ...даже Бога, если вы хотите обретать Его вновь и вновь... И только, когда ваши представления о Нем утратят и образ и форму и очистятся от понятий внешнего и внутреннего, творца и творения, духа и материи, только тогда вы Его... — Увижу? — Нет. Никогда. Но вы увидите... себя. Его глазами. Тогда вы разрешитесь от земли, ибо ваша жизнь вольется в Его жизнь и сознание ваше уже не будет привязано к телу, которое подобно неприкаянной тени покорно побредет навстречу могиле. — Но какую цель преследуют утраты, которые, по вашим словам, непременно меня постигнут? Это испытание или кара? — Нет ни кары, ни испытаний. Внешняя жизнь с ее судьбой не что иное, как лечебный курс, для одних он проходит более болезненно, для других — менее, в зависимости от того, насколько запущенным окажется сознание «пациента». — Так вы уверены, что, если я призову Бога, моя судьба изменится? — Тотчас! Только сама она «меняться» не будет: представьте себе идущую спокойным размеренным шагом лошадь, которая вдруг ни с того ни с сего встает на дыбы и, не слушаясь поводьев, несется куда глаза глядят бешеным галопом. — В таком случае ваша судьба тоже должна была бы нестись подобно дикому мустангу? Извините, но, судя по тому, что я о вас слышала... — Вы, конечно, имеете в виду однообразное неспешное течение моей жизни, — усмехнувшись, закончил Сваммердам. — А помните, что я вам сказал минуту назад? «Не оглядывайтесь на других!..» Один, стремясь узнать мир, изъездит вдоль и поперек весь земной шар, для другого такое знание не стоит и выеденного яйца. Если же вы действительно хотите пришпорить свою судьбу, чтобы она пустилась вскачь, — а это, скажу я вам, поступок, истинный акт, другого такого для человека не предусмотрено, вот только решится на него далеко не всякий, ибо это еще и жертва, и хочу вас сразу предостеречь, милая фрейлейн, тяжелее жертвы сей нет ничего на свете! — то вам следует призвать свое Я — без этого сокровенного ядра вы были бы, извиняюсь, трупом (впрочем, не были бы даже им) — и повелеть вести вас кратчайшим путем к великой цели, единственной, хоть вы это сейчас и не понимаете, ради которой никакая мука не покажется слишком страшной, — и вести сурово, властно, беспощадно, без остановок и привалов, через страдания и болезни, сон и смерть, через почести и награды, богатство и увеселения, всегда сквозь, всегда мимо, подобно безумной, скачущей во весь опор лошади, уносящей своего изнемогающего всадника меж камней и терний, меж веселых цветущих лужаек и уютных тенистых рощ, в неведомую даль, туда, где сходятся земля и небо! Вот что я называю «воззвать к Богу». Это как обет пред внемлющим ухом! — А что, если я устану скакать верхом, учитель, и... и захочу вернуться? — На духовном пути дороги назад нет, и мысль о возвращении может прийти в голову лишь тому, кто не принес обета, однако он даже повернуть не успеет — стоит ему только оглянуться, как он тотчас превратится в соляной столп! Обет в сфере духа — все равно что священный нерушимый закон, и тогда Бог становится слугой человека, помогая исполнению сакральной клятвы. Не пугайтесь, фрейлейн, это не богохульство! Напротив! А теперь — то, что я вам сейчас скажу, конечно, глупость, я знаю, ибо мною движет сострадание, а все, что делается из сострадания, есть глупость — хочу вас предостеречь: не берите на себя слишком многого! Чтобы не случилось с вами как с тем разбойником, которому на кресте перебили кости![158] Лицо Сваммердама побледнело от волнения. Ева схватила его руку. — Благодарю вас, учитель, теперь я знаю, что мне делать. Старик привлек ее к себе и растроганно поцеловал в лоб. — Да будет вам, мое дитя, господин судьбы милосердным целителем!.. Они стали подниматься по лестнице. Словно застигнутая врасплох какой-то внезапной мыслью, Ева на мгновенье остановилась. — Еще одно, учитель! Многие миллионы людей, истекающих кровью на полях сражений, не давали никакого обета; почему же на их долю выпала столь страшная мука? — А откуда вы знаете, что они его не давали? Разве это не могло случиться в прежней жизни? — спросил спокойно Сваммердам. — Или в глубоком сне, когда наша душа бодрствует и лучше нас понимает, что ей нужно? Как будто завеса упала с глаз Евы, заглянувшей на миг в тайные механизмы судьбы. Последние слова Сваммердама сказали ей о назначении человека больше, чем все религиозные системы вместе взятые. Одна только мысль о том, что каждый идет тем путем, который выбрал сам, должна была бы сразу заставить утихнуть бесконечные стенания о якобы злой и несправедливой судьбе. — А теперь слушайте меня внимательно. Судя по всему, то, что происходит в нашем кругу, кажется вам, милая фрейлейн, смешным и нелепым, но, прошу вас, не торопитесь с выводами. Зачастую путь, ведущий круто вниз, оказывается на поверку самым коротким переходом к следующему этапу восхождения. Лихорадочный восторг духовного выздоровления иногда слишком уж напоминает судорожные корчи предсмертной экзальтации. Конечно, я не «Царь Соломон», а Лазарь Айдоттер не «Симон Крестоносец» — госпожа де Буриньон явно поторопилась, назвав его так только за то, что однажды он помог Клинкербоку деньгами, — и все же в этом кажущемся на первый взгляд бессмысленном и кощунственном присвоении священных имен Ветхого и Нового Завета нет ничего предосудительного и шутовского... Для нас Библия — это не только описание давно канувших в Лету событий, но и путь от Адама ко Христу, который мы переживаем в себе, неким магическим образом восходя от «имени» к «имени», с одного уровня силы на другой, от изгнания из рая к Воскресению. Для иных этот путь может превратиться в сплошной кошмар... — И старый чудак, помогая Еве преодолеть последние ступени, сдавленным от волнения голосом снова забормотал себе под нос что-то маловразумительное о распятом разбойнике с перебитыми костями. Госпожа де Буриньон, нетерпеливо ожидавшая вместе с остальными (не было только Лазаря Айдоттера, который ушел к себе вниз) у дверей чердачной каморки Еву и Сваммердама, дабы надлежащим образом подготовить свою легкомысленную племянницу к вступлению в святая святых, обрушила на нее настоящую лавину: — Ты только подумай, Ева, свидетелем какого величайшего чуда тебе посчастливилось стать! И произошло оно как раз сегодня, в день солнцестояния — ах, если бы ты могла себе представить, как это символично! Так вот... да, гм... что бишь это я?.. Ах, ну да, конечно, — Господи, тут совсем голову потеряешь! — случилось то, чего мы так долго ждали: в праотце Авраме зародился младенец, духовный человек! Старец услышал в себе его крик, когда приколачивал каблук... Сие, да будет тебе известно, есть «второе рождение», ибо «первое» — боли в животе, как о том сказано в Писании, надо только уметь его правильно прочесть. Ну а засим должны явиться три царственных волхва... И уж поверь мне, дорогая, так тому и быть: буквально на днях Мари Фаац рассказывала мне о странных слухах, которые ходят по городу, будто бы какой-то невесть откуда взявшийся черный дикарь гигантского роста у всех на глазах творит прямо-таки неслыханные чудеса, а не далее как час назад она его видела в соседней таверне. Чувствуешь, перст судьбы! Ну я-то сразу смекнула, что здесь не обошлось без вмешательства высших сил, ибо дикарь сей конечно же царь Каспар из Мавритании — кому же еще ему быть?! Ах, Ева, если б ты только знала, какая это милость — ведь именно мне посчастливилось исполнить почетную миссию и отыскать третьего волхва! Господи, я теперь сама не своя от радости — жду не дождусь, когда же наступит срок и можно будет наконец послать вниз Мари, чтобы она привела его... На одном дыхании выпалив это, Хранительница порога распахнула дверь и всех по очереди впустила в каморку... Сапожник Клинкербок прямо и неподвижно восседал во главе длинного стола, заваленного какими-то колодками, инструментами и кожаными заготовками, одна половина худого, изможденного лица была так ярко освещена льющимся в открытое окно лунным светом, что седые волосы короткой шкиперской бороды блестели подобно проволочным обрезкам, другая — тонула во мраке. Голый, матово мерцающий череп венчала вырезанная из золотой фольги зубчатая корона. Тесное помещение пропитывал кислый, унылый запах кожи. Словно налитое ненавистью око затаившегося во тьме циклопа тлел стеклянный сапожный шар, высвечивая лежащую перед пророком гору золотых гульденов. Ева, Сефарди и члены духовной общины стояли, боязливо прижавшись к стене, и ждали. Никто не осмеливался пошевелиться, на всех нашло какое-то оцепенение. Взор приказчика был прикован к пламенеющей груде золота. Медленно ползли секунды, преодолевая сопротивление непроницаемо плотной тишины, до неузнаваемости деформировавшей время, когда минуты казались часами. Выпорхнувшая из темноты моль белым трепетным лоскутком покружилась вокруг свечи и, потрескивая, сгорела в неподвижном пламени. Не мигая, словно каменное изваяние, смотрел пророк в стеклянный шар — рот приоткрыт, сведенные судорогой пальцы забыты поверх золотых монет, он как будто прислушивался к словам, долетавшим до него из каких-то потусторонних далей. Внезапно в комнату ворвался глухой шум, донесшийся снизу, из матросского кабака, — ворвался, прокатился из угла в угол и пропал, как только тяжелая входная дверь заведения снова захлопнулась... Мертвая тишина. Ева хотела бы посмотреть на Сваммердама, но смутный безотчетный страх удержал ее: а вдруг и на его лице выражение того же боязливого предчувствия приближающегося несчастья, от которого у нее самой перехватило горло?.. На миг ей почудился тихий скорбный голос, еле слышно произнесший там, за столом: «Господи, да минует меня чаша сия»;[159] хрупкие звуки тут же рассыпались, сметенные ворвавшимся с улицы залетным обрывком бесшабашной ярмарочной гульбы. Она подняла глаза и увидела, что окаменевшие черты Клинкербока ожили — ужас и смятение искажали их. — Вопль града сего, велик он, — услышала она скорбный шепот, — и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет; узнаю[160]. — Господи, да ведь это же слова Яхве из Первой книги Моисея! — пролепетала непослушными губами сестра Суламифь и перекрестилась. — Изрекши сие, Он пролил дождем серу и огонь...[161] Да не прогневайся, Владыка, что я скажу: может быть, найдется там десять праведников![162] Тема Содома и Гоморры, коснувшись ушей Клинкербока, росла и ширилась в его сознании, рождая видение грядущего конца света. Глухим монотонным голосом, словно зачитывал из невидимой книги, он безучастно вещал, обращаясь в сторону жмущихся к стене посетителей: — И вижу я ураган, проносящийся над землей, и сила его такова, что все, стоящее прямо, падает ниц пред гневом его... Тучи... Тучи летящих стрел... Могилы отверзаются, и надгробья, черепа и кости мертвых уносятся ввысь, сметенные страшным вихрем, чтобы потом пасть на землю смертоносным градом. И вижу я ветер, он яростно раздувает щеки, и воды речные бегут от уст его, вздымаясь до небес, и низвергаются проливным дождем... Рушатся дамбы, высокие тополя, подобно непокорным вихрам, стелются вдоль улиц. И все же не огонь и не сера, и сие единственно за-ради праведников, прошедших животворящее крещение... — голос старика понизился почти до шепота, — однако тот, пришествие коего вы ожидаете, не при-идет к вам в царском обличье, доколе не исполнятся сроки; ну а допрежь того должно вам обрести в себе предвестника его, нового человека, дабы приуготовал мир сей. Надобно, однако, чтоб их было много — людей с новыми глазами и новыми ушами, о таких уж не скажут: смотрят и не видят, слушают и не слышат. Но, увы, — глубокая печаль омрачила изможденное лицо, — увы, вот и средь них не вижу я Аврама! Ибо каждому отмерено будет по мере его, а муж сей допрежь того, как плод во чреве духа зрелым стал, отринул от себя щит бедности смиренной и отлил на потребу гордыни своей золотого тельца и устроил чувствам своим буйное празднество и непотребное плясание. Еще совсем немного — и его с вами уж не будет... Мавританский царь принесет ему в дар мирру жизни иной, а тело бренное швырнет в воды мутные рыбам на прокорм, ибо золото Мельхиора приспело раньше срока, когда младенец еще не воцарился в приуготованных ему яслях и не снял проклятия, лежащего на всяком злате. Стало быть, уродился он на беду, во тьме ночной, задолго до зари... Вот и ладан Бальтазара явился слишком поздно. Но ты, Габриэль, вонми: да не прострется рука твоя к урожаю, каковой не созрел еще для жатвы, дабы не поранил серп работника и не лишил пшеничный колос своего жнеца!.. Госпожа де Буриньон, втечение всей этой речи с удвоенным усердием испускавшая восхищенные вздохи, даже не пыталась проникнуть в ее темный смысл, однако, услышав свое духовное имя «Габриэль», с трудом подавила ликующий возглас и что-то поспешно шепнула на ухо Мари Фаац, которая сразу встала и торопливо покинула каморку. Сваммердам хотел ее задержать, но было уже поздно — девушка, прыгая через две ступеньки, сбегала по лестнице. Поймав на себе недоуменный взгляд Хранительницы порога, он лишь устало махнул рукой и обреченно понурил голову. Сапожник на мгновение пришел в себя, испуганно позвал свою внучку и тут же снова погрузился в прострацию. Тем временем в матросском трактире «У принца Оранского» собралась весьма представительная компания; господа довольно долго перекидывались в карты, а потом, уже за полночь, когда заведение стало заполняться разношерстным сбродом с Зеедейк, так что скоро в тесном подвале яблоку было негде упасть, предпочли удалиться в соседнюю комнату, днем служившую жилищем кельнерше Антье — «Портовой свинье», как прозвали местные завсегдатаи эту бесформенно толстую, вульгарно накрашенную бабенку в короткой, по колено, красной шелковой юбке с огромными вислыми грудями, дебелой шеей в отвратительных жирных складках, ноздрями, изуродованными какой-то неведомой пыткой, и тоненькой, похожей на поросячий хвостик косичкой грязновато-желтого цвета. Игроков было пятеро: хозяин притона — коренастый крепыш, бывший шкипер с бразильской посудины, ходившей в Европу с грузом красного дерева; он сидел по-домашнему, в одной рубахе, из-под закатанных рукавов торчали волосатые, покрытые татуировкой мускулистые лапы, маленькие золотые серьги поблескивали в мочках ушей, одно из которых было наполовину не то откушено, не то отрезано; далее, зулус Узибепю в темно-синей холщовой робе, такие носят кочегары на пароходах; горбатый импресарио варьете с длинными тощими пальцами, похожими на отвратительные паучьи лапки; «профессор» Циттер Арпад, каким-то непостижимым образом обретший вновь свои роскошные усы, впрочем, весь его внешний облик претерпел разительные перемены, продиктованные конечно же таинственными, далеко идущими стратегическими планами; и наконец в белоснежном тропическом смокинге главное украшение стола — темный от загара юный отпрыск какого-то несметно богатого плантатора, один из так называемых «индийцев», которые время от времени наезжают в Старый Свет из Батавии[163] или какой-нибудь другой голландской колонии, дабы познакомиться с родиной своих отцов, однако сия достойная всяческих похвал культурная программа начинается и кончается, как правило, в грязных портовых кабаках, где несмышленое чадо в несколько ночей самым бессмысленным образом в пьяном кураже спускает родительские денежки. Вот уже неделю знакомился любознательный молодой человек с достопримечательностями «Принца Оранского» и с тех самых пор света белого не видел, ну разве что под утро тонюсенькую полоску унылого туманного рассвета, брезжущую из-под зашторенных зеленой дерюгой окон, когда заплывшие от постоянного пьянства глаза сами собой слипались и сил хватало лишь на то, чтобы донести свое распухшее непослушное тело до дивана и, бросившись неумытым на измятую постель, забыться лихорадочным сном до следующего вечера. И тогда дьявольская карусель приходила в движение вновь: кости, карты, кислое пиво, дрянное вино, свирепая сивуха, дармовая попойка для портового отребья, чилийские матросы, бельгийские шлюхи — и так обычно пока последний чек не возвращался из банка неоплаченным и не наступала очередь часовой цепочки, колец и запонок. Однако на сей раз трактирщик решил приберечь лакомый кусочек для своего приятеля Циттера Арпада, коего и пригласил на заклание невинного агнца, и господин «профессор», проникнувшись торжественностью момента, не только явился с поразительной точностью, но и сам в долгу не остался: прихватил с собой в качестве приятного сюрприза зулусского кафра — у черной звезды манежа наличность не переводилась! Несколько часов кряду предавались господа макао, но никому из них так и не удалось залучить на свою сторону капризную Фортуну, ибо лишь только «профессор» собирался передернуть, хитрющий импресарио уже гаденько ухмылялся, и господину Арпаду не оставалось ничего иного как тянуть время, приберегая свои кунштюки для более благоприятного момента и одновременно бдительно наблюдая за паучьими маневрами горбуна — само собой разумеется, его совсем не прельщала перспектива делиться с каким-то случайным шулером принадлежащим ему по праву чернокожим простаком. Это томительное противостояние распространялось и на «индийца», а потому обоим соперничающим джентльменам, вынужденным соблюдать паритет, пришлось, к великому своему сожалению, едва ли не впервые в жизни играть честно — занятие сие, судя по их скорбным меланхоличным физиономиям, пробудило в черствых душах воспоминания о нежной безоблачной поре далекого детства, когда на кон ставился припрятанный с обеда миндаль или лесные орешки. Хозяин играл честно по собственному почину — в честь дорогих гостей: в нем так внезапно проснулся священный долг гостеприимства, что бедолага, обалдевший от привалившей благодати, замер с блаженно разинутым ртом, сознавая лишь одно — в случае проигрыша игроки обязаны возместить ему потери, это было ясно a priori и обсуждению не подлежало. Что же касается «индийца», то в его наивную, одурманенную винными парами голову даже мысль о возможном мошенничестве не закрадывалась, ну а зулус был еще слишком мало посвящен в таинства белой магии, чтобы с помощью пятого туза пытаться приворожить великую богиню удачи. И только глубокой ночью, когда из-за двери донеслись манящие звуки банджо, все более страстно требовавшие присутствия юного мецената, когда изнемогающая от жажды толпа, готовая уже на стену лезть за глоток живительной влаги, делегировала в комнату к игрокам стриженную a la Pony шлюху, не на шутку обеспокоенную таинственным исчезновением своего «котика», произошла наконец давно намечавшаяся перегруппировка противоборствующих сил, повлекшая для зулуса и «индийца» роковые последствия: в мгновение ока все было кончено и кругленькая сумма поступила s. e. et о.[164] на общий счет господина «профессора» и коварного паука-импресарио... Циттер Арпад, всегда отличавшийся широтой натуры, не преминул в очередной раз продемонстрировать бескорыстную щедрость и пригласил в опустевшую комнату фрейлейн Антье на интимный ужин со своим добрым приятелем Узибепю, пристрастие которого к изысканным блюдам и адскому коктейлю под названием Могадор — смесь спирта-денатурата и различных эссенций азотной кислоты — было ему хорошо известно. Застольная беседа велась исключительно на каком-то невообразимом сленге негритянских гетто, густо пересыпанном варварским жаргоном капштатов[165] и искусно уснащенном сочными словечками, позаимствованными из диалектов Басуто[166] — всеми этими экзотическими наречиями оба господина владели в совершенстве; кельнерше, которой тоже хотелось поучаствовать в умном разговоре, не оставалось ничего другого, как ограничиться пламенными взглядами, высовываньем языка и прочими немудреными атрибутами интернациональной мимики продажных девок. Человек светский до мозга костей, «профессор» не только умел поддерживать непринужденный разговор, не давая ему ни на миг затихнуть, но и не упускал из виду свою главную цель — выманить у проклятого зулуса секрет его чертовски эффектного трюка с хождением босыми ногами по тлеющим углям, и неустанно изобретал для этого тысячи хитроумных уловок. Однако даже самый внимательный наблюдатель не заметил бы, что попутно в его голове шла напряженная мыслительная работа, тесно связанная со сведениями, конфиденциально переданными ему Антье: сапожник Клинкербок, живущий на верхотуре, под самой крышей, сегодня, ближе к вечеру, зашел в «Принца Оранского» и обменял новенькую тысячегульденовую банкноту на золото. Зулусский кафр между тем тоже не терял времени даром: под влиянием огненного Могадора, обильной трапезы и зазывных трелей пышнотелой сирены он становился неуправляемым, быстро, прямо на глазах, впадая в какое-то буйное неистовство; атмосфера накалялась, впору уж было выносить из комнаты все колющие и режущие предметы, и в первую очередь самого Узибепю, по крайней мере, оградить его от контактов с кровожадной матросней, которая гуляла в кабаке и, наливаясь ревнивой злобой к чернокожему сопернику, уведшему от них толстозадую кельнершу, только и ждали, чтобы острыми как бритва ножами нарезать «грязного ниггера» на ремешки. Коварно, как бы ненароком брошенное «профессором» замечание, мол, все эти... хе-хе-с... магические штучки с тлеющими углями — сплошное надувательство, привело зулуса в такое бешенство, что он грозился не оставить камня на камне в этой дыре, если ему немедленно не принесут корыто с горящими головешками. Циттер Арпад, только этого и ждавший, велел внести заранее приготовленный таз и разбросать по цементному полу пылающие уголья. Узибепю присел на корточки и, жадно раздувая ноздри, принялся вдыхать удушливый чад. Глаза его постепенно стекленели. Казалось, он что-то видел, толстые губы беззвучно шевелились, как будто зулус разговаривал с фантомом. Внезапно он вскочил, испустив душераздирающий вопль, — такой пронзительный и страшный, что пьяный гвалт в таверне мигом стих и в двери одна за другой стали осторожно просовываться мертвенно-бледные физиономии оробевших гуляк. Сбросив одежду, совершенно голый негр, гибкий и мускулистый, как черная пантера, начал кружить в каком-то диком ритуальном танце вокруг зловеще пламенеющих углей; с пеной у рта он носился по кругу, с невероятной быстротой мотая головой из стороны в сторону. Зрелище было настолько жутким и необычным, что даже у видавших виды чилийских матросов от панического ужаса перехватило дыхание — то и дело кто-нибудь из них хватался за стену, чтобы не упасть со скамейки, на которую они взобрались. Танец закончился внезапно, словно по неслышному приказу; казалось, зулус снова пришел в себя — и только его лицо оставалось пепельно-серым — медленно, стараясь сохранить равновесие, он взошел босыми ногами на тлеющие угли и замер... Минута за минутой проходили в наступившей тишине, и странно — никто из присутствующих не улавливал ничего, что хотя бы отдаленно напоминало запах паленого мяса. Когда негр сошел наконец с огненной кучи, «профессор», придирчиво осмотрев его ступни, не обнаружил на них ни малейшего следа ожога — кожа была абсолютно чиста и даже как будто прохладна. Какая-то девушка в черно-синем одеянии Армии спасения, потихоньку вошедшая в трактир со стороны переулка, застала уже заключительную часть опасного «аттракциона»; подождав, когда зулус освободится, она приветливо, как старому знакомому, кивнула ему. — Ба, ты-то откуда в нашем гадючнике, Мари? — загудела удивленно «Портовая свинья» и, облапив девушку, сочно расцеловала в обе щеки. — Сегодня вечером шла мимо и заметила в окно мистера Узибепю... Я знаю его по кафе «Флора»: хотела просветить его темную душу Словом Божьим и почитать Писание, но он, к сожалению, почти не понимал по-голландски... — сбивчиво принялась объяснять Мари Фаац, — а меня... меня послала одна благородная дама из монастыря бегинок, чтобы я привела его наверх... Там, наверху, еще двое ученых господ... — Где это, наверху?.. — Да здесь, в вашем доме, у сапожника Клинкербока. Услышав это имя, Циттер Арпад резко обернулся, но сразу взял себя в руки и как ни в чем не бывало стал напыщенно и льстиво на том же невообразимом африканском арго нахваливать разомлевшего от успеха зулуса — быть может, хоть сейчас у этого упрямого аборигена развяжется наконец язык и он выболтает свои магические тайны. — Я рад приветствовать моего друга и покровителя мистера Узибепю из далекой страны Нгом и с гордостью свидетельствую, что он настоящий колдун, посвященный в таинство Обеа Чанга. — Обеа Чанга? — возмутился негр. — Обеа Чанга это что! — И он с оскорбленным видом щелкнул пальцами. — Узибепю — большой-большой доктор, Узибепю — Виду Чанга. Узибепю — ядовитый зеленый змей Виду... Получив столь необходимую ему пищу для размышлений, «профессор» мгновенно скомбинировал пару идей. Похоже, он напал наконец на след. Общаясь с заезжими индийскими факирами, господин Арпад не раз слышал, что укус некоторых ядовитых змей вызывает у человека, способного превозмочь смертельный яд, такие паранормальные феномены, как ясновидение, лунатизм, неуязвимость и другие совершенно поразительные способности... Почему бы тому, что возможно в Индии, не наблюдаться и у африканских туземцев?! — А ведь я тоже укушен большой священной змеей, — как бы невзначай заметил он, хвастливо ткнув пальцем в первый попавшийся шрам у себя на руке. Зулус презрительно сплюнул. — Виду не настоящая змея. Настоящая змея — жалкий червь. Тьфу! Змей Виду — зеленый змей-призрак с человечьим ликом. Змей Виду — это суквийан. И имя ему — Зомби... Сбитый с толку Циттер Арпад оторопел. Черт побери, это еще что за словечки? Таких он никогда раньше не слыхивал: «суквийан»?.. Тут слышится что-то французское. А что означает «Зомби»?! «Профессор» был настолько ошарашен, что даже не догадался скрыть незнание и этим навсегда подорвал свой научный авторитет в глазах чернокожего. Узибепю стал как будто еще выше ростом и с надменным видом принялся поучать: — Тот, кто уметь менять кожу, — суквийан. Жить долго-долго. Вечно. Дух. Невидим. Всем колдунам колдун. Папа черных людей быть Зомби. Зулу — его дети. Самые-самые. Они выходить из левого бока Зомби. — Он с такой силой стукнул кулаком себе в грудь, что мощная грудная клетка загудела, как пустая пивная бочка. — Каждый вождь зулу знать тайное имя Зомби. Говорить имя — и Зомби являться, большой-большой ядовитый змей Виду с человечьим ликом и священным фетишем во лбу. Когда зулу в первый раз видеть Зомби и Зомби прятать лик, то зулу должен умирать. Когда Зомби прятать лоб и открывать зеленый лик, то зулу жить долго-долго и становиться Виду Чанга, большой-большой доктор и господин огня. Узибепю — большой-большой, Узибепю — Виду Чанга!.. Циттер Арпад раздраженно прикусил губу: теперь нечего и думать о том, чтобы вкрасться в доверие к впавшему в раж «сыну Зомби». Тем настойчивей он принялся предлагать себя в качестве переводчика Мари Фаац, которая с помощью жестов пыталась уговорить уже одетого зулуса следовать за ней. — Без меня вам с ним ни за что не договориться, — повторял «профессор» в десятый раз, но убедить ревностно исполнявшую свой долг «Магдалину» так и не сумел. В конце концов до Узибепю дошло, чего от него добивалась эта странная женщина, и он следом за ней стал взбираться по жалобно скрипящей лестнице на самый верх, в чердачную каморку Клинкербока. Сапожник все еще сидел за столом, мишурная корона по-прежнему венчала его лысую голову. Маленькая Каатье подбежала к нему, и он уже раскрыл объятия, чтобы прижать любимую внучку к груди, но руки его тут же бессильно повисли, а взор погрузился в стеклянный шар — старик снова впал в свое странное сомнамбулическое состояние. И малышка на цыпочках отошла назад к стене и, затаив дыхание, замерла рядом с Евой и Сефарди. В комнате висела тяжелая гнетущая тишина, и чем дальше, тем она становилась все более плотной и безнадежно скорбной — никакому шуму уже не разбить этой могильной плиты, проносилось в сознании Евы всякий раз, когда ее настороженный слух ловил вдруг тихий шорох одежды или робкое поскрипыванье половиц, время от времени доносившееся из передней, — торжественно-траурное безмолвие прямо на глазах сгущалось в непроницаемый монолит вечного Настоящего, с легкостью отражавшего любые звуковые колебания, подобно черному бархатному ковру, по которому световые рефлексы лишь скользят, ни на дюйм не проникая вглубь. Чьи-то неуверенные шаги послышались с лестницы и стали приближаться... Ева почувствовала, как ангел смерти, восставший из-под земли, на ощупь, неторопливо, ступень за ступенью, поднимается к каморке. Она в ужасе вздрогнула, когда дверь у нее за спиной тихонько пискнула и в полумраке гигантской тенью возник негр. На остальных эта мрачная фигура тоже произвела сильное впечатление: все застыли, прижавшись к стене, боясь пошевелить хотя бы пальцем — казалось, сама смерть шагнула через порог и теперь одного за другим испытующе оглядывала присутствующих. Зато Узибепю как будто нисколько не удивила необычная обстановка и тишина, царившая в комнате, во всяком случае, его лицо оставалось совершенно невозмутимым. Он стоял в дверях и пожирал Еву пылающим взором до тех пор, пока Мари не пришла ей на помощь, молча и решительно заслонив ее собой. Черная голова сливалась с темнотой, видны были только мраморные белки да жутковато поблескивающие зубы, висевшие в пустоте как бы сами по себе, призрачной потусторонней фосфоресценцией. Пересилив страх, Ева заставила себя отвернуться к окну, за которым на расстоянии вытянутой руки, сияя в лунном свете, свисала со стрелы лебедки, укрепленной на карнизе крыши, толстая цепь. Вкрадчивый, еле слышный плеск доносился из глубины, там, где стена дома становилась стеной канала, когда свежий ночной ветерок слегка волновал воду на стрелке двух вилкообразно сливающихся грахтов... Внезапный крик заставил всех содрогнуться... Клинкербок, привстав из-за стола, указывал сведенным судорогой пальцем на какую-то сверкающую точку в центре шара. — Он снова там, — послышался его сдавленный хрип, — он, страшный ангел в зеленой маске, коий нарек меня Аврамом и дал мне есть книгу!.. И словно ослепленный каким-то сиянием, закрыл он глаза и тяжело опустился в кресло. Все молчали, утратив дар речи, и лишь зулус, который, пригнувшись, не сводил своих неестественно расширенных глаз с какого-то места чуть повыше головы Клинкербока, сказал вполголоса: — Суквийан!.. Там, у старика за спиной... Никто не понял, что он имел в виду. И вновь мертвая тишина — долгая, нескончаемая пауза, нарушить которую присутствующие не решались. Необъяснимая тревога охватила Еву, мелкая нервная дрожь пробегала волнами по ее телу. Казалось, какая-то кошмарная невидимая сущность бесшумно, пядь за пядью, завораживающе-неотвратимо насыщает собой пространство комнаты. Девушка стиснула руку стоящей рядом маленькой Каатье... И тут вдруг что-то с отчаянным криком судорожно метнулось из угла в угол и какой-то явно нечеловеческий голос гортанно воззвал из тьмы: — Авррраам! Авррраам! Ева от ужаса едва устояла на ногах, другие, правда, тоже находились не в лучшем состоянии. — Вот я, — словно в глубоком сне ответствовал сидевший в оцепенении сапожник. Хотелось кричать, громко, изо всех сил, однако, парализованная паническим страхом, Ева не могла издать ни звука. И вновь навалилась тишина, подмяв под себя все, даже удары пульса... Потом какая-то черная птица с редкими белыми пятнышками на оперенье стала затравленно носиться по комнате и наконец, ударившись головой об оконное стекло, рухнула на пол... — Это Иаков, наша сорока, — шепнула маленькая Каатье Еве, — что-то его испугало. Звуки доносились до Евы как сквозь толстый слой ваты; слова девочки не только не успокоили ее, но, наоборот, еще больше усилили гнетущее ощущение близости какой-то потусторонней сущности. И тут так же неожиданно, как крик птицы, по барабанным перепонкам ударил чей-то возглас — сорвался он с губ сапожника и звучал надтреснуто и тревожно: — Исаак! Исаак! Выражение лица сидящего за столом старика внезапно изменилось — на нем застыла гримаса полнейшего безумия... — Исаак! Исаак! — Вот я, — словно во сне отозвалась Каатье, в точности повторив своего деда, минутой раньше откликнувшегося на зов птицы. Ева заметила, что рука девочки холодна как лед. Лежащая под окном сорока громко застонала... Однако этот жалобный стон скорее напоминал скрипучий смех какого-то дьявольского кобольда. Звук за звуком, слог за слогом всасывала тишина жадным призрачным ртом и этот злорадный смех, и слова этого жутковатого диалога, похожего скорее на смутное эхо давным-давно канувших в Лету библейских событий, которые сейчас, спустя тысячелетия, каким-то парадоксальным образом, подобно привидениям, воскресали здесь, под крышей сырого голландского дома, в убогой каморке нищего ремесленника... Гулкие удары колокола на церкви св. Николая покатились через комнату, разбив на мгновение оковы дьявольских чар. — Пойду, пожалуй... Еще немного, и я не выдержу, — шепнула Ева Сефарди и повернулась к дверям, весьма удивленная тем, что только теперь — а ведь с тех пор, как пробило двенадцать, прошел не один час! — услышала колокольный звон. — Можно ли этого старого больного человека оставлять одного, без помощи? — спросила она Сваммердама, который молча делал знаки присутствующим, что пора уходить, и внимательно посмотрела на Клинкербока. — Похоже, он все еще в трансе? Да и девочка тоже спит... — Как только мы оставим его одного, он сразу придет в себя, — успокоил ее энтомолог, однако голос его звучал неуверенно, в нем слышался слабый отзвук затаенного страха, — а я позднее, пожалуй, загляну к нему... Негра пришлось чуть ли не силой выводить из комнаты — его лихорадочно блестевшие глаза были прикованы к лежащей на столе груде золотых монет; Ева видела, что Сваммердам старался не терять его из виду. Когда все вышли на лестницу, он быстро огляделся, тщательно запер каморку сапожника, а ключ спрятал в карман... Мари Фаац поспешила вперед, в квартиру Сваммердама, чтобы вынести гостям пальто и шляпы, а потом найти извозчика. — Лишь бы мавританский царь не забыл нас и явился вновь, ведь мы даже не успели с ним попрощаться... О Боже, ну почему дни рождения — и первого и второго — проходят всегда так печально! — пожаловалась госпожа де Буриньон сопровождавшему ее грустному и молчаливому Сваммердаму, когда они стояли внизу, у дверей дома, и ждали извозчика, который должен был отвезти ее в монастырь, Еву — в отель, а доктора Сефарди — домой... На этом разговор затих, и уже никто не делал попыток возобновить его. Было тихо, ярмарочные гуляния закончились, и лишь из-за наглухо зашторенных окон «Принца Оранского» доносились нестройные аккорды пьяного банджо, что есть мочи наяривавшего лихие, разухабистые куплеты. Та стена дома, что примыкала к церкви св. Николая, была погружена в глубокую тень, другая, на которую выходило окно чердачной каморки сапожника, высоко над грахтом глядевшее в туманную даль гавани, казалась в сияющем свете луны облитой жидким искрящимся серебром. Ева подошла к перилам канала и стала задумчиво вглядываться в черную страшную воду. Там, у самой воды, в нескольких метрах от места, где стояла Ева, толстая цепь — та самая, что свисала с укрепленной на крыше лебедки в непосредственной близости от окна Клинкер-бока — нижним своим концом касалась узкого, едва ли в ступню шириной выступа в стене. Какой-то стоящий в лодке человек возился с цепью; заметив освещенный лунным светом женский силуэт, он сразу пригнулся и спрятал лицо. Послышался цокот копыт, и Ева, зябко поеживаясь, поспешила назад к Сефарди; на мгновение ей почему-то вспомнились жутковато мерцающие мраморные белки негра... Сапожнику Клинкербоку снилось, будто он едет по пустыне на осле, рядом — его маленькая Каатье, а впереди неторопливо шагает проводник в черном тюрбане с закутанным лицом — человек, который дал ему имя «Аврам». День и ночь странствовал он так, когда возвел очи свои, и вот на небе мираж, богатая изобильная страна, никогда в жизни он не видел подобной; и сошел мираж в пустыню, и человек с закутанным лицом сказал, что это земля Мориа[167]. И взошел Клинкербок на гору, и устроил там жертвенник, разложил дрова для всесожжения и положил Каатье на жертвенник поверх дров[168]. И простер он руку свою и взял нож, чтобы заколоть дитя свое[169]. Сердце же его было спокойно и холодно, ибо знал он из Писания, что пожертвует овна во всесожжение вместо Каатье. Но он пожертвовал... дитя... И тогда открыл человек лицо свое, и исчез со лба его пламенеющий крест, и сказал он: «Открыл я тебе, Аврам, лик мой, дабы имел ты отныне жизнь вечную. А вот знак жизни убрал я с чела моего, дабы вид его никогда боле не сжигал бедный твой мозг. Ибо мой лоб — твой лоб, и мой лик — твой лик. Знай же, сие воистину второе рождение, ибо ты и я едины, и да будет известно тебе, странник, что я, проводник твой к древу жизни, есмь ты сам... Немало таких, кто видел лик мой, да только неведомо им, что сие есть свидетельство второго рождения, а потому и плутают они по сю пору в поисках жизни вечной. И, помни, до той поры, когда настанет твой черед пройти узкими вратами, смерть понаведается к тебе еще раз, ну а до-прежь всего — крещение огнем, пылающие воды боли и отчаянья. Ибо ты сам так хотел. И только потом душа твоя вниидет во царствие, кое я тебе приуготовал, — подобно птице, полетит она из тесной клетки на-встречь вечной заре...» И воздел Клинкербок очи свои, и увидел, что лик человека сего был из зеленого злата и заполнял собой все небо, от края до края, и вспомнилось ему, как в юности своей он, дабы облегчить путь идущим за ним, молитвенно поклялся, что до тех пор не продвинется далее ни на шаг по духовной стезе, пока повелитель судьбы не возложит на него все бремя мира. Проводник исчез. Клинкербок стоял во мраке и прислушивался к оглушительным ударам грома; но вот гроза стала затихать, а доносящиеся издали раскаты напоминали теперь скорее громыхание дрожек на ухабистой мостовой. Старик мало-помалу приходил в себя, видение, посетившее его, окончательно поблекло, он огляделся, узнал свою каморку, хотел было сесть в кресло и тут только заметил, что правая рука что-то сжимает... Поднес ее к глазам: окровавленное шило... Огонек догорающей свечи полыхнул в последней агонии, и эта судорожная вспышка выхватила из темноты бледное личико маленькой Каатье, которая лежала мертвой на старом потертом диване. Безграничное отчаянье захлестнуло Клинкербока. Хотел вонзить себе шило в грудь — рука висела как парализованная. Хотел завыть диким зверем — сведенная судорогой челюсть не давала открыть рта. Хотел размозжить голову о стену — ноги не шли, словно перебитые в суставах. Господь, которому он поклонялся на протяжении всей своей жизни, обернулся вдруг ухмыляющейся дьявольской гримасой. Он привалился к двери, чтобы позвать на помощь, и, вцепившись в ручку, отчаянно тряс ее, пока не рухнул на пол — дверь была заперта. Дополз до окна, поднял раму, хотел докричаться до Сваммердама — и тут меж небом и землей возникло чье-то черное как сажа лицо, страшные глаза с мраморными белками смотрели пристально, в упор... Висевший на цепи негр запрыгнул в комнату. На мгновение Клинкербоку почудилась узкая алая полоска, мелькнувшая на востоке из-за низких угрюмых облаков; подобно вспышке молнии, в памяти сверкнул жертвенный нож из библейского видения, и несчастный старик умоляюще, как к избавителю, простер свои руки к Узибепю... Заметив просветленную улыбку на лице сапожника, негр в ужасе отпрянул, но тут же опомнился, прыгнул на него и схватил за горло... Минуту спустя он набил карманы золотом, а тело Клинкер-бока спихнул с подоконника вниз. С великим плеском рухнуло оно в мутные смрадные воды грахта, а над головой убийцы выпорхнула наружу черная птица и с ликующим криком «Авррраам! Авррраам!» устремилась навстречу утренней заре.Глава VI
Хаубериссер проспал до полудня, однако, продрав наконец глаза, с трудом оторвал от подушки голову — тело было как свинцом налито. Нетерпеливое желание поскорее узнать, что же это за «послание» свалилось на него ночью и откуда оно взялось, держало его в напряжении до самого утра, не давая толком заснуть, подобно мучительному ожиданию раннего пронзительного звонка будильника. Накинув халат, он принялся внимательно исследовать стены ниши, в которой помещалась его кровать, и почти сразу без особого труда обнаружил в обивке потайную дверцу. В маленьком ящичке ничего, кроме разбитых старомодных очков да пары гусиных перьев, не было; судя по многочисленным чернильным пятнам, откидная крышка тайника служила кому-то из прежних жильцов в качестве своеобразного ночного пюпитра. Разгладив свиток, Хаубериссер осторожно перелистал ветхую рукопись... Чернила безнадежно поблекли, а кое-где расплылись большими радужными кляксами, отдельные сильно отсыревшие страницы спрессовались в толстый слой плесневелого картона, и о том, чтобы их восстановить, нечего было и думать. Начало и конец отсутствовали, сохранившаяся же часть манускрипта изобиловала вставками, исправлениями и вымаранными местами и если не являлась дневником, то сильно смахивала на черновой набросок какого-то литературного произведения. Ни имени автора, ни каких-либо дат в записях не значилось, так что определить точный возраст рукописи не представлялось возможным. Разочарованный Хаубериссер уже было собрался вновь улечься в постель, чтобы хоть как-то восполнить упущенный ночной отдых, и тут, рассеянно перелистывая манускрипт, перед тем как отложить его на письменный стол, он вдруг вздрогнул, в первый момент даже не поверил своим глазам... Пытаясь найти промелькнувшее место, Фортунат суетливо рылся в бумагах, однако нервическое нетерпение, овладевшее им, окончательно запутало его и поиски пришлось временно прекратить. И все же он мог поклясться, что на одной из страниц черным по белому было написано — «Хадир Грюн»! Обман зрения исключался — закрывая глаза, Хаубериссер совершенно отчетливо видел перед собой затерявшуюся среди бумаг страницу с преследовавшим его именем, написанным сверху, у самой кромки... Солнце жарко светило в широкое незашторенное окно; комната, обитая поблекшим желтым шелком, утопала в нежно-золотом сиянии, тем болезненнее показался Фортунату в интерьере этой очаровательной полуденной неги укол пронзившего его ужаса — никогда раньше не испытывал он такого беспричинного страха, который бы столь внезапно и стремительно вторгался в душу с черного хода, с обратной, ночной стороны жизни, и, едва переступив порог, ослепленный хлынувшим на него светом, снова бесследно исчезал, подобно мрачному, случайно перепутавшему дверь порождению кромешной тьмы. Фортунат понимал, что этот иррациональный ужас не имеет никакого отношения к анонимной рукописи с затаившимся где-то в ее глубине зловещим именем «Хадир Грюн» — нет, всему виной он сам, на один краткий миг усомнившийся в себе и своих чувствах, только оно, закравшееся в его душу недоверие. могло вот так, запросто, средь бела дня, выбить почву у него из-под ног. Хаубериссер поспешно закончил свой туалет и позвонил. — Скажите-ка, любезнейшая госпожа Омс, — обратился он к старой экономке, ведавшей его холостяцким хозяйством, когда она поставила поднос с завтраком к нему на стол, — не знаете ли вы случайно, кто здесь жил раньше, до меня? Старуха задумалась. — Помнится, когда-то очень давно дом этот принадлежал одному господину преклонных лет... Был он, если мне не изменяет память, очень богатым и нелюдимым. Одно слово — чудак... Ну а потом, потом здесь долго никто не жил, дом ветшал, вот его и передали попечительству сиротских приютов. Так-то, менеер. — А как его звали, этого старого чудака, и жив ли он еще, не знаете? — Чего не знаю, менеер, того не знаю. — Хорошо, спасибо. Усевшись поудобней, Хаубериссер снова взял в руки не дававшие ему покоя бумаги и уже более внимательно принялся просматривать их. Вскоре он заметил, что рукопись распадалась на две части: в первой автор обращался к прошлому, небольшими обрывочными фрагментами намечая судьбу преследуемого неудачами человека, который испробовал все мыслимые способы, чтобы обеспечить себе мало-мальски пристойное существование, однако в последний момент его усилия всякий раз терпели крах... Каким образом он потом едва ли не в одну ночь обрел огромное состояние, оставалось непонятным — несколько безнадежно испорченных сыростью страниц пришлось отложить. Вторая часть была написана явно позже: чернила выглядели свежее, а почерк — неуверенным, пляшущим, чувствовался груз прожитых лет. Пару мест, содержание которых показалось ему интересным и до известной степени близким по образу мыслей, он отметил особо, собираясь впоследствии к ним вернуться и более тщательно проанализировать эту бросающуюся в глаза общность взглядов: «Тот же, кто уверовал, что живет ради своих потомков, обманывает себя. Опасное заблуждение — считать, что род человеческий идет путем прогресса. Поступательное движение нам только мнится. Единицы тех, кто воистину шагнул вперед. Кружить по кругу не означает продвигаться вперед. Должно человеку прорвать заколдованный круг, иначе ничего не свершит он. Люди наивно полагают, что жизнь начинается рождением и кончается смертью, — жалкие слепцы, не зрят они круга, где уж им прорвать его, обреченным суетно и бессмысленно прыгать на одном месте, уподобившись белке в колесе!» Хаубериссер перелистнул и, едва взглянув на первые слова, написанные сверху, у самой кромки страницы, вздрогнул... «Хадир Грюн»! Так и есть! Не померещилось! На одном дыхании пробежал он глазами следующие строки, однако они ровным счетом ничего не объясняли: таинственное имя было концом, последними словами предложения, начало которого следовало искать на предыдущей странице, но она-то как раз и отсутствовала!.. «Вот уж воистину концы в воду», — подумал в отчаянье Фортунат, только теперь осознавая, как сильно заинтригован этим неуловимым Хадиром Грюном, столь ловко заметавшим свои следы, что не было, казалось, ни малейшей возможности выяснить, в какой связи упоминал автор рукописи его имя — а ведь не исключено, что они были лично знакомы!.. Хаубериссер схватился за голову. Вся эта история начинала действовать ему на нервы — такое впечатление, будто каким-то могущественным силам доставляло удовольствие водить его за нос. И хотя еще теплилась слабая надежда на то, что оставшаяся часть рукописи поможет напасть на потерянный след, — заставить себя читать дальше он не мог: буквы прыгали у него пред глазами... «Все, хватит с меня, я не позволю играть со мной в какие-то дурацкие кошки-мышки! Пора этому положить конец!» Фортунат окликнул экономку и попросил позвать извозчика. «Всего-то и делов, съездить в кунштюк-салон и вызвать господина Грюна! — внезапно осенило его, однако не прошло и минуты, как он понял, что эта затея не более чем холостой выстрел. — Ну при чем тут старый еврей, ведь он-то не виноват, что его имя преследует меня, подобно навязчивому кошмару?» Но госпожа Оме уже вышла. Беспокойно ходил он из угла в угол, тщетно пытаясь себя урезонить: «Совсем как сумасшедший стал. Подумаешь — Хадир Грюн!.. И дернул же меня черт впутаться в эту идиотскую историю!» А внутренний голос тут же язвительно ввернул: «Ну да, конечно, жил бы себе тихо, мирно, как все благоразумные обыватели», — и сразу привел его в чувство: «Да что это я, право, или судьба недостаточно учила меня, что жизнь — это вопиющая бессмыслица, если жить так, как живет большая часть рода человеческого? Далее если бы я совершил самое немыслимое сумасбродство, — все равно это было бы во сто крат мудрее, чем семенить с оглядкой, по старинке, слившись с серой безликой толпой трусоватых благонамеренных обывателей навстречу бессмысленной смерти». Отвращение к жизни, давненько не вылезавшее из своей укромной норы, подступило к горлу удушливым тошнотворным комком, и Хаубериссер понял, что ему не остается ничего другого — если только он не хочет раньше или позже наложить на себя руки, — как, по крайней мере, на некоторое время отдаться на волю судьбы, пока она его либо не вынесет чрез все стремнины и подводные камни на твердую почву какого-то нового, еще неведомого кредо, либо не гаркнет фельдфебельским голосом: ничто не ново под солнцем[170], и цель всякой жизни одна— смерть... Фортунат собрал бумаги, отнес их в свою библиотеку, но, прежде чем запереть в письменном столе, вынул из пачки ту страницу, на которой упоминался Хадир Грюн, и, сложив ее, спрятал в бумажнике. Сделал он это не из суеверного страха, что помеченному зловещим именем листку ничего не стоило бесследно испариться даже из-под замка, — нет, то была инстинктивная реакция — своего рода защитная мера — человека, привыкшего к самым неожиданным казусам и знавшего, как опасно полагаться только на память, подверженную стольким дезориентирующим влияниям; письменное свидетельство, находящееся под рукой в любое время дня и ночи, позволяло чувствовать себя более свободно и не опасаться, что впечатление от какого-нибудь из ряда вон выходящего происшествия, поколебав привычную картину будней, исказит хранящийся в памяти текст... — Дрожки внизу, менеер, — известила экономка. — И вот еще телеграмма... Только что пришла. — «пожалуйста зпт будь сегодня чаю тчк куча народу зпт том числе твой приятель цихоньский тчк великому сожалению зпт будет также рюкстина тчк гром молния зпт если ты меня покинешь произвол судьбы тчк пфайль тчк», — прочел Фортунат и выругался в сердцах, ни секунды не сомневаясь, что, только беззастенчиво сославшись на свои якобы приятельские отношения с ним, «польский граф» сумел проникнуть в дом барона — черт возьми, могу себе представить, какой несусветный вздор наплел «ясновельможный» о «гениальном изобретателе торпед» Хаубериссере, чтобы свести знакомство с Пфайлем!.. Усевшись в дрожки, Фортунат велел извозчику ехать на Ио-денбрестраат. — Да-да, все верно, почтеннейший, вы не ослышались — прямо через гетто, — добавил он, усмехнувшись, когда извозчик не доверчиво переспросил, ехать ли ему напрямую, через Йордаан[171], или в объезд, боковыми улицами. Вскоре они как в омут канули в этот, пожалуй, самый необычный из всех европейских кварталов. Жизнь его обитателей проходила в основном на улице. Здесь, прямо под открытым небом, готовили пищу, стирали и гладили, рождались и умирали. Извозчику приходилось то и дело нагибаться, чтобы не задеть головой одну из низко натянутых поперек переулка веревок с вывешенными на ней застиранными до дыр простынями, ветхими, полупрозрачными наволочками и дырявыми носками... Седобородые часовщики, ютившиеся на тротуаре за крошечными колченогими столиками, провожали дрожки недоуменными взглядами, поразительно напоминая своими зажатыми в глазницах линзами пучеглазых глубоководных рыб; дети сосали материнскую грудь или кувыркались на решетках грахтов. Перед воротами одного из домов посреди мостовой стояла кровать с дряхлым парализованным старцем: ничего особенного, просто дедушку вынесли подышать «свежим воздухом», не забыв поставить под матрац ночной горшок; неподалеку, у перекрестка, торчал какой-то раздутый до невероятных размеров еврей, с головы до ног, как Гулливер лилипутами, облепленный пестрыми причудливыми куклами, — он продавал свой веселый товар и, не переводя дыхания, надсадно верещал таким голосом, будто в горле у него сидела серебряная фистула: — .. .poppipoppipoppipoppipoppi... [172] — Kleerko, klеегко, kle-e-erkooooop[173], — грозно гремел, перекрывая хилую фистулу, какой-то одетый в ниспадающее до пят рубище Исайя с белоснежными пейсами, снизошедший до профессии старьевщика; он победно, словно овеянным славой боевым штандартом, размахивал над головой какими-то грязными кальсонами с оторванной штаниной и, видимо, нисколько не сомневаясь, что такой «видный господин», как Хаубериссер, просто не может не соблазниться его великолепными «одноногими» подштанниками, заговорщицки подмигивал ему, дабы тут же, без долгих проволочек, ударить по рукам. А откуда-то сбоку, из соседнего переулка, уже неслись прихотливые модуляции многоголосого хора: — Nieuwe haring, niwe ha-a-a-ng! — Aardbeien, aare-bei-je! de mooie, de mooie, de mooie waar! — Angurkjes, gezond en goedkoop![174] Извозчик, вынужденный при звуках этого соблазнительного хорала поминутно сглатывать слюнки, внимал с благоговейным выражением лица, как будто даже с удовольствием ожидая, когда с дороги уберут огромную гору невыносимо зловонного тряпья и он сможет осторожно, шагом, ехать дальше. Гору эту воздвигло целое полчище юрких еврейских старьевщиков, которые уже трудились над сооружением очередной пирамиды — использовать обычные мешки они почему-то считали ниже своего достоинства и всю подобранную на улице грязную рвань совали себе под лапсердаки и так, на голом теле, втянув и без того тощий живот, сносили в одну кучу. Зрелище было весьма курьезным: с трудом переставляя тоненькие ножки, со всех сторон чинно, вразвалку, сходились огромные, бесформенные тюки, набитые до отказа вонючими тряпками, и вдруг, словно по мановению волшебной палочки, они худели, а то, что от них осталось — что-то длинное, тощее, чахлое, — с какой-то суетливой крысиной поспешностью шмыгнув в первую же темную подворотню, пропадало из виду... Наконец улица стала шире, и впереди засверкала на солнце стеклянная пристройка кунштюк-салона. Пришлось немного подождать, пока «вагонное окно» в перегородке — на сей раз без грохота и с какой-то даже вкрадчивой предупредительностью — не провалилось вниз и в отверстии появился пышный бюст волоокой приказчицы. — Чем могу служить, менеер? — подчеркнуто холодно и рассеянно осведомилась белокурая барышня, явно не желая признаватьсвоего вчерашнего клиента. — Мне бы хотелось поговорить с вашим хозяином. — К сожалению, господин профессор отбыл вчера на неопределенное время. — Приказчица поджала губки и настороженно, по-кошачьи, стрельнула глазами в Хаубериссера. — Фрейлейн, я имею в виду не профессора, мне нужен тот старый господин, который вчера стоял там, внутри, за конторкой. — Ах этот! — Смазливое личико тут же оттаяло. — Так бы сразу и сказали! Господина Педерсена из Гамбурга! Ну того, что в диаскоп глазел?.. — Да нет же, я говорю о старике еврее... Он еще что-то писал у вас в канцелярии, я и подумал, что ваше заведение принадлежит ему. — Наше заведение? Извольте видеть, менеер, наш салон никогда не принадлежал никакому еврею — ни старому, ни малому... Мы, милостивый государь, фирма христианская, и евреев у нас сроду не водилось. — Пожалуйста, пожалуйста, ничего не имею против. И все же мне бы очень хотелось поговорить с тем старым евреем, который вчера стоял там, в конце коридора, за конторкой. Будьте любезны, фрейлейн! — Иезус, Мария, Иосиф! — затараторила барышня, для пущей убедительности переходя на родной венский диалект. — Да я ж вам как на духу: нету в нашей лавке жидов и никогда не было — ни вчера, ни сегодня, ни за конторкой, ни под конторкой! Вот те крест!.. Фортунат не верил ни единому ее слову и раздраженно прикидывал, как бы рассеять то дурное впечатление, которое, судя по всему, сложилось на его счет у этой не в меру подозрительной особы. — Ладно, фрейлейн, оставим это. Но скажите хотя бы: кто этот неведомый «Хадир Грюн», имя которого красуется на вашей вывеске? — На какой еще вывеске? — Ради Бога, фрейлейн! Там, снаружи, над дверями вашего салона! Глаза приказчицы сделались круглыми. — Д-да что это вы, менеер, н-на нашей вывеске н-написано: Ц-Циттер Арпад... — в полном замешательстве пролепетала она, через силу выговаривая слова. Схватив шляпу, доведенный до белого каления Хаубериссер устремился вон, чтобы еще раз убедиться самому, а потом ткнуть носом эту бестолковую бабу в висящую над дверью вывеску. Выходя, он по отражению в дверном стекле видел, как приказчица, глядя ему вслед, выразительно постучала себя по лбу. Оказавшись на улице, он задрал голову — и сердце его остановилось... На большом деревянном щите черным по белому — точнее, белым по черному — значилось: «Циттер Арпад»! И никаких следов «Хадира Грюна»... Фортунат был настолько ошеломлен и пристыжен, что, оставив свою любимую трость в салоне, поспешил прочь, лишь бы как можно скорее уйти подальше от проклятого заведения. Около часа блуждал он, погруженный в думы, по каким-то кривым улочкам, сворачивал в хмурые безмолвные переулки, забредал в тесные глухие дворы, в конце которых вдруг, будто из-под земли, вырастали безмятежно дремлющие на солнцепеке церкви, проходил через сумрачные, сырые как погреб подворотни, рассеянно внимая эху своих шагов, словно в монастырских галереях, одиноко отдававшемуся под низкими закопченными сводами. Вымершие дома — они казались необитаемыми по меньшей мере на протяжении нескольких веков, тут и там на барочных подоконниках, среди горшков с тюльпанами возлежали, сонно жмурясь на золотой солнечный диск, ангорские кошки. Нигде ни звука... Высокие вязы — ни одна веточка, ни один листочек не шелохнется — тянулись к небу из крохотных зеленых садиков, вокруг которых, словно в умилении, теснились древние домишки, походившие своими потемневшими морщинистыми фасадами и светлыми решетчатыми окнами, тщательно, по-воскресному, промытыми, на приветливых радушных бабулек. Невольно втянув голову в плечи, нырял он под низкие приземистые арки, чьи массивные гранитные опоры, в ходе столетий отшлифованные ветром до зеркального блеска, обступали его каменным частоколом, и, поеживаясь, погружался в угрюмый сумрак извилистых ущелий-тупиков, стиснутых со всех сторон высокими стенами с тяжелыми, крепко запертыми дубовыми вратами, которые, с тех пор как их поставили, наверное, никто никогда не открывал. Мох, проросший меж булыжников мостовой, приглушал шаги, а красноватые мраморные плиты с полустертыми эпитафиями, вделанные в плесневелые стенные ниши, напоминали о кладбищах, которые в былые времена находились на этом месте. И вновь вела его за собой узкая лента тротуара; прихотливо извиваясь вдоль скромных, без лепнины и украшений, зданий, покаянно припорошенных серой пылью, она уходила круто вверх. Из-под фундамента одного из них пробивался родничок... Там, в глубине, что-то призрачно бурлило, чмокало и содрогалось, подобно ударам гигантского каменного сердца. И сразу пахнуло свежестью: по деревянным желобам, составленным под прямым углом вдоль осклизлых перил подъема, искрящаяся струйка, весело журча, сбегала в лабиринт полусгнивших дощатых вен. Дальше — нестройный ряд высоких узкогрудых домов; эти стояли кособоко, застя свет и подпирая друг друга плечами, и все равно казалось, ноги у них вот-вот подогнутся и они упадут... Небольшой отрезок улицы, облепленной хлебными и сырными лавками, — и впереди открылась грязновато коричневая гладь какого-то грахта, широко и невозмутимо раскинувшаяся под бледно-голубым небом. Дома, подступавшие к берегам с противоположных сторон канала, смотрелись настоящими антиподами: одни — худенькие и скромные — походили на застенчиво потупившихся ремесленников, другие — рослые, дородные товарные склады — глядели самоуверенно и неприступно. И ни единого мосточка, который бы их соединял; лишь какое-то чудаковатое дерево, растущее за забором, с которого свисали в воду многочисленные лески с красно-зелеными поплавками, любопытно тянулось, повиснув над каналом, к противоположной стороне и даже, словно не веря глазам своим, ощупывало чутко подрагивающими ветвями окна надменных богачей... Хаубериссер повернул обратно, и вскоре его вновь обступило Средневековье — прошли века, а в этой части города ничто не изменилось. Солнечные часы над древними вычурными гербами, высеченными на потемневших от времени стенах, подслеповато поблескивающие зеркальные стекла, красные черепичные крыши, маленькие уютные капеллы, робко прячущиеся в тень, золотые капители башен, горделиво устремленные ввысь, к белым щекастым облакам... Кованая решетчатая дверь, ведущая в монастырский двор, стояла открытой... Он вошел и увидел скамейку, полуприкрытую ветвями ивы. Высокая запущенная трава. Кругом ни души, в окнах тоже никого не видно. Все как вымерло. Чтобы сосредоточиться и окончательно прийти в себя, Фортунат присел на скамейку... Замешательство, охватившее его в первую минуту при виде вывески и сменившееся чуть позже вполне понятным опасением, что с ним явно происходит что-то не то, если уж ему средь бела дня мерещится невесть что, давно рассеялось. Гораздо больше беспокоил его тот весьма необычный образ мыслей, который с некоторых пор прижился в нем. «Чем объяснить, — спрашивал он себя, — что я, человек пока еще сравнительно молодой, стал относиться к жизни как древний старец?.. В самом деле, в мои лета мало кто задумывается над смыслом бытия». Тщетно напрягал он память, пытаясь найти тот поворотный пункт, когда в его сознании произошел этот роковой переворот. Что касается юности, то тут все было просто и понятно: подобно всем молодым людям, Хаубериссер до тридцати лет оставался рабом своих страстей и ограничивал себя в удовольствиях лишь настолько, насколько позволяли здоровье, энергия и кошелек... А вот о детстве Фортунат как-то не подумал, видимо, сочтя, что замкнутый и задумчивый мальчик, каким он был в ту далекую пору, вряд ли может иметь какое-нибудь отношение к его сегодняшним, «взрослым» проблемам. Где же в таком случае следовало искать корень, давший жизнь этому невесть откуда взявшемуся лишенному цветов ростку, который он теперь называет своим Я? «Воистину, присуще человеку некое сокровенное развитие...» — внезапно совершенно отчетливо всплыли в его памяти слова. «Стоп, где же я мог это слышать?» — задумался Фортунат, но лишь на миг, — хлопнув себя по лбу, он принялся поспешно ощупывать карманы; найдя бумажник, извлек из него привлекшую его внимание страницу и прочел: «...в тайне вершится оное, годами не давая о себе знать, и уж кажется, что заглохло оно втуне, как вдруг — последним толчком может стать какая-нибудь мелочь, ничтожный пустяк — оболочка спадает и в нашу жизнь прорастает тугая упругая ветвь со спелыми плодами, цветения коей мы и не приметили; тут только открывается нам, что, сами того не сознавая, были садовниками, растившими заветное древо... О, скольких горестей мне бы удалось избежать, если б я, малодушный, не давал вводить себя в заблуждение и не верил, что древо сие выращено помимо меня, некой неведомой силой! Я — и только я! — был господином своей судьбы и сам о том не догадывался! Мнилось мне, что безоружен я пред всесильной судьбой, ибо ни одно из моих деяний не возымело желаемого результата и не принудило жестокий рок поспешествовать мне... И ведь ни единожды снисходило на меня просветление: тот, кто повелевает своими мыслями, повелевает и судьбой! Мне, однако, о ту пору было и невдомек, какой страшной магической силой обладает мысль, а потому и не пытался я подчинить себе сознание, справедливо полагая, что заведомое неверие все дело обрекает на провал. Тяжкое заблуждение, унаследованное родом человеческим от праотца Адама, тяготело мной: деяние казалось мне могучим гигантом, а мысль — призраком бесплотным. Лишь тот, кто сумел подчинить себе свет, повелевает тенью, а вместе с нею и судьбой; тот же, кто пытается одолеть злой рок какими-то деяниями, уподобляется тени, тщетно стремящейся победить другие тени. Вот и выходит, что, покуда жизнь це изведет нас до полусмерти, мы так и не поймем, где скрывается корень... Как часто, обуреваемый желанием помочь людям, втолковывал я ближним моим сии нехитрые тезы! Они слушали меня со вниманием, согласно кивали и благодарили, однако все мои речи входили у них в одно ухо и выходили в другое. Должно быть, истина слишком проста, чтобы всяк мог проникнуться ею в одночасье... Итак, до тех пор пока древо не вырастет до небес, никто ничего не осознает?.. Вот только как бы не оказалась разница промеж человеком и человеком больше, нежели разница промеж человеком и камнем... Цель человеческой жизни, наверное, в том и состоит, чтобы, обострив свои чувства, понять наконец закон, согласно коему древо сие растет, зеленеет и не иссыхает на корню. Все прочее — навоз, тупое и бессмысленное воздвижение навозной кучи. И еще... Сколь велико число тех, кто способен ныне понять, что я имею в виду?.. Сдается мне, большая часть моих слушателей снисходительно сочтет, что я выражаюсь образно, так сказать, аллегорически. Двусмысленность языка — вот воистину тот клин, коий мы сами же и вбиваем промеж нас. Ну а стоит одному из этих модных теперь журналов "с направлением" опубликовать мою статью, и просвещенные слои населения всенепременно истолкуют «сокровенное развитие» как претенциозное "умничанье" или, в лучшем случае, как "самосовершенствование"; ведь и философия для этих теоретических господ — всего лишь сухая скучная материя, но никак не прямое и безусловное руководство к действию... Не для этих фарисеев будет сказано, что рост сокровенного древа в весьма малой мере зависит от соблюдения заповедей, даже самого искреннего и неукоснительного, ибо оное всего лишь внешняя форма, скорлупа. Быть может, не след говорить, но преступление заповедей нередко является куда более теплой теплицей! Однако мы, по недомыслию своему, блюдем заповеди тогда, когда их надо преступать, и преступаем, когда их надобно бы чтить. Глядя на святого, творящего лишь добрые дела, наивные последователи воображают, что путь к святости пролегает через добродетель, тут-то и вступают они на тропу, ведущую в бездну, и идут по ней, свято уверенные в правильности избранной стези... Обманчивое внешнее благочестие ослепляет их, и они, подобно несмышленым детям, отшатываются в ужасе пред собственным зеркальным отражением, полагая, что сходят с ума, ибо приходит время — и лик его взирает на них в упор». Радостная надежда, показавшаяся Хаубериссеру чувством незнакомым и удивительным — так давно она в нем спала! — внезапно проснулась вновь, и он, словно заново рожденный, даже не мог толком понять — да в общем-то не особенно и стремился, — чему радуется и на что надеется. Внезапно он ощутил себя баловнем судьбы, а не жалким слепцом, которого злой рок водит за нос, навязывая эту дурацкую историю с Хадиром Грюном. «Мне бы следовало благодарить Провидение за то, что сказочный олень из сокровенных лесов новых, недоступных мне ранее мыслей проломил тесную ограду повседневности и теперь мирно пощипывает травку на моем дворе, — ликовало в душе Фортуната, — благодарить, а не предаваться мрачному унынию по поводу дыры в старом прогнившем заборе». Интересно, что за «лик» упоминается там, в последних строках? Уж не Хадира ли Грюна? «А что, вполне вероятно», — подумал он, сгорая от нетерпения узнать дальнейшее; к тому же какие-то смутные намеки в конце страницы позволяли предполагать, что на следующей будет более подробно разбираться эта самая «страшная магическая сила мысли». Любопытно, каким образом ею можно «повелевать»? Хаубериссер предпочел бы сейчас же отправиться домой, чтобы до поздней ночи изучать таинственный манускрипт, однако время близилось к четырем, а «бросить Пфайля на произвол судьбы» было бы настоящим свинством... Внезапно странный сверлящий звук, похожий на приглушенное жужжанье, проник в его уши, заставив Фортуната оглянуться. В изумлении он вскочил: неподалеку от скамейки стоял какой-то человек, одетый во все серое, на лице — фехтовальная маска, в руке — длинный шест... В нескольких метрах над его головой в воздухе парил большой вытянутый ком — зачарованно покачивался загадочный сфероид из стороны в сторону, пока одним из своих концов не зацепился за ветку дерева и не повис, то вытягиваясь, то сокращаясь, как живой... Человек вдруг изловчился и молниеносным движением поймал таинственное тело в прозрачный сачок, укрепленный на кончике шеста; удовлетворенно крякнув, он стал с шестом на плече — пульсирующий ком болтался в сачке у него за спиной — карабкаться по пожарной лестнице соседнего строения и вскоре, взобравшись на крышу, исчез из виду. — Ловко он их, — сказала какая-то пожилая женщина, выходя из-за колодца с журавлем, и, заметив недоуменную мину на лице Фортуната, пояснила: — Это монастырский пасечник, менеер... Пчелиный рой улетел из улья, вот он и ловил их матку... Хаубериссер пошел со двора; миновав пару кривых переулков, он оказался на большой площади и, остановив таксомотор, велел ехать в Хилверсюм, в загородное поместье своего приятеля Пфайля. По широкой, прямой как линейка, дороге ехали тысячи велосипедистов — спицы сливались в сверкающие диски, поблескивали педали, но Фортунат, погруженный в свои думы, не обращал на этот нескончаемый кортеж никакого внимания. Поля, фермы, одинокие домишки проносились перед его невидящим взором. В течение всей поездки — а она продолжалась около часа — у него пред глазами стояла одна картина: человек в маске и пчелиный рой, облепивший свою матку так, будто жить без нее не мог... Немая природа, еще вчера вечером навевавшая такую грусть, сегодня преобразилась, повернувшись к нему совсем другим, новым выражением своего «зеленого лика», и Хаубериссер знал, что его душе понятны те предвечные глаголы, которые он читал на ее едва заметно подрагивающих устах. Человек, поймавший матку, а вместе с ней и весь рой, казался ему сейчас каким-то очень значимым, поистине ключевым символом. «А разве мое тело не такое же скопление бесчисленного множества живых клеток, — вопрошал он себя, — которые по унаследованной из бездны времен привычке роятся вокруг сокровенного ядра?» Интуитивно Фортунат чувствовал, что между представленным ему действом в монастырском саду и фундаментальными физическими и метафизическими законами существует какая-то глубокая тайная связь, и даже боялся представить себе, какой фантастический, искрящийся, бурлящий волшебными красками мир воскрес бы вдруг у него на глазах, если бы удалось, хотя бы на миг, увидеть в новом свете и ту унылую серую повседневность, которую косная рутина и смертная скука лишили ее истинного лица.Глава VII
В Хилверсюме авто свернуло в тихий, застроенный виллами аристократический квартал и, едва слышно шурша шинами, покатило по широкой липовой аллее, ведущей через тенистый старинный парк к белоснежному, сверкающему на солнце зданию Буитензорга. На лестнице, широким маршем сбегавшей к площадке перед домом, стоял барон Пфайль; завидев выходящего из машины Хаубериссера, он радостно устремился к нему. — Хорошо, что ты все-таки приехал, старина, чертовски рад тебя видеть! А я уж было начал опасаться, что моя депеша запоздала и не настигла тебя в твоем уютном, обитом шелком сталактитовом гроте... Что с тобой? Уж не случилось ли чего? Да на тебе лица нет!.. А я-то думал, что Господь не оставит тебя своей заботой и непременно возблагодарит за твой чудесный подарок... Да-да, конечно, я имею в виду великолепного и несравненного графа Цихоньского — вот уж поистине отрада в наш унылый, безнадежно благоразумный век! — Пфайль был в таком хорошем настроении, что и слова не дал вымолвить своему протестующе махавшему руками другу, который во что бы то ни стало, пусть на языке глухонемых, пытался объяснить барону, с каким мошенником он имеет дело, однако тот не обращал ни малейшего внимания на отчаянную жестикуляцию. — Ясновельможный пан нанес мне визит в такую рань, что я спросонья принял его за милую шутку старика Морфея, однако потом... потом, когда до меня наконец дошло, что это не сон, я, само собой разумеется, не мог отказать себе в удовольствии оставить графа на обед. Если не ошибаюсь, пара серебряных ложек уже испарилась... Потрясающе, ввалившись ко мне, он представился... — ...крестником Наполеона Четвертого?.. — Ну да. Кем же еще? Кроме того — крепись, старина! — он и на тебя ссылался... — Каков наглец! — воскликнул Хаубериссер вне себя от ярости. — Каналью следовало бы вышвырнуть взашей. — Полноте, мой друг. В конце концов он претендует лишь на то, чтобы быть принятым в какой-нибудь приличный карточный клуб. Позволим нашему польскому гостю этот маленький каприз. Вольному воля... Если на него и вправду нашла такая блажь — остаться без гроша, почему бы нет? — Ничего не выйдет, он профессиональный шулер, — угрюмо буркнул Фортунат. Пфайль окинул его сочувственным взглядом. — Да ты, никак, и в самом деле, полагаешь, что в наше время он сможет хоть что-то выиграть в «приличных» карточных клубах? Тамошние маэстро, друг мой, передергивают так виртуозно, что этот шут гороховый не успеет и рта открыть, как останется без штанов. A propos, ты видел его часозвон? Хаубериссер невольно прыснул. — Если ты мне друг, — воскликнул Пфайль, — то выкупишь у него эту мечту пьяного лавочника и подаришь мне на Рождество. — Барон на цыпочках подкрался к открытому окну, ведущему на веранду, и поманил приятеля: — Нет, ты только взгляни, какая прелесть!.. Циттер Арпад, несмотря на раннее время, во фраке, в щегольских сапогах невинно цыплячьего цвета, с черным галстуком на шее и гиацинтом в петлице, восседал в кресле и наслаждался интимным tete-a-tete с какой-то дамой почтенного возраста — очевидно, одна только мысль о том, что ее увядшая краса еще способна пробуждать мужской интерес, окончательно вскружила ей голову, и она, вся покрывшись пятнами лихорадочного румянца и жеманно поджав бескровные губки, из кожи вон лезла, пытаясь изобразить целомудренную недотрогу. — Узнаешь красотку? — прошептал, давясь от смеха, Пфайль. — Это же поборница женских прав госпожа Рюкстина, супруга вашего консула, ты видел ее вчера в «Золотом тюрке»... Упокой, Господи, — и как можно скорее! — ее праведную, но такую неугомонную душу... Смотри! Он показывает ей свой часозвон! Ну, теперь держись женская эмансипация — перед такой шикарной вещицей ни одно девичье сердце не устоит! Готов побиться об заклад, что мошенник вознамерился совратить эту ходячую добродетель видом непристойной парочки, лихо совокупляющейся с обратной стороны чудо-механизма... Да он, как я погляжу, волокита хоть куда! — Это прощальный подарок моего несчастного крестного отца Эжена Луи-Жана Жозефа, — слышен был прерывающийся от волнения голос «графа». — О, Флооозимийерш!.. — томно простонала консулына. — Черт побери, а этому прощелыге пальца в рот не клади, старушка уже величает его по имени! — присвистнул Пфайль и увлек своего приятеля подальше от окна. — Пойдем, пойдем! А то еще, не дай Бог, помешаем!.. Жаль, что сейчас день, а то бы я выключил свет. В знак солидарности с коварным искусителем... Нет, нет, только не сюда! — И он оттолкнул Хаубериссера от дверей, которые распахнул перед ними слуга. — Здесь варится Большая политика. — На мгновение глазам Фортуната открылось многочисленное общество, в центре которого высился, диктаторски уперев кончики пальцев в крышку стола, ка кой-то лысый бородач, ожесточенно, с пеной у рта, кому-то что-то доказывавший. — Пойдем-ка, лучше я тебе покажу мой медузариум... Утонув в рыжеватой замше пухлого, невероятно мягкого кресла, Хаубериссер изумленно огляделся: стены и потолок покрыты гладкими пробковыми плитками, так искусно друг к другу пригнанными, что стыки были почти не видны, гнутое, причудливо искажающее мир оконное стекло, углы стен, даже дверные ручки — все округлое, плавное, сглаженное, нигде никаких граней, ребер или кантов; толстые нежные ковры, в которых нога увязала по щиколотку, как в песке, и тусклый, светло-коричневый полумрак, равномерно заливающий это зыбкое «подводное» царство... — В последнее время я понял, — пояснил барон, — что человеку, имевшему несчастье родиться и жить в Европе, такая вот «смирительная палата» совершенно необходима. Достаточно всего на час погрузиться в мой медузариум, и самый «дерганый» неврастеник надолго превращается в кроткого, довольного своей жизнью моллюска. Уверяю тебя, что, когда меня начинает одолевать жажда деятельности, а это, слава Богу, случается не часто, одна только мысль об этой глубоководной келье — и все благие намерения и планы осыпаются с меня, подобно блохам со старого лиса, если его окунуть в таз с молоком. Благодаря моему медузариуму я могу в любое время дня и ночи, не чувствуя ни малейших угрызений совести, манкировать какой угодно, даже самой важной, своей обязанностью и беззаботной медузой умиротворенно парить над житейской суетой. — Скажи это кому-нибудь, — усмехнулся Фортунат, — и тебя наверняка сочтут за такого циничного лентяя, каких еще свет не видел. — Чушь! — возразил Пфайль и подвинул приятелю сигарный ящичек покойной обтекаемой формы. — Абсолютная чушь! Все мои поступки и помыслы определяются самой строгой, неподкупной и, если угодно, изуверской добросовестностью в отношении самого себя... Знаю, ты придерживаешься мнения, что жизнь бессмысленна; я тоже долгое время пребывал в таком же заблуждении, однако мало-помалу предо мной забрезжил свет. Надо только покончить со всеми честолюбивыми устремлениями и вернуться к естеству... — И это, — Хаубериссер указал на пробковые стены, — ты называешь «естеством»?.. — Конечно! А разве неестественно, что богатые живут во дворцах, а бедные — в трущобах? Вот если бы мне сейчас вдруг взбрело в голову поселиться в какой-нибудь лачуге, тогда бы ты мог с полным правом назвать меня сумасшедшим, а мое переселение — противоестественным актом. Наверное, судьба все ж таки преследовала какую-то цель, когда дала мне возможность явиться в мир сей богатым. А может, это награда за какое-то деяние, совершенное мной в прошлой жизни, память о котором после смерти — ну, что с меня взять, непосвященного! — начисто стерлась из моего сознания?.. Впрочем, вряд ли, — слишком сильно смахивает все это на дешевые теософические спекуляции. Скорее всего, на меня возложена священная миссия, до тех пор пресыщаться сладостями жизни, пока они мне не станут поперек горла, вот тогда-то, в один прекрасный день, я и возжажду, разнообразия ради, черствую краюху честного черного хлеба. Пусть так, за мной дело не станет. Ну ошибусь, в крайнем случае, ничего страшного... Раздать деньги нищим? Да ради Бога!.. Только мне бы прежде понять зачем. Затем лишь, что к этому призывают пошлые социалистические книжонки? Ну уж нет! Я принципиально не согласен с нигилистическим лозунгом «Оставь, что тебе до нас!», но неужели же того, кто нуждается в горьком радикальном снадобье, надо непременно потчевать сладеньким сиропом? Подслащивать судьбу — этого мне только не хватало! Хаубериссер лукаво прищурил один глаз. — Знаю, знаю, чему ты ухмыляешься, скверный мальчишка! — негодующе взвился Пфайль. — Намекаешь на ту злосчастную мелочь, которую я оставил на чай — ну, переплатил по ошибке, с кем не бывает? — несчастному старику сапожнику. Ладно, не смотри на меня так. Дух бодр, да плоть немощна... И что за бестактность — попрекать человека его слабостями! Я и так всю ночь злился на себя за свою бесхарактерность. А что, если старик с ума спятит, — кто, как не я, буду тому виной? — Раз уж мы об этом заговорили, — откликнулся Фортунат, — то тебе, конечно, не следовало давать ему столько денег сразу, лучше... — ...жалкими фарисейскими подачками продлевать его голодные муки, — закончил насмешливо Пфайль. — Все это чепуха. Думаю, что тому, чьими поступками движет чувство, действительно многое простится, ибо он возлюбил много. Вот только надо было бы прежде спросить, хочу ли я, чтобы меня простили. Может, кто-то не желает благоговейно и покаянно принимать дары снисходительного небесного всепрощения, во всяком случае, что касается меня, то свои долги, в том числе и духовные, я собираюсь оплачивать сам — все, до последнего цента. Сдается мне, моя бессмертная душа еще задолго до моего рождения в этот лучший из миров мудро возжелала богатства... Так, на всякий случай. Дабы не унижаться, протискиваясь во Царствие Небесное сквозь игольное ушко. Видать, ей порядком поднадоели истошные вопли «Аллилуйя» вперемешку со слезными заунывными песнопениями, надо сказать, что у меня от подобного нытья случаются колики... О, если б Царствие Небесное было пустой угрозой! Но, увы, я твердо убежден, что после смерти нас в самом деле ждет какой-то душеспасительный профилакторий. Вот потому-то так чертовски сложен сей эквилибристический кунштюк: с одной стороны, остаться по возможности человеком, а не скотом, а с другой — не угодить при этом в райские кущи. Проблема, друг мой... Недаром над ней так долго ломал голову блаженный Будда. — Да и ты тоже, как я погляжу. — Приходится. Ведь просто жить еще недостаточно. Не так ли?.. Тебе, наверное, трудно представить меня чем-либо занятым, но факт есть факт: у твоего покорного слуги теперь — только не смейся! — ни капли свободного времени. Да нет же, светские рауты тут ни при чем — все это улаживает моя экономка — меня целиком поглощает духовная работа, связанная с основанием... нового... государства и... новой... религии... — Ради Бога, Пфайль! Тебя еще, чего доброго, арестуют. — Не бойся, я ведь не заговорщик какой-нибудь. — А позволь узнать, где находится это твое государство и какова численность его народонаселения? — со смехом спросил Хаубериссер, предчувствуя очередную мистификацию. Однако Пфайль даже не улыбнулся — не спуская с приятеля серьезных внимательных глаз, он немного помедлил и сказал: — Боюсь, тут уже не до смеха. Разве тебя не гнетет это вездесущее нечто, как будто растворенное в воздухе? Наверное, с самого сотворения мира его концентрация не была столь велика — иногда просто невольно начинаешь думать о... В общем, так, старина, пророчествовать о конце мира — занятие, прямо скажем, неблагодарное, слишком часто, на протяжении многих столетий, предрекали его, чтобы вера в него не была подорвана, однако на сей раз тот, кто возложит на себя эту тяжкую миссию, не прогадает, ибо нет никаких сомнений: сроки исполнились... Пойми, глобальные катастрофы, падения звезд, потопы и прочие космические катаклизмы совсем необязательны, тихое, невидимое глазом крушение старого мировоззрения — это тоже конец мира. — Ты что же, и вправду, полагаешь, что подобное светопреставление в образе мыслей может не сегодня-завтра потрясти человечество? — Хаубериссер недоверчиво качнул головой. — Это уж ты хватил! Скорее земной шар начнет вращаться в обратную сторону, чем косная человеческая природа изменится вот так, в одночасье. Человека за ночь не переделать! — Ну, прежде всего никакие самые невероятные природные феномены вовсе не исключены! — воскликнул Пфайль. — Более того, каждый нерв во мне содрогается, предчувствуя приближение колоссальных стихийных бедствий. Что же касается спонтанного переворота в человеческом сознании, то и тут, боюсь, ты не прав: так ли уж глубоко мы можем заглянуть в бездну времен, чтобы делать столь категоричные утверждения? Ну от силы на какую-нибудь жалкую пару тысячелетий, не более!.. А разве в этот ничтожно короткий отрезок истории не случались духовные эпидемии, загадочные вспышки которых должны были бы заставить нас призадуматься?.. Да, время крестовых походов детей миновало, на крестовые походы приказчиков просвещенное человечество уже, наверное, вряд ли подвигнется, и все же кое-какие рецидивы еще возможны — и тем вероятнее, чем дольше они заставляют себя ждать... До сих пор люди уничтожали друг друга ради неких подозрительных невидимых субстанций, которые весьма предусмотрительно никогда не называли призраками, но почтительно величали «идеалами». Сейчас, похоже, пробил наконец час крестового похода против этих кровожадных призраков, и мне бы хотелось в нем участвовать. Вот уже много лет я готовлю себя в духовные рыцари, но только сейчас понял окончательно, что великий поход против ложных идеалов неизбежен. Впрочем, не думаю, что когда-нибудь удастся полностью уничтожить эту гнусную поросль, унаследованную нами от отца лжи, — слишком глубоко пустила она корень в умах человеческих. На систематической прополке сорняков собственного сознания и основано мое новое государство. Стремясь сохранить дипломатические отношения с общепринятым порядком вещей и моими ближними, коим мне совсем не хочется, Боже упаси, навязывать свои «обскурантистские» воззрения, я с самого начала решил ограничиться тем, что мое государство — оно еще называется стерильным, ибо практически абсолютно дезинфицировано, от духовных бактерий ложного идеализма — отныне и впредь будет насчитывать одного-единственного подданного, а именно, меня самого. Таким образом, я одновременно являюсь единственным миссионером своей государственной религии. В вероотступниках я не нуждаюсь. — Вот и видно, что организатор из тебя никакой, — вздохнув с облегчением, заметил Хаубериссер. — Организаторами мнят себя сегодня все, кому не лень, уже одно только это свидетельствует, сколь сомнительно занятие сие. Я же придерживаюсь правила: хочешь быть всегда прав — посмотри на толпу и сделай все наоборот. — Пфайль встал и принялся расхаживать из угла в угол (если эти плавные сопряжения стен можно было назвать углами). — Иисус никогда ничего не организовывал, а вот госпожа Рюкстина и ее благодетельные товарки дерзают. Лишь природа или мировой дух могут позволить себе наводить порядок... Мое государство должно быть вечным, оно не нуждается в организации. Если бы таковая в нем имелась, оно бы утратило для меня всякий смысл. — Но ведь когда-нибудь твоему государству, если, конечно, его создание преследует какую-то высшую цель, понадобится много подданных; кем ты его собираешься населять, дорогой Пфайль, где ты возьмешь жителей? — Если какая-то идея осеняет одного, значит, она витает в воздухе и приходит в голову многим. Тот, кто этого не понимает, и представить себе не может, что такое идея. Мысли заразительны, даже если не высказываются вслух. В этом случае они, пожалуй, еще более прилипчивы. Я твердо убежден: в этот момент население стерильного государства значительно приросло за счет того множества людей, которые, сами того не сознавая, стали сейчас моими единомышленниками, в конечном итоге его территорией станет весь земной шар... Гигиена тела сейчас в большом почете, — дезинфицируют все, даже дверные ручки, чтобы, не дай Бог, не подхватить какую-нибудь опасную болезнь, — я же тебе скажу, мой друг: иные словечки и лозунги являются переносчиками заразы пострашнее — например, расовой ненависти, национальной вражды, патриотического пафоса и многих других, — вот их-то и надо стерилизовать, а для этого потребны куда более сильные яды, чем для дезинфекции дверных ручек. — Ты что же, собираешься искоренять национализм? — В чужой монастырь со своим уставом я, конечно, не полезу, пусть тамошние хозяева сами разбираются со своими сорняками, в своем же собственном имею право делать все, что мне вздумается. Для многих народов национализм — жизненная необходимость, это я допускаю, но пришло время создать наконец такое государство, в котором бы людей объединяли не жесткие рамки границ и не общий язык, а образ мыслей, и они бы могли жить так, как им хочется. В известном смысле правы те, кто смеется, когда кто-то заявляет, что он намерен переделать человечество. Они упускают из виду лишь одно: совершенно достаточно переделать самого себя, если преобразится хоть один-единственный человек, то событие это не пропадет втуне — безразлично, узнает о нем мир или нет. Преображение одного из нас пробьет брешь в существующем, и это «окно» уже никогда не закроется, заметят ли его люди сразу или через миллион лет. То, что свершилось однажды, лишь кажется исчезнувшим. Это я и собираюсь сделать — прорвать мировую сеть, в которую уловлен род человеческий, и не общественными проповедями, нет, человек должен сам освободиться от связывающих его пут. — Как на твой взгляд, существует ли какая-нибудь причинно-следственная связь между катастрофами, приближение которых ты предчувствуешь, и грядущим переворотом в мышлении людей? — спросил Хаубериссер. — Конечно же, всегда будет выглядеть так, будто какое-то стихийное бедствие, большое землетрясение например, послужило причиной «уходу в себя» людей, но это только кажется. Думаю, что дело с причинами и следствиями обстоит сложнее и совсем не так, как нам представляется. Распознать истинные причины человеку не дано; все, что доступно нашим органам чувств, есть следствие, а то, что мы воспринимаем как причину, в действительности только признак. У меня в руке карандаш, стоит мне разжать пальцы — и он упадет на пол. Выходит, мои пальцы явились причиной падения карандаша?.. Ну, это объяснение для гимназиста, меня оно не удовлетворяет. Разжатие пальцев — это всего лишь несомненный и безусловный признак падения. Всякое событие, предшествующее другому, является его признаком. Причина же — это нечто совсем иное. А мыто воображаем, что способны на самостоятельные действия, но это роковое заблуждение, обрекающее нас на принципиально неверное видение мира. В действительности у силы, принуждающей карандаш упасть на пол, и у желания, которое незадолго до этого возникло у меня в голове и заставило мои пальцы разжаться, одна и та же таинственная причина. Возможно, переворот в человеческом сознании и землетрясение имеют одну причину, но то, что одно является причиной другого, абсолютно исключено, каким бы убедительным это ни казалось «здравому» смыслу. Первое — такое же следствие, как и второе: одно следствие никогда не породит другое — оно может быть признаком череды каких-то событий, но никак не причиной. Действительность, в которой мы живем, — это совокупность следствий. Мир истинных причин сокрыт от нас; если бы нам удалось проникнуть туда, мы могли бы обладать ключами сакральной магии. — Еще бы! Владеть своими мыслями, иначе говоря, знать тайные корни их возникновения, — это ли не магия? Пфайль внезапно остановился посреди комнаты. — Магия! Что же еще? Именно поэтому я и ставлю мысль на ступень выше жизни, ибо она ведет нас к тем далеким вершинам, с которых мы сможем не только обозревать окрестности, но и исполнять все, чего бы ни пожелали. До сих пор человек был ограничен в магической практике возможностями своих рукотворных механизмов; думаю, близок час, когда некоторые из нас смогут творить чудеса простым усилием воли. Столь популярное сейчас создание новых технических приспособлений — это только цветочки, которые растут на обочине дороги, ведущей к вершине. Ценно не «приспособление», а способность творить, ценна не картина — во сто крат дороже талант живописца. Холст может сгнить, краски поблекнуть, талант же не погибнет, даже если художник умрет. Он пребудет вечно, как всякая сила, сшедшая с небес, — даже если она надолго уснет, веками не давая о себе знать, все равно проснется вновь, когда родится достойный ее гений, через которого она сможет явиться миру. Я нахожу весьма утешительным то, что высокочтимым господам коммерсантам ни за какие деньги не выкупить у нищего художника творческий дар, им придется довольствоваться лишь чечевичной похлебкой его произведений... — Может быть, ты дашь наконец мне хоть слово сказать! — взмолился Фортунат. — У меня уже давно вертится на языке один вопрос. — Ну так валяй! Чего ты ждешь? — Итак, какие у тебя основания или... или, если угодно, признаки считать, что все мы находимся на пороге ката... нет, скажем лучше, на рубеже Неизвестного?.. — Гм... Ну что ж... Наверное, это скорее ощущение. Ведь я сам продвигаюсь на ощупь в кромешной темноте. Моя путеводная нить тонка, как паутинка. Мне кажется, я наткнулся на пограничные знаки нашего духовного развития, они-то и свидетельствуют, что недалек тот день, когда мы вступим в иные неведомые нам пространства. Случайная встреча с фрейлейн ван Дрюйзен — я тебя сегодня с ней познакомлю — и то, что она рассказала о своем отце, отчасти прояснили эти мои смутные предчувствия. Из беседы с ней я заключил — возможно, совсем необоснованно, — что таким «пограничным знаком» в сознании тех, кто для этого созрел, является какое-нибудь весьма странное душевное переживание. В нашем случае — только, пожалуйста, не смейся — это... это видение «зеленого лика»! От неожиданности Хаубериссер едва не вскрикнул и судорожно стиснул руку барона. — Ради Бога, что с тобой? — забеспокоился Пфайль. И Фортунат на одном дыхании рассказал приятелю о своих приключениях. Потом у них завязался настолько интересный разговор, что они даже не сразу заметили слугу, бесшумно вплывшего в медузариум с серебряным подносом, на котором лежали две визитные карточки и вечерний выпуск «Амстердамской газеты», и таинственно известившего, что фрейлейн ван Дрюйзен и доктор Исмаэль Сефарди прибыли и ожидают в гостиной... Вскоре прерванная дискуссия о «зеленом лике» вспыхнула с новой силой. Однако на сей раз Хаубериссер словно в рот воды набрал, предоставив Пфайлю рассказывать гостям о своих похождениях в кунштюк-салоне, фрейлейн ван Дрюйзен тоже отмалчивалась, лишь время от времени вставляя замечания в рассказ доктора Сефарди о их вчерашнем посещении Сваммердама. И дело тут было, конечно, не в смущении, просто на обоих — и на Еву, и на Фортуната — нашло какое-то странное оцепенение. Встречаясь взглядами, они почти принуждали себя не отводить глаз, и оба отчетливо сознавали, что выражение вежливого светского равнодушия, которое каждый из них пытался придать своему лицу, всего лишь маска. Полнейшее отсутствие дамского кокетства в поведении Евы буквально сразило Хаубериссера; он видел по ней, с каким мучительным тщанием она старалась избегать всего, что могло хотя бы отдаленно намекнуть на желание понравиться или какой-либо интерес к его персоне — и в то же время стыдился, словно какой-то непростительно грубой бестактности, своего неумения деликатно скрыть, насколько очевидна для него эта отчаянная искусственность ее показного спокойствия. Вот тонкие длинные пальцы с нарочитой медлительностью, якобы томимые невыносимой скукой, рассеянно перебирают лепестки роз, а вот они принимаются за сигарету, мнут ее, катают по столу, прикуривают, завороженно подносят к припухлым губам — все, решительно все, тысячи почти неуловимых мелочей, говорило Фортунату, что эта незнакомая, сидящая напротив женщина читает в его мыслях, как в открытой книге, невольно лишая его какой бы то ни было возможности прийти ей на помощь и разрядить атмосферу. Он понимал: стоит ему только отпустить один-единственный дежурный комплимент в ее адрес — и чары рассеются, все станет на свои места, а к этой фрейлейн ван Дрюйзен вернется обычная непринужденность, которую она сейчас так старательно изображает, однако такой намеренный faux pas[175] мог столь сильно шокировать девушку, что дальнейшее знакомство стало бы весьма проблематичным, да и выставлять себя в малопривлекательном свете записного дамского угодника тоже не хотелось. Хаубериссер инстинктивно догадывался, что Ева сейчас, подобно наивной, застенчивой, легко ранимой девочке, воспринимает свою красоту, которая любую знающую себе цену женщину наполняла бы чувством гордого достоинства, как досадную и смущающую обузу. Войдя в гостиную, он сразу и надолго утратил дар речи при виде поразительно красивой гостьи. Ева сначала приняла эту оторопь за привычную, уже порядком приевшуюся дань мужского восхищения, однако чуть позже, когда ей вдруг показалось, что его растерянность с не меньшим правом можно было объяснить внезапно прерванным интересным разговором с бароном Пфайлем, ее стало преследовать глупое тщеславное желание произвести на него впечатление. Фортунат бы с удовольствием сказал ей открыто, как сильно восхищен ею, но опасался сфальшивить: одна неверная нотка — и неотразимое своей искренностью признание превратится в тот самый пошлыйи неуклюжий комплимент, которого он так боялся. Слишком много знавал он в своей жизни красивых женщин, чтобы тотчас, с первого взгляда, терять голову даже от такой редкой красоты, какой обладала Ева, и все же он даже представить себе не мог, сколь крепка та невидимая нить, которая уже протянулась между ними. Сначала ему казалось, что она обручена с Сефарди, когда же недоразумение выяснилось, легкий радостный порыв подхватил его... Фортунат тотчас одернул себя: смутный безотчетный страх вновь стать невольником своей страсти и низвергнуться в бурный водоворот любовных переживаний предостерегал его, заставляя быть начеку, но вскоре в нем проснулось такое нежное, властное и пронзительное чувство какой-то тайной и необъяснимой сопричастности этой ни на кого не похожей девушке, что всякое сравнение с прежними многочисленными увлечениями, которые он по незнанию называл любовью, отпало само собой. Эта интенсивная, хоть и немая мысленная связь, возникшая между двумя молодыми людьми, индуцировала особое интимное поле, напряжение которого было слишком велико, чтобы такой чуткий человек, как Пфайль, не уловил его. При этом барона до боли тронула глубокая, тщательно скрытая печаль, которая скорбной тенью проступила на лице Сефарди и грустным эхом отзывалась в словах, с судорожной поспешностью срывавшихся с губ такого обычно сдержанного ученого. Пфайль чувствовал, что этот одинокий человек прощается сейчас с какой-то затаенной, и от этого, наверное, еще более страстной надеждой. — Как вы думаете, господин доктор, — обратился он к Сефарди, когда тот закончил свой рассказ, — куда может завести тот странный путь, которым пытается идти духовная община Сваммердама и сапожник Клинкербок? Боюсь, в безбрежный океан галлюцинаций и... — ...и связанных с ними надежд, которым никогда не суждено исполниться, — подхватил Сефарди и печально пожал плечами. — Это старая песня об изнывающих от жажды пилигримах, которые без всяких ориентиров ищут в безводной пустыне Землю обетованную и, вперив лихорадочно горящий взор в обманчивую fata morgana, бредут навстречу мучительной смерти. А кончается эта песня все тем же отчаянным криком: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?»[176] — Относительно рядовых членов общины, быть может, вы и правы, — решительно вмешалась в разговор Ева ван Дрюйзен, — но только не насчет Сваммердама! Это человек необыкновенный, поверьте мне, его нельзя причислять к тем несчастным, кто прилепился к сапожнику, безоглядно уверовав в его пророческий дар. Вспомните, что рассказывал нам барон Пфайль! Ведь своего зеленого скарабея он все ж таки нашел! Господа, я убеждена, ему дано обрести большее — то, к чему он так упорно стремится... Сефарди хмуро усмехнулся: — От всего сердца пожелал бы ему того же, но, увы, это тупиковый путь: в лучшем случае, если только неутолимая жажда не сведет его в могилу раньше, он в конце концов лишь придет к неизбежному: «Господи, в руки Твои предаю дух мой...»[177] Вы и представить себе не можете, фрейлейн Ева, как много довелось мне размышлять о потусторонних предметах — всю свою жизнь я мучился, надрывая сердце мое и иссушая мозг мой, в поисках ответа на вопрос: неужто, в самом деле, нельзя сбежать из земного застенка?.. Ведь должен же быть какой-то тайный ход, ведущий на свободу!.. Но нет, господа, выхода не существует! Ни тайного, ни явного! И человеческая жизнь имеет лишь одну цель — ожидание смерти... — В таком случае, — не выдержал, вступая в разговор Хаубериссер, — самым разумным было бы, предавшись пороку, бездумно прожигать жизнь в ресторанах и игорных домах. — Несомненно. Однако не все на это способны. — И что же им делать? — спросил Пфайль. — Любить ближнего своего и свято чтить заповеди, как о том сказано в Библии. — И это говорите вы?! — изумленно воскликнул барон. — Человек, досконально изучивший все культы, все религии, все философские системы от Лаоцзы до Ницше! Кто же он — автор этих «заповедей»? Какой-нибудь легендарный пророк или так называемый чудотворец? А вы уверены, что это не какой-нибудь одержимый? Кстати, не кажется ли вам, что и сапожник Клинкербок по прошествии пяти тысяч лет имеет реальный шанс предстать пред благодарные очи потомков с таким же нимбом святости над головой, — если, конечно, к тому времени его имя еще будет кто-то помнить? — Конечно, если к тому времени его имя еще будет кто-то помнить, — эхом откликнулся Сефарди. — Итак, вы принимаете Бога, «иже еси на небесех» и оттуда, со своего предвечного престола, управляет родом человеческим? Можете вы все это привести хоть в какое-то соответствие с логикой? — Нет, не могу. Да и не хочу. Я еврей, не забывайте об этом, господа. Еврей не только по вере, но и по крови — и как таковой буду всегда возвращаться к исконному Богу моих предков. Это у меня в крови, а кровь сильнее логики. Конечно, разум говорит мне, что вера завела меня в тупик, но и вера говорит мне, что разум завел меня в тупик... — А что бы вы стали делать, если б с вами произошло то же самое, что с сапожником Клинкербоком, — явилось бы какое-нибудь ангелоподобное существо и принялось навязывать вам свои «заповеди»? — допытывалась Ева. — Попытался бы усомниться в его посланнической миссии. И если бы это удалось, не следовал его заповедям. — А если бы не удалось? — Тогда деваться некуда — пришлось бы подчиниться. — Я бы и тогда не подчинился, — буркнул Пфайль. — Потусторонним существам нет смысла являться человеку с таким скептическим складом ума, как у вас, барон, выгоднее оставаться невидимыми, вот тогда-то вы беспрекословно последуете «заповедям» любого «ангела», даже того, который «вдохновил» Клинкербока, еще бы, ведь у вас не будет никаких сомнений в том, что вы действуете сами, по собственному почину! — Вы же, наоборот, — не остался в долгу Пфайль, — убедите себя, что это сам Господь Бог обращается к вам устами фантома с зеленым ликом, хотя в действительности и «посланец» и «послание» — не более чем плод вашего воображения. — В чем же разница? — возразил Сефарди. — Что есть послание? Мысль, облекшаяся в слово — изреченное слово. Что есть мысль? Неизреченное слово. Итак, в сущности, одно и то же. А можете ли вы с полной уверенностью утверждать, что мысль, посетившая вас, действительно родилась в ваших извилинах и не является каким-нибудь потусторонним «посланием»? Что касается меня, то я нахожу вполне вероятным, что человек не источник, а всего лишь приемный аппарат — более чувствительный или менее — тех мыслей, которые зреют, ну, скажем, в раскаленном мозгу нашей Матери-Земли. И одновременное возникновение у различных людей одной и той же идеи, как это нередко случается, убедительнее всяких слов свидетельствует в пользу моей гипотезы. Вы, барон, будете, конечно, это оспаривать и, случись с вами нечто подобное, обязательно заявите, что идея вам первому пришла в голову, а другие просто «заразились» ею от вас. И если я скажу, что вы были всего-навсего первым, кто воспринял витавшую в воздухе, подобно беспроволочной депеше, мысль своим более чувствительным мозгом, другие тоже ее восприняли, только несколько позже, — вы, разумеется, с этим не согласитесь: чем сильнее и тверже человек, тем больше склонен себя считать творцом своих великих идей; чем он слабее и мягче, тем легче поверит, что та или иная мысль внушена ему извне. И оба, по сути, правы. Но прошу вас, господа, избавьте меня, пожалуйста, от всех этих «как?» и «почему?» — мне бы не хотелось сейчас ни себе, ни вам морочить голову путаными объяснениями такой сложной философской субстанции, как универсальное Я... Что же касается Клинкер-бока, точнее его видения, в котором пресловутый «зеленый лик» выступал в качестве посредника при передаче некоего послания или мысли, — что, как я уже говорил, является одним и тем же, — то в данном случае следовало бы сослаться на научно обоснованный факт существования двух категорий людей: одна мыслит словами, другая — образами. Предположим, всю свою жизнь Клинкербок думал словами и вдруг его, что называется, «осенило» — в мозг сапожника настойчиво вторгается какая-то совершенно новая мысль, для которой у него нет подходящего слова; каким, спрашивается, образом могла бы еще эта мысль свидетельствовать о себе, как не через видение некоего говорящего вестника — в случае Клинкербока, господина Хаубериссера и вашем, барон, это человек или портрет человека с зеленым ликом, — пытающегося вербально объяснить косноязычному ремесленнику то, что сам он никогда бы не сумел облечь в слова? — Позвольте, господин доктор, я прерву вас на минуту, — попросил Фортунат. — Отец фрейлейн ван Дрюйзен, как вы уже упоминали в ходе вашего рассказа о посещении Клинкербока, называл человека с медно-зеленым ликом «патриархом», да и мне «видение» в кунштюк-салоне открыто намекало на свое допотопное происхождение, вот и Пфайль тоже полагает, что видел портрет Вечного жида, — стало быть, опять же человека, чьи корни сокрыты в далеком прошлом; каким образом объясните вы, господин Сефарди, эту в высшей степени интересную деталь, столь многозначительно повторяющуюся во всех трех случаях? Как некую «новую» для нас мысль, которую мы не в состоянии осознать вербально, а только через лик, открывающийся нашему внутреннему взору? Что до меня, то я, как подетски это для вас ни прозвучит, скорее поверю в другое объяснение: речь идет об одном и том же призрачном существе, по каким-то неведомым нам причинам вторгшимся в нашу жизнь. — Я тоже так думаю, — тихо согласилась Ева. Сефарди на мгновение задумался. — Многозначительное соответствие ваших свидетельств, которое вы предлагаете мне объяснить, на мой взгляд, ясно доказывает, что мы имеем дело с одной и той же «новой» мыслью, преследовавшей вас и, судя по всему, хотевшей быть понятой вами, — возможно, она хочет этого и сейчас. Ну, а то, что фантом выступает в обличье легендарного, пережившего потоп патриарха, думаю, действительно деталь интересная, и означает она, как мне кажется, следующее: какое-то знание, архаический культ или, может, экстраординарная способность, существовавшая на заре человечества и забытая потом, вновь возвращается в мир и о своем пришествии свидетельствует неким видением, доступным пока лишь немногим избранным... Поймите меня правильно, я вовсе не утверждаю, что фантом не может быть самостоятельным объектом, — напротив, я даже настаиваю: любой умозрительный образ есть такой объект. Впрочем, отец фрейлейн Евы когда-то говорил своей маленькой дочери, что «патриарх не привидение» и что «зеленоликий предтеча воистину единственный реальный человек в сем призрачном мире». — Возможно, говоря это, отец намекал на то, что «зеленоликий предтеча» — человек, обретший бессмертие. Как вы думаете?.. Сефарди задумчиво качнул головой. — Бессмертный, фрейлейн Ева, до скончания времен пребывает в мире непреходящей мыслью, и безразлично, в каком виде он вошел в наше сознание — как слово или как образ. Если живущие на земле люди не способны его постигнуть разумом или «облечь в слова», то от этого он не умирает — просто отдаляется, уходит, так сказать, в тень... И, возвращаясь к нашей дискуссии с бароном Пфайлем, повторяю: как еврею, мне не куда деться от Бога моих отцов. Иудейская религия — это, в сущности, религия добровольной и намеренной слабости, фундамент, на котором зиждется она, — надежда на Бога и на при шествие Мессии. Знаю, существует и другой путь — путь силы, на него-то барон и намекал. Но оба пути ведут к одной цели, которая может быть познана лишь в самом конце. Ни тот, ни Другой не является ложным; гибельными они становятся толь ко тогда, когда человек слабый или, подобно мне, преисполненный страстью, избирает путь силы, а сильный вступает на тропу слабости. Когда-то, во времена Моисея, когда существовало лишь десять заповедей, было сравнительно нетрудно стать цадиком томимом — праведником, — теперь же, как знает каждый благочестивый еврей, старающийся исполнять бесчисленные ритуальные предписания, это практически невозможно. В сегодняшнем мире мы, евреи, без заступничества Бога уже не сможем продвигаться вперед по своей тропке. Глупцы те, кто об этом сожалеет: путь слабости становится еще более «слабым» и влажным, а путь силы — еще более «сильным» и сухим; каждое из двух направлений прорисовывается отчетливей, и уж человек, постигший свою суть, не спутает их и не вступит на чужую стезю... Сильные обходятся без религии — они идут свободно и посох им не нужен; тем, для кого все на свете сводится лишь к пище и питью, религия тоже ни к чему — они еще не испытывают в ней нужды. Зачем посох, если ты никуда не идешь, а только топчешься без толку на одном месте?.. — Не приходилось ли вам, господин Сефарди, слышать что-нибудь о возможности управлять своими мыслями? — спросил Хаубериссер. — Я имею в виду вовсе не то, что зовется у нас самообладанием, которое следовало бы скорее назвать самоподавлением, а если еще точнее — погребением заживо всех сильных и, может быть, самых лучших наших чувств. Извините, если мой вопрос покажется вам не относящимся к теме нашей беседы, просто мне вдруг вспомнился один любопытный дневник, который я нашел сегодня ночью и о котором незадолго до вашего прихода рассказывал Пфайлю. Метнув быстрый взгляд в сторону Евы, Сефарди как-то сжался — казалось, он ждал и боялся этого вопроса. На его лице вновь появилось то обреченное выражение затаенной боли, которое барон заметил еще в начале разговора. И хотя доктор пересилил себя, все равно было видно, с каким трудом давалась ему речь: — Умение владеть своими мыслями — это древний языческий путь, ведущий к сверхчеловеку, — разумеется, не к тому, о котором писал Фридрих Ницше... К сожалению, я слишком мало знаком с этим традиционным учением... В последние десятилетия кое-что о «мосте жизни» — таково подлинное название сей опасной стези — проникло с Востока к нам в Европу, но, к счастью, эти сведения столь обрывочны и скудны, что человеку, не владеющему истинными ключами, никогда на него не взойти. Однако и этих жалких крох хватило, чтобы поставить на голову тысячи энтузиастов, в основном англичан и американцев, которым втемяшилось приобщиться к этой магической практике — а это магия в чистом виде! Какого только вздора не понаписали об этой сокровенной доктрине, каких только «документов» не пораскопали, какой только сброд всех цветов кожи не шнырял по европейским метрополиям, выдавая себя за посвященных! Но, слава Богу, так никто и не понял, откуда звон. Ретивые последователи гуртами сбегались в Индию и Тибет, не догадываясь, что тайный свет там давно уж погас. Они и по сю пору не желают в это верить... Конечно, что-то они там отыскали, — и даже с похожим названием! — но это было уже нечто совсем иное, ведущее в конечном итоге все к той же тропе слабости либо к доморощенному «учению» какого-нибудь Клинкербока. Пара древних аутентичных текстов, дошедших до нас, звучат достаточно искренне и даже наивно, но, увы, они не содержат ключей, а врата, за которыми сокрыта мистерия, ох какие крепкие!.. Когда-то и в иудействе был свой «мост жизни», известные мне фрагменты этой ныне утраченной традиции датируются XI веком. Один из моих предков, некий Соломон Габирол Сефарди, жизнеописание которого отсутствует в наших фамильных хрониках, изложил отдельные положения этого тайного учения в весьма темных и двусмысленных маргиналиях к своей книге «Мегор Хайим», за что и поплатился — его убил какой-то араб. Видимо, одна маленькая секта на Востоке, адепты которой носят синие мантии и, что интересно, ведут свое происхождение от европейских переселенцев — учеников прежних, истинных розенкрейцеров, — еще хранит в первозданной полноте это таинство... Они называют себя парада, то есть «достигшие иного берега»... Сефарди внезапно замолчал — казалось, сейчас он должен сказать что-то такое, для чего ему понадобятся все его силы. Он стиснул кулаки так, что костяшки пальцев побелели, и некоторое время, не говоря ни слова, сидел, уставившись в пол. Наконец собрался и, твердо глядя то на Еву, то на Фортуната, глухо произнес: — Смертный, преодолевший «мост жизни», — вот истинная благодать для мира сего. Дар, едва ли не больший, чем приход Спасителя... Надо... надо только помнить: одному противоположного берега не достигнуть, для этого страннику потребна... попутчица... Лишь благодаря слиянию мужского и женского начал можно осуществить опасный переход. В этом и заключается сокровенный смысл супружества, утраченный человечеством многие тысячелетия назад... Язык отказал ему, он встал, отошел к окну, чтобы никто не видел его лица, и только тогда смог продолжать: — И еще... Если мои скромные познания в сей темной области когда-нибудь вам обоим понадобятся, - пожалуйста, располагайте мной... Подобно молнии, поразили Еву эти слова... Теперь и она поняла, что происходило с доктором. Слезы навернулись у нее на глаза. Ну конечно же, Сефарди своим свежим, проницательным взглядом затворника, далекого от обыденной суеты, прозревал ту судьбоносную связь, которая еще только намечалась между нею и Хаубериссером. Однако, что подвигло его столь решительно, чтобы не сказать бесцеремонно, вмешаться в сложный и деликатный процесс созревания взаимной симпатии, которая рано или поздно неизбежно оформилась бы в любовь, — зачем он с такой почти бесстыдной поспешностью сорвал покров с их нарождающегося чувства, преждевременно навязывая им немедленное решение? И если бы не было все существо этого человека таким безупречно честным, не допускающим ни малейших сомнений в своей чистоте, она могла бы заподозрить его в коварной, продиктованной ревнивым соперничеством, попытке хорошо рассчитанным, упреждающим ударом порвать нежное, как весенняя паутинка, плетение судьбы... А может, это было героическим решением отчаявшегося влюбленного, который, не в силах сносить затяжную пытку постепенного и неизбежного отчуждения тайно любимой женщины, предпочел самостоятельно положить конец своим надеждам? Интуиция подсказывала ей, что настоящей подоплекой этой странной и неуместной торопливости Сефарди послужило что-то другое, каким-то образом связанное с учением о «мосте жизни», ведь неспроста же, рассказывая о нем, доктор был столь лаконичен... Вспомнились слова Сваммердама о пришпоривании судьбы — да так отчетливо, будто чьи-то невидимые уста нашептывали ей на ухо. Когда вчерашней ночью на Зеедейк она, наклонившись над перилами, смотрела в черную жуткую воду грахта, в ней окончательно созрела решимость воспользоваться советом старого энтомолога и «призвать Бога». А что, если эта встреча с Хаубериссером — следствие ее ночного решения?.. Смутный ужас, что так оно и есть, охватил девушку... Сумрачная церковь св. Николая, дряхлый сутулый дом с серебряной цепью, свисающей в канал, и человек в лодке, который судорожно пригнулся, пряча лицо, — все это с лихорадочной быстротой, подобно обрывкам страшного сна, промелькнуло перед глазами... Хаубериссер стоял у стола и в полной растерянности нервно и невнимательно листал страницы какой-то книги. Ева чувствовала, что необходимо нарушить мучительную паузу и что говорить надо ей. Она подошла к Фортунату, твердо посмотрела ему в глаза и спокойно сказала: — Слова доктора Сефарди не повод для того, чтобы неловкость и смущение воцарились между нами, господин Хаубериссер, они были сказаны устами друга. Ни вам, ни мне не дано знать, какую цель преследовала судьба, сведя нас в этом доме. Сегодня мы еще вольны распоряжаться собой по собственному усмотрению — во всяком случае, я чувствую себя достаточно свободной; если же всемогущее Провидение со чтет нужным соединить наши жизненные пути — не вижу ничего неестественного или постыдного в том, чтобы иметь в виду и такую возможность, — тогда будет уже поздно что-либо менять, придется подчиниться... Итак, господин Хаубериссер, завтра утром я уезжаю обратно в Антверпен! Думаю, будет лучше, если мы расстанемся, и надолго: мне бы не хотелось носить в душе сомнение, что кто-то из нас поддался минутному настроению и поспешил скрепить союз, который потом уже не удастся расторгнуть безболезненно. Барон Пфайль говорил, вы одиноки; так вот я — тоже, однако позвольте мне, господин Хаубериссер, унести с собой уверенность, что отныне Ева ван Дрюйзен таковой не является и может без ложного стыда называть своим другом человека, с которым ее связывает реальная надежда искать и найти сокровенный мост к иному берегу жизни... Смею надеяться, что мы с вами, сударь, — она повернулась с улыбкой к Сефарди, — останемся такими же добрыми старыми друзьями, как и прежде... Фортунат склонился к поданной ему руке. — Вот видите, я даже не прошу вас, Ева, — вы позволите мне обращаться к вам по имени? — остаться в Амстердаме. Итак, первой принесенной мной жертвой будет то, что я вас теряю в тот самый день, когда мы... — Дайте мне лучше первое доказательство вашей дружбы, — быстро прервала его Ева, — и, пожалуйста, не продолжайте. Сейчас не время. Я понимаю, то, что вы хотите мне сказать, — не пустая светская условность, но, пожалуйста, не надо. Доверимся судьбе, пусть она решает, свяжет ли нас когда-нибудь что-то большее, чем дружба... Когда заговорил Хаубериссер, барон Пфайль встал и хотел незаметно, не желая стеснять своего друга, выйти из гостиной, однако, заметив, что Сефарди не может пройти к дверям, не потревожив стоящую у него на пути парочку, отступил в угол, к круглому журнальному столику, и уткнулся в газету. Но едва он пробежал глазами первые строчки, крик замешательства вырвался у него: — Господа, убийство! На Зеедейк сегодня ночью убит Клин-кербок! Срывающимся от волнения голосом он зачитал, нетерпеливо опуская второстепенные детали, обступившим его гостям: — «явка с повинной В утреннем выпуске мы уже писали о кровавой драме на Зеедейк, теперь же, дабы успокоить наших потрясенных читателей, спешим добавить следующее: Еще до рассвета ученый-любитель Ян Сваммердам, проживающий на последнем этаже злосчастного дома, по каким-то так и оставшимися не выясненными причинам поднялся на чердак, чтобы отпереть каморку ремесленника Клинкербока. Каково же было его удивление, когда он обнаружил им же самим запертую накануне дверь полуоткрытой! Кошмарное зрелище предстало взору ученого, едва он переступил порог: на диване лежал истекающий кровью труп маленькой Каатье, внучки хозяина квартиры! Сапожник Ансельм Клинкербок бесследно исчез, а вместе с ним и значительная сумма денег, которая, согласно показаниям Сваммердама, еще вечером находилась при нем. Прибывшая на место преступления полиция незамедлительно приступила к дознанию, пытаясь обнаружить убийцу по горячим следам: вначале подозрение пало на одного приказчика из аптекарской лавки, располагавшейся на первом этаже сего отмеченного злым роком дома. Этот господин в поздний ночной час был замечен одной из жительниц у дверей чердачной каморки — под покровом тьмы он возился с замком, явно пытаясь подобрать ключ. Подозреваемый был немедленно препровожден в участок, однако вскоре его отпустили, ибо явился с повинной настоящий преступник... Согласно официальной версии, злодей сначала убил старого сапожника, а потом — о ужас! — поднял руку и на невинное дитя, которое, надо думать, проснулось, разбуженное шумом в комнате. Заметая следы, преступник, очевидно, сбросил тело несчастного ремесленника в воды соседнего грахта. Специальные службы уже приступили к исследованию грунта, однако поиски пока не увенчались успехом: дело осложняется тем, что дно канала в этом месте представляет собой сплошную вязкую трясину, уходящую вглубь на многие метры. Не исключено, хотя и маловероятно, что убийца действовал в каком-то сумеречном состоянии, на эту мысль наводят его показания комиссару полиции — в высшей степени путаные и противоречивые. Во всяком случае, кражу денег он признал. Итак, речь явно идет о преднамеренном убийстве с целью ограбления. Деньги — свидетели говорят о нескольких тысячах гульденов — были подарены Клинкербоку одним известным в нашем городе мотом и прожигателем жизни. Мораль: как неуместны бывают зачастую иные сумасбродные причуды наших великосветских благодетелей!..» Пфайль отшвырнул газету и хмуро буркнул что-то себе под нос. — А убийца? — возбужденно спросила фрейлейн ван Дрюйзен. — Кто он? Конечно же этот ужасный негр?.. — Убийца?.. — брезгливо взяв газету, Пфайль перевернул страницу. — Так... убийца... убийца... Ага, вот: «Убийцей признал себя пожилой русский еврей, по имени Айдоттер, торгующий спиртными напитками все в том же печально знаменитом своими пьяными дебошами доме, в подвале которого, в заслуженно пользующемся дурной славой трактире "У принца Оранского", свили гнездо преступные элементы. Напрашивается справедливый вопрос: доколе еще должны терпеть это безобразие мирные законопослушные жители портовых кварталов и не кажется ли нашей многоуважаемой городской управе, что сейчас самое время навести наконец порядок на Зеедейк...» Ну и так далее, и тому подобное... — Симон Крестоносец?! — воскликнула потрясенная Ева. — Не может быть! Ни за что не поверю, что этот старый больной человек мог совершить такое страшное — преднамеренное! — убийство! — В каком бы «сумеречном состоянии» он ни находился! — тихо добавил доктор Сефарди. — В таком случае кто?.. Приказчик Иезекииль?.. — Этот и подавно. Самое большее, на что он мог отважиться, — это, позарившись на деньги, попытаться открыть отмычкой дверь, однако в последний момент что-то ему помешало... Убийца — негр, это же ясно как божий день!.. — Господи, но что же тогда заставило старого Лазаря Айдоттера признать себя убийцей? Доктор Сефарди пожал плечами. — Возможно, когда полиция ввалилась к нему, он с перепугу подумал, что это Сваммердам убил сапожника, и решил пожертвовать собой ради учителя. Своего рода истерический самооговор. То, что он ненормален, я понял с первого взгляда. Вы помните, фрейлейн Ева, что говорил нам старый энтомолог о силе, скрытой в именах?.. Так вот, Айдоттер достаточно долго «вживался» в свое духовное имя «Симон Крестоносец» и, совсем не исключено, мало-помалу, в ходе медитативных «экзерсисов», настолько «вошел в образ», что только и ждал подходящей возможности взвалить на свои плечи чей-нибудь крест и, упиваясь сознанием своей жертвы, смиренно нести его на Голгофу. Скажу больше, я почти уверен, что сапожник Клинкербок был убит после того, как сам заколол свою внучку — заколол в ослеплении религиозного экстаза. Ничего удивительного, ведь на протяжении многих лет старик, насколько мне известно, «экзерцировал» с именем «Аврам», вот если бы он все это время внутренне повторял не «Аврам», а «Авраам», то заклания «Исаака» наверняка бы не случилось. — Не понимаю, что вы хотите этим сказать, — признался Хаубериссер. — Неужели чья-то судьба может зависеть от того, какое имя я буду твердить про себя? — Почему бы и нет? Нити, управляющие поступками человека, весьма тонки. То, что говорится в Первой книге Моисея об изменении имени Аврама на Авраам и Сары — на Сарру[178], имеет прямое отношение к каббале, а может, и к другим, еще более сокровенным традициям. Полагаю, у меня есть основания утверждать, что манипулировать с сакральными именами так, как это принято в духовной общине Клинкербока, — занятие скверное и опасное... Как вам, наверное, известно, каждой букве еврейского алфавита соответствует определенное число, так например: С = 300, М = 40, Н = 50... Следовательно, у каждого имени есть свое численное значение, которое можно представить в виде некоторого геометрического тела: куба, пирамиды и так далее. Эта геометрическая форма, если с ней правильно и достаточно интенсивно медитировать, может стать, так сказать, несущей конструкцией нашего доселе безобразного, пребывающего в состоянии первозданного хаоса, внутреннего мира. Итак, мы творим себя по образу и подобию «имени», мы формируем нашу «душу» — у меня нет более подходящего выражения для этой неопределенной, принципиально невыразимой субстанции, — словно некий сокровенный кристалл, подчиняя ее тем извечным законам, которые соответствуют сей «именной» структуре. Египтяне, например, были столь совершенны, что представляли свою душу исключительно в виде шара. — В чем же тогда, по-вашему, — если, конечно, несчастный сапожник действительно убил свою внучку, — спросил задумчиво барон, — заключается ошибка этих «экзерсисов»? Разве имя «Аврам» так уж сильно отличается от «Авраам»?.. — Вся беда в том, что Клинкербок сам нарек себя Аврамом, это имя порождено его собственным подсознанием! В имени «Аврам» отсутствует слог «ha»[179], указывающий в данном случае на нисхождение того, что мы, евреи, называем нешама — дух Божий. В Библии Аврааму была отпущена жертва Исаака. А вот не отмеченный знаком высшего избранничества Аврам непременно бы обагрил свои руки невинной кровью, подобно тому, как обагрил их сапожник. Жаждущий припасть к предвечному источнику Жизни Клинкербок сам призвал свою смерть. Я уже говорил: слабый не должен вступать на путь силы, а сапожник сошел с тропы слабости — смиренного упования, — для которой был предназначен, за это и поплатился... — Однако, господа, должны же мы что-то сделать для несчастного Айдоттера! — воскликнула Ева. — Или мы так и будем сидеть сложа руки и смотреть, как осуждают невинного? — В один день приговоры не выносятся, — успокоил ее Се-фарди. — Завтра утром я зайду к судебному психиатру де Бру-веру — это мой университетский однокашник — и потолкую с ним. — Надеюсь, вы и о бедном старом энтомологе позаботитесь... И, пожалуйста, отпишите мне в Антверпен о ходе следствия! — попросила Ева и, поднявшись, протянула на прощанье руку Пфайлю и Сефарди. — Итак, до свиданья, господа, дай Бог, оно не заставит себя ждать слишком долго. С Хаубериссером она не прощалась, и он, угадав ее желание, помог ей накинуть принесенное слугой пальто... Вечерняя прохлада влажной пеленой окутывала липы, когда они медленно и задумчиво шли через парк. Мраморные греческие статуи, тускло мерцавшие из глубины сумрачных аллей, мирно дремали под плеск старинных фонтанов, серебряные струи, подобно дорогим безделушкам, поблескивали в бархатном полумраке, когда на них случайно, чудом пробившись сквозь густую листву, падали лучи мощных дуговых рефлекторов, установленных вокруг дома. — Могу ли я вас хотя бы изредка навещать в Антверпене? — нарушил наконец молчание Фортунат и сам не узнал своего голоса, так неуверенно, почти робко звучал он сейчас. — Да-да, знаю, вы предлагаете довериться судьбе и терпеливо дожидаться высочайшего приговора. Не полагаетесь на себя и думаете, письма менее опасны, чем встречи с глазу на глаз? Нам обоим нет никакого дела до толпы и до ее пошлых пересудов, мы стремимся совсем к другой жизни, зачем же тогда возводить эту китайскую стену?.. Ева повернулась так, чтобы Хаубериссер не видел ее лица. — А вы уверены, что мы действительно созданы друг для друга? Совместная жизнь двух влюбленных могла бы быть поистине чудесной — почему же тогда этого, как правило, не происходит и пылкая любовь в скором времени сменяется горечью и отторжением?.. Все же согласитесь: есть что-то противоестественное в том, что мужчина «прилепляется» к женщине. Не могу отделаться от впечатления, что при этом его крылья надламываются и отмирают... Пожалуйста, дайте мне договорить, я и так знаю, что вы собираетесь сказать... — Нет, не знаете! — воскликнул задетый за живое Фортунат. — Боитесь, что я заговорю о своих чувствах, буду делать какие-то признания, а мне только хотелось... мне хотелось... Ладно, молчу... И все же так нельзя... Слова Сефарди, с какими бы честными намерениями они ни были сказаны и как бы сильно, от всего сердца, я ни надеялся на то, что когда-нибудь они исполнятся, тем не менее — я чувствую это все отчетливей и больнее — воздвигли меж нами почти непреодолимый барьер. И если мы сразу его не разрушим, он еще долго будет разделять нас. Впрочем, может, оно и лучше... В душе я даже рад, что все случилось так, а не иначе... Трезвый бюргерский брак по расчету нам, похоже, не грозит, — вас не шокирует, Ева, что я все время говорю «мы», «нам», «нас»? — другое дело слепая страсть... Доктор Сефарди был, конечно, прав, когда говорил, что истинный смысл супружества утрачен... — И боюсь, безвозвратно!.. — воскликнула Ева. — Если бы вы знали, какой беспомощной и беззащитной чувствую я себя пе ред лицом жизни! Да и не лицо это вовсе, а морда — мерзкая морда прожорливого, внушающего брезгливое отвращение чудовища! И куда ни глянь, всюду эта морда — тупая, пошлая, самодовольная... Она еще и говорить умеет— слова покрыты таким толстым слоем пыли, что за ним и смысла-то не разглядеть! Иногда я кажусь себе ребенком, который мечтает о каком-то сказочном мире, а его изо дня в день таскают в балаган и заставляют смотреть на наглые, размалеванные рожи ленивых, заплывших жиром фигляров, под улюлюканье черни ломающих гадкую мещанскую комедь. Брак выродился в какую- то тягостную отвратительную обязанность, лишающую любовь ее очарования и унижающую влюбленных своей глупой бюргерской целесообразностью. Супружеская жизнь — это что-то вроде медленного и безнадежного погружения в смрадную чавкающую трясину... Ну почему у людей не так, как у бабочек-однодневок?! — Девушка остановилась и с тоской посмотрела на искрящуюся поверхность небольшого пруда, над которой живой вуалью сказочной феи висело эфемерное золотистое облачко мотыльков. — Годами пресмыкаются они жалкими червями во прахе земном, готовятся к свадьбе, как к какому-то священному таинству — и все это, чтобы один-единственный день, взмыв в недоступное небо восхитительной бабочкой, насладиться любовью, а потом... потом умереть... — Вздрогнув, она внезапно замолчала. Хаубериссер видел по ее потемневшим, экстатически расширенным глазам, что они сейчас заглянули в будущее... Охваченная провиденциальным ужасом, девушка дрожала как осиновый лист. Он взял ее похолодевшую руку и поднес к губам. Некоторое время Ева стояла неподвижно, потом медленно, словно в забытьи, обвила руками его шею и поцеловала... — Когда же ты станешь моей, Ева? Жизнь так коротка... Она ничего не ответила, и они молча, думая каждый о своем, направились к ажурной решетке ворот, у которых девушку ожидала карета барона Пфайля. Видя, что час расставания близок, Фортунат хотел повторить свой вопрос, но Ева опередила его — остановилась и порывисто прижалась к нему всем телом. — Я жажду тебя, — прошептала она еле слышно, — жажду, как жаждут смерть. У нас будет свадьба, можешь мне поверить, но тому, что в этом балагане называют браком, не бывать... Смысл ее слов едва доходил до его сознания; пьяный от счастья Фортунат сжимал возлюбленную в объятиях и не сразу почувствовал, как темный ужас, все еще владевший ею, проник и в его душу, а потом... потом он уже ничего не чувствовал, только вставшие дыбом волосы у себя на голове да этот невесть откуда взявшийся ледяной вихрь, от которого у них обоих захватило дух, — казалось, ангел смерти вознес их ввысь на своих крылах, подальше от праха земного, в недоступное небо, к вечно цветущим нивам изумрудного Элизиума... Когда Хаубериссер пришел наконец в себя и сковавший все его существо ледяной гибельный восторг стал понемногу оттаивать, он, глядя вслед карете, увозившей от него Еву, вдруг ощутил под сердцем мучительный сосущий страх, что никогда больше не суждено ему увидеть в этой жизни своей восхитительной возлюбленной.Глава VIII
Ева собиралась с утра навестить свою тетушку, госпожу де Буриньон, в монастыре бегинок и уж потом, успокоив ее, ехать на вокзал, рассчитывая успеть на первый дневной экспресс, отправляющийся в Антверпен. Однако ожидавшее ее в отеле письмо, написанное неверным прыгающим почерком и обильно окропленное слезами, заставило девушку изменить свой план. Известие о кровавом преступлении на Зеедейк, видимо, самым роковым образом сказалось на душевном состоянии Хранительницы порога: в своем письме бедная пожилая женщина жаловалась на «нервы», на плохое настроение, клятвенно обещала «отныне из монастыря ни ногой», — во всяком случае, до тех пор, пока не отступит «эта ужасная мигрень» и она не почувствует себя достаточно сильной, чтобы противостоять «нечестивой мирской суете». Венчавшие это слезное послание повторные многословные жалобы на невыносимую головную боль, не дававшую возможности несчастной затворнице принимать кого бы то ни было с визитами, — «увы, даже самых близких и дорогих ее сердцу людей!» — выдавали, что в настоящее время можно уже не опасаться за душевное равновесие чувствительной дамы... Ева решительно позвонила и велела немедленно доставить свой багаж на вокзал. В полночь отправлялся бельгийский поезд, любезно рекомендованный портье как наиболее спокойный и в отличие от дневных не столь переполненный пассажирами. Хотелось поскорее стряхнуть с себя те тягостные мысли, которые пробудило в ней это письмо. Так, значит, вот оно какое, женское сердце?! А она-то, наивная, боялась, что «Габриэла» не выдержит удара! И что в итоге? — Мигрень!.. «Да, женские чувства сильно измельчали, — подумала Ева с горечью, — мы их как-то незаметно порастеряли — вывязали на чулки еще в те идиллические времена наших бабушек, когда это дурацкое рукоделие почиталось высшей дамской добродетелью». В страхе она закрыла лицо руками: «Неужели я тоже когда-нибудь стану такой? Как все ж таки стыдно и унизительно быть женщиной!..» И вновь ее подхватил тот нежный сумбурный порыв, который не давал ей покоя всю дорогу из Хилверсюма до города, — комната, казалось, была напоена пьянящим ароматом цветущих лип... Ева резко встала, вышла на балкон и подняла глаза к усеянному звездами ночному небу. Когда-то в детстве мысль о том, что там, в небесах, восседает на своем престоле всевидящий и всесильный Господь, который, растроганный ее малостью и беззащитностью, в трудную минуту непременно смилуется и защитит, вселяло в душу нерушимое спокойствие и уверенность, теперь же сознание своего ничтожества угнетало как позор, как постыдное оскорбление... Ева никогда не понимала женщин, стремящихся во что бы то ни стало походить на мужчин, ни в чем не уступая им, все ее существо восставало против такого «равноправия», однако сейчас, когда она пришла к малоутешительному выводу, что не может дать возлюбленному ничего, кроме своей красоты, — а фрейлейн ван Дрюйзен в отличие от большинства представительниц прекрасного пола вовсе не была склонна переоценивать сей «дар», считая ниже своего достоинства засчитывать в заслугу данное от природы, — женский удел показался ей еще более жалким и унизительным. Слова Сефарди о тайном королевском пути, на котором женщина для мужчины значит больше, чем просто «сосуд скудельный радостей земных», отозвались в ней эхом далекой надежды, — но как на него вступить?.. Нерешительно и робко она попробовала сосредоточиться и нащупать возможные подступы к этой тернистой, но спасительной стезе, однако все ее попытки, как вскоре ей самой стало ясно, оставались лишь немощной и униженной мольбой о ниспослании света, вместо того чтобы, бросив вызов неведомым силам, скрывавшимся там, за звездами, схватиться с ними в упорном мужском поединке за божественное озарение. Тихая, идущая из глубины сердца скорбь затопила девушку, погрузив в безысходное отчаянье: что за дьявольская насмешка — стоять пред возлюбленным с пустыми руками, когда душа исполнена страстным желанием подарить ему весь мир! Никакая жертва не казалась ей слишком великой, чтобы тут же, ликуя, не принести ее ради своего избранника. Тонкий женский инстинкт подсказывал, что высшее предназначение женщины заключается в самопожертвовании, но это представлялось ей чем-то само собой разумеющимся, а в сравнении с величием переполнявшей ее любви и вовсе — ничтожным, обыденным и по-детски наивным. Какое это, наверное, наслаждение — быть рабой любимого человека, во всем беспрекословно ему подчиняться, незаметно снимать с его души житейские заботы и по глазам угадывать малейшее желание! Вот только сделает ли она его этим счастливым?.. В конце концов, все это — норма, обычный семейный уклад, а то, что жаждала подарить она, должно было превышать пределы человеческих возможностей. Ева и раньше смутно предчувствовала страшную глубину отчаянья, в которое повергало человеческую душу роковое противоречие между желаемым и возможным, — в самом деле, ощущать себя богатым, как король, в желании дарить и бедным, как последний нищий, в возможности осуществлять свое желание — это ли не адская мука?! — однако только сейчас она по-настоящему заглянула в эту бездонную пропасть и ею овладел неизъяснимый ужас, превращавший когда-то под смех и улюлюканье толпы земную жизнь святых и пророков в сплошной нескончаемый крестный путь. Сломленная горем, опустила она пылающий лоб на холодные перила и, не разжимая сведенных судорогой губ, взмолилась всем своим сердцем: пусть бы явился ей самый малый из числа тех, кто любви ради преодолел поток смерти, и указал тайную тропу к сокровенной короне жизни, дабы несчастная Ева ван Дрюйзен могла принести ее в дар своему возлюбленному. Как будто чья-то рука коснулась ее затылка; Ева подняла глаза и увидела, что небосвод внезапно изменился. Трещина цвета блед, словно зияющая рана, пролегала от края до края, и звезды осыпались в нее, подобно подхваченному ураганным ветром эфемерному облачку хрупких, трепещущих пестрыми крылышками мотыльков-однодневок. И вот, чертог отверстый на небе, и длинный стол стоял посреди, и за столом сидели древние старцы в одеждах, ниспадающих широкими складками, и взоры всех были обращены к ней — как бы готовы внимать ее речам. И старейший средь них ликом своим был подобен посланцу какой-то неведомойрасы — меж бровей пламенел огненный знак, а от висков его исходили два ослепительных луча, схожих с рогами Моисея[180]. Ева понимала, что должна принести какой-то обет, но не находила слов. Хотела молить, чтобы старцы вняли ее просьбе, но молитва не сходила с уст — слова застревали в горле, комом стояли во рту... И тогда рана стала постепенно затягиваться; и чертог и стол мало-помалу расплывались, делались все более смутными, и вот уж Млечный Путь пролег через все небо, от края до края, бледным, матово мерцающим шрамом. Остался лишь муж с пламенеющим знаком на челе. В немом отчаянье девушка простерла к нему руки, умоляя, чтобы он подождал и выслушал ее, но старейший не обращал на нее внимания и уже хотел отвернуть сияющий лик свой. И вдруг от земли оторвался какой-то всадник на белом коне и бешеным галопом устремился в небо, и увидела она, что это Сваммердам. Он спешился, подошел к величественному мужу, крикнул ему что-то и в гневе великом схватил за плечи... Потом повелительно указал вниз, на Еву. Она знала, чего он требовал. Сердце гулко забилось, когда ей внезапно вспомнились библейские слова о том, что Царствие Небесное силой берется[181], и куда только делись все эти слезные мольбы — подобно пожухлой осенней листве осыпались к ногам, — а она в победном сознании своего извечного права на выбор собственного пути уже повелевала, как учил Сваммердам, пришпоривая судьбу колючими отрывистыми фразами: «Вперед! Во весь опор! Неси меня к той высшей цели, которую способна снискать женщина! Гони что есть мочи, не разбирая дороги, не слушая моих стенаний, когда я буду изнемогать от сумасшедшей скачки — вперед и вперед, обгоняя время, мимо радостей жизни, мимо тихого земного счастья, всегда вперед, всегда насквозь, всегда без оглядки, без отдыха, без сна, на последнем дыхании... И пусть это стоит мне жизни, тысячи жизней...» Итак, она должна умереть, — пламенеющий знак во лбу старейшего не был скрыт повязкой и, стоило только Еве заговорить, вспыхнул так ослепительно и жгуче, что мгновенно испепелил прежнее человеческое сознание девушки, однако сердце ее ликовало: я все равно буду жить, ибо мне открыт и лик старца; лихорадочная дрожь пробегала по хрупкому девичьему телу, с трудом справлявшемуся с той колоссальной силой, которая внезапно высвободилась в нем, сокрушив ветхие запоры рабского застенка, земля ускользала из-под ног, мысли швыряло из стороны в сторону, словно в жестокий шторм, но побелевшие губы, не прерываясь ни на миг, продолжали нахлестывать судьбу, вновь и вновь бросая вызов небу, даже когда величественный лик давно исчез... Когда Ева пришла наконец в себя, то долго не могла понять, где находится. Потом медленно, как бы нехотя, стала возвращаться память... «Наверное, пора ехать на вокзал... Чемоданы уже отправлены... А это что за конверт? Ах да, конечно...» — взяла лежавшее на столе письмо тетушки и рассеянно порвала в мелкие клочки — странно, она не делала ничего особенного, но самые привычные движения казались новыми и необычными: руки, ноги, глаза были какими-то чужими, посторонними, не имеющими к ней никакого отношения... «Игрушки, в которые по привычке играет мое Я, только что родившееся где-то в далеком космосе для второй, смутной, еще не совсем осознанной жизни». Собственное тело мало чем отличалось сейчас от вещей в номере — предмет обихода, не более... О вечере в хилверсюмском парке Ева вспоминала с ностальгической нежностью, как о милом и трогательном эпизоде далекого детства, однако к этому светлому чувству примешивалась и доля невольной снисходительности: уж очень мимолетной и случайной выглядела эта первая встреча в сравнении с тем великим несказанным блаженством, которое ожидало их в будущем. В душе девушки творилось сейчас примерно то, что переживает слепой, не знавший в своей жизни ничего, кроме непроглядной ночи, если в его сердце поселяется вдруг надежда: все скромные привычные радости разом меркнут при одной только мысли о том заветном часе — а он когда-нибудь пробьет, пусть не скоро, после долгих мучительных лет ожидания, но пробьет обязательно, непременно! — когда глаза его откроются для солнечного света. Она попробовала уяснить для себя, только ли контраст между пережитым минутой ранее восторгом и серой земной действительностью заставил ее взглянуть на окружающее как на что-то мелкое, незначительное, второстепенное, и поняла, что мир, который открывался сейчас ее органам чувств, подобно призрачному сновидению, скользил мимо — и не важно, какие события происходили там, радостные или печальные, все равно они оставались лишь бледной, неумело скроенной пьеской, не имеющей ни малейшего значения для пробужденного Я. Вот и в чертах лица, когда девушка взглянула на себя в зеркало, застегивая дорожный плащ, затаилось что-то чужое и незнакомое; она даже не сразу догадалась, что эта красивая женщина в стекле — знакомая ей с детства Ева ван Дрюйзен. Однако никакое самое неожиданное открытие не могло нарушить ее нечеловеческого, какого-то мертвенного спокойствия; она взирала в непроницаемую тьму будущего с полнейшим равнодушием, подобно тому, кто знает, что корабль его жизни уже бросил якорь в надежной бухте и теперь можно не думать о штормах наступающей ночи... Ева уже стояла на пороге, когда внезапное предчувствие, что она никогда больше не увидит Антверпена, удержало ее... Схватив перо и бумагу, она хотела написать своей тетушке, но дальше первых строк дело не пошло; глубокая внутренняя уверенность в том, что какие бы действия она теперь ни предпринимала, руководствуясь собственными желаниями и настроениями, ей все равно ничего не изменить, — скорее можно надеяться поймать на лету вылетевшую из ствола пулю, чем обуздать ту таинственную силу, на произвол которой она себя предала, — совершенно парализовала ее волю... Монотонное бормотание, доносившееся из соседнего номера и не привлекавшее внимания девушки, внезапно оборвалось и в комнате повисла мертвая тишина... Прошла минута, другая, Ева всерьез начала беспокоиться, уж не оглохла ли она... И тут в уши проник вкрадчивый, еле слышный, жутковато настойчивый шепот — казалось, его источник находился где-то далеко-далеко, за тридевять земель, — эти глухие гортанные звуки какого-то неведомого варварского языка били в барабанные перепонки, как в ритуальные тамтамы. Разобрать слова было невозможно, но эта грозная, властная, подавляющая интонация!.. Было в ней что-то могучее, первобытное, подчиняющее себе — то, противиться чему Ева не могла... Вскочила и как завороженная устремилась к дверям... Уже на лестнице вспомнила о забытых на туалетном столике перчатках, однако стоило только подумать о возвращении, как чужая и враждебная сила, — правда, почему-то показавшаяся ей идущей из глубины ее собственного женского естества, — в то же мгновение так резко толкнула девушку вперед, что она и осознать-то толком не успела это свое желание. Быстро, но без спешки, размеренным шагом марионетки шла она по улицам, не зная, пойдет ли прямо на следующем перекрестке или свернет в переулок, однако нисколько не сомневалась, что в последний момент ей не придется колебаться, какой путь следует избрать. Ева дрожала всем телом и, хоть сердце оставалось холодным и безучастным, прекрасно понимала, что это — ужас, панический ужас, заставляющий бренную плоть трепетать в предчувствии скорой смерти, — ужас, с которым она не в состоянии совладать, ибо сама тут как бы ни при чем, будто эти руки, ноги, нервы, словом, вся эта красивая телесная форма принадлежит уже не ей, а кому-то другому... Выйдя на большую пустынную площадь, девушка узнала темнеющий в глубине массивный куб биржи и уж было с облегчением подумала, что ничего страпшого не происходит — просто она направляется к вокзалу, и, вообще, мало ли что померещится среди ночи, как вдруг ее неудержимо потянуло куда-то вправо, в узкий кривой переулок. Редкие прохожие, которые ей встречались, замедляли шаг, останавливались, и она чувствовала, как они провожают ее недоуменными взглядами. Никогда раньше Ева не замечала за собой склонности к ясновидению и вот теперь вдруг обнаружила, что без всякого труда читает в душах этих спешащих домой людей. От многих исходила самая искренняя тревога за судьбу этой странной, бредущей, как сомнамбула, по ночному городу одинокой женщины, она отчетливо ощущала устремленный на себя теплый сочувственный ток, очень хорошо сознавая, что глядящие ей вслед мирные обыватели не имеют ни малейшего понятия о том, какие прекрасные эмоции пробуждаются иногда в их душах, — да они и не подозревали, почему оглядывались на нее, совершенно незнакомую им женщину, и конечно же, спроси их, стали бы смущенно оправдываться, будто сделали это случайно, из любопытства или по каким-нибудь еще не менее «правдоподобным» мотивам. С удивлением обнаружила она, что людей связывают тайные невидимые узы, что человеческие души узнают друг друга как бы помимо телесной оболочки и даже вступают в переговоры на языке каких-то неуловимых вибраций и настроений, слишком тонких для внешних органов чувств. Как хищные звери, завистливые, кровожадные и коварные, всю свою жизнь потомки Адама враждуют, но достаточно одной крошечной щелочки в повязке, закрывающей им глаза, чтобы из заклятых врагов получились верные и преданные друзья... Все более пустынными и угрюмыми становились переулки, по которым ее вела чья-то чужая воля; Ева уже не сомневалась, что в ближайшие часы с ней случится нечто ужасное, — скорее всего насильственная смерть от руки какого-нибудь убийцы, — если только не удастся разрушить колдовские чары, принуждающие ее идти вперед, однако она даже не пыталась сопротивляться — безропотно подчинилась невидимому поводырю, абсолютно уверенная, что это ночное приключение — лишь еще один шаг к желанной цели. Переходя по узкому металлическому мостку через какой-то грахт, она заметила возвышающийся неподалеку мрачный силуэт церкви св. Николая — храм с двумя стрельчатыми башнями казался предостерегающе воздетой к небу черной дланью с оттопыренными «рогаткой» перстами — и облегченно вздохнула: это, должно быть, Сваммердам взывал к ней в безутешном горе по убиенному Клинкербоку. Однако затаившаяся вокруг настороженная враждебность подсказывала, что это не так: из каждой пяди земли исходила угрюмая ненависть — холодная, неумолимая, яростная, она всегда направлена против того, кто осмелится преступить законы мира сего и сбросить оковы своего рабства. Только теперь Ева по-настоящему испугалась, сломленная сознанием собственной беспомощности. Попыталась остановиться, однако ноги сами несли ее дальше — казалось, она утратила всякую власть над своим телом. Девушка в отчаянье подняла глаза к небу, и душа преисполнилась покоем и умиротворением при виде бесчисленных сонмов звезд, подобно всесильным покровителям неусыпно взирающим мириадами мерцающих очей вниз, на землю, дабы ни один волос не упал с головы их избранницы. Она вспомнила о величественных мужах в небесном чертоге, в руки которых предала свою судьбу, — достаточно одному из этого собора бессмертных хотя бы бровью повести, и земной шар рассыплется прахом... И вновь в барабанные перепонки ударили варварские гортанные звуки — грубые, страстные, неистовые, сейчас они рокотали совсем рядом, поторапливая ее; и тут вдруг выплыл из темноты дряхлый сутулый дом на стрелке двух грахтов... Тот самый, в котором был убит Клинкербок... На чугунной ограде канала примостился какой-то человек; он сидел совершенно неподвижно, наклонившись вперед, и, казалось, весь обратился в слух, напряженно прислушиваясь к ее приближающимся шагам... Ева сразу поняла: вот он — демонический магнит, притянувший ее на Зеедейк! Она еще и лица-то его не разглядела, а по сковавшему ее смертельному ужасу, от которого кровь в жилах мгновенно застыла, уже знала, что это тот самый кошмарный негр, явившийся вчера в каморку сапожника. Хотела позвать на помощь, но всякое волевое начало в ней было подавлено властным рокотом колдовских тамтамов, связь с телом прервалась, оно теперь ей не принадлежало... Все это очень напоминало смерть: Ева покинула свою бренную плоть, даже видела себя со стороны — вот она неверной деревянной походкой подошла к кафру и замерла рядом с ним. Приподняв голову, он, казалось, смотрел на нее, однако видны были только жутко поблескивающие белки — глазные яблоки закатились как у спящего с открытыми глазами. Сейчас, когда негр явно пребывал в каком-то странном экстатическом состоянии и его тело оцепенело, подобно трупу, достаточно легкого толчка, чтобы оно свалилось в воду, но, заклятая магическими ковами, Ева сама находилась не в лучшем положении и была бессильна что-либо предпринять. Итак, оставалось только покорно ждать, когда он придет в себя, и тогда... тогда — кролик, парализованный неумолимо жестоким взглядом удава, открытая пасть и... От неизбежного девушку отделяли считанные минуты — лицо зулуса уже время от времени судорожно подергивалось, и это было первым признаком того, что сознание возвращалось. Еве неоднократно приходилось читать и слышать о женщинах, особенно блондинках, которые, несмотря на свое самое острое отвращение к чернокожим, вынуждены были уступать их домогательствам; все они в один голос утверждали, что ничего не могли поделать, так как «находились в плену магических чар дикой африканской крови», однако она всегда считала эти объяснения лицемерными отговорками и брезгливо сторонилась «похотливых самок», теперь же ей пришлось изведать на себе темную силу колдовского могущества. Кажущаяся такой толстой и несокрушимой стена между ужасом и чувственным наслаждением оказалась в действительности тоненькой декоративной перегородкой — стоило только ее слегка наподдать, как она опрокидывалась и в женской душе воцарялся хаос, в котором справляли свои разнузданные оргии самые низменные бестиальные инстинкты. Что еще могло придать заклинаниям этого дикаря такую необычайную силу, как сомнамбулу, притянувшую ее, гордую независимую женщину, к нему, полузверю-получеловеку, через ночные незнакомые переулки, как не эти скрытые струны, наличие которых в своей душе она всегда надменно отрицала и которые при первой же возможности отомстили ей, втайне от нее предательски откликнувшись на похотливый зов какого-то чернокожего? «Неужели этот туземец действительно обладает дьявольской властью над любой белой женщиной, — вопрошала она себя, дрожа от страха и омерзения, — или это одна я так низко пала, а другие, в отличие от меня, не только не подчиняются магическому призыву негра, но даже не слышат его?» Спасения для себя Ева уже не видела. Все, к чему она стремилась ради своего возлюбленного и будущего союза с ним, было обречено вместе с ее телом. Что-то ей, конечно, удалось бы спасти, пронеся через порог смерти, но все это было слишком смутно, расплывчато и неопределенно и не могло дать того, чего она так страстно жаждала... Ева хотела преодолеть земное начало, однако дух Земли мертвой хваткой вцепился в то, что ему принадлежало по праву. Теперь и этот негр казался девушке зловещим воплощением какого-то черного хтонического божества — особенно сейчас, когда он, выйдя из прострации, спрыгнул с перил и выпрямился во весь свой исполинский рост. Рядом с ним она чувствовала себя маленькой девочкой. Зулус схватил ее за руку и рванул к себе... Ева закричала, ее отчаянный крик эхом заметался по каменным закоулкам Зеедейк; в следующее мгновение негр зажал ей ладонью рот, да так, что она едва не задохнулась. На голой могучей шее болтался темно-красный кожаный ошейник — такие обычно одевают на свирепых меделянских псов, — девушка судорожно вцепилась в него, чтобы чудовище не швырнуло ее на землю. На миг чернокожий убрал свою ладонь. Из последних сил она вновь позвала на помощь. Должно быть, ее услышали — где-то неподалеку звякнула стеклянная дверь, послышались голоса и широкая полоса света разрезала густую темноту переулка. Тогда негр сгреб ее в охапку и гигантскими прыжками бросился к противоположной стороне, стремясь укрыться в тени соседней церкви; два чилийских матроса, подпоясанные оранжевыми шарфами, гнались за ними по пятам — мужественные бронзовые лица моряков быстро приближались, в мускулистых руках тускло поблескивали открытые навахи... Инстинктивно она изо всех сил дернула негра за ошейник и принялась дрыгать ногами, чтобы хоть как-то ему помешать, однако исполин этого, казалось, не заметил — стиснул ее покрепче и помчался вдоль стены церковного сада. Голова девушки болталась из стороны в сторону, а перед глазами мелькали то толстые вывернутые губы, то оскаленные зубы, зловеще поблескивающие в смутном лунном свете, подобно ощеренной пасти хищного зверя, — и вдруг опять эти кошмарные, призрачно мерцающие опаловые бельма, в которых сейчас пылало ледяное пламя такого нечеловеческого бешенства, что она сразу стихла, загипнотизированная бледным инфернальным свечением и уже не способная ни к какому, даже самому ничтожному сопротивлению. Один из матросов догнал негра и, забежав вперед, по-кошачьи прыгнул ему под ноги, пытаясь своей острой как бритва навахой полоснуть чернокожего снизу, однако зулус успел перепрыгнуть через коварного чилийца и коленом с такой сокрушительной силой ударил его в лоб, что тот, не издав ни звука, опрокинулся навзничь и остался лежать с размозженным черепом. Потом Ева почувствовала, что летит, и от страшного удара потеряла сознание... Придя в себя, девушка поняла, что негр, настигнутый вторым матросом, попросту перебросил ее через запертые на ночь ворота церковного сада; теперь, освободив себе руки, он надвигался на своего противника, а она, лежа на земле, подобно насаженной на булавку бабочке — пола плаща зацепилась за острую пику решетчатых ворот, — и не в состоянии пошевелить даже пальцем, вынуждена была с ужасом наблюдать сквозь прутья кованой решетки за этой схваткой. Борьба продолжалась считанные секунды: схватив моряка своими могучими лапами и подняв над головой, чернокожий исполин раскрутил его словно пращу и метнул в окно стоящего напротив дома — оконная рама, рассыпая осколки стекол, со страшным грохотом рухнула на мостовую... Собравшись с силами, Ева скинула плащ и стала метаться по крошечному саду в поисках выхода, однако двери церкви были заперты; как затравленный зверек, забилась она под скамейку, прекрасно сознавая, что все это напрасный труд: светлое платье было видно издалека и разве что слепой бы ее не заметил. Дрожащими пальцами, уже не способная что-либо понимать, девушка нащупывала заколотую под горлом булавку, чтобы вонзить ее себе в сердце, — негр уже перелез через ворота, а она не хотела живой попадаться ему в руки. Немой отчаянный вопль к Богу указать ей хоть какую-то возможность принять смерть раньше, чем ее обнаружит это чудовище, замер у нее на губах... Это Ева еще помнила, но в следующее мгновение ей показалось, что она сходит с ума: посреди сада стоял ее двойник и как ни в чем не бывало улыбался, поглядывая по сторонам!.. Негр тоже как будто его заметил, оторопело замер, потом настороженно подошел и заговорил с призраком... Слов она разобрать не могла, так как чернокожий лепетал что-то нечленораздельное, казалось, его голосовые связки были парализованы ужасом. Убежденная, что все это ей мерещится, — слишком многое случилось с ней за этот короткий отрезок времени и рассудок, должно быть, не выдержал — она тем не менее как зачарованная не могла отвести глаз от жуткой парочки. Ева словно раздвоилась: на какой-то миг явственно осознавала себя своим двойником, которому страшный негр повиновался беспрекословно и униженно, видимо, находясь в полной его власти, а в следующую секунду иллюзия кончалась, и она вновь в отчаянии хваталась за ворот платья в поисках спасительной булавки. «Необходимо во что бы то ни стало успокоиться и собраться с мыслями, иначе и в самом деле недолго с ума сойти», — решила Ева, у которой голова шла кругом, и, сосредоточив взгляд на двойнике, принялась следить за ним; вскоре девушка заметила, что чем напряженней она в него всматривается, тем скорее он, словно притянутый ее вниманием, исчезает, сливаясь с нею, своим оригиналом, как его тайная магическая часть. Она могла вдохнуть фантом в себя и снова выдохнуть, но всякий раз, когда призрачный дублер выходил из-за кулис ее тела, от пронизывающего ледяного ужаса у нее волосы на голове вставали дыбом, как будто сама смерть подступала к ней со своей косой. На негра внезапные исчезновения двойника не производили никакого впечатления: стоял фантом рядом или пропадал — зулус продолжал бессвязно и монотонно бубнить себе под нос, казалось, он разговаривал во сне с самим собой... Ева догадалась, что чернокожий снова впал в тот странный транс, в котором она застала его сидящим на перилах грахта. Содрогаясь от страха, она решилась наконец выйти из своего укрытия. Возбужденные голоса доносились из переулка, в окнах домов мелькали отражения факелов, какие-то люди сновали вдоль забора, размахивая фонарями, случайные вспышки которых превращали тени садовых деревьев в тощих угловатых привидений, судорожно пляшущих на церковной стене. Сердце готово было выпрыгнуть из груди: сейчас, сейчас толпа, рыщущая в окрестных переулках в поисках негра, подойдет совсем близко! Пора! На подгибающихся от слабости ногах Ева бросилась мимо оторопевшего зулуса к решетчатым воротам и, вцепившись в металлические прутья, стала пронзительно звать на помощь. Теряя сознание, она успела различить какую-то женщину в красной короткой юбке, которая сочувственно опустилась рядом с ней на колени и, просунув руку сквозь решетку, смочила ей лоб водой... Итак, спасена!.. Буйные, полуголые обитатели Зеедейк карабкались через стену, зажав в зубах сверкающие ножи, — легион фантастических, бестолково суетящихся демонов, будто самой преисподней извергнутый ей на выручку; в неверном факельном свете церковные образа в застекленных нишах, словно ожив, недоуменно взирали на снующую по саду кровожадную братию; дикие испанские проклятия сыпались как из рога изобилия: «Вон он, этот ниггер, а ну-ка, сеньоры, вздернем черномазого на его собственных кишках!» В полузабытьи она видела, как моряки с яростным ревом кидались на зулуса и, настигнутые страшными кулаками, валились наземь; слышала его победный клич, от которого кровь стыла в жилах, — вот он, подобно вырвавшемуся из клетки тигру, проложил себе путь в орущей толпе, ловко вскочил на дерево и, гигантскими прыжками прыгая с выступа на выступ, с фронтона на фронтон, стал быстро взбираться на крышу церкви... Когда она на секунду пришла в себя, ей почудилось, будто какой-то старик с повязкой на лбу, склонившись над ней, зовет ее по имени... Ева было приняла его за Лазаря Айдоттера, но старческие черты стали быстро расплываться и бледнеть, прямо на глазах превращаясь в прозрачную маску, сквозь которую проступила кошмарная черная личина с призрачно мерцающими опаловыми бельмами и зловеще оскаленными из-под уродливо вьюернутых губ зубами, какой она навеки запечатлелась в памяти девушки, — в следующее мгновенье ведьмовские исчадья лихорадочного бреда, вонзив свои хищные когти в ее угасающее сознание, вновь безжалостно изорвали его в мелкие клочья...Глава IX
После ужина задумчивый, ушедший в себя Хаубериссер провел еще час в обществе доктора Сефарди и барона Пфайля. Мысли его все время возвращались к Еве, и, стоило кому-нибудь из собеседников обратиться к нему, — он испуганно вздрагивал, переспрашивал и отвечал односложно и невпопад. Одиночество в Амстердаме, столь желанное и благотворное прежде, сейчас, когда он впервые задумался о будущем, внезапно показалось невыносимым. Ни друзей, ни знакомых, кроме Пфайля и Сефарди, к которому он с первого взгляда проникся самой искренней симпатией, у него здесь не было, а всякие отношения с родиной давно прервались. И вот теперь, когда он встретил Еву, продолжать вести прежний, затворнический образ жизни?.. Он всерьез подумывал, не переехать ли в Антверпен, чтобы, по крайней мере, дышать со своей возлюбленной одним воздухом, если уж она не желает быть вместе с ним; и кто знает, может, тогда ему хотя бы изредка будет удаваться видеть ее... Сердце болезненно сжималось, когда в памяти оживал тот холодный, подчеркнуто бесстрастный голос, которым она вынесла свой приговор, — лишь время и отчасти случай должны решать судьбу их будущего союза, — а потом, на минуту позабыв обо всем от счастья, переносился в парк и вновь ловил губами ее поцелуи, уже нисколько не сомневаясь, что они созданы друг для друга. «Только я сам буду виновен, — говорил он себе, — если наша разлука продлится дольше, чем пару дней. Что, собственно, мешает мне уже на следующей неделе явиться к ней с визитом и договориться о дальнейших встречах?.. Неужели я не сумею уговорить ее? Если не ошибаюсь, она совершенно независима и ей не требуется испрашивать чьего-либо согласия на свой выбор». Но каким бы ясным и понятным ни казался ему путь к сердцу девушки сейчас, при более внимательном рассмотрении, — все равно, на эти радужные надежды вновь и вновь, с какой-то роковой неизбежностью, наползала черная зловещая тень того самого неопределенного страха, который он впервые отчетливо ощутил, когда прощался с Евой у парковых ворот. Фортунат хотел видеть будущее в розовом свете, однако ничего не получалось: тщетность судорожных попыток игнорировать глас судьбы, гулко отдававшийся в сердце железным «нет» всякий раз, когда он во что бы то ни стало старался заклясть упрямый рок и добиться от него хоть какого-то обнадеживающего ответа, приводила его в отчаянье. По опыту Хаубериссер знал: если уж проник в душу вкрадчивый, назойливый шепоток странного, как будто ни на чем не основанного предчувствия надвигающейся беды, то бесполезно пытаться заглушить его; однако, не желая впадать в панику, молодой человек упорно внушал себе, что подобные фобии — естественное и даже необходимое следствие влюбленности, а сам с ужасом прикидывал, сколько еще будет продолжаться эта нервотрепка: в лучшем случае до тех пор, пока не станет известно о благополучном прибытии Евы в Антверпен. На станции Мёйдерпоорт, расположенной ближе к центру города, чем Центральный вокзал, он сошел вместе с доктором Сефарди и, проводив его немного в сторону Херенграхт, поспешил к отелю «Амстел», чтобы оставить у портье букет роз, который, усмехаясь, вручил ему, словно читая его мысли, барон Пфайль. Фрейлейн ван Дрюйзен только что выехала, сказали ему; однако, если он возьмет таксомотор, то, пожалуй, успеет до отхода поезда... Таксо на предельной скорости доставило его на вокзал. Он ждал. Оставались считанные минуты, а Ева не появлялась. Он телефонировал в отель — в номер она не возвращалась... Надо справиться в багажном отделении... Чемоданы никто не забирал. Он почувствовал, как земля уходит из-под ног... Только сейчас, охваченный страхом за судьбу Евы, Фортунат понял, как сильно ее любит, наверное, не сможет без нее жить. Последняя преграда — чувство легкой неловкости, возникшее из-за той необычайной поспешности, с которой случай бросил их в объятья друг другу, — рухнула, сметенная отчаянным страхом; о, если бы она сейчас стояла здесь, рядом, он бы подхватил ее на руки, покрыл с ног до головы поцелуями и уже никогда больше не отпускал от себя!.. Надежды на то, что она явится в последний момент, уже не было, однако он ждал, пока поезд не тронулся. Итак, совершенно ясно — случилось несчастье. Властно призвал он себя к спокойствию. Каким путем она могла идти к вокзалу? Нельзя терять ни минуты. Сейчас поможет — если, конечно, не произошло самое страшное! — только тщательный, хладнокровный анализ, который не раз выручал его и в сложных технических расчетах, и в запутанных житейских ситуациях. Проникнуть в скрытый от взглядов простых смертных приводной механизм, определяющий ход событий, тайные пружинки и шестеренки которого вовлекли Еву в свою незримую, судьбоносную работу еще до того, как она покинула отель, можно было только с помощью воображения, и он попытался предельно отчетливо представить себе: полумрак, ночная тишина, девушка, ожидающая в пустом номере — вещи уже отправлены — отъезда на вокзал... А кстати, почему она отправила багаж заранее и не воспользовалась услугами гостиничного авто? — Скорее всего, хотела налегке к кому-то зайти... Но к кому у нее могло быть такое неотложное дело, что она решилась на визит в столь поздний час? И тут Фортунат вспомнил, как настоятельно просила девушка доктора Сефарди не забыть наведаться к Сваммердаму. Старый энтомолог живет на Зеедейк — а как явствовало из газетной заметки о «кровавой драме», это одно из самых опасных мест Амстердама... Вот оно! Только туда она могла направиться... Ледяной озноб пробежал по телу Хаубериссера, когда он невольно подумал о тех ужасных опасностях, которым подвергала себя одинокая женщина, рискнувшая среди ночи углубиться в мрачный лабиринт кривых переулков и глухих тупиков — этот исконный приют портового отребья. Ему приходилось слышать о притонах, в которых случайного посетителя, предварительно раздев до нитки, убивали и через потайной люк сбрасывали в грахт; волосы вставали дыбом при одной только мысли, что и Ева... Не прошло и пяти минут, как автомобиль уже мчал его через мост Опенхавен... У церкви св. Николая он остановился. — В этих чертовых переулках не развернешься, — угрюмо буркнул шофер. — Зайдите в «Принца Оранского», — он ткнул пальцем в тускло освещенные окна подвала, — и справьтесь у хозяина... Он подскажет, как найти нужный дом... Дверь трактира была открыта нараспашку. Споткнувшись в темноте на гнилых ступеньках, Хаубериссер скатился в подвал — заведение пустовало, только за стойкой стоял какой-то хмурый субъект пиратского вида и подозрительно, исподлобья, изучал незнакомого посетителя... С улицы время от времени доносились какие-то дикие вопли, похоже, там шла нешуточная драка. — Старик живет здесь, на пятом этаже, — нехотя процедил сквозь зубы хозяин и, получив чаевые, с недовольной миной посветил настырному чужаку, опасавшемуся свернуть себе шею на крутой полуразвалившейся лестнице, больше похожей на корабельный трап... — Нет, фрейлейн ван Дрюйзен с тех пор к нам не заходила, — сказал, качая головой, Сваммердам, когда Фортунат срывающимся от волнения голосом поделился с ним своими опасениями; старый энтомолог еще не ложился и был полностью одет. Оплывшая сальная свеча, которая в печальном одиночестве теплилась в центре стола, и скорбное траурное лицо ученого выдавали, что так он, должно быть, и сидел целый день, подперев голову и глядя на трепетное пламя, погруженный в тяжкие думы об ужасном конце своего приятеля Клинкербока. Хаубериссер схватил его руку: — Простите, господин Сваммердам, что я вот так, бесцеремонно, не считаясь с вашим горем, врываюсь к вам среди ночи... Да, я знаю, какое великое несчастье вас постигло, — добавил он, заметив удивленное лицо старика, — мне известны все обстоятельства и даже причины этой страшной трагедии... Их объяснил нам сегодня доктор Сефарди. Если пожелаете, мы с вами поговорим об этом... только потом... спокойно и обстоятельно... А сейчас, сейчас этот страх за Еву меня, кажется, с ума сведет. А что, если она все-таки пошла к вам, на Зее-дейк, а по дороге на нее напали и... и... нет, я и помыслить об этом не могу!.. Он вскочил с кресла и, вне себя от отчаянья, стал ходить из угла в угол. Сваммердам на минуту задумался, потом твердо сказал: — Пожалуйста, менеер, не считайте мои слова лишь попыткой успокоить вас... Так вот, фрейлейн ван Дрюйзен не погибла! Она жива! Хаубериссер резко обернулся: — Откуда вы знаете? Спокойная уверенность старика — Фортунат и сам не понимал почему — словно камень сняла с его души. Сваммердам помедлил с ответом. — Я бы ее увидел, — еле слышно вымолвил он наконец. Фортунат вновь схватил его руку. — Заклинаю вас, господин Сваммердам, помогите мне, ведь вам многое дано! Я знаю, вся ваша жизнь — это путь веры; ваш взгляд должен проникать глубже, чем мой. Человек посторонний часто замечает... — Не такой уж я посторонний, как вы думаете, менеер, — прервал его старик. — И хоть фрейлейн ван Дрюйзен я видел всего один раз, но, если скажу, что люблю ее, как собственную дочь, уверяю вас, это будет не слишком сильно сказано... — Он протестующе замахал руками. — Не благодарите, не надо, да и не за что пока. Само собой разумеется, я сделаю все, что в моих силах, лишь бы помочь ей и вам, даже если для этого понадобится пролить мою старую, ни на что уже не годную кровь... А теперь выслушайте меня, пожалуйста, спокойно: ваше предчувствие вас наверняка не обмануло и с фрейлейн Евой, видимо, действительно случилось какое-то несчастье. К своей тетке она не заезжала — мне об этом бы сказала моя сестра, которая только что вернулась из монастыря бегинок... Удастся ли нам найти ее еще сегодня, утверждать не берусь, но, уж во всяком случае, постараемся не упустить ни малейшей возможности. Главное — не впадайте в отчаянье, даже если мы ее не найдем; да будет вам известно, — и это, менеер, не пустые слова! — Некто, рядом с которым мы оба ничто, простер свою могущественную длань над нею... Мне бы не хотелось говорить загадками, но я абсолютно уверен — когда-нибудь я, наверное, смогу объяснить вам почему, — что фрейлейн Ева последовала одному моему совету... Похоже, случившееся с ней сегодня — это первое свидетельство того, что она уже на пути... Когда-то и мой приятель Клинкербок избрал подобный; все эти годы я в глубине души предвидел конец, хотя и цеплялся за надежду, что горячей молитвой удастся отвести беду. Сегодняшняя ночь доказала то, что я и так знал, но по собственной слабости ничего не предпринимал, лишь ждал и надеялся: молитва — это средство, позволяющее насильно разбудить спящие в нас силы. И только... Глупо обманывать себя тем, что молитва может как-то повлиять на волю Всевышнего... Люди, вверившие свою судьбу Духу, подвластны одному закону — духовному. Воистину, они достигли совершеннолетия и вышли из-под опеки Земли, чтобы когда-нибудь обрести полную власть над этой темной и бренной субстанцией. Все, что с ними случается во внешнем мире, лишь идет им на пользу, направляя вперед, — даже несчастье помогает этим одиноким странникам... Будем считать, менеер, что в случае фрейлейн Евы дело обстоит именно так. Вся сложность состоит в том, чтобы призвать Дух, который направит вашу судьбу, но лишь гласу того, кто созрел для духовного странствования, внемлет Он; призыв должен совершаться из любви, во благо другого человека — в противном случае в нас просыпаются силы тьмы. Каббалисты говорят о «существах кромешно темного царства Об, кои уловляют в свои тенета бескрылые молитвы»; они имеют в виду вовсе не каких-то страшных демонов, обитающих вне нас, — от них мы защищены стенами нашей плоти, — но сокрытые в глубине наших душ магические яды, которые, если их вывести из спячки, разъедают и подтачивают человеческое Я. — Но если Ева, по вашим словам, господин Сваммердам, идет тем же путем, что и Клинкербок, — недоуменно воскликнул Хаубериссер, — то я, извините, совершенно не понимаю вашего оптимистического настроя! — Пожалуйста, позвольте мне договорить... Я бы никогда не решился, менеер, давать фрейлейн такой опасный совет, если бы в то мгновение при моих устах не был Тот, о Котором я недавно сказал: мы оба ничто в сравнении с Ним. В течение всей моей долгой жизни ценой несказанных мук учился я разговаривать с Ним и отличать Его глас от нашептывания человеческих желаний... Так вот, опасность заключалась лишь в том, что фрейлейн могла начать свой призыв в неподходящий момент; этот критический момент — и он единственный — слава Богу миновал. — Сваммердам радостно засмеялся. — Знайте же, несколько часов назад призыву вашей возлюбленной вняли!.. И возможно, — поймите, это не тщеславное бахвальство, ибо все происходило как бы помимо меня, пока я пребывал в состоянии глубокого транса, — возможно, мне посчастливилось помочь ей в этом... — Он подошел к двери и открыл ее. — Однако давайте-ка используем до конца свои возможности и обратимся к пресловутому «дедуктивному методу», ибо рассчитывать на помощь высших сил можно только тогда, когда все, что в человеческих силах, уже сделано... Сойдем же вниз, в трактир, поговорим с матросами, — думаю, пара звонких монет развяжет им языки, — ну а если вы тому, кто найдет фрейлейн и доставит живой и невредимой, пообещаете хорошее вознаграждение, так они весь квартал перевернут вверх дном и в случае надобности жизни своей не пожалеют ради нее... Эти люди, в сущности, гораздо лучше, чем о них думают; просто они заблудились в дремучих чащобах своих душ и, одичав, уподобились хищным бродячим зверям. В каждом из них присутствует доля той отчаянной отваги, которой так не хватает иным благовоспитанным обывателям; конечно, проявляется она, как правило, в виде насилия и жестокости, ибо неведомо буйной братии, что за сила движет ею... Но вот что я вам скажу, мене-ер: они не боятся смерти, а мужественный человек не может быть отпетым негодяем. Воистину, самый верный признак того, что человек несет в себе бессмертие, — это презрение к смерти... Они спустились в кабак. Сумрачный подвал был забит до отказа; в середине, на полу, лежал с размозженным черепом труп чилийского матроса. Когда Сваммердам поинтересовался, при каких обстоятельствах погиб несчастный, трактирщик уклончиво пробурчал, что это была обычная драка, какие почти ежедневно случаются в порту. — Этот чертов негритос, который вчера... — начала было кельнерша Антье, но не договорила: хозяин с такой силой двинул ей в бок, что она закашлялась, подавившись словами. — Захлопни пасть, грязная свинья! — рявкнул трактирщик. — То был черный кочегар с бразильской посудины, понятно! Хаубериссер отвел одного из бродяг в сторону и, вложив ему в руку монету, принялся расспрашивать. Вскоре его уже окружала целая шайка — возбужденно жестикулируя и сверкая глазами, разбойного вида матросы старались друг друга превзойти в изображении того, что бы они сделали с негром, попадись он им в руки; однако все эти невероятно подробные и красочные описания фантастически изощренных пыток, чуть только речь заходила об имени и приметах «проклятого черномазого», кончались одним и тем же на редкость серым и стереотипным: да-да, конечно, то был чужак, какой-то пришлый, никому не известный кочегар. Прищуренные глаза старого морского волка за стойкой все время держали краснобаев под прицелом, а когда буйная фантазия уносила вдохновенных сказителей так далеко, что они могли проболтаться и случайно навести на след зулуса, его негромкое, но грозное покашливание возвращало их на грешную землю. Разумеется, он бы и пальцем не пошевелил, чтобы помешать этим головорезам поставить на ножи своего чернокожего завсегдатая, — жаль, конечно, ведь у ниггера все еще водились денежки! — однако священный закон портового братства был неумолим: своих — и друзей и врагов — не выдавать!.. Нетерпеливо вслушивался Фортунат в хвастливую болтовню, и — кровь бросилась ему в голову — вот оно: у Антье сорвалось с языка, что негритос таскал за собой какую-то молодую приличную даму... Он покачнулся и, теряя равновесие, схватился за рукав Сваммердама; потом высыпал содержимое своего кошелька в руки кельнерши и, все еще лишенный дара речи, знаками дал ей понять, чтобы она рассказала подробней. — Сидим, значит, пьем, вдруг крики... Какая-то женщина кричит... Ну мы и рванули на улицу... — загалдели все разом. — Менеер, менеер, она лежала у меня на коленях!.. Без сознания была! — перекричала всех Антье. — Но где она, где вы ее оставили? — воскликнул Хаубериссер. Матросы замолчали и, почесывая в затылках, стали недоуменно переглядываться: только сейчас до них дошло, что про женщину-то они и забыли... Куда девалась Ева, никто не знал. — Да-да, менеер, я положила ее голову себе на колени... Она еще такая бледная была, без сознания... — твердила как заве денная Антье; было очевидно, что она сама не имеет ни малейшего понятия о том, куда могла исчезнуть Ева. Потом все высыпали на улицу и вместе с Хаубериссером и Сваммердамом принялись прочесывать окрестные переулки, хором выкликая имя «Ева»; особенно тщательному осмотру подвергли церковный сад. — Он был там, наверху... Ну негритос этот... — объясняла кельнерша, тыча пальцем в зеленоватую крышу церкви. — Вот здесь, у ворот, я оставила ее лежать, ведь мне тоже хотелось посмотреть, как будут ловить черномазого, а потом... потом мы несли мертвого в дом и я — вот чертова память! — совсем про нее забыла... Разбудили жителей соседних домов: Ева могла спрятаться у кого-нибудь из них; хлопали двери, распахивались окна, сонные голоса спрашивали, что случилось, — нигде никаких следов... Измученный и телом и душой, Хаубериссер предлагал каждому, кто оказывался рядом, любые деньги за сведения о местонахождении Евы. Напрасно старался Сваммердам успокоить молодого человека: мысль о том, что Ева в отчаянье от случившегося — возможно даже, на нее нашло минутное затмение — решилась на самоубийство и бросилась в воду, сводила его с ума. Матросы, прошедшие вдоль Нового канала до набережной принца Хендрика, вернулись ни с чем. Вскоре весь портовьш квартал был на ногах; полуодетые рыбаки, вооружившись баграми, плавали на лодках вдоль пирса и, опуская корабельные фонари к самой воде, осматривали стенки причалов — на рассвете они обещали протащить через устье всех окрестных грахтов большой рыболовный невод. Исподволь Хаубериссера точила одна мысль: а что, если негр изнасиловал Еву? — и он, ежесекундно опасаясь услышать подтверждение тайных своих опасений, с замиранием сердца внимал без устали тарахтевшей кельнерше,которая, не отставая от него ни на шаг, непрерывно, в тысячах вариантов, описывала сцену в церковном саду, постепенно обраставшую кучей самых кошмарных подробностей. Вопрос горел у него на губах, а он никак не мог решиться задать его. Наконец, преодолев смущение, молодой человек осторожно намекнул на эту щекотливую деталь... Обступившие Фортуната бродяги, только что пытавшиеся успокоить его тем, что самыми страшными клятвами клялись изловить проклятого ниггера и живьем настрогать ломтями, сразу притихли и, сочувственно стараясь на него не смотреть, уныло плевали себе под ноги. Антье, отвернувшись, тихо всхлипывала. Всю свою жизнь проведя в отвратительной клоаке, она все же осталась женщиной и понимала, что надрывало сердце этому не находившему себе места господину. Лишь Сваммердам оставался спокойным. Непоколебимая уверенность в чертах лица и вежливое, но решительное выражение, с которым старый энтомолог вновь и вновь, ласково улыбаясь, качал головой, когда выдвигались предположения, что Ева скорее всего просто утонула, мало-помалу вселили в Хаубериссера новую надежду — в конце концов, последовав совету старика, он, осторожно переставляя негнущиеся ноги, побрел в его сопровождении домой... — Ложитесь-ка лучше отдыхать, — сказал Сваммердам, когда они были уже на подходе, — и, умоляю вас, не тащите свои тревоги за собой в сон. Люди и представить себе не могут, на что способна человеческая душа, если тело не докучает ей своими суетными заботами... И пожалуйста, не беспокойтесь, все необходимые формальности я улажу — надо будет известить полицию, чтобы и она подключилась к поискам. Не очень-то я на нее полагаюсь, но сейчас нельзя пренебрегать никакими средствами — все меры, которые подсказывает голос рассудка, должны быть использованы... Еще по дороге он заботливо старался отвлечь Фортуната от тяжелых мыслей, и молодой человек, проникнувшись внезапным доверием к доброму и необычайно отзывчивому старику, сам не заметил, как рассказал и о свалившихся ему на голову дневниковых записях, и о своих далеко идущих планах нового обстоятельного изучения этих таинственных бумаг, которые теперь, судя по всему, придется отложить надолго, если не навсегда. И вот сейчас, уже у дома, заметив на лице Хаубериссера следы прежнего, вновь подступающего отчаянья, Сваммердам порывисто схватил руку молодого человека и не отпускал ее до тех пор, пока не кончил говорить. — О, как бы мне хотелось передать вам хотя бы часть той уверенности, которая не покидает меня при мысли о фрейлейн Еве! Тогда вы бы поняли сами, что хочет от вас судьба, — а так я могу вам только советовать... Последуете вы, менеер, моим советам? — Конечно! — заверил тронутый вниманием старика Фортунат, к тому же ему вспомнились слова Евы, что Сваммердаму с его живой и искренней верой дано обрести высшее. — Можете не сомневаться. От вас исходит такая сила, что мне иногда кажется, будто какое-то огромное, тысячелетнее древо защищает меня от ураганного ветра. Спасибо вам, ибо каждое слово, сказанное вами сейчас, когда мне так трудно, живительной влагой вливается в мою душу. — Я хочу рассказать вам об одном происшествии, — сказал Сваммердам, — которое, каким бы незначительным оно ни казалось, послужило мне уроком на всю жизнь. О ту пору я был довольно молод, сравнительно недавно меня постигло жестокое разочарование, после которого мне еще долго земля представлялась кромешным адом. С эдаким мраком в душе да еще отравленный горьким ощущением полнейшей безысходности, — ведь мне тогда казалось, что судьба обходится со мной подобно неумолимому палачу, бессмысленно и бестолково осыпая меня ударами, я стал случайным свидетелем того, как дрессировали лошадь. Молодую кобылу привязали к длинному ремню и принялись гонять по кругу, ни на секунду не давая перевести дыхание. Потом поставили барьер, но всякий раз, когда лошадь к нему подбегала, она бросалась в сторону или вставала на дыбы. Шли часы, удары бича градом сыпались ей на спину, но она по-прежнему отказывалась брать барьер. Тот, кто ее мучил, не казался жестоким — он как будто даже сам страдал от той ужасной работы, которую ему приходилось исполнять. У него было открытое доброе лицо, и, когда я крикнул ему в сердцах, что подло так издеваться над беззащитным животным, он отер со лба пот и устало сказал: «Да я бы сам на все мои заработанные за день деньги купил этой бедной коняге сахару, если б только она поняла наконец, чего от нее хотят. Думаешь, я не пробовал соблазнить ее сахаром? Пробовал, и еще как, но то-то и оно, что от сладкого толку мало. Господи, да в эту кобылу будто бес вселился и морочит ей голову! И ведь всего-то и делов — прыгнуть через барьер!..» Я видел, как вспыхивал смертельный страх в безумных глазах лошади, когда она в очередной раз подбегала к роковому препятствию, в них читалось: «Сейчас, сейчас меня вновь обожжет этот страшный бич...» Неужели не существует иного способа заставить несчастное животное понять, что от него требуется? Но сколько я ни пытался сначала безмолвно, внушением, потом на словах убедить упрямую кобылу прыгнуть через барьер, все было напрасно; с горечью мне пришлось признать, что боль — это единственный учитель, способный чему-то научить. И тут словно вспышка: а разве я сам веду себя не так, как эта лошадь: судьба охаживает меня ударами и справа, и слева, и в хвост и в гриву, а мне, ослепленному болью и ненавистью к той страшной невидимой силе, которая измывается надо мной, и невдомек, что я просто-напросто должен что-то исполнить — может быть, преодолеть какой-то духовный барьер... Этот такой, казалось бы, пустяковый случай стал поворотным пунктом всей моей жизни: я научился любить тех невидимых «дрессировщиков», которые хлесткими ударами гнали меня вперед, так как чувствовал, что они предпочли бы «сахар», если б он подвиг мое косное ленивое существо, преодолев пару низких ветхих ступенек бренной человеческой природы, взойти к иным, высшим состояниям... Пример, который я привел, конечно, хромает, — усмехнулся Сваммердам, — ибо еще вопрос, дает ли что-нибудь лошади сей прогресс, выражающийся в умении скакать через препятствия, и не было бы лучше оставить ее в покое. Ну это уже другой вопрос, и оставим его, пожалуй, на потом... Итак, если раньше я жил как в тумане, принимая сыпавшиеся на меня невзгоды за какое-то наказание, и ломал себе голову в тяжких думах, какими такими прегрешениями заслужил столь суровую кару, то теперь мне открылся смысл жестоких ударов судьбы, и хотя далеко не всегда удавалось уяснить, что за барьер высился предо мной, однако почетное звание чуткой и понятливой лошади ваш покорный слуга, думается, заслужил. С тех пор библейский стих об оставлении грехов открылся мне в несколько ином, странном и сокровенном смысле: отсутствие наказания совершенно естественно отменяло само понятие вины, и страшный, уродливый образ мстительного Бога расплывался в облагороженную и лишенную какой бы то ни было формы идею некоего благотворного начала, которое лишь желает нас, смертных, чему-то научить — точно так же, как человек лошадь... Многим, очень многим рассказывал я эту ничем как будто не примечательную историю, но слова мои так ни разу и не упали на благодатную почву: выслушав мои рекомендации, люди самонадеянно полагают, что им не составит труда уловить желания невидимого «дрессировщика», и уже не сразу реагируют на свист рокового «бича» — и вот все возвращается на круги своя, и тащат они, кто ропща, а кто «покорно» — если обманывают себя, прибегая к пресловутому смиренномудрию, — свой крест дальше. Когда же человек нет-нет да угадывает намерение тех, кто по ту сторону — «Великих сокровенных», ибо следует помнить: «та» сторона всегда «здесь», в глубине души нашей, — значит, он на верном пути, а это уже полдела! Желание угадывать — оно одно означает решительный переворот в человеческом сознании — вот истинное семя, которое со временем даст и плод —умение угадывать... Но ох как трудно научиться понимать, что ты должен делать! Вначале, когда отваживаешься на первые попытки, двигаешься на ощупь, неуклюже, совершая кучу нелепых движений, иногда выкидываешь штучки, под стать умалишенному, и долго бредешь вслепую в полнейшей темноте. И лишь со временем, очень не скоро, кромешный хаос начинает мало-помалу оформляться в какой-то лик, по выражению которого учишься читать волю судьбы; хотя на первых порах он только и делает, что строит рожи да гримасничает. Однако не стоит отчаиваться — так обстоит со всем великим: каждое новое открытие, всякая новая идея, врываясь в мир, несет в себе поначалу нечто гротескное, даже карикатурное... Вспомните, первые модели летательных аппаратов тоже довольно долго сохраняли свою драконоподобную личину, и только потом сквозь эту уродливую гримасу стало прорисовываться истинное лицо. — Кажется, вы хотели мне дать какой-то совет, — с некоторой робостью напомнил Хаубериссер, успевший сообразить, почему Сваммердам так далеко уклонился от главной темы: старик конечно же опасался, что его совет, которому он, очевидно, придавал огромное значение, сказанный как бы между прочим, без должной подготовки, мог быть выслушан без соответствующего внимания и пропасть втуне. — Именно это я и собираюсь сделать, менеер; просто надо было подготовить почву, чтобы вам не показалась слишком уж странной моя рекомендация. Представляю, что бы вы мне ответили, если бы я вам с ходу посоветовал скорее прервать, чем продолжить то, к чему вы сейчас так стремитесь. Знаю — по-человечески это очень понятно, — что вас в данный момент обуревает одно желание: искать Еву; и все же искать вам надо не ее, а ту магическую силу, которая навсегда, и в настоящем, и в будущем, исключит всякую возможность какого бы то ни было несчастья с вашей невестой, — ибо находят не для того, чтобы вновь потерять... Но так уж повелось на этой земле — люди находят друг друга, а смерть рано или поздно разлучает их. Ну, понимаете теперь?.. Вам нужно обрести свою возлюбленную, а не найти потерянную вещь, — обрести в некоем новом, двойном смысле. Совсем недавно, по пути сюда, вы мне сами жаловались, что ваша жизнь постепенно превратилась в тоненький ручеек, который, того и гляди, уйдет в песок. Все мы когда-нибудь оказываемся на грани, хотя иногда для этого потребна не одна жизнь. Можете мне поверить! Это как смерть, которая выедает сердцевину, оставляя нетронутой оболочку. Но этот-то критический момент и ценен, ибо тогда, и только тогда, когда человек на грани, возможна победа над смертью. И дух Земли очень хорошо знает, что именно в это мгновение ему грозит реальная опасность быть побежденным, — вот почему он как раз сейчас расставляет вам свои самые коварные ловушки... Давайте-ка зададимся вопросом: как сложится ваша дальнейшая судьба, если вы сегодня найдете свою возлюбленную?.. Полагаю, вы достаточно мужественны, чтобы смотреть правде в глаза, стало быть, вам придется признать: слившись, ваши жизненные потоки будут до поры до времени струиться весело и бодро, потом речушка начнет петлять, мелеть, становиться все более спокойной и тихой, пока не успокоится совсем, превратившись в стоячее болото унылой повседневности. Разве вы мне не говорили, что фрейлейн боится брачных уз?.. А теперь, менеер, слушайте внимательно: ваша встреча и разлука с Евой — это предостережение судьбы, потому-то она так быстро и свела вас вместе и тут же вновь, словно в насмешку, развела, наглядно продемонстрировав, сколь эфемерно и мимолетно хрупкое земное счастье. Во всякое другое время можно было бы сказать, что случившееся с вами — это лишь судорожная, болезненная гримаса жизни, но только не сегодня, когда все человечество оказалось на грани... Не знаю, что написано в тех бумагах, которые столь престранным образом «свалились вам на голову», и тем не менее горячо и настоятельно советую искать не во внешнем мире, — не вмешивайтесь в ход событий, пусть все идет своим чередом! — а в таинственных записях, явно неспроста корреспондированных вам какими-то неведомыми силами. Об остальном не беспокойтесь, все образуется само собой... И пожалуйста, не отступайте, если, против всяких ожиданий, обнаружите в рукописи какую-нибудь лживую, злорадно гримасничающую рожу; помните, даже если учение, запечатленное на этих страницах, — ложь, все равно оно поможет вам обрести что-то истинное. Тот, кто ищет правильно, не может быть обманут. Нет такой лжи, в которой бы не присутствовала доля правды: главное, чтобы исходный пункт поисков был верным! — И Сваммердам быстро пожал на прощание руку Хаубериссера. — А у вас он верный, вы на грани и можете, не опасаясь за последствия, прибегнуть к посредничеству самых страшных сил, контакт с которыми обычно кончается безумием, — ибо творите сие любви ради...Глава X
Наутро после посещения Хильверсюма доктор Сефарди первым делом направился к судебному психиатру де Бруверу, чтобы узнать подробнее о «явке с повинной» Лазаря Айдоттера. Он был настолько уверен в невиновности старого еврея, что просто не мог не вмешаться в ход следствия и, пытаясь предотвратить роковую ошибку, не замолвить, по крайней мере, словечко за своего не совсем нормального единоверца, имевшего реальный шанс поплатиться головой за неосмотрительное признание в убийстве, так как недалекий де Брувер даже среди не слишком обремененных знаниями экспертов по душевным болезням умудрился прослыть за полнейшую бездарность. Сефарди видел Айдоттера всего лишь раз и сам не мог понять, почему так близко принял к сердцу случившееся с этим почти незнакомым ему человеком... Скорее всего, любопытство, ведь, казалось бы, что общего — русский еврей и духовная секта христианских мистиков?.. Уже одно это позволяло предполагать, что старик был не просто хасид-каббалист, — впрочем, все, касающееся этого необычного религиозного движения в иудаизме, чрезвычайно интересовало Сефарди. Все опасения доктора относительно того, что судебный психиатр в следствии по делу Айдоттера наверняка даст ошибочное заключение, целиком и полностью оправдались — стоило Сефарди только начать, мол, подозреваемый невиновен, а его признание лишний раз свидетельствует о явно неадекватных, истероидных, реакциях несчастного старика иммигранта, как де Брувер, в котором по холеной окладистой бороде и «доброму, но пронзительному» взгляду за версту угадывался пошлый туповатый позер, перебивал его своим звучным, хорошо поставленным голосом: — Ничего экстраординарного, батенька, никаких отклонений от нормы. Я, правда, только со вчерашнего дня наблюдаю этот случай, но уже сейчас можно констатировать полное отсутствие каких-либо патологических симптомов. — Стало быть, вы считаете этого немощного старика способным на преднамеренное убийство с целью ограбления и его нелепое, с такой легкостью сделанное признание не кажется вам подозрительным? — сухо спросил Сефарди. Глаза эксперта хитро сузились; он ловко уселся лицом к свету, чтобы поблескивание стекол маленьких овальных очков придало еще большей импозантности тому величественному облику мыслителя, который этот лицемер от науки старательно имитировал перед бывшим однокашником, и молвил, памятуя золотые слова о стенах, имеющих уши, конфиденциально приглушенным голосом: — М-да-с, батенька, на роль убийцы этот Айдоттер, пожалуй, не тянет, но смею вас уверить, что речь здесь несомненно идет о преступном сговоре, соучастником которого он и является! — Ах вот оно что... Из чего же, позвольте узнать, вы это заключили? Де Брувер наклонился к самому уху доктора и прошептал: — Некоторые детали преступления, которые могли быть известны только убийце, поразительно точно соответствуют описанию старика; следовательно, он их знал! Так вот, батенька, старичок наш намеренно сознался в преступлении, дабы, с одной стороны, отвести от себя возможное подозрение в укрывательстве, а с другой — выиграть время для бегства остальных участников банды. — Гм... Следствие, полагаю, уже досконально установило, при каких обстоятельствах было совершено это двойное убийство? — Разумеется, разумеется, батенька. Один из наших самых способных криминалистов, внимательно осмотрев место преступления, полностью воссоздал картину убийства. В припадке... гм... dementia praecox[182] (Сефарди с трудом удержался от усмешки) сапожник Клинкербок набросился на свою внучку и посредством сапожного шила заколол ее, а когда, собираясь покинуть квартиру, открыл дверь, то сам был убит ворвавшимся в комнату неизвестным преступником; заметая следы, убийца сбросил тело сапожника в воды соседнего грахта — свидетелями была опознана принадлежавшая Клинкербоку корона из золотой фольги, которая плавала посреди канала. — И показания Айдоттер а в точности соответствуют этой версии? — То-то и оно, батенька! Как две капли воды! — Рот де Брувера растянулся в широкой самодовольной улыбке. — Когда убийство обнаружилось, свидетели, пытавшиеся достучаться в квартиру Айдоттера, нашли хозяина лежащим без сознания. Да-да, батенька, разумеется, симуляция. Будь этот Айдоттер действительно не замешан в преступлении, откуда бы ему знать, что смерть девочки воспоследовала в результате множественных колотых ранений, нанесенных сапожным, шилом?. Тем не менее в своем признании старик совершенно точно назвал орудие убийства. Ну а то, что он взял на себя еще и убийство девочки, объясняется весьма просто: хотел запутать следствие. — А каким образом он проник в каморку сапожника? — Утверждает, что взобрался по цепи, свисающей с крыши в воду грахта, и, когда Клинкербок бросился к нему с распростертыми объятиями, задушил его. Совершеннейшая чепуха, разумеется... — Так что, говорите, относительно шила ему было не у кого узнать?.. Вы полностью исключаете возможность каких бы то ни было контактов подозреваемого до его ареста полицией? — Абсолютно, батенька. Сефарди становился все более задумчивым. Первоначальная его версия — старик признал себя виновным, дабы исполнить свою воображаемую миссию «Симона Крестоносца», — под напором фактов рушилась прямо на глазах. Ну откуда, спрашивается, Айдоттеру было знать, что орудием убийства послужило именно шило? На мгновение в душе доктора шевельнулось что-то похожее на догадку: уж не сыграло ли со стариком злую шутку так называемое бессознательное ясновидение — случай редкий и труднообъяснимый?.. Сефарди открыл было рот, чтобы высказать свое подозрение относительно зулуса, но, прежде чем хотя бы звук сорвался с его губ, мысли, словно чего-то вдруг испугавшись, резко скакнули куда-то в сторону и вновь как ни в чем не бывало потекли дальше, только совсем в ином направлении... Он так и замер с открытым ртом, почти физически, подобно сотрясению, ощутив этот странный скачок и начисто позабыв о том, что собирался сказать... А через минуту уже и не вспоминал об этом внезапном провале памяти и только осведомился, будет ли ему позволено переговорить с Айдоттером. — Собственно, мне бы следовало вам отказать, — важно изрек де Брувер, — ибо вы, батенька, как стало известно следствию, незадолго до преступления встречались с подозреваемым у свидетеля Сваммердама; но, если это для вас столь необходимо, и... и памятуя о вашей безупречной репутации ученого, — добавил он с налетом затаенной зависти, — так уж и быть, я, пожалуй, превышу мои полномочия... Он позвонил и велел охраннику проводить доктора Сефарди в камеру... В дверной глазок было видно, как старый еврей сидел перед зарешеченным окном и смотрел в ясное, залитое солнечным светом небо. Когда загремели запоры на дверях, узник равнодушно встал. Сефарди быстро подошел и пожал ему руку. — Я пришел, господин Айдоттер, прежде всего потому, что чувствую себя, так сказать, обязанным как ваш единоверец... — Единовеец... — картаво пробормотал Айдоттер и почтительно шаркнул ножкой. — ...и кроме того, я убежден, что вы невиновны. — Невиновен... — эхом откликнулся старик. — Боюсь, вы мне не доверяете, — продолжал Сефарди, немного помедлив, так как его собеседник не проронил более ни звука, — не беспокойтесь, я пришел как друг. — Как дуг... — автоматически повторил Айдоттер. — Вы мне не верите? Признаюсь, мне было бы больно сознавать это... Старый еврей медленно провел рукою по лбу — казалось, он только сейчас начал приходить в себя. Потом, прижав ладонь к сердцу, стал говорить — запинаясь, мучительно подбирая слова, стараясь избегать диалектизмов: — Пгошу вас, не надо такие слова... У мине... нету... вгагов... Зачем они мне, я вас спгашиваю?.. И об том, что вы имели сказать за дужбу, — таки вот, у стагого Айдоттеа нет так много хуцпе[183], чтоб сомневаться вашим словам. — Ну и чудно. Это меня радует, теперь, господин Айдоттер, я могу быть с вами совершенно откровенен. — Сефарди взял предложенную табуретку и сел так, чтобы лучше видеть выражение лица своего собеседника. — Сейчас мне придется задать вам много самых разных вопросов, но, прошу вас, поймите, делать я это буду не из праздного любопытства, а для того лишь, чтобы помочь вам выпутаться из той, прямо скажем, неприятной ситуации, в которой вы оказались благодаря какому-то, гм, роковому стечению обстоятельств. — Обстательств... — индифферентно пробормотал старик себе под нос. Сефарди сделал небольшую паузу, чтобы повнимательнее присмотреться к своему визави. С первого же взгляда на изборожденное глубокими скорбными складками твердое и неподвижное старческое лицо, на котором не отражалось ни малейших следов волнения или страха, он понял, что этому человеку пришлось в своей жизни хлебнуть немало горя, — и поразительно: на потемневшей от времени траурной маске, странно контрастируя с ней, сияли каким-то по-детски чистым выражением широко открытые черные глаза - видеть такие у своих соплеменников из России доктору еще не доводилось. В скудно освещенной комнате Сваммердама он всего этого не заметил и подозревал в старике фанатичного сектанта-изувера, мечущегося в благочестивом угаре между садизмом и мазохизмом. Сейчас же перед ним сидел совершенно другой человек: в его чертах не было ничего грубого и брутального, не было в них и жадной, отвратительно льстивой хитрости, столь характерной для русских евреев; исполненные необычайной духовной силой, они в то же время производили жутковатое впечатление своей пустотой — полнейшим, прямо-таки пугающим отсутствием какой бы то ни было мысли. У Сефарди в голове не укладывалось, каким образом эта невероятная смесь наивного детского простодушия и блажного старческого маразма могла заниматься таким отчаянно рискованным делом, как торговля спиртными напитками на Зеедейк, где самый прожженный аферист уже через неделю вылетел бы в трубу или оказался на дне ближайшего грахта... — Скажите, пожалуйста, — начал он свое дознание непринужденным, дружественным тоном, — с чего это вам вздумалось выдавать себя за убийцу Клинкербока и его внучки? Вы что, хотели этим кому-то помочь? Айдоттер покачал головой. — Помочь? Ну кому может помочь стаый больной челаек? Таки что уж тут — я обоих и поешил... Сефарди не стал возражать: — А убили-то зачем, если не секрет? — Э-э, имел интеес за тысчу гульденов. — И где же деньги? — А я знаю? Об том и гаоны[184], гори они огнем, — Айдоттер ткнул большим пальцем через плечо в сторону двери, — интеесоваись. Таки ведь я ж ничего не знаю за деньги... — Вы что же, совсем не раскаиваетесь в содеянном? — Аскаиваться?.. — Старик задумался. — С чего мне аскаиваться? Азве ж я мог пготивиться? То ж помимо мине все было... Сефарди удовлетворенно хмыкнул — это уже не походило на ответ сумасшедшего! — и как ни в чем не бывало продолжал: — Разумеется, вы не могли противиться. Ибо вы, вообще, тут ни при чем! И никакого преступления, слышите, вы не совершали — лежали себе в постели и тихо-мирно спали, а все, что вы там наговорили в своих показаниях, вам приснилось. И по цепи на чердак не взбирались — это в ваши-то годы! — вы, господин Айдоттер, перепутали себя с кем-то другим... Старик помялся. — Как же ж так, господин дохтур, выходит, я не убивал?.. — Конечно нет! Это же ясно как божий день! Айдоттер вновь на минуту задумался и отрешенно пробормотал: — Э-э... Это мысль... Есть с чего подумать... Ни тени радости или облегчения не пробежало по его лицу. Даже удивления не было. Дело казалось Сефарди все более загадочным: если бы имел место какой-то сдвиг сознания, то сейчас, когда все выяснилось, должны же были отразиться хоть какие-то эмоции в выражении глаз, которые по-прежнему смотрели по-детски бесхитростно и открыто, или в чертах лица?.. О намеренной симуляции не могло быть и речи — старик воспринял факт своей невиновности как нечто пустяковое, едва достойное упоминания. — А известно вам, господин Айдоттер, что бы с вами было, — спросил Сефарди, выразительно выделяя каждое слово, — если бы вы действительно совершили это преступление?.. Скорее всего вы были бы приговорены к смертной казни! — Гм... Казни... — Да-да, казни! И это вас не пугает?.. Вопрос не произвел на старика никакого впечатления. Лишь его лицо едва заметно нахмурилось — как будто тень воспоминаний упала на него. Он пожал плечами и сказал: — А зачем, чтоб стаому Айдоттеу было стгашно? В моей жизни, господин дохтур, случалось азных стгахов, было кой-что и постатней... Сефарди ждал, что он скажет еще, но старый еврей вновь ушел в свое мертвенное спокойствие и не проронил ни звука. — Вы и раньше занимались торговлей спиртными напитками? Покачивание головой. — Ну, и как идут дела в вашей лавке? — А я знаю?.. — Послушайте, если вы будете так равнодушно относиться к своей торговле, то в один прекрасный день останетесь ни с чем. — Ваша пгавда. Коль раз интееса не иметь... — последовал нелепый ответ. — А кто же должен следить за лавкой? Вы? Или ваша жена? А может быть, дети?.. — Моя жинка давно в могиле... И... и детки... тоже... В голосе старика наконец-то послышались человеческие нотки, он даже картавить перестал... — Неужели вы хотя бы иногда не вспоминаете вашу семью? Я, конечно, не знаю, как давно постигла вас эта трагическая утрата, но, думаю, вряд ли вы чувствуете себя счастливым в своем одиночестве!.. Видите ли, я тоже одинок и легко могу себе представить ваше положение. Поверьте, все мои вопросы продиктованы не столько желанием разрешить загадку, коей вы являетесь для меня, — Сефарди как-то незаметно стал терять из виду цель своего посещения, — сколько самым искренним расположением к вам и... и... — ...и потому как на сердце у вас такая же тоска и вы не можете делать иначе, — закончил, к его величайшему изумлению, Айдоттер, которого на мгновение словно подменили, — в безжизненно неподвижном лице стало проглядывать что-то похожее на сочувствие. Однако уже в следующую секунду оно было вновь пусто, как нетронутый лист бумаги... — Рабби Иоханан сказал: обрести свою вторую половину человеку труднее, чем, подобно Моше[185], заставить расступиться воды Чермного моря, — донесся до Сефарди его отсутствующий шепот. И в тот же миг доктор понял, что старик уловил его боль, вызванную потерей Евы, — ту затаенную, саднящую боль, которую он сам еще толком не осознал, не прочувствовал до конца. Вспомнилась бытующая среди хасидов легенда о сакральных юродах, которые, производя впечатление людей совершенно безумных, таковыми на самом деле не являются: «в духе» эти странные косноязыкие пророки временно утрачивают свое Я и вбирают в себя весь мир — так, что в полной мере разделяют горе и радость каждого отдельного человека... А он-то считал это пустыми россказнями — неужели же сидящий перед ним полусумасшедший старик является живым свидетельством истинности сей курьезной легенды?.. А если так, то и парадоксальное поведение старика, и эта навязчивая идея, будто он убил Клинкербока, и его противоестественная безучастность к собственной судьбе, — короче все, абсолютно все, представляется теперь совсем в ином свете. — Не припомните ли, господин Айдоттер, — спросил доктор в высшей степени заинтересованно, — не случалось ли и прежде, что некое совершенное, как вы полагали, вами действие со временем оказывалось делом рук кого-то другого? — С чего вдруг? Мине никогда не волновали этих мыслей. — Но должны же вы были сознавать, что ваше мышление и восприятие внешней действительности отличны от мировоззрения других людей — моего, к примеру, или вашего знакомого Сваммердама? Позавчера, когда мы с вами познакомились на Зеедейк, вы были не столь односложны и замкнуты. Понимаю, вас, конечно, потрясла смерть Клинкербока, но все же... — И преисполненный участия Сефарди сжал руку старика. — Если вас что-то гнетет или необходимо лечение, доверьтесь мне, я сделаю все, чтобы помочь вам. К тому же эта ваша лавка на Зеедейк — мне кажется, это не совсем то, что вам нужно. Возможно, мне удастся найти для вас другое, достойное вас занятие... Почему вы отвергаете дружбу, которую вам предлагают? Было видно, что теплые слова благотворно подействовали на старика. Он вдруг рассмеялся — счастливо и непосредственно, как ребенок, которого похвалили, однако деловая сторона предложения Сефарди явно прошла мимо его сознания. Раз за разом открывал Айдоттер рот, видимо собираясь поблагодарить, но так и не нашел нужных слов. — Я... я был тогда иным?.. — запинаясь спросил он наконец. — Разумеется. Вы обстоятельно беседовали со мной и другими присутствующими. Вы были дружелюбнее, человечнее, так сказать; а с господином Сваммердамом вы даже подискутировали о каббале... Из чего я заключил, что вы весьма основательно изучали Тору и... — Сефарди прервал себя, заметив, что лицо старика вновь изменилось. — Каббала... каббала... — бормотал Айдоттер. — Таки да, конечно, каббала... ее-то я и изучал. Долго. И бабли изучал. И... и иерушалми тоже изучал... — Мысли старика перенеслись в далекое прошлое; он облекал их в слова, как пытаются пересказать виденные когда-то картины, речь, постоянно прерываясь, текла то медленно, то быстро, в зависимости от частоты, с которой сменялись декорации перед его внутренним взором. — Но будьте известны, господин дохтур, все, что написано в каббале за Бога, — ложь и обман. По жизни все не так. Тогда — в Одессе — я об том ничего не знал. После в Риме, в Ватикане, мне пришлось перетолмачивать из Талмуда... — Как, вы были в Ватикане? — удивленно спросил Сефарди. Но старик его не слушал. — ...и тут у мине отсохла рука. — Он поднял правую руку, пальцы которой были уродливо вывернуты подагрическими узлами, подобно корням столетнего древа. — В Одессе среди миснагедов[186] кто-то имел интерес пустить слух, будто Лазарь Айдоттер шпик, коль раз он водит шашни с римскими гоим... А после наш дом начал гореть, но Элийоху[187], будь благословенно имя его, не допустил, чтоб мы оставались на улице без крыши над головой — моя жинка Берурья, детки и я... Потом был праздник Кущей, и тогда явился Элийоху и кушал за нашим столом. Я знал за него, что он — Элийоху, хоть моя жинка Берурья и твердила без умолку, будто это — Хадир Грюн... Сефарди вздрогнул: это имя он уже слышал! Да-да, вчера в Хилверсюме, когда барон Пфайль рассказывал о странном происшествии с господином Хаубериссером!.. — В общине всем было смешно с меня, и если начинали об мне судачить, то уж непременно приговаривали: Айдоттер? Что вы имеете сказать за Айдоттера? Таки он — неббохант, без разума бегает туда-сюда... Они ведь были неизвестны, что Элийоху посвятил мине в двойной закон, тот самый, который Моше из уст в уста передал Иисусу, — и старческие черты осветились каким-то чудесным внутренним светом, — и что Он переставил в мне сокровенные свечи макифим... Потом в Одессе стало неспокойно... Гвалт... Погромы, гори они огнем... Я давал им своей старой седой головы, а они выбрали голову моей Берурьи и кровь ее стала литься по полу... И все с того, что хотела прикрыть своим телом деток, когда их начали убивать — сперва одну, потом другую... Сефарди вскочил и, зажав уши, в ужасе впился глазами в Айдоттера, на смеющемся лице которого не было заметно ни малейших следов страдания... — Рибке, то моя старшая дочь, когда стали ее бить, кричала к мне, звала на помощь, но мине держали за все тело... А после они облили мое дитя бензином и... подожгли... Айдоттер замолчал — задумчиво опустив глаза, он рассматривал свой потертый лапсердак, старательно выдергивал обрывки ниток из расползающихся швов... Казалось, он все прекрасно сознавал, но боли не испытывал, после довольно продолжительной паузы его потухший, безучастный голос зазвучал вновь: — Потом, когда я снова стал иметь интерес изучать каббалу, у мине ничего не вышло — ясно дело, коль раз свечи макифим в мне переставленные... — Что вы имеете в виду? — дрогнувшим голосом спросил Сефарди. — Ваш разум помутился от постигшего вас горя? — Горя?.. Не... Да и дух мой помрачаться не стал. Таки говорят об жрецах Мицраима[188], будто имели они такое питье, что раз выпьешь — и памяти нема... Как бы я жил своей жизнью дальше после такого!.. Я ведь еще долго не был известен об том, кто я есть, и ничего не знал за то, что потребно человеку для слез, и еще за многое другое, нужное для мыслей... Что с мине взять — переставленные макифим... И, слушайте сюда, от тех пор я имею сердце в голове, а мозги — в груди. Особливо иногда... — Не могли бы вы, господин Айдоттер, рассказать мне об этом подробнее? — тихо попросил Сефарди. — Но только если это не причинит вам боль. Повторяю, это не допрос и вы можете не отвечать на мои вопросы. Старик схватил его за рукав. — Слушайте мине ушами, господин дохтур, вот я ущипнул ваш сюртук — имели вы боль?.. А имеет рукав боль или не имеет рукав боль — об том никто не знает... Так и со мной. Вижу глазами: случилось то, с чего я должен иметь страдание; знаю за это, а чувствовать — не чувствую. Ибо все мое чувство в голове... Тоже вот не могу не верить, когда кто-то имел мне что- то сказать, а прежде, в дни моей юности в Одессе, мог. А теперь вот должный верить, ибо мозги мои — в сердце спрятанные... Таки и думать от тех пор не умею. Или что-то приходит мне на ум, или что-то не приходит мне на ум; если приходит, то так оно на самом деле и есть, — я живу это всем своим нутром и не умею отличить: было это со мною или это было не со мною. Да я и не имел желания думать за этих разностей... Мало-помалу Сефарди начинал догадываться о причинах этой загадочной «явки с повинной». — А как же ваша повседневная работа? Как вам удается ее исполнять? Айдоттер вновь кивнул на рукав. — Одежда защищает вас, господин дохтур, от воды, когда идет дождь, и от жары, когда светит солнце. Думаете вы об том или не думаете вы об том — ваша одежда делает свое дело... Мое тело заботится за дела в лавке, только я — не то, что прежде, — об том ничего не знаю. Таки еще рабби Шимон бен Элеазар сказал: «Видел ли ты когда-нибудь птицу, коя бы трудилась в поте лица своего? Птицы небесные не трудятся, а сыты, — почему бы и человеку не перестать заботиться о хлебе насущном и жить в сытости и довольстве?..» Хлейбн[189], но если б макифим в мне не были переставленными, я бы не умел оставить свое тело одно и был бы прикован к нему... Сефарди, удивленный столь длинной и сравнительно гладкой тирадой, бросил испытующий взгляд на старика и увидел, что тот сейчас ничем не отличался от обычного русского еврея: свои слова он сопровождал суетливой и беспорядочной жестикуляцией, и в голосе появились какие-то настырные, лебезящие интонации. Казалось, дух этого человека мог пребывать в самых различных, часто совершенно несовместимых состояниях и переходил из одного в другое легко, без каких-либо пауз и сбоев. — Ясно дело, самому человеку ни в жизнь такое произвесть, — задумчиво продолжал Айдоттер, — будь ты хоть семи пядей во лбу, а никакие книжки, молитвы и даже микваот[190] тебе не помогут... Зряшный труд, если только кто-нибудь из тех, по ту сторону, не переставит в тебе свечи... — И вы полагаете, что тот, кто с вами произвел эту магическую перестановку, находится «по ту сторону»? — А то нет?.. Элийоху, пророк... Таки я уже имел вам сказать. Однажды он вошел к нам, так я с его шагов уже слышал: это Он... Прежде, когда моих мыслей хватало на то, чтоб представить его своим гостем, — вы ведь известны, господин дохтур, что мы, хасидим, всегда надеемся на пришествие Элийоху, — мне становилось страшно за мои руки-ноги: думал, они дрожью будут дрожать, когда я начну видеть его глазами. Хлейбн, все было, как не было: зашел — еврей как еврей, ничего особого, даже сердце мое вот ни на столечко не застучало скорее. И как я ни старался, а сомнение мое об том, что он — это Он, начаться не могло. Долго стоял я, держал странника в своих глазах, и чем дольше, тем боле делался мне лик его знакомым, а потом — так, ни с чего — стал вдруг знать, что не было такой ночи в жизни моей, когда 6 я не видел его во сне... Медленными шагами, навроде рака, попятился я задом наперед в память, гори она огнем (уж больно разобрало, с каких это пор, думаю, повадился он ходить до мине), и вот гляжу — юность пред взором моим пролетает, малолетство, даже дитем себя увидал, а после — хлейбн — еще дальше забрался, в прежнюю мою жизнь; там я тоже был сперва зрелым мужем, которого б ни за что за Лазаря Айдоттера не признал, потом — вьюношем, дитем и... и пошло-поехало сызнова: старец делался мужем, муж — вьюношем, вьюнош — дитем, дитя — старцем, старец — мужем и долго ходил я так, ракообразно, по кругу, но Он всякий раз был при мне, в одних и тех же летах, и выглядел точь-в-точь, как незнакомый странник у мине за столом... Ясно дело, глаз я с него не спускал, смотрел за всяким его движением и что он делать начинал; когда б не знал я его за Элийоху, то и ничего особого, еврей как еврей, а так я брал каждое его слово и начинал думать, и оно становилось для моих мыслей большим смыслом. На столе стояли две свечки, таки вот он разговаривал всяких умных разговоров, а после взял и поменял их местами, и, слушайте сюда, все в мне враз перевернулось, и стал я тут известным, что это в мне переставил свечки, левая сделалась правой, а правая — левой; от тех пор мине будто подменили — другой человек, мешугге[191], как болтают у нас в общине. С чего бы ему свечи в мне переставлять — долго не мог я того взять в толк... Долго... пока не убили мою жинку и деток... Хочете знать, господин дохтур, с чего моя Берурья взяла называть его Хадиром Грюном?.. Говорила, будто он сам ей про то сказывал. — И потом он вам никогда больше не встречался? - спросил Сефарди. — Вы ведь, кажется, упоминали, что он посвятил вас в меркаву — второй, тайный закон Моисея... — Встречался?.. — переспросил Айдоттер и провел рукой по лбу, как будто только сейчас до него стало доходить, чего от него хотят. — Встречался... Коль раз он был однажды при мне, то как бы стал уходить прочь? Воистину, он завсегда при мне... — И вы его постоянно видите? — Зачем, чтоб я видел его? Таки нет, я не вижу его. — Но ведь вы же сказали, что он все время с вами. Как следует вас понимать? Старик пожал плечами. — Мыслями этого понимать не начнешь, господин дохтур. — А не могли бы вы объяснить мне это с помощью примеров? Ну, скажем, каким образом наставляет вас Илия — вы беседуете с ним или это происходит как-то иначе? Айдоттер усмехнулся. — Если вы радостный, радость при вас? Да. Ясно дело. Но ведь вы ж не можете видеть вашу радость и слышать тоже не можете... Таки вот... Сефарди молчал — конечно, его духовный мир и духовный мир старика разделяла непреодолимая бездна, но, если подумать, многое из того, что он услышал сейчас от Айдоттера, соотносилось с его собственными теориями о дальнейшем духовном развитии человека; он сам всегда склонялся к мнению — и не далее, как вчера в Хилверсюме высказывал его, — что путь к совершенству следует искать в религии и вере, и вот сейчас, обнаружив здесь, в тюремной камере, живой прообраз своего абстрактного идеала, воплотившегося в лице старого юродствующего еврея, почувствовал себя шокированным и даже несколько разочарованным. Да, конечно, нерушимое спокойствие Айдоттера, о монолит которого разбивались любые житейские бури, спокон веков терзающие несчастный человеческий род, делало его неизмеримо богаче простых смертных, казалось бы, можно было только позавидовать подобной душевной неуязвимости, и все же доктор внезапно понял, что ни за какие блага не хотел бы оказаться заживо погребенным в таком жутковато непроницаемом панцире. Сомнение уже точило его, а прав ли он был вчера в Хилверсюме, когда так упорно ратовал за путь слабости и смиренного ожидания грядущего спасения? Всю свою жизнь Сефарди провел среди достатка и роскоши, которым, впрочем, не придавал никакого значения, вдали от людей, погруженный в книги и научные занятия, сейчас же ему вдруг показалось, что за долгие годы добровольного затворничества он что-то проглядел, упустил, может быть, самое главное... Говоря честно, разве он стремился к Илие, разве жаждал его пришествия, как этот бедный русский еврей? Нет, он лишь воображал, что жаждет, — просто книги внушили ему необходимость некой духовной жажды, без которой невозможно пробуждение к сокровенной жизни. Но вот перед ним тот, кто реально утолил свою жажду, а он, не знающий ничего, кроме мертвой книжной буквы, все равно не желает быть таким, как этот человек. Глубоко пристыженный, порешил доктор при первом же удобном случае объяснить Еве, Хаубериссеру и барону Пфайлю, что все его знания — это мыльный пузырь и что ему, великому книжнику Сефарди, не остается ничего другого, как подписаться под словами какого-то полусумасшедшего торговца шнапсом,изрекшего о духовных прозрениях: «Мыслями этого понимать не начнешь...» — Слушайте мине ушами, господин дохтур, то навроде перехода до царствия изобилия и полноты, — продолжал Айдоттер после долгого молчания, в течение которого он чему-то блаженно улыбался с отсутствующим видом, — нет, это не уход в себя, так мне только раньше мерещилось... А что с мине было взять раньше? Да ниче. Шиш. Таки ведь, каких бы мыслей ни думал человек, покуда свечи в нем не переставленные, — то ж такая дрянь, какую и вообразить не можно. А то еще, хлейбн, имеют надежду на пришествие Элийоху, думают, он придет до них, и только после, когда он приходит и видно его глазами, становятся понятными, что это не он шел до них, а они шли до него. Все-то у них наоборот: думают об том, чтоб взять, а сами заместо того отдают; думают, чтоб стоять и ждать, а сами идут и ищут... Ясно дело, человек в пути странствует, а Бог на месте остается... Ну пришел Элийоху в наш дом — признала его моя Берурья? Шиш. Она и не начинала до него ходить, таки он тоже не брал себе в мысли приходить до нее, вот с того-то она и стала думать, будто это какой-то захожий еврей, по имени Хадир Грюн... Сефарди внимательно вгляделся в сияющие детские глаза. — Сейчас я очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду, господин Айдоттер, хотя и не могу сопереживать сердцем, и... и благодарю вас... Мне бы очень хотелось, что-нибудь для вас сделать. Ну, на свободу-то я вас вызволю, это я вам твердо обещаю; думаю, не составит особого труда убедить судебного психиатра в том, что ваше признание не имеет никакого отношения к убийству... Правда, — добавил он больше для себя, — пока я даже не представляю, каким образом изложить доступно для де Брувера этот чертовски сложный случай... — Можно мне просить вас, господин дохтур, чтоб вы сделали маленького одолжения для старого больного еврея? — прервал его Айдоттер. — Разумеется. Пожалуйста. — Таки не говорите ни об чем этому... там, за дверью... Хай себе думает, то старый Айдоттер убивал Клинкербока; ведь я сам имел таких же ж мыслей. Зачем, чтоб я был виноватый, когда с моих слов сыщется настоящий убивец? Теперь я знаю за него... Возьмите мои слова и спрячьте их подальше: это черный... — Негр?! Откуда вы знаете? — изумленно воскликнул Сефарди, на миг в нем даже шевельнулось смутное подозрение. — Слушайте сюда, — сказал старик и принялся старательно объяснять: — Таки вот, Элийоху и Лазарь Айдоттер — то, конечно, две большие разницы, но когда старому Айдоттеру снится снов наяву, тех разниц нету... Хлейбн, а с чего им быть — вы взвешиваете мои слова, господин дохтур? — когда я, Лазарь Айдоттер, вхожу в Элийоху и зараз теряю из памяти, кто я и что я, знаю только за то, что я - это Элийоху, а Элийоху — это я... А потом вдруг опять оказываюсь на полпути к жизни и начинаю приходить в мою лавку, а пока я иду медленными ногами и мине нету у себя, где-то что-то имеет случаться, и тогда в мыслях моих становится так, будто то был я, который все это делал... Прибьет, к примеру, кто-то свое дитя, таки мине уже волнуют этих слез, и я беру в мысли, будто то я его прибил и нужный теперь ходить до него и утешать; или если кто — хай ему пусто будет! — песу свою без корма оставит, а у мине уж сердце кровью обливается — то я голодную животную оставил и начинаю собирать костей... Есть с чего посмеяться, господин дохтур, бывает, такая путаница становится, — гори она огнем! — что уж думать не знаешь, где кончается Айдоттер и где начинается остальное. И чтоб найти все концы и начала, треба снова войти в Элийоху и быстрыми ногами обратно — приходишь к себе и знаешь за все, что имел хотение знать. Ясно дело, мне, что начало, что конец, — без разницы, все одно: суета сует, и зачем ни от чего ходить, когда на полпути от Элийоху у мине в глазах темно, как у слепого? Только жалко мне стало с вас, господин дохтур, — и как, думаю, может ученого человека волновать этих разностей? — и пока вы изволили волноваться и задумываться, я таки вошел в Элийоху и видел глазами, что тот, который убивал моего знакомца Клинкербока, был черный, будто сажей мазанный... — Но как, как, черт возьми, вы могли видеть, что это негр?! — Таки вот, я был в духе и снова вскарабкался по цепи в каморку сапожника, только теперь мои глаза были направлены на тело, одетое на мине, — тогда, в прошлый раз, я глядел все больше на Клинкербока, на золото и другие интересные вещи — и стало им видно, что кожа моя черная, как сажа, ноги босые, на мне какое-то синее холщовое рубище, навроде тех, что носят матросы, и красный ремень на шее... Потом, когда я повернул свои глаза в обратную сторону и начал смотреть себе вовнутрь, то стал знать, что я дикарь. — Об этом надо немедленно известить эксперта де Брувера! — воскликнул Сефарди и вскочил с табуретки. Но Аидоттер крепко схватил его за рукав. — Не надо такие слова, господин дохтур, коль раз вы мне обещали молчать. Да не прольется ни капли крови во имя Элийоху! Мне отмщение... — На кроткое выражение детской невинности, запечатленное в старческих чертах, внезапно упал грозный отсвет чего-то фанатичного, пророческого, идущего из глубины веков. — Ибо убивец один из наших!.. Не еврей, как вы сей минут взяли в мысли, — пояснил он, заметив вытянувшееся лицо Сефарди, — и все равно один из наших! Я стал знать за это сейчас, когда начал смотреть на него изнутри... Убивец — ну и что с того?.. Кому судить? Нам? Вам?.. Мне отмщение!.. Он дикарь и имеет свою веру; избави Бог, чтоб еще кто исповедовал такую страшную веру, но эта вера живая и настоящая. А те, веру коих огнь Господень не берет, — наши: Сваммердам, Клинкербок и... и Черный тоже... Что есть еврей, что есть гой, что есть язычник? Мине не волнуют этих глупостей, они для тех, у кого религия заместо веры. И потому... Слушайте мине ушами, господин дохтур, я налагаю печать на ваши уста: да не станет известным по ту сторону этих дверей то, что я имел вам сказать за Черного! Коль раз я должный приять за него смерть, зачем, чтоб вы лишали мине такой награды?.. Потрясенный, возвращался доктор Сефарди домой. Из головы не шло, до чего же странно все обернулось, ведь де Брувер с формальной точки зрения в общем-то оказался прав, когда с самого начала безапелляционно заявил, что Айдоттер в сговоре и хочет своим признанием выиграть время для настоящего убийцы. Каждое из этих двух утверждений соответствовало фактам, но это была только внешняя, обманчивая сторона дела, что же касается другой — внутренней, реальной стороны, — то тут судебный психиатр, наверное, еще никогда так глубоко не заблуждался и не был так далек от истины, как в этом «сумасшедшем» случае. Только теперь Сефарди в полной мере осознал слова Айдоттера: «Каких бы мыслей ни думал человек, покуда свечи в нем не переставленные, — то ж такая дрянь, какую и вообразить не можно... Все-то у них наоборот: думают об том, чтоб взять, а сами заместо того отдают; думают, чтоб стоять и ждать, а сами идут и ищут...»Глава XI
Проходила неделя за неделей, а поиски Евы по-прежнему не давали никаких результатов. Барон Пфайль и доктор Сефарди, извещенные Фортунатом, использовали все мыслимые возможности, чтобы напасть на след исчезнувшей девушки; на каждом углу висели объявления с указанием ее примет, вскоре о странном происшествии заговорил весь город. Квартира Хаубериссера превратилась в проходной двор, посетители шли нескончаемым потоком, входная дверь практически не закрывалась, все найденное на улице барахло, хотя бы отдаленно напоминающее женские вещи, сносили теперь к Фортунату, ибо даже за самые незначительные сведения о пропавшей было обещано непомерно большое вознаграждение. То тут, то там, подобно стихийным пожарам, вспыхивали слухи, будто исчезнувшую даму только что видели здесь, приходили анонимные письма, написанные либо тайными недоброжелателями, либо людьми явно ненормальными, полные темных, зловещих намеков, а то подозрение вдруг падало на какого-нибудь совершенно безобидного обывателя, и вот уже весь город в один голос утверждал, что это он коварно похитил несчастную девушку и держит теперь в своем страшном сыром подземелье; карточные гадалки дюжинами стояли под окнами, навязчиво предлагая свои сомнительные услуги, никому не ведомые «ясновидящие» возникали как из-под земли и угрюмо похвалялись способностями, которых у них отродясь не бывало, — массовая душа голландского города, еще недавно казавшаяся такой мягкой и безобидной, заявила о себе всеми своими низменными инстинктами: жадностью, злоязычием, мелочным тщеславием и вероломной клеветой. Наветы зачастую столь искусно обряжались под правду, что Хаубериссер в сопровождении полицейских часами вынужден был осматривать квартиры ни в чем не повинных людей, в которых якобы прятали Еву. Подобно теннисному мячику, метался Фортунат между надеждой и разочарованием. Вскоре не осталось таких улиц, переулков и площадей, в которых бы он, введенный в заблуждение очередным лжесвидетельством, не перевернул сверху донизу хотя бы одного или нескольких домов. Казалось, сам город мстил ему за его былое равнодушие. По ночам во сне сотни людей, с которыми он разговаривал днем, вдруг все разом, как по команде, открывали рты и, торопясь и перебивая друг друга, принимались нести нечто невразумительное под видом чего-то срочного и чрезвычайно важного; продолжалась эта глоссолалия до тех пор, пока их лица, словно сложенные стопкой прозрачные фотографические портреты, не сливались в одну размытую, но весьма гнусную, моллюскообразную гримасу. Единственное, что удерживало Хаубериссера от отчаяния, — это визиты Сваммердама, который ежедневно, поутру, навещал его. И хотя являлся он всегда с пустыми руками и на вопрос о Еве лишь молча качал головой, все равно твердое и уверенное выражение его лица всякий раз придавало Фортунату новых сил. О таинственных дневниковых записях речь уже не заходила, и все же Хаубериссер чувствовал, что старый энтомолог посещает его главным образом из-за этих бумаг. Однажды утром Сваммердам не сдержался. — Вы еще не догадываетесь, — спросил он как бы невзначай, стараясь не смотреть на Фортуната, — почему рой незваных мыслей так упорно преследует вас, словно всерьез намереваясь свести с ума?.. Будь это разъяренные пчелы, вынужденные защищать свое гнездо, вы бы не сидели сложа руки, а постарались себя обезопасить!.. Почему же вы позволяете летучему рою судьбы безнаказанно жалить себя? Больше он не сказал ни слова — кивнул на прощанье и быстро ушел... Оставшись один, Хаубериссер смущенно хмыкнул и задумался. Потом взял лист бумаги и крупными четкими буквами написал, что он в отъезде и со сведениями, касающимися фрейлейн ван Дрюйзен следует отныне обращаться в полицию; вызвал экономку и велел ей приклеить это объявление на входную дверь. Однако желанный покой он все же не обрел: по десять раз на час ловил себя на том, что его так и подмывает спуститься вниз и сорвать висящий на двери листок. Не зная, чем себя занять, доставал свернутые в свиток бумаги, перелистывал, цеплялся глазами за какую-нибудь строчку, старался вчитаться, но уже через несколько слов мысли его соскальзывали в сторону и разбредались в поисках Евы, если же он пытался вновь согнать их в тесный загон лежащей перед ним страницы, они принимались вкрадчиво нашептывать, что глупо копаться в какой-то плесневелой писанине, посвященной исследованию отвлеченных, чисто теоретических вопросов сейчас, когда каждая минута взывает к действию. Фортунат уже хотел было снова запереть бумаги в письменный стол, как вдруг настолько явственно почувствовал себя обманутым какой-то неведомой силой, что на мгновение замер и задумался. Впрочем, он не столько думал, сколько слушал свой внутренний голос... «Что же это за таинственная и страшная сила? — вопрошал он себя. — С виду такая невинная, она, пытаясь скрыть свою инородность, прикидывается моим собственным Я и вопреки моей воле заставляет меня делать прямо противоположное тому, что я только что намеревался сделать: хочу читать — и не могу...» Хаубериссер раздраженно открыл рукопись — при малейшей помехе, которая возникала всякий раз, когда он пытался вникнуть в содержание, тут же давали о себе знать предательские мысли: «Да брось ты это, все равно начало не найдешь! Зряшный труд...» Они навязчиво лезли в голову, но он выставил охрану перед дверями своей воли и не допускал их внутрь. Старая привычка к самосозерцанию мало-помалу вступала в свои права. «О, если бы найти начало!» — вновь притворно простонал лживый лицемерный голосок, когда он рассеянно просматривал бумаги, однако на сей раз слово взяла рукопись и сама ответила на лукавую жалобу. «Начало, — прочел он посреди одной из густо исписанных страниц и изумился странной игре случая, заставившего его взгляд успасть именно на это место, — вот поистине то, чего недостает роду человеческому. И не потому, что его столь уж трудно сыскать, наипервейшее препятие в деле сем — мнимая необходимость искания. Жизнь милостива до человеков; всякий миг она одаряет нас каким-нибудь новым началом. Изо дня в день довлеет нами вопрос: кто я есмь?.. Однако ответа мы не ищем, потому-то и начала не обретаем. Когда бы человек хоть раз со всей серьезностью задал себе сей вопрос, тогда бы он узрел зарю нового дня, знаменующую собой неминуемую смерть тех алчных, ненасытных мыслей, кои, самозвано проникнув в тронную залу, пируют теперь безнаказанно за праздничным столом бессмертной его души. На протяжении тысячелетий эти назойливые приживалы с прилежанием инфузорий воздвигали коралловый риф — оный мы гордо именуем "наше тело", однако сие воистину их творение, их инкубатор, их гнездо; если же ты вознамерился пробиться в открытое море, тебе допрежь всего надлежит прободать в рифе хотя бы малую брешь, а уж потом сие покрытое слизью известковое отложение разрешить в духе, коим оно изначально является... Впоследствии я тебя научу, как из коралловых обломков возвести новую обитель...» Хаубериссер отложил бумаги и задумался. Это внезапное «ты» прозвучало для него словно откровение свыше и сразу сняло все вопросы о происхождении этих записей — какая разница, были ли они черновым наброском романа или копией какого-то письма, которое неведомый автор написал такому же неведомому корреспонденту? — Фортунат уже не мог отделаться от фантастической мысли, что послание было адресовано ему, и никому другому, и именно так собирался относиться к дальнейшему тексту. Странно, но только сейчас ему бросилось в глаза, что наставления анонимного Мастера казались сошедшими с уст Пфайля, Сефарди или Сваммердама... Теперь Фортунат понял, что все трое были причастны духу, веявшему со страниц этого загадочного свитка, видимо, течение времени, дабы сотворить из него, такого маленького, беспомощного, усталого от жизни господина Хаубериссера, истинного Человека, превратило их в своих глашатаев... «Открой же свои уши для того, что я тебе скажу... Приуготовь себя грядущим временам! Недолго уж осталось ждать, когда мировые куранты пробьют двенадцать; час сей узнаешь на циферблате по его красному цвету, ибо омыт он кровью. Первому новому часу предшествует шквальный ветр. Бодрствуй же, человече, дабы не застал он тебя спящим; те же, кто внидет в день грядущий с закрытыми глазами, так и пребудут до скончания веков скотами, в оном обличье и обретались досель, и уж никогда боле не суждено им проснуться. Вот и мир духа тоже имеет свое равноденствие. На первый новый час, о коем я говорил, и приходится поворотный пункт. В точке сей малой меж миром света и миром тьмы установляется равновесие великое. Более тысячелетия потребно оказалось роду человеческому на то, чтобы изучить законы природные и научиться употреблять их себе во благо. А потому и благословенны те, кто постиг смысл работы сей и уразумел, что сокровенный закон подобен закону внешнему, только октавой выше, — призваны они к жатве, прочим же суждено слугами при них пребыть и, смиренно обратив лицо свое долу, копаться в навозе зловонном. Немало воды утекло со времен всемирного потопа, и ключ к сокровенной природе покрылся ржой. И имя снаряду сему, призванному отмыкать тайные врата: бодрствование... Истинно говорю тебе, бодрствование есть альфа и омега мира сего. Ни в чем не убежден человек так крепко, как в том, что он бодрствует; на деле же уловлен он в сетище, кое сам и сплел из собственных сновидений и грез. Чем мельче сеть, тем могущественнее господство сна; те, кто запутался в тенетах сих, спят и во сне влачатся по жизни — тупо, покорно, обреченно, подобно стадному стреноженному скоту, уныло бредущему на бойню... Вот и на сны их тоже наброшено сетище, снятся им обманчивые куски сетчатого мира — много ли увидишь сквозь ячеи? — и кроят они жизнь свою по этим разрозненным видениям, даже не подозревая, что имеют дело лишь с бессмысленными обрывками гигантского целого. Ты, наверное, полагаешь, что сии "сновидцы" — фантасты и поэты, ан нет, это пунктуальные, старательные труженики, снедаемые безумной жаждой деятельности; уподобившись отвратительно усердным муравьям, они, обливаясь честным трудовым потом, суетливо карабкаются по какой-нибудь гладкой тростинке, чтобы, достигнув вершины, свалиться вниз... И ведь тоже воображают себя бодрствующими, однако беспокойное деятельное бытие сих целеустремленных трудяг не более чем сон — точно, до мельчайших деталей, рассчитанный и независимый от несгибаемой воли оных. В человеческом стаде всегда найдется несколько одиночек, таких как Гете, Шопенгауэр и Кант, знающих, что сей мир им только снится, — отважные первопроходцы, достигшие бастионов, за коими скрывается вечно бодрствующее Я, они не обладали оружием, чтобы идти на штурм неприступного оплота, и боевой их клич не разбудил спящих. Истинно говорю тебе, бодрствование есть альфа и омега мира сего. Первый шаг к пробуждению прост, он по силам даже малому дитяти; но люди образованные разучились ходить и, разбитые параличом на обе ноги, беспомощно топчутся на месте, ибо не желают обходиться без костылей, унаследованных от убогих своих предков. Воистину, бодрствование есть альфа и омега мира сего. Бодрствуй всегда, что бы ты ни делал! И не верь, что ты уже проснулся. Нет, ты спишь и видишь сны. Встань, человече, упри ноги свои покрепче в землю, соберись с духом и на одно-единственное мгновение сделай так, чтобы с головы до пят пронизало тебя обжигающее чувство: бодрствую я в сей миг! И если дастся тебе сие чувствование, то враз уразумеешь всю мерзость того сонного забытья, в коем ты доселе пребывал... Сим первым робким шагом положишь ты начало долгого-долгого странствования от рабского ошейника к царскому венцу. Некогда и я столь же несмело, шаг за шагом, от вигилии к вигилии, начинал свое путешествие. Несть такой мучительной мысли, над коей ты не мог бы взять верх бодрствованием; все преследующие тебя тяжкие думы отстанут, не в силах подняться до высот твоих, — ты же будешь победно выситься над оными, подобно величественной кроне древа, нависающей над сухими чахлыми ветвями... Странствуй, и когда зайдешь так далеко, что бодрствование охватит и плоть твою, страдания опадут с тебя навроде пожухлого, увядшего листвия. Ледяные омовения иудеев и брахманов, всенощные бдения последователей Будды и христианских аскетов, самоистязание индийских факиров — вот они, застывшие окаменелости прежних сакральных ритуалов, кои, подобно древним развалинам, поведают пытливому страннику, что здесь на заре веков высился колоссальный храм Великого бодрствования. А взять письменную традицию любого из народов, населяющих сферу земную: чрез все алой стежкой намечено сокровенное учение о бодрствовании — сие и есть небесная лествица Иакова, оный же боролся с ангелом Господним всю "нощь" "до появления зари" и стяжал викторию[192]. С одной ступени на другую должно восходить тебе ко все более высокому и светлому бодрствованию, если хочешь побороть смерть, оружие коей: грезы, сновидения и забытье. Даже самая низшая ступень сей небесной лествицы зовется "гений" — как же следует именовать ступени высшие! Толпе они неведомы и почитаются за легенду... Однако и Троя несколько веков была навроде мифа, пока один из человеков не набрался мужества и не взял в руки лопату... И первым врагом, вставшим у тебя на пути к пробуждению, будет твое собственное тело. До первого крика петуха надлежит ему бороться с тобой не на жизнь, а на смерть; но только узришь ты зарю вечного бодрствования, коя вырвет тебя из стада лунатиков, уверенных, что они — люди, и не ведающих, что они — спящие боги, — и плоть твоя тоже сбросит оковы сна, и вселенная покорится тебе... Тогда, коли будет на то твоя воля, сможешь творить чудеса и уж не станешь, подобно скулящему смерду, смиренно дожидаться, когда один из тщеславных богов смилуется наконец и либо благословит тебя, либо... либо снесет тебе голову. Однако не обессудь, ибо с маленьким, но надежным счастьем преданного, угодливо виляющего хвостом пса — сознавать над собой хозяина, коему должен служить верой и правдой, — с этим счастьем придется расстаться, только спроси себя, захочешь ли ты, человек, променять свою судьбу на судьбу собственной собаки? И коли уж сделал выбор, то не давай запугать себя тем, что тебе, возможно, не удастся обрящить желанную цель в этой жизни!.. Ибо тому, кто однажды вступил на нашу стезю, суждено вновь и вновь возвращаться в сей мир зрелым, знающим истинное свое предназначение странником — он будет рождаться "гением", продолжающим сокровенную работу с того места, на коем прервала ее смерть. Путь, указанный мной, усеян чудесами: мертвые, знакомые тебе по жизни, воскреснут и заговорят!.. Но помни: это только видения!.. Одухотворенные, сотканные из света образы в сияющих ореолах будут являться и благословлять тебя... Но это лишь миражи — воздушные формы, порожденные плотью, коя под влиянием твоей пресуществленной воли, возгоняющей грубую бренную материю в бессмертное духовное тело, умирает магической смертью, подобно тому как кусочек льда, попав на огонь, испаряется в образе легкой призрачной дымки. И только когда выпаришь из плоти своей все тленное без остатка, сможешь ты наконец сказать: отныне сон не властен надо мной. Тогда наступит очередь чуда, в кое люди никак не могут уверовать, ибо, введенные в заблуждение собственными чувствами, не понимают, что материя и сила суть одно и то же: даже если тебя, странник, победивший сон, похоронят, тело твое по прошествии нескольких дней бесследно исчезнет из зарытого в землю гроба. И только на сей ступени, не раньше, ты воистину прозреешь и сможешь отделять существенное от видимого; отныне, если тебе и удастся встретить в мире сем существо, то это будет один из твоих предшественников, прошедших наш путь до тебя... Все остальные — лишь тени... А до тех пор всюду и везде тебя будут преследовать сомнения: кто ты — самый счастливый или самый несчастный человек на свете?.. Но не бойся: еще ни один из смертных, вступивших однажды на стезю бодрствования, не был оставлен нашими проводниками, даже если он заблуждался и сходил с пути. Примету хочу тебе сказать, странник, по коей ты во всякое время узнаешь, что есть видение твое — реальное существо иль обманчивый образ: если по мере приближения оного сознание твое начнет туманиться и все предметы внешнего мира станут у тебя в глазах расплываться или исчезать, тогда не верь! Будь начеку! Ибо сие есть часть тебя самого. Если ж не удастся тебе обнаружить меж собой и видением никакого подобия, — а оное обыкновенно весьма исправно сокрыто! — то знай: сие лишь лярва, призрак, лишенный и сознания, и чувств, вкрадчивый воришка, тайком присосавшийся к твоей душе. А воры, посягающие на силы душевные, не в пример хуже собратьев своих земных, промышляющих грабежом да разбоем. Навроде предательских болотных огоньков, заманивают они тебя в трясину обманчивой надежды, дабы, когда ты увязнешь, бросить там одного в кромешной темноте и исчезнуть навсегда. Будь начеку и не давай им прельстить себя, ибо каких только чудес не сотворят они, какими только святыми именами не нарекутся, какие только пророчества не станут глаголать — и все того лишь ради, чтобы тем вернее ввести тебя в соблазн и погубить; помни: они тебе смертельные враги, извергнутые преисподней твоего собственного тела, с коим ты борешься за царский трон. Помни: чудесные силы, оными тати сии кичатся превыше всего, твои — они украдены у тебя, дабы ты до скончания дней пребывал в позорном рабстве; вне твоей жизни эти приживалы жить не могут, нужно только их победить, и они в тот же миг превратятся в немые и послушные орудия, подвластные одному тебе. Несть числа жертвам, кои ненасытные лярвы требуют от человека; загляни в жизнеописания визионеров и сектантов, и ясно станет тебе, что путь ко всемогуществу, ставший отныне и твоим, усеян черепами. Род человеческий, не мудрствуя лукаво, воздвиг против вражьего племени стену — матерьялизм. Сооружение сие, конечно, защита надежная, однако, являя собой философский прообраз плоти, оное превратилось в истинный застенок, препятствующий свободному обзору. Ныне, когда мрачное строение начинает понемногу крошиться и разваливаться, а Феникс сокровенной жизни в новом оперенье воскресает из пепла своего, в коем он долгое время пребывал заживо погребенным, потусторонние стервятники тоже расправляют крыла. А потому будь настороже. И проверяй истинность видений своих: возложи сознание свое на одну чашу весов, а посетивший тебя образ — на другую, и, памятуя о том, что, чем выше ступень бодрствования, тем больше духовный вес, смотри, которая перевесит. Так ты, подобно Фоме Неверующему, сможешь вложить руку твою в ребра всякому проводнику, попутчику или брату, явившемуся тебе из мира духа:[193] ему придется перевесить тебя, не опустошая твоего сознания... Конечно, избегнуть опасностей, связанных с потусторонними видениями, совсем не трудно, надобно только оградить себя от подобных феноменов, а для этого довольно стать обычным плотским человеком... Вот только что ты от такового покорства пред плотью твоей выиграешь? Обречешь себя на пожизненное заключение в сыром и темном застенке собственного тела, покуда костлявый палач не швырнет тебя на плаху. Неуемное желание смертных узреть своими глазами обитателей высших миров подобно отчаянному крику, коему допрежь всего внемлют хищные фантомы преисподней, ибо страсть сия нечиста изначально — это скорее алчность, чем самозабвенное стремление к небу, и движет падкими на чудеса людишками неистребимая жажда наживы, а вовсе не потребность к бескорыстной жертве. Всяк, кому внешний мир как тюрьма, всякий праведник, взывающий о спасении, — все они бессознательно заклинают мир призраков. Делай то же самое... Только — сознательно! Существует ли для тех, кто с самыми благими намерениями, не помышляя ни о чем дурном, призывает призрачную нежить, такая всемогущая десница, по мановению коей зловонная трясина, где неминуемо окажется вся эта легковерная братия, превратится вдруг в цветущий островок земли обетованной? Не знаю. Спорить не хочу, но я не верю... Когда тебе на пути к пробуждению придется пересекать потусторонние пределы, ты мало-помалу начнешь понимать, что обитатели сего призрачного царства — всего лишь мысли, внезапно открывшиеся твоим глазам. Потому-то и кажутся они тебе чужими, незнакомыми существами, ибо язык внешних форм весьма отличен от языка нашего внутреннего мира. И вот придет час, когда с тобой, странник, свершится самая странная метаморфоза, выпадающая на долю смертного: окружающие тебя люди превратятся... в призраков. Ото всех, кого ты любишь и знаешь, внезапно останутся одни лярвы. И от твоего собственного тела тоже. Вряд ли человеческий ум может представить себе более страшное одиночество, чем лишенное каких бы то ни было ориентиров философское странствование через бесконечную пустынь, в коей тот, кто не находит источник жизни, погибает от мучительной жажды. Конечно, о пришествии нового царствия, бодрствовании, победе над плотью и одиночестве — обо всем, что я тебе поведал, и о многом другом можно прочесть в священных текстах любого из народов, населяющих земную сферу, однако нас отделяет от благочестивой паствы, исповедующей ту или иную религию, непреодолимая пропасть: они верят, что грядет день, когда праведники внидут в рай, а грешники будут ввергнуты в геенну огненную; мы знаем, что приблизились сроки, когда многие пробудятся и будут отделены от спящих, как господин отделен от рабов, ибо спящий никогда не поймет бодрствующего; мы знаем, что нет ни праведников, ни грешников, есть только истинное и ложное; они верят, что ночное бдение — это отверстые глаза и чувства, а также коленопреклоненное тело, дабы способно было человеку исправлять молитву свою; мы знаем, что бодрствование — это допрежь всего пробуждение бессмертного Я, а не ведающее сна тело — естественное следствие оного; они верят, что плоть надобно презирать и умерщвлять, ибо греховна она; мы знаем, что тело — это та отправная точка, с коей начинается наше странствование, ибо мы рождены в мир сей лишь пресуществления плоти в дух ради; они верят, что тело необходимо держать в затворничестве, дабы очистился дух; мы знаем, что допрежь всего дух наш должен пребыть в уединении великом, дабы плоть преисполнилась светом и чистотой... Ты на распутье, странник, и от тебя одного зависит, какой путь избрать — наш или их. На то твоя — и только твоя! — воля. Сочту за благо воздержаться от советов: куда как полезнее по собственному желанию вкушать горькие плоды, нежели, следуя чужим подсказкам, пожирать глазами висящий на древе сладкий плод. Только не уподобляйся тем многим, кои очень хорошо знают, что сказано им: "Вкусите ото всякого плода и лучшее сохраните", — но приходят, ничего не вкушают и сохраняют... первое попавшееся...» На этом страница обрывалась, а вместе с ней и тема. Порывшись в бумагах, Хаубериссер как будто наткнулся на продолжение. Похоже, неизвестный, которому были адресованы эти записи, все же избрал «наш, языческий путь владения мыслями», так как анонимный автор с новой страницы, носившей заголовок — ФЕНИКС, продолжал: «С сего дня ты вступил в наше братство, и присносущая цепь, протянувшаяся из вечности в вечность, обрела еще одно звено. Итак, миссия моя закончена, отныне мистагогом тебе будет другой — тот, коего ты видеть не сможешь до тех пор, пока глаза твои принадлежат земле. Он бесконечно далек от тебя — и тем не менее бесконечно близок; пространственно он не отделен от тебя — и все же дальше, чем самые крайние пределы Вселенной; ты объят им, подобно тому, как человек, плывущий в океане, объят водой, — но ты его не замечаешь так же, как тонущий не ощущает соль океанских волн, когда язык уже онемел и ничего не чувствует. Да будет тебе известно, что сигиллой нашего братства является Феникс, символ вечной юности, — легендарный египетский орел с красно-золотым опереньем, сгорающий в своем гнезде из благоуханной мирры и вновь возрождающийся из пепла. Я уже говорил, что тело — та отправная точка, с коей начинается наше странствование; тот, кому сие ведомо, в любое мгновение может вступить на путь. Сейчас я научу тебя первым шагам. Поначалу должно распутать узы, связующие тебя с телом твоим, но не так, словно ты вознамерился покинуть оное, — тебе надобно разрешиться от него, подобно тому, как отделяется свет от тепла. Уже здесь подстерегает тебя первая ловушка. Тот, кто порывает с плотью, дабы парить в пространстве, идет по пути ведьм, кои из грубой земной материи извлекают лишь тонкое призрачное тело и на нем, как на метле, скачут на шабаш Вальпургиевой ночи. Человечество, повинуясь здоровому инстинкту, воздвигло надежный бруствер против сей напасти — люди попросту не верят в ведьмовские полеты и лишь иронически усмехаются при упоминании о подобных кунштюках. Тебе же, брат, сомнение как способ защиты отныне ни к чему, ибо в том, что я сейчас скажу, ты обретешь куда более надежное оружие. Ведьмам только мнится, что они на дьявольском шабаше, на деле же лишенные сознания и сведенные судорогой тела оных недвижимо покоятся где-нибудь в темном чулане. Невдомек им, что променяли они чистейшей воды алмазы на сверкающие стекляшки: земное восприятие — на умозрительное. Ты, брат, конечно же не спутаешь эту скользкую, лукаво петляющую тропку с нашей стезей пробуждения... Человек, увы, из века в век все глубже погружаясь в материю, уже, как правило, не сомневается, что он и его тело суть одно и то же; ты, надо полагать, придерживаешься на сей счет иного мнения, и дабы возможно было тебе победить свою плоть, должно досконально изучить оружие и приемы, кои она применит в схватке с тобой... Сейчас ты еще целиком во власти тела, узурпировавшего твои законные права, и жизнь в тебе немедленно угаснет, если сердце его перестанет биться; а стоит ему только закрыть глаза — и для тебя тут же наступит ночь. Ты, наверное, думаешь, что можешь привести его в движение, — нет, брат, ошибаешься: оно двигается само по себе и лишь снисходит до услуг твоей воли. Или, быть может, ты возомнил себя творцом своих мыслей, — нет, это оно плодит их для тебя, дабы по-прежнему пребывал ты в счастливом неведении и, наивно полагая, будто они принадлежат тебе, послушно исполнял все его желания и капризы. Сядь прямо и постарайся оставаться недвижимым — и пусть ни рука, ни нога твоя не шелохнется, не дрогнет ни одна ресничка, застынь, подобно мраморной статуе, и ты увидишь, как в тот же миг тело твое взбунтуется и в ярости набросится на тебя, дабы вновь заставить повиноваться. Тучи стрел обрушит оно на тебя, пока ты не сдашься и не позволишь ему двигаться... Однако по тому бешеному неистовству и по той суетливой поспешности, с коими оно будет метать в тебя стрелу за стрелой, ты сразу смекнешь, если достанет ума, сколь велик его страх за свой престол и сколь велика твоя сила, внушающая ему такой панический ужас. Но и тут лукавый узурпатор пытается заманить тебя в ловушку, внушая ложную мысль о том, что именно здесь, на фланге волевого начала, решается исход сражения за царский скипетр, — нет, это лишь отвлекающий маневр, ничего не значащая стычка, кою твой умудренный опытом противник позволит тебе, буде такая надобность, выиграть, дабы потом, окончательно сломив твое сопротивление, принудить тебя еще ниже склониться под его ярмом. Те, кто одерживает верх в подобных, обставленных как на театре, стычках, становятся самыми жалкими и убогими рабами, ибо даже не замечают своего поражения и, воображая себя победителями, до скончания дней щеголяют с выжженным на лбу позорным клеймом: «Личность». Помни, цель, преследуемая тобой, не в том, чтобы обуздать свое тело. Налагая на него запрет двигаться, ты лишь провоцируешь его на вылазку, дабы оно имело возможность продемонстрировать тебе весь свой арсенал и все свое воинство. Сии несметные полчища, почитай, непобедимы, ибо несть им числа. И оно до тех пор будет бросать их, одно за другим, в бой, пока ты не прекратишь подначивать его таким, казалось бы, простым способом, как недвижное сидение: сначала тебе придется выдержать натиск мускулов, грубой животной силе коих потребна физическая работа, далее взбунтуется кровь и, кипя от бешенства, заставит тебя истекать потом, а там — неистовые удары обезумевшего сердца, ледяной озноб, вздымающий волосы дыбом, сильнейшая дрожь, грозящая вытрясти душу, головокружение, когда ты начнешь качаться, словно в жестокий шторм, однако не падай духом, брат, ибо все это возможно победить — и не волей единой, как тебе, наверное, покажется, но высокой степенью бодрствования, кое незримо встанет за ней, подобно Зигфриду в шапке-невидимке. Но и сей виктории грош цена: даже если тебе удастся подчинить себе и сердце и дыхание, ты станешь лишь факиром — "нищим'' по-нашему. Нищий!.. Этим сказано все... И тогда придет черед новых ратей, кои двинет на тебя тело. На сей раз это будет неуловимый рой мыслей. Тут уже клинок воли не поможет. Чем ожесточенней он обрушится на них, тем яростней они будут жалить, и если даже тебе посчастливится ненадолго отогнать вездесущих фурий, ты, изнемогая от усталости, неминуемо провалишься в сон и все равно окажешься побежденным. Бессмысленно сражаться с этим роем, существует лишь единственный способ избавиться от него: восхождение на более высокую ступень бодрствования. Ну а как тебе подняться по небесной лествице, ты должен постигнуть сам. Здесь надо двигаться вслепую, терпеливо, осторожно и в то же время с железной решимостью нащупывая ступень за ступенью. Вот все, что я могу тебе сообщить. Сейчас, когда ты не на жизнь, а на смерть сражаешься с собственным телом, всякий совет, кем бы он ни был дан, — яд. Это как раз то препятствие, преодолеть кое тебе никто не сможет помочь, тут придется рассчитывать только на свои силы. Не следует питать напрасных надежд, что тебе когда-нибудь удастся подчинить себе мысли, — борьба с ними преследует лишь одну цель: пробиться к более высоким состояниям бодрствования. Как только ты достигнешь такого состояния, тебе откроется призрачное царство, о коем я уже говорил. Перед тобой возникнут чудовищные монстры и преоблаченные в неземное сияние ангелоподобные существа, и те и другие постараются уверить тебя, что они пришельцы из другого мира... Но все это лишь ставшие зримыми мысли, над коими ты пока еще не властен!.. И помни, брат, чем более величественный и возвышенный вид напускают на себя призраки, тем они опасней! Не будь этих подставных лиц, скольких бы лжеучений не явилось в мир сей, увлекая человеков прелестью своей инфернальной назад, во тьму внешнюю. И все же за каждым из фантомов скрывается глубокий смысл: для тебя, в пути сущего, они — безразлично, внятен тебе символический язык оных или нет — не просто маски, но указующий знак той ступени духовного совершенства, на коей ты пребываешь. Вот и превращение окружающих тебя людей, друзей и близких, в призраков — а оно обязательно воспоследует на одной из ступеней — может стать тебе, как и все в духовных сферах, ядом смертельным, а может — целительным бальзамом. Довольно будет с тебя зреть во человеках лишь призраков бессмысленных, то и вкушать тебе надлежит одну только отраву ядовитую, уподобившись тому, о коем сказано: "не имел он любви и остался пустым, как кимвалы бряцающие". Воистину, доколе не обретешь "глубокий смысл", сокрытый во всякой из теней человеческих, не отверзятся твои духовные очи для животворного ядра, утаенного под спудом не только сих призрачных оболочек, но и твоей собственной плоти. Когда же проникнешься ты сим смыслом сокровенным, все твои жертвы, подобно жертвам Иова, окупятся сторицей, и пребудешь ты как бы тем же, что и прежде, и предадут тебя глупцы осмеянию, ибо неведомо скудоумию их, что после долгих лет, проведенных на чужбине, человек всегда возвращается иным — не таким, как если бы он провел все эти годы дома. Никому не дано знать, что станется с тобой, когда достигнешь ты высших ступеней: то ли причастишься тех чудесных сил, коими обладали древние пророки, то ли вечный покой обрящешь. Дивные сии силы — свободный дар хранителей ключей великих таинств. Лишь рода человеческого ради, коий от века нуждается в знамениях небесных, возможно избранным снискать благорасположение ключников незримых. Наш путь простирается только до ступеней зрелости — достигнешь оной, значит, и ты достоин дара сего. А тебе ли его суждено обрести или кому другому, про то не знаю. Но вот станешь ли ты Фениксом — сие зависит от тебя, ибо золотое оперенье должно завоевать самому. И допрежь того, как расстаться с тобой, надлежит мне тебя ознакомить с приметами, через кои поймешь, будешь ли ты призван во исполнении сроков Великого равноденствия вступить в обладание даром чудодейственных сил. Слушай же: один из хранителей ключей магических таинств пребудет до срока на земле — он ищет и привечает призванных. Равно как он сам умереть не может, не может умереть и легенда, сложенная о нем... Одни поговаривают, будто он — Вечный жид, другие называют его Илией; гностики утверждали, что сей есть Иоанн Евангелист, и всяк, видавший его, описывает таинственного ключника по-своему. Не давай вводить себя в заблуждение, если когда-нибудь в будущем — а оно уже прорастает! — доведется тебе встретиться с людьми, считающими свою точку зрения на легендарного мистагога единственно правильной. Ибо конечно же естественно, что образ его преломляется в сознании различных свидетелей по-разному: адепт, пресуществивший плоть свою в дух, не может быть привязан к какой-то одной косной форме. Следующий пример пояснит тебе, что даже образ его и лик — только маски, так сказать, призрачная видимость истинной сути... Представь, он явился тебе в образе зеленоликого человека. Зелень ведь, в сущности, не есть чистый естественный цвет — она состоит из синего и желтого, — и все же ты ее видишь. Если тщательно смешать синий цвет с желтым, получится зеленый. Для художника это, конечно, не секрет, а вот простой обыватель о том, что окружающий мир только кажется зеленым, даже не помышляет. Итак, делай выводы, брат, и если встретишь когда-нибудь мужа с зеленым лицом, знай, что истинного своего лика он тебе еще не явил. Когда же узришь реальное обличье оного — геометрическую фигуру, некую мерцающую сигиллу на ночном небосклоне, кою никто, кроме тебя, видеть не может, — да будет ведомо тебе тогда: ты воистину призван... Предо мной же он предстал человеком из плоти и крови, и я принужден был вложить руку свою в ребра ему... А имя оного мужа — » Но Хаубериссер уже угадал — с него начиналась страница, которую он постоянно носил с собой, это было то самое неотступно преследовавшее его имя: Хадир Грюн.Глава XII
Что-то грустное, неуловимое разлитов воздухе — наверное, это и есть аромат увядания... Душные, горячечные дни, отмеченные знаком смерти, и безнадежно туманные ночи. По утрам на поникшей луговой траве заметны зловещие следы опрелости — белесые пятна липкой паутины. Промеж буро-фиолетовых комьев земли тускло поблескивают холодные циничные лужи, уже не доверяющие усталому солнцу; желтые, как солома, цветы уныло повесили головы, не в силах обратить свои поблекшие лица к равнодушно прозрачному небу, а над ними бестолково, словно пьяные, болтаются неприкаянные мотыльки, лихорадочно трепеща потрепанными, лишенными пыльцы крылышками, и иссохшая листва тревожно шелестит в пустынных городских аллеях... Подобно увядающей кокетке, которая, пытаясь скрыть свой возраст, судорожно хватается за самые яркие краски, природа стала пускать пыль в глаза багряными осенними румянами. Казалось, имя Евы ван Дрюйзен было давно забыто: барон Пфайль не сомневался, что она мертва, Сефарди тихо скорбел о безвременно погибшей — и лишь в душе Хаубериссера образ возлюбленной никак не хотел умирать. Однако Фортунат уже и сам не заговаривал о без вести пропавшей девушке ни с друзьями, которые время от времени захаживали к нему, ни со старым Сваммердамом. Он стал молчаливым и замкнутым и в беседах старался не касаться этой болезненной для себя темы. Ни словом не обмолвился и о том, что невидимый паучок надежды втайне плетет в его душе свои таинственные тенета, которые с каждым днем становятся все шире, — боялся нарушить кропотливую работу и порвать тончайшее плетенье. Лишь Сваммердаму хоть и не открыто, но все же намекал иногда, что по-прежнему, несмотря ни на что, надеется найти Еву. С тех пор как Фортунат дочитал до конца дневниковые записи неизвестного, с ним произошло какое-то странное превращение, которого он сам не понимал. Однажды он попробовал замереть в неподвижности и просидел так довольно долго; заинтересовавшись, стал время от времени практиковать статические упражнения по часу и более — делал это отчасти из любопытства, отчасти из какого-то порочного неверия, с той кислой миной, которая, словно уныло-трезвый девиз обреченности «Все равно ничего из этого не выйдет», спокон веков украшает физиономии разочарованных пессимистов. Через неделю он хоть и сократил продолжительность упражнения до четверти часа утром, но делал его сосредоточенно, с полной отдачей, без всяких задних мыслей, без утомительного и всегда напрасного ожидания какого-то чуда... Вскоре экзерсисы эти стали ему необходимы, как освежающее омовение, которому он заранее радовался, ложась вечером в постель. В течение дня его еще долго мучили приступы прежнего жесточайшего отчаянья, когда мысли о возлюбленной набрасывались на него исподтишка и подолгу терзали измученный мозг, однако всякий раз Фортунат возмущенно отвергал даже возможность какого-либо сопротивления: любая борьба с этими хищными фуриями воспринималась им как нечто предосудительное — как эгоизм, предательство, в известной степени как трусливое бегство от жалящих, подобно пламени, воспоминаний о Еве, — но однажды, когда боль стала настолько невыносимой, что самоубийство уже казалось желанным избавлением, он наконец решился... Следуя рекомендациям неизвестного, он сел прямо и постарался вызвать состояние высокого бодрствования, чтобы хоть на мгновение уйти от мучительной пытки горестных мыслей, — и это ему удалось с первого раза и неожиданно хорошо... Еще не успев войти в состояние, Фортунат уже с ужасом думал о возвращении, когда, разбитый раскаяньем за свою измену, по собственной воле ринется в пучину удвоенной муки, но ничего подобного не произошло — напротив: он преисполнился какого-то необъяснимого покоя и, поистине, несокрушимой уверенности, что Ева жива и ей не грозит никакая опасность; от этой твердыни отскакивало любое сомнение, как бы сильно ни было оно взвинчено его болезненной мнительностью. Раньше, когда мысли о возлюбленной обрушивались на него, это походило на свирепое бичевание и душа его горела от пылающих ожогов — теперь же он воспринимал летучий рой как ликующее послание от Евы, как радостную весть, что она там, вдали, думает о нем и шлет привет. То, что прежде представлялось страданием, внезапно обернулось источником неизъяснимого блаженства. Так, посредством упражнений, Хаубериссер создал внутри себя прибежище, сокрывшись в котором от суетного мира, мог в любое время получить новые свидетельства своего таинственного роста — впрочем, для тех, кто сам не знаком с духовным совершенствованием, этот процесс, как бы часто они ни слышали о нем, всегда будет оставаться лишь пустым звуком. Раньше Фортунат думал, что, ускользая от болезненных воспоминаний, он лишь способствует более скорому рубцеванию шрамов в своей душе, — так сказать, сокращает лечебный курс, которым время врачует человеческое горе, — и изо всех сил противился такому выздоровлению, подобно тем несчастным, которые не могут примириться с безвозвратной потерей родных и близких и, полагая, что затухающая скорбь непременно влечет за собой потускнение дорогого им образа, не желают расставаться со своей болью и предпочитают страдать. И вдруг, словно сама собой, меж этих двух неприступных скал открылась узенькая, усыпанная цветами тропка, о существовании которой он прежде и не догадывался: образ возлюбленной не потускнел, не канул во прахе прошлого — нет, исчезла лишь боль; сама Ева восстала пред ним вместо своего зыбкого, окутанного туманным флером двойника, и он теперь мог в минуты душевного покоя так отчетливо ощущать ее близость, как если бы она стояла рядом... По мере того как Хаубериссер отдалялся от мира, на него сходило и часами не покидало такое запредельное счастье, какое он и помыслить себе не мог: одно маленькое откровение следовало за другим, постепенно, шаг за шагом, подталкивая к неизбежному выводу, что внутренняя сокровенная жизнь — это настоящее чудо, рядом с которым самые яркие и выдающиеся события внешней «действительности» воспринимаются не просто как нечто вторичное и сомнительное — так ему казалось раньше, — а как смутные призрачные тени пред светом наступающего утра. Подобие с Фениксом, этим златоперым орлом вечного обновления, с каждым днем становилось для него все более глубоким и значимым и всякий раз наполнялось новым, доселе неведомым смыслом, позволяя ему с предельной остротой прочувствовать принципиальную разницу между живыми и мертвыми символами. Казалось, все, что искал Фортунат, вмещал в себе этот неисчерпаемый символ. Феникс разрешал любые вопросы, подобно всеведущему оракулу, — надо было только вопросить, и он уже изрекал правильный ответ. В стремлении управлять своими мыслями Хаубериссер заметил, что иногда это ему удавалось на редкость хорошо, но стоило только уверовать в непогрешимость чудо-методы, как на следующий день от нее не оставалось и следа, словно невидимая длань какого-то могущественного стража, оберегающего тайну, проникнув ночью в его спящую память, начисто стерла с таким трудом найденное решение, и, чтобы отыскать новый способ подчинить себе сознание, приходилось все начинать сначала... «Это все сон! Его рук дело — опять похитил у меня сорванный плод», — говорил он себе в таких случаях и однажды, дабы воспрепятствовать коварному вору, решился до тех пор не ложиться спать, пока не будет найден какой-нибудь выход, но утром его вдруг осенило, что эти странные провалы в памяти не что иное, как «испепеление», — а разве не из «пепла» должен был вновь и вновь воскресать вечно юный Феникс? — и что в фанатичных поисках универсального кода, управляющего человеческими мыслями с точностью хорошо отлаженного механизма, заключалось что-то очень порочное, приземленное и наивно-рациональное, ибо, говоря словами Пфайля, ценность не в законченной картине, а в вечно обновляющемся таланте живописца. С того дня как Фортунат проникся этой истиной, овладение сознанием превратилось для него из жестокого, изматывающего поединка в нескончаемое наслаждение, и он восходил от ступени к ступени, даже не замечая их, когда однажды, к своему немалому изумлению, обнаружил, что уже обладает ключом того могущества, о котором еще недавно не мог и мечтать... «Раньше мысли облепляли меня, подобно пчелиному рою, они питались мною, — объяснял он Сваммердаму, с которым делился иногда тем, что в нем происходило, — теперь я по своему желанию могу отослать их на поиски пищи, и они вернутся ко мне, нагруженные драгоценным нектаром идей. Прежде они меня обирали, ныне — обогащают...» Неделей позже, случайно заглянув в бумаги неизвестного, Хаубериссер прочел о похожем духовном феномене, описанном почти в тех же словах, какими он рассказывал об этом Сваммердаму, и с радостью убедился, что находится на верном пути, на который вышел сам, без всяких подсказок. Это была та часть рукописи, которая казалась безвозвратно потерянной, так как страницы, склеенные влагой и плесенью, слиплись в один толстый пласт, однако, лежа на подоконнике, они подсохли на солнце и отделились друг от друга. Фортунат чувствовал, что в его мышлении происходило нечто подобное. В последние годы, до и во время войны, ему не раз приходилось читать о так называемой мистике, и все, что было связано с этой темной материей, невольно ассоциировалось у него с чем-то смутным, неопределенным, похожим на туманные грезы курильщика опиума... И хотя Хаубериссер нисколько не сомневался в правильности своего приговора, ибо то, что под видом мистики было у всех на устах, в действительности означало не что иное, как бестолковое блуждание в непроглядном тумане, однако сейчас он убедился в существовании реального мистического состояния, — его было трудно найти, но еще труднее проникнуться им, — которое не только не проигрывало в яркости впечатлений обыденной повседневности, но и намного превосходило в жизненной силе... В этом состоянии не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало сомнительные восторги благодетельных «мистиков», не забывающих в своих «запредельных экстазах» смиренно и алчно вопиять о законном кусочке «спасения», которое ради пущего блеска нуждалось в кровавом заднике с осужденными на вечные муки грешниками, но и скотская удовлетворенность сыто чавкающей толпы, наивно полагающей, что, если она рыгая переваривает пищу, то уж конечно стоит на твердой почве самой настоящей и неподдельной действительности, тоже бесследно растворялась в нем, подобно отвратительному сну... Выключив свет, Хаубериссер сидел за столом и ждал. Ждал в полной темноте. За окном тяжелой темной шторой висела ночь. Чувствовал, что Ева где-то рядом, совсем близко, только он не может ее видеть... Стоило сомкнуть веки — и краски, подобно облакам, плыли у него перед глазами, то расплываясь легкими перистыми мазками, то сгущаясь в сочные тучные кляксы; Фортунат знал, что это та материя, в которой можно при желании воплощать свои мысли и воспоминания, — образы, кажущиеся поначалу мертвыми и неподвижными, но потом, словно реанимированные какой-то таинственной силой, начинали жить самостоятельной жизнью, ничем как будто не отличаясь от обычных людей. Несколько дней назад ему впервые удалось слепить и оживить лицо Евы, он уже считал, что находится на верном пути, вступая с ней в контакт неким новым, духовным способом, пока не вспомнил то место в записях, где говорилось о галлюцинациях ведьм, и понял: здесь начинается безбрежное царство призраков, в которое стоит только немного углубиться — и дороги назад не сыщешь вовек. По мере того как прирастала сила, позволявшая ему трансформировать темные, неведомые стремления души в зримые образы, росла — и он это слишком хорошо ощущал! — опасность заблудиться и сгинуть среди потусторонней нежити. Леденея от ужаса и, одновременно, сгорая от страсти, вспоминал он минуты, когда ему удалось заклясть фантом Евы... Вначале это был какой-то неопределенный сгусток, серый и смутный, словно тень, потом в сотканной из мрака заготовке стало постепенно прорисовываться женское тело, руки, лицо, сформированные по образу и подобию той, по которой изнывало его сердце, вот в стоящем перед ним существе, будто и вправду вылепленном из плоти и крови, появились первые признаки жизни, и только теперь Фортунат наконец понял: она! — такая же реальная, как тогда, в сумрачном хилверсюмском парке. До сих пор чувствовал Хаубериссер тот кошмарный холодок, который пробежал по его спине, когда, влекомый магическим инстинктом, он попытался наделить гомункула способностью видеть, слышать, говорить... Прошло совсем немного времени, а он все чаще ловил себя на затаенном желании вновь заклясть дорогой образ, и каждый раз должен был призывать всю свою волю, чтобы противостоять гибельному искушению... Было уже за полночь, а Хаубериссер никак не мог решиться лечь спать — неотступно преследовало какое-то смутное предчувствие... «В самом деле, — вопрошал он себя, — если мне удалось дыханием собственной души вызвать к жизни призрак возлюбленной, то неужели же в обширном арсенале магических средств не найдется такого, которое заставило бы явиться Еву — не вампиричный двойник, как в прошлый раз, а живую, настоящую Еву ван Дрюйзен?..» Привычно разослав мысли на поиски ответа, Фортунат стал ждать; на опыте последних недель он убедился, что эта метода — посылка вопросов и терпеливое ожидание ответа, иными словами, сознательная смена активной и пассивной фаз — действует безотказно даже там, где логическое мышление бессильно. Идея за идеей вспыхивали в его сознании, одна фантастичней другой; он взвешивал их на весах своего духа: все они были слишком легки... И вновь сокровенный ключ «бодрствования» помог отомкнуть потайной замок. Только на сей раз — интуитивно почувствовал Хаубериссер — к высшей жизни должно восстать не только его сознание, но и тело: именно там, во плоти, дремали скрытые магические силы, которые ему во что бы то ни стало надлежало пробудить, если он намеревался воздействовать на внешний, материальный мир. Невольно вспомнились ритуальные танцы арабских дервишей, завораживающее кружение которых, судя по всему, преследовало лишь одну-единственную цель: подстегнуть тело к более высокой степени «бодрствования». В каком-то внезапном наитии Фортунат положил руки на колени, сел прямо, инстинктивно имитируя позу сакральных египетских статуй, которые каменным выражением величественных ликов представились ему вдруг гигантскими символами магического могущества, и, застыв в мертвенной неподвижности, послал огненный поток воли сквозь клетки своего коченеющего тела... Через несколько минут в нем разразился ураган... Безумный хаос человеческих воплей и звериного рыка, яростный, захлебывающийся собачий лай и истошное кукареканье бесчисленных петухов, душераздирающий скрежет и неистовый барабанный бой ворвались в мозг — казалось, отверзлись адские врата и дом вот-вот рухнет, сметенный инфернальной какофонией; оглушительный металлический гул несметных гонгов, как будто и вправду сама преисподняя провозвестила Судный день, с такой неимоверной мощью вибрировал в костях, что Хаубериссер уже не сомневался: еще миг — и от него останется лишь горстка праха; кожа пылала, подобно хитону Несса, но он, стиснув зубы, не позволял своему беснующемуся телу ни малейшего движения и непрерывно, раз за разом, вторя ударам собственного сердца, взывал к Еве. Голос, тихий, как шепот, и тем не менее пронизывающий шабаш, подобно игле, проник в слух, предостерегая не играть с неведомыми и могущественными силами, которые его, только пытающегося встать на ноги, в любое мгновение могут низвергнуть в кромешную ночь безумия, — он не слушал... Голос становился все громче и громче — бушевавшая в ушах вакханалия доносилась теперь откуда-то издалека, — призывал замолчать: конечно, Ева скорее всего явится, если Фортунат не прекратит взывать к ней через вышедшие из-под контроля темные силы преисподней, но жизнь девушки, стоит только ей прервать сокровенный процесс своего духовного созревания, в тот же миг угаснет, подобно трепетному огоньку свечи, и ему придется взвалить на себя такую тяжкую ношу вины, которая его все равно раздавит, — он упрямо скрипнул зубами и не послушался... Голос пытался взывать к его разуму, убеждая, что Ева на худой конец уж давным-давно вернулась бы к нему или прислала какую-нибудь весточку с указанием своего адреса — но зачем все это, если она в доказательство того, что жива и здорова, ежечасно шлет ему мысли, исполненные пылкой любви, и Фортунат каждый день может чувствовать ее самую непосредственную близость? — тщетно, он взывал и взывал... Всепоглощающая страсть, желание хотя бы на один краткий миг заключить возлюбленную в объятья, сводила его с ума. Внезапно голос пропал, столпотворение стихло и в комнате стало светло как днем... Посредине, словно проросший из половиц, торчал почти до потолка гнилой столп с поперечной балкой наверху, похожий на обезглавленный крест. С плесневелой поперечины свешивалась вниз фосфоресцирующая бледно-зеленой чешуей крупная, в руку толщиной, змея... У Хаубериссера кровь застыла в жилах, когда он увидел ледяные, лишенные век глаза, из-под черной тряпки, надвинутой на низкий морщинистый лоб, сверлившие его неподвижным гипнотизирующим взглядом... Только сейчас до него дошло, что у мерзкой рептилии было человеческое лицо, подобное тронутой тлением личине египетской мумии, — высохшая и тонкая, как пергамент, кожа бескровных губ туго обтягивала почерневшие, изъеденные червоточиной зубы. Несмотря на мертвенно искаженные черты, от Фортуната не укрылось их отдаленное сходство с тем зловещим ликом, который привиделся ему в лавке на Иоденбрестраат. Сам не свой, с волосами стоящими дыбом, внимал он словам, которые медленно, слог за слогом, тихими, шепелявыми, странно усеченными звуками крошились из полуистлевшего рта: — С-то ты хо-сесь от ме-ня, се-ло-весе?.. Еще мгновение Хаубериссера сковывал невыразимый ужас — чувствовал затаенное дыхание смерти у себя за спиной, потом померещился какой-то черный отвратительный паук, неторопливо пересекавший полированную поверхность стола, и наконец... наконец его сердце исторгло имя Евы... В следующий миг комната вновь погрузилась во тьму, и когда он в холодном поту на ощупь отыскал дверь и включил свет, обезглавленный крест с кошмарным пресмыкающимся исчез. Казалось, воздух был отравлен, Фортунат задыхался в гнетущей атмосфере, пропитанной сладковатым трупным смрадом, все кружилось у него перед глазами... «Конечно... конечно... конечно же это горячечный бред!» — тщетно пытался он успокоить себя, но удушливый страх не ослаблял своей хватки: нет, нет и нет, все, что произошло несколько минут назад здесь, в этой комнате, случилось на самом деле и было настоящей неподдельной реальностью. Холодный озноб пробегал по телу при одной только мысли о предостерегающем голосе: ведь невидимый свидетель мог в любое мгновение заговорить снова, обвиняя его в том, что своим безумным магическим экспериментом он подверг Еву смертельной опасности. Хаубериссер задыхался, до крови закусывал губы, зажимал уши, подпрыгивал на кресле, пытаясь прийти в себя, наконец распахнул окно и принялся жадно хватать ртом свежий ночной воздух — ничего не помогало: внутренняя уверенность, что он, нарушив в мире причин какой-то хрупкий, но чрезвычайно важный баланс, учинил нечто непоправимое, не оставляла его. Подобно обезумевшим бестиям, вцепились в него мысли, господином которых он еще совсем недавно себя почитал в гордыне своей, и тут уже не спасали никакие статичные позы. Доступные ему ступени «бодрствования» были явно недостаточно высоки. «Это безумие, безумие, безумие... — судорожно вдалбливал он в себя, расхаживая из угла в угол. — Не произошло ничего страшного! Это галлюцинация! Всего-навсего! Я, наверное, схожу с ума! Болезненное воображение! Бред! И голос этот — обман слуха, а крест — обман зрения! Все обман! Ну откуда взяться этому чертовому гнилью с зеленой гадиной и... и... пауку?..» Разжав сведенные судорогой челюсти, Фортунат заставил себя громко рассмеяться... «Паук!.. Только этого еще не хватало! Куда же подевалось эта чертова тварь? Неужто тоже испарилась? Прямо не квартира, а какой-то кунштюк-салон!» — пытался иронизировать он; зажег спичку, собираясь посветить под столом, однако заглянуть в предательскую темноту не решился: а что, если паук как остаточное явление болезненного припадка и впрямь все еще там?.. С облегчением перевел дух, когда на соседней башне пробило три часа... Слава Богу, ночь на исходе... Подошел к окну и, перегнувшись наружу, принялся до боли в глазах всматриваться в туманные сумерки, чтобы, как ему казалось, увидеть первые признаки наступающего утра... Однако не рассвета с таким лихорадочным нетерпением ждал Хаубериссер — и это очень скоро стало ему понятно, когда он поймал себя на том, что напряженно, обмирая от ужаса и надежды, вслушивается в ночь — не идет ли Ева?. «Похоже, я совсем потерял голову от любви, и блудливая фантазия, видимо, ни в грош не ставя мой рассудок, обнаглела настолько, что почти в открытую морочит меня подставными фигурами, позаимствованными из заурядных горячечных кошмаров», — пытался успокоить себя Фортунат, вновь расхаживая из угла в угол, и тут его взгляд упал на пол и остановился на круглом темном пятне, которого там раньше не было, во всяком случае, сколько ни напрягал он память, а вспомнить его не мог. Нагнувшись, он увидел, что деревянные половицы в радиусе пятна как-то странно прогнили и почернели... Тут только до него дошло: да ведь на этом месте воздвигся зловещий крыж с фосфоресцирующей рептилией! И страх такой железной хваткой схватил его за горло, что у него перехватило дыхание. И как только он сразу не заметил этого мерзкого гноища!.. Громкий удар, как будто кто-то с размаху стукнул кулаком в дверь, вывел его из оцепенения. Ева?.. Вот! Снова! Нет, не может быть, это не Ева... Пудовый кулак неистово барабанил в наружную дверь. Хаубериссер подбежал к окну и крикнул вниз, в темноту: — Кто там? Никакого ответа. Через несколько мгновений стук возобновился. Фортунат схватил красную бархатную кисть шнура, тянувшегося вдоль стены на лестницу и оттуда — к дверному замку, и потянул... Задвижка щелкнула. Мертвая тишина. Он прислушался... Никого. Ни звука на лестничной клетке. Наконец тихое, едва слышное поскрипыванье ступеней и быстрый, вкрадчивый шорох, как будто чья-то рука шарила по стенам в поисках дверной ручки. Секунда, другая — дверь открылась... В комнату молча вошел негр Узибепю — босиком, с топорщившимися дыбом влажными от ночной сырости волосами... Хаубериссер невольно огляделся в поисках оружия, однако зулус не обращал на него никакого внимания — казалось, даже не замечал, — осторожно, на цыпочках, не отрывая глаз от пола, с широко раздутыми, возбужденно подрагивающими как у собаки, взявшей след, ноздрями обошел вокруг стола... — Да что, черт возьми, вам здесь нужно? — воскликнул на конец Фортунат. Ответа не последовало, лишь едва заметно дрогнула черная голова. Глубокое хрипловатое дыхание выдавало, что негр находится в каком-то сомнамбулическом трансе. Но вот зулус как будто нашел то, что искал: движения его стали быстрыми и целенаправленными — резко выдохнув, он устремился к гнилым половицам и замер в шаге от проклятого места. Взгляд чернокожего, следуя какой-то правильной, четко намеченной траектории, медленно восходил к потолку — был он настолько выразителен, что, казалось, чертил в воздухе невидимую геометрическую фигуру, во всяком случае Фортунату вдруг снова на миг померещился растущий из пола обезглавленный крест — и, достигнув вершины, застыл, завороженно вперившись в пустоту... Не было никаких сомнений, что негр смотрел в ледяные змеиные глаза... Потом уродливые, вывернутые наизнанку губы шевельнулись, — Боже правый, да он, никак, разговаривает со змеей! — выражение его лица непрерывно менялось — от пламенной страсти до мертвенного изнеможения, от дикого восторга до жгучей ревности, от беспредельного блаженства до клокочущей ярости... Безмолвный разговор как будто подошел к концу: зулус отвернулся к дверям и присел на корточки... Судорожно открыл рот, высунул далеко за зубы язык, потом резко его втянул и с каким-то сдавленным клекотом проглотил, судя по спазматическим движениям кадыка... Глазные яблоки, подрагивая, закатились за веки, и мертвенная, пепельно-серая бледность разлилась по лицу. Хаубериссер хотел броситься к нему и привести в чувство, но какая-то необъяснимая свинцовая усталость приковала его к креслу — он даже пальцами шевелил с трудом... Каталепсия чернокожего передалась и ему. Подобно жуткому фрагменту какого-то мучительного ночного кошмара, выпавшего из времени и безнадежно застрявшего в вечном настоящем, застыла перед его взором комната с противоестественно неподвижной черной фигурой; единственным признаком жизни в этом мертвом интерьере были удары сердца, гулко и равнодушно, словно часовой маятник, отдававшиеся в груди, — исчезло все, даже страх за Еву... И вновь до него донесся бой курантов на соседней башне, но он был не в состоянии сосчитать количество ударов — полнейшая прострация вечностью вклинивалась между ними... Должно быть, прошли часы, когда зулус наконец шевельнулся. Словно в пелене, видел Хаубериссер, как он встал и, все еще в глубоком трансе, покинул комнату; собрав все свои силы, Фортунат сломал скорлупу летаргии и бросился за ним на лестницу. Но негр уже исчез — открытая нараспашку наружная дверь, тоскливо поскрипывая, вяло покачивалась на своих массивных петлях, — а найти его в густом, непроглядном тумане нечего было и думать... Хаубериссер хотел вернуться к себе, как вдруг уловил тихие шаги... В следующее мгновение из белесой мглы вышла... Ева... Еще не веря своему счастью, Фортунат заключил возлюбленную в объятья, однако она казалась совершенно истощенной и пришла в себя только в доме, когда он усадил ее в кресло... Они долго сидели обнявшись, блаженно прислушиваясь к гулким ударам своих влюбленных сердец... Он стоял перед ней на коленях — молча, не в силах выговорить ни слова, изнемогая от нежности, прятал лицо в ее ладонях и покрывал их горячими поцелуями. Прошлое было для него как забытый сон; любой вопрос: где она все это время находилась, что с ней произошло и как удалось вернуться — представлялся непростительно преступной кражей настоящего. Колокольный звон проснувшихся церквей прокатился по комнате — они не обращали на него внимания; бледный осенний рассвет тайком просочился через окна — они ничего не заметили: слышали и видели только друг друга... Он ласкал ее щеки, целовал глаза, губы, вдыхал аромат волос — и все еще не мог поверить, что это не сон... — Ева! Ева! Я не могу без тебя!.. Продолжение было прервано чередой поцелуев. — Скажи, Ева, что ты никогда больше не покинешь меня! Она обвила руки вокруг его шеи и прильнула к нему щекой: — Нет-нет, я никогда не расстанусь с тобой. Нас не разлучит даже смерть... Я так счастлива, так несказанно счастлива, что мне удалось вернуться к тебе. — Ева, Ева, только не говори о смерти! — вскричал он. Руки девушки внезапно похолодели... — Ева! — Не бойся, любимый, я уже не могу уйти от тебя... Любовь сильнее смерти... Так сказал он... А он не лжет! Я была мертва, и он вернул меня к жизни... Он будет всегда возвращать меня к жизни, сколько бы мне ни пришлось умирать... Она говорила как в бреду; Фортунат подхватил ее на руки и отнес на постель. — Он ухаживал за мной, когда я лежала при смерти — неделями не приходила в сознание и не могла разжать пальцев... Судорога... Мертвая хватка... Они сжимали красный ремень — его носила на шее смерть. Вцепившись в него, я висела между небом и землей... Он сорвал с нее ошейник! С тех пор я свободна... Разве ты не чувствовал, любимый, что я часами напролет находилась рядом с тобой?.. Время как с цепи сорвалось... Ну куда, куда оно мчится?.. — Губы уже не слушались ее. — Позволь... позволь мне стать твоей женой! Я хочу быть матерью, когда снова приду к тебе... Они сжимали друг друга в объятьях неистовой, беспредельной любви — опьяненные, тонули в океане счастья... — Ева! — Ева! Ни звука в ответ. — Ева! Ты слышишь меня? — Фортунат раздвинул занавески, скрывающие спальную нишу. — Ева!.. Ева!.. Схватил бледную руку — она безжизненно упала на одеяло. Приложил ухо к груди — сердце не билось. Глаза потухли... — Ева! Ева! Ева! — отчаянно вскричал он; встал, качаясь по дошел к столу. — Воды!.. Надо принести воды!.. — И рухнул как подкошенный. — Ева!.. Стакан разбился, и он поранил себе пальцы, но снова вскочил и, вцепившись в волосы, бросился к постели... — Ева!.. — Хотел привлечь возлюбленную к себе, но, заметив усмешку смерти на застывшем лице, замер и, рыдая, бессильно склонил голову на ее плечо... «Грохот... Это пустые ведра... Там, внизу, на улице... Кто-то гремит пустыми ведрами... Молочница!.. Да-да, конечно... Гремит... Молочница... Как же она гремит!..» — Хаубериссер чувствовал, как его сознание погружается во мрак, слышал, как где-то совсем близко бьется чье-то сердце, даже сосчитал спокойные мерные удары, не догадываясь, что это его собственное... Машинально гладил длинные светлые шелковые пряди, разметавшиеся по белой подушке... «Как она прекрасна!.. Но почему не слышно курантов? — Он поднял глаза. — Ах да, ведь время умерло... Разумеется, умерло, иначе давно бы рассвело... Но, чтобы увидеть зарю, надо проснуться... Проснуться!.. Там, на письменном столе, лежат ножницы, а рядом... рядом горят две свечи... Зачем я их зажег?.. Наверное, забыл погасить, когда ушел негр... Конечно... А потом было уже не до них, ведь пришла... Ева... Ева??? Но ведь она... мертва! Мертва!!!» — горестный вопль не мог прорваться наружу и терзал изнутри изнемогающую душу. Два гигантских огненных языка чудовищной, невыносимой муки сомкнулись над несчастным... «Конец! Надо... положить... конец!.. Ева!.. Я должен идти за ней следом... Ева, Ева! Подожди, я догоню тебя! — Задыхаясь, он навалился на письменный стол, схватил ножницы и уже хотел вонзить их себе в сердце, но в последний момент застыл с занесенной рукой. — Нет, просто смерть — это слишком ничтожно! Я уйду из жизни слепым — не хочу больше смотреть на этот проклятый мир!..» И Фортунат, вне себя от отчаянья, открыл ножницы, собираясь вонзить в глаза острые растопыренные концы, как вдруг кто-то с такой силой ударил его по руке, что страшная стальная рогатка со звоном упала на пол... — Да ты, никак, вознамерился внити во царствие мертвых, дабы найти там живых? Перед ним стоял Хадир Грюн, как и в прошлый раз на Иоденбрестраат, был он в черном таларе и седые пейсы спадали до плеч. — Сдается мне, ты и впрямь ослеп, если уверовал, что истина — по ту сторону! Таки вот, я скажу тебе: тот мир есть лишь царствие преходящего блаженства для призрачных слепцов, равно как сей мир есть царствие преходящих страданий дляспящих слепцов. Всяк, не превзошедший в жизни земной науки «созерцания», за гробом оную не постигнет и подавно... Уж не вообразил ли ты, что, коль скоро тело возлюбленной твоей лежит простертое, подобно трупу бездыханному, то и не воскреснуть ей вовек? Воистину, дева сия жива, а вот ты — мертв, ибо все еще пребываешь во сне гробовом. Вкусившего однажды жизни вечной смерть не сокрушит, однако и тому, кто покуда мертв, навроде тебя, возможно причаститься жизни вечной... Старик схватил свечи и поменял их местами: правая стала левой, а левая — правой, и сердце Хаубериссера вдруг перестало биться — казалось, оно исчезло, испарилось, выпорхнуло на волю из тесной грудной клетки. — Истинно говорю тебе — можешь вложить руку свою в мои ребра, — что будет промеж тобой и оной девой заключен союз, скрепленный брачными узами, вот только надобно тебе родиться в духе... И пусть себе людишки думают, что она умерла, — тебе-то что до того?.. Что с них взять — они спят и не могут видеть пробужденных. Ты взывал к преходящей любви, — Хадир Грюн указал на место, где воздвигнут был обезглавленный крест, топнул легонько ногой по гнилому пятну, и оно исчезло, — и я дал тебе любовь преходящую, ибо не за тем пребываю в мире сем, чтобы брать, но за тем, чтобы давать... Да будет всякому по желанию его. Вот только неведомо людям, к чему стремится душа их; знай они сие — и прозрели бы воистину. Когда-то в убогой лавчонке курьезов ты жаждал обрести новые глаза и в новом свете узреть юдоль земную — а ну-ка, вспомни, или не сказал я тебе тогда: дабы воззриться человеку на мир сей новыми, вечно смеющимися очами, надобно ему допрежь того старые выплакать. Ты стремился к премудрости сокровенной, и дал я тебе поденные записи одного из призванных мной — он тоже обретался в доме сем, покуда плоть его была перстью земной и тленной. Однако Ева возжаждала любви непреходящей — и было ей по желанию ее, будет и тебе оной девы ради. Преходящая любовь есть лишь призрак, лукавый и суетный. И где бы ни довелось мне узреть ростки любви истинной, кои неподвластны сорнякам призрачной страсти, простираются длани мои, подобно заботливому ветвию, ограждающему нежные плоды от всепожирающей смерти, ибо я не только фантом с зеленым ликом — аз есмь Хадир, Вечно зеленеющее древо... Когда на следующее утро госпожа Оме вошла с завтраком в комнату постояльца, ее глазам открылась страшная картина: Хаубериссер стоял на коленях рядом с простертым на постели телом прекрасной юной девушки и, прижав руку мертвой к своему лицу, что-то беззвучно шептал... Перепуганная экономка послала известить друзей несчастного молодого человека; пришедшие Пфайль и Сефарди, полагая, что он без сознания, хотели его поднять, но в ужасе отпрянули при виде ликующей улыбки на смертельно бледном лице Фортуната, озаренном победным сиянием широко открытых, смеющихся глаз...Глава ХIII
Доктор Сефарди пригласил к себе барона Пфайля и Сваммердама. Стояла глубокая ночь, а расположившиеся в библиотеке господа все еще не могли наговориться, и о чем бы ни заходила речь — о мистике, философии, каббале или о странном Лазаре Айдоттере, давно отпущенном из-под надзора врачей и продолжавшем торговать спиртными напитками, — главной темой, к которой они постоянно возвращались, был Хаубериссер. На следующий день должны были состояться похороны Евы ван Дрюйзен. — Какой страшный удар! Несчастный, сломленный горем человек! — воскликнул Пфайль и, вскочив, принялся беспокойно расхаживать взад и вперед. — Стоит мне только на миг представить себя в его положении, и меня начинает бросать то в жар, то в холод. Он остановился и вопросительно взглянул на Сефарди: — Может быть, нам все же следует навестить его и попытаться отвлечь от горьких мыслей, в компании он, наверное, скорее сумеет справиться с обрушившимся на него несчастьем? А вы что на это скажете, Сваммердам?.. Или вы действительно считаете его безнадежным, думаете, ему никогда не выйти из той глубокой, непостижимой прострации, в которой он находится? А что, если он внезапно придет в себя и, раздавленный сознанием своего одиночества... Сваммердам качнул головой: — Не волнуйтесь за него, господин барон! Отныне он неуязвим для отчаянья; Айдоттер сказал бы: в нем переставлены свечи... — В вашей вере есть что-то нечеловеческое, противоестественное, — пробормотал Сефарди. — Когда я слышу эти ваши речи, меня охватывает... страх... Да-да, именно страх! — Он помедлил мгновение, не совсем уверенный, не потревожит ли еще не успевшую затянуться рану. — После убийства вашего друга Клинкербока мы все очень переживали за вас. Думали, не выдержите. Помню, как Ева наказывала мне зайти к вам и постараться успокоить. До сих пор не понимаю, как вам удалось оправиться после той кровавой трагедии, которая должна была потрясти само основание вашей веры?.. Сваммердам прервал его: — А вы еще помните то, что сказал Клинкербок перед смертью? — Да, конечно. Слово в слово. Но только после роковой развязки мне открылся полностью скрытый смысл его странных и во многом темных намеков. Нет никаких сомнений в том, что он предвидел свой ужасный конец еще до прихода негра. Взять хотя бы эту его фразу: «Мавританский царь принесет в дар мирру жизни иной, а тело бренное швырнет в воды мутные рыбам на прокорм...» — Так вот, господин доктор, именно то, что его пророчество исполнилось, и помогло мне выстоять. Едва не сломленный вначале, я, когда до меня наконец дошло все величие случившегося, спросил себя: что ценнее — истинность слова, изреченного в духе, или тот недолгий срок, который был отпущен судьбой неизлечимо больной чахоточной девочке и дряхлому немощному сапожнику? Неужели было бы лучше, если бы устами пророков глаголала ложь? С тех пор воспоминания о той ночи стали для меня источником чистейшей, ничем не омраченной радости. Да, Клинкербоку и его внучке пришлось покинуть этот мир. Ну и что? Поверьте, здесь им уже нечего было делать, а там... там им будет лучше... — Итак, вы твердо убеждены в существовании загробной жизни? — спросил Пфайль и тихо, про себя, добавил: — Почему бы и нет, ведь я сам теперь верю в это... — Да, конечно... А разве могут быть какие-то сомнения? Разумеется, рай не место, а состояние; но и земная жизнь не более чем состояние... — И... и вы стремитесь туда? — Н-нет, — выдавил из себя Сваммердам — казалось, ему очень не хотелось говорить на эту тему. Старый слуга в темно-фиолетовой ливрее известил, что господина доктора просят к телефону. Сефарди встал и, извинившись, покинул комнату. Как только он вышел, Сваммердам заговорил вновь — Пфайль понял, что старый энтомолог предпочитал не говорить об этом при Сефарди, видимо, щадя его чувства: — Вопрос о рае подобен обоюдоострому мечу. Иному человеку можно нанести незаживающую рану, если сказать, что там, по ту сторону, нет ничего, кроме видимости. — Видимости?.. Что вы имеете в виду? — Думаю, будет лучше, если я вам объясню на примере. Моя жена — вы знаете, она умерла много лет назад, — бесконечно меня любила (я ее тоже), так вот сейчас она «там», и ей мнится, что я рядом. То, что в действительности рядом не я, а лишь мой образ, она не понимает; если бы она это понимала, рай превратился бы для нее в ад. Всякий смертный, переступающий порог того мира, находит там образы тех, по ком он тосковал и к кому стремился, и принимает их за реальность — даже образы дорогих его сердцу вещей. — Сваммердам указал на длинные ряды книжных полок, тянувшихся вдоль стен библиотеки. — Моя жена поклонялась Пречистой Деве, теперь она грезит в ее объятиях по ту сторону... Просветители, хотевшие отлучить свою паству от религии, не ведали, что творят. Истина лишь для немногих избранных, ее следует держать втайне от глупой невежественной толпы; вкусивший от запретного плода только малую часть, после смерти вступает в ущербный, бесцветный рай. Земной страстью Клинкербока было узреть Бога; ныне он счастлив, ибо зрит — «Бога». Сапожник был темным, необразованным человеком, однако его уста изрекали слова правды, порожденные самозабвенной жаждой Бога, вот только милосердная судьба никогда не открывала ему их сокровенный смысл. Долго не мог я понять, как такое возможно, и только теперь, после его смерти, уразумел: он был допущен к Истине лишь наполовину, а посему снедающей его страсти узреть Бога не суждено исполниться до конца — ни здесь, в жалкой земной «действительности», ни там, в зыбких потусторонних грезах... — Сваммердам поспешно прервал свою речь, заслышав приближающиеся шаги Сефарди. Инстинктивно Пфайль угадал, почему он это сделал: старик, очевидно, знал о несчастной любви Сефарди, знал также, что доктор, несмотря на свою ученость, был глубоко религиозным и благочестивым человеком, и не хотел разрушать его «рай», сотканный из «зыбких потусторонних грез» о будущей совместной жизни с Евой. — Что бишь это я? — И Сваммердам с рассеянным видом потер лоб, словно пытаясь припомнить, на чем остановился. — Ну да, конечно: сознание того, что пророчество Клинкербока исполнилось, начисто затмило его ужасную смерть, превратив мою скорбь в чистейшую радость. Такую «перестановку свечей» — обращение горечи в сладость — возможно произвесть лишь силой Истины. — И все же для меня остается неразрешимой загадкой, — с ходу включился в разговор Сефарди, — каким образом одно только сознание каких-то отвлеченных истин позволяет вам превозмогать боль? Я ведь тоже пробовал философически победить тоску по умершей Еве, однако это не помогло, — мне кажется, что радость никогда больше не переступит порог моего дома. Сваммердам понимающе кивнул: — Конечно, конечно... К сожалению, ваше сознание, господин доктор, сформировано мышлением, а не «сокровенным логосом». Ведь мы, сами того не сознавая, не доверяем своим мыслям, потому-то они такие серые и мертвые, а вот откровения предвечного «логоса» — животворящие дары Истины — всегда, когда бы мы ни вспомнили о них, радуют нас несказанно... С тех пор как я вступил на «путь», «сокровенный логос» лишь трижды глаголал во мне, но и этого было достаточно, чтобы осветить всю мою жизнь. — И все, что он вам предрекал, всегда сбывалось? — спросил Сефарди со скрытым сомнением в голосе. — Или то были не прорицания? — Вы не ошиблись. Трем пророчествам довелось мне внимать. Первое гласило: через мое участие некая юная пара будет наставлена на духовный путь — тысячелетия стезя сия, привносящая в жизнь истинную ценность и наделяющая бытие предвечным смыслом, пребывала в забвении и вот теперь, в новое время, должна открыться многим. Пророчество это стало содержанием всей моей жизни. О втором мне бы говорить не хотелось — еще подумаете, что я сошел с ума, и... Пфайль насторожился: — Оно касается Евы? ОднакоСваммердам пропустил вопрос барона мимо ушей и, усмехнувшись, сказал: — Ну а третье покажется вам слишком незначительным — хотя это и не так — и не заинтересует вас... — А вы располагаете хоть какими-нибудь свидетельствами того, что, по крайней мере, одно из этих трех исполнится? — спросил Сефарди. — Да. Чувство какой-то фатальной неотвратимости. Мне нет нужды воочию убеждаться в исполнении пророчеств — достаточно того, что я не могу сомневаться в их истинности, это выше моих сил. Вам, наверное, непонятно, что это означает: жить и ежечасно чувствовать сокровенную близость Истины — той, которая заблуждаться не может... Разумеется, сие надо пережить самому. Меня никогда не посещали так называемые «сверхъестественные» видения, разве что однажды, во сне, когда я искал зеленого скарабея, мне явился образ моей жены... Я никогда не стремился «узреть Бога», и ангел Господень не удостаивал меня лицезрением себя, как Клинкербока, да и с пророком Илией мне не доводилось встречаться, как уважаемому Лазарю Айдоттеру, — но все эти чудесные видения тысячекратно уступают в жизненной силе простым евангельским словам: «Блаженны не видевшие и уверовавшие»[194]. Вот моя первая, и последняя, Истина. Я верил в невероятное, я научился считать возможным невозможное. Порой меня вдруг охватывало странное чувство, будто рядом со мной стоит кто-то гигантский и всемогущий, и его длань простерта над тем или иным избранником; я не вижу и не слышу его, но знаю: Он здесь. Я надеюсь на Него, а не на то, что когда-нибудь увижу Его. Я знаю, исполнились сроки и грядут страшные катастрофы, а предшествовать им будет ураган, какого мир еще не видел, — и безразлично мне, застану ль я эти кровавые времена, но восторженно трепещет преисполненное ужасом сердце мое в предвкушении гибельного часа! — Пфайлю и Сефарди стало не по себе, когда Сваммердам холодно и спокойно добавил: — Сегодня утром вы спрашивали меня, почему я был так уверен, что Ева жива, но надлежит ей пребыть до срока сокрытой от наших глаз... В самом деле, почему?.. Просто я знал, что она придет, — и она пришла! И так же точно, как то, что я стою здесь, перед вами, господа, ведомо мне: она и сейчас жива! Ибо Он простер над нею свою длань... — Да, но ведь гроб с телом девушки уже в церкви!.. И завтра ее будут хоронить! — вскричали в один голос Сефарди и Пфайль, охваченные каким-то мрачным предчувствием. — Да пусть бы Еву ван Дрюйзен и в тысячный раз погребли, пусть даже тело девы сей истлеет в могиле и вы вложите мне в руки ее череп — все равно, я знаю, что она жива... — Он сумасшедший, — с дрожью в голосе сказал Пфайль, когда Сваммердам ушел. В ночном тумане смутно светились цветные стрельчатые окна церкви св. Николая. Прижавшись спиной к садовой стене, негр Узибепю ждал, скрываясь в густой непроглядной тени, когда сторож, который после страшного двойного убийства, потрясшего весь город, обходил по ночам сумрачные переулки портового квартала, тяжелым усталым шагом проковыляет мимо; потом он перелез через решетку, взобравшись на дерево, перепрыгнул на пристройку ризницы и, осторожно открыв выходящий на крышу круглый стеклянный люк, тихо, как кошка, проник внутрь... Посредине церковного нефа на серебряном катафалке, увитом гирляндами белых роз, лежала Ева со сложенными на груди руками и странной усмешкой, застывшей на бледном неподвижном лице. В головах и по сторонам гроба несли скорбную вахту толстые, красные свечи в человеческий рост, пламя которых замерло, словно боясь нарушить торжественную атмосферу храма. В нише висел образ Черной Мадонны с младенцем на руках, а пред ним кровоточащей лампадой свисало со свода на поблескивающей струне рубиновое сердце Предвечного Света. Из-за гнутых ажурных решеток торчали восковые слепки рук и ног, рядом стояли костыли с табличками: «Пречудным заступлением Твоим, о Пренепорочная и Пресвятая Божия Мати Марие, избавлен от недуга моего», а вокруг на каменных постаментах — деревянные резные статуи Пап, увенчанных белоснежными тиарами, с воздетыми в благословении десницами... Каннелированные мраморные колонны... Бесшумно скользил негр от тени к тени, изумленно оглядывая чужие диковинные реликвии, — заметив восковые члены, угрюмо кивнул, полагая, что это останки поверженных врагов, подозрительно заглянул в щели исповедальни и на всякий случай ощупал рослые фигуры святых: уж больно походили они на живых людей. Убедившись, что, кроме него, в храме никого нет, прокрался на цыпочках к мертвой и долго стоял перед ней, печально опустив голову. Ослепленный ее красотой, робко коснулся мягких белокурых волос и тут же отдернул руку, словно боясь разбудить девушку. И почему она так испугалась его в ту летнюю ночь на Зеедейк?.. Он не понимал этого. До сих пор все женщины, которых он желал — и черные и белые, — были счастливы принадлежать ему. Даже Антье, кельнерша из портового кабака! А ведь она тоже была белой с соломенными волосами! Ни с одной из них не надо было прибегать к колдовской практике Виду: все они сами вешались ему на шею и отдавались по первому его слову!.. Но только не она! Лишь ею он так и не смог овладеть! Ради обладания этой недотрогой Узибепю без малейших колебаний отдал бы все свои деньги — ту огромную золотую кучу, из-за которой он задушил старика в дурацкой короне! После драки с матросами он каждую ночь слонялся по улицам в надежде встретить ее, но все напрасно, ни одна из тех бесчисленных женщин, которые с наступлением темноты фланировали по переулкам в ожидании мужчин, не могла сказать, где скрывается эта белокурая девушка. Он протер глаза... Подобно обрывкам сна проносились воспоминания: раскаленная добела африканская саванна; английский торговец, заманивший его в Кейптаун обещанием сделать царем Зулундии; плавающий дом, в котором он прибыл в Амстердам; цирковая труппа презренных нубийских рабов — с ними он каждый вечер должен был исполнять боевые ритуальные танцы за нищенскую оплату (но даже эту жалкую мелочь у него так или иначе отнимали); каменный город, в котором сердце иссыхало в тоске по дому и не с кем было словом перекинуться на родном языке... Зулус нежно погладил руку мертвой, и выражение безграничного отчаянья появилось на его лице: она и не знает, что он ради нее оставил своего бога! Пытаясь во что бы то ни стало заставить ее прийти, Узибепю заклял кошмарного суквийана, священную змею с человечьим ликом; этим действом он поставил на карту свою магическую власть над огнем — и проиграл... Изгнанного из цирка и без гроша в кармане, его — нищим, а не царем — выслали назад в Африку, но он прыгнул с корабля в море и вплавь добрался до берега — днем прятался на груженных фруктами баржах, а по ночам бродил по Зеедейк, стараясь напасть на след той, которую любил больше всего на свете: больше родных саванн, больше своих черных женщин и даже больше безумного африканского солнца, раскаленным испепеляющим шаром висящего в безоблачном, выцветшем до белизны небе... С тех пор лишь один-единственный раз великий суквийан удостоил его своим вниманием — разъяренный змеиный бог явился ему во сне со страшным приказом призвать Еву в дом соперника... И вот теперь здесь, в ночной церкви, он впервые увидел ее вновь — мертвой, холодной, бездыханной... Тоскливый взор неприкаянно блуждал по погруженному во тьму храму: распятый с терновым венцом, руки и ноги которого пригвождены к кресту огромными ржавыми гвоздями? — белоснежная голубка с зеленой ветвью в клюве? — какой-то седобородый старик, держащий в руке большой золотой шар? — юноша, пронзенный стрелами?.. Сплошь чужие белые боги, которых он не мог заклясть, ибо не знал их тайных имен. А ведь они должны владеть ключами высшей магии, позволяющей возвращать к жизни мертвых!.. От кого же еще получил мистер Арпад чудесную магическую власть пронзать себе горло кинжалами, глотать куриные яйца и вновь извлекать их целыми и невредимыми?! Последняя надежда вспыхнула в нем, когда он заметил в нише черный лик: судя по золотой диадеме, венчающей точеную головку, женщина была богиней — черной богиней, которая наверняка понимала наречие зулусов! Узибепю опустился пред образом на корточки, замер, задержав дыхание, и не дышал до тех пор, пока в ушах не зазвучали горестные вопли поверженных врагов, покорно, как презренные рабы, дожидавшихся его прихода у врат потустороннего мира; тогда, чтобы войти в царство, где сынам человеческим возможно разговаривать с невидимыми, он с предсмертным хрипом проглотил язык — и ничего... Глубокая непроницаемая тьма вместо привычного мертвенно-зеленоватого свечения; он не мог найти пути к чужой богине... Виновато втянув голову в плечи, негр побрел назад к катафалку и, свернувшись в клубок в изножий гроба, затянул погребальную песнь зулусов — что-то вроде варварского заупокойного плача: дикие стонущие звуки сменялись безостановочным, на одном дыхании причитанием, больше похожим на приглушенный топот несущихся во весь опор антилоп, время от времени этот нечленораздельный галоп нарушали пронзительные крики ястреба или хищный гортанный клекот, потом вдруг доносился хриплый душераздирающий рык, сопровождаемый тихим меланхолическим стенанием, которое то сиротливо затихало в глубине первобытного леса, то, рыдая, раздавалось вновь и переходило в глухой, надрывный и тоскливый вой собаки, оплакивающей своего умершего хозяина... Потом негр встал, пошарив за пазухой, извлек небольшое белое ожерелье, составленное из шейных позвонков задушенных царских наложниц, — сакральный атрибут верховного вождя зулусов, священный фетиш, дарующий бессмертие всякому, кто возьмет его с собою в гроб, — и, подобно страшным дьявольским четкам, обвил им молитвенно сложенные руки мертвой. Дороже сей зловещей реликвии у него не было ничего на этом свете. Зачем ему теперь бессмертие, лишенному родины по ту и по сю сторону: Ева не могла быть допущена в зулусское царство мертвых, а он — в райские кущи белых!.. Тихий шорох вспугнул чернокожего. Он замер, как хищный зверь, готовый к прыжку. Тишина... Похоже, это шурша упал на пол какой-то листик из увядающего венка. Тут его внимание привлекла свеча в изголовье катафалка: ее пламя, трепетно метнувшись, склонилось набок, настигнутое легким неуловимым сквозняком... Кто-то вошел в церковь! Бесшумный прыжок — и негр уже за колонной, впился глазами в ризницу, не откроется ли дверь... Никого... Когда же он вновь обернулся к гробу, то на месте трепещущей свечи обнаружил величественный, высеченный из камня трон. На нем неподвижно восседал некто — худой, очень высокого, превышающего все человеческие мерки роста, увенчанный короной из перьев, какую дозволено носить только судиям загробного мира, он был наг, лишь его бедра обвивала красно-синяя повязка, и держал в руках изогнутый посох и плеть... Египетский бог! С шеи на тонкой филигранной цепочке свисала на грудь золотая пластинка. Напротив, в изножии гроба, стоял какой-то коричневый от загара человек с головой ибиса, державший в правой руке анкх — крест с ушком, символ вечной жизни древних египтян, — а по сторонам еще двое: один с головой ястреба, другой с головой шакала... Зулус понял, что эта страшная троица явилась чинить суд над умершей девушкой. Богиня правды в белоснежном, облегающем одеянии, с хохолком коршуна на голове, прошествовала через неф по центральному проходу, подошла к мертвой, которая вдруг восстала из гроба, прямая как столб, вынула у нее из груди сердце и возложила его на чашу весов... На другую муж с шакальей головой бросил маленькую бронзовую статуэтку. Поддерживающий чаши Ястреб убрал руки... Чаша с сердцем Евы опустилась глубоко вниз. Писец с головой ибиса что-то молча нацарапал тростниковой палочкой на восковой дощечке. И тогда слово взял судия: — Праведным сочли мы земной путь девы сей, тяжкое бремя забот безропотно несла оная пред ликом Господа богов, и посему достойна царства Истины. Итак, проснется спящая живой богиней и воссияет в сонме небожителей, ибо нашего она рода. Да будет начертано сие в Книге сокровенной обители... И трон с восседающим на нем судией стал медленно погружаться в каменные плиты пола. Ева с закрытыми глазами сошла с катафалка... Божественные Ибис и Шакал взяли ее под руки — бог с головой ястреба шествовал впереди, — молча вошли они в стену храма и исчезли... Свечи тут же превратились в тощие коричневые фигуры с пламенеющими фесками на головах, они подняли крышку и осторожно накрыли ею пустой гроб. Тихий жалобный стон повис в благоговейной тишине храма, когда винты проникли в сухую древесную плоть...Глава XIV
Сумрачная, небывало холодная зима накрыла Голландию снежным саваном, потом белый покров стал понемногу съеживаться, истончаться и нехотя, дюйм за дюймом, сползать, однако весны не было и в помине. Казалось, земля никак не могла сбросить оковы сна. Пришел и ушел бледный, худосочный май, а почки так и не распустились. Деревья стояли голыми, тощими, с обмороженными корнями, без единого зеленого листочка. Повсюду, сколько хватал глаз, — черная пустошь с редкими кустиками бурой прошлогодней травы. Мертвый штиль, медленно и настойчиво сводящий с ума, поверхность моря — как полированное, свинцового цвета стекло; вот уж который месяц ни капли дождя, тусклое солнце угрюмо мреет сквозь серую пыльную пелену; тяжелые удушливые ночи, тревожные рассветы, когда даже роса не выпадает... Природа словно оцепенела, прервав свой извечный круговорот. Суеверный ужас перед неведомым грядущим, раздуваемый безумными проповедниками, под завывание псалмов шествующих во главе покаянных процессий по городам и весям, охватил население, как в страшные времена анабаптистской ереси. Говорили о надвигающемся голоде и конце света... Хаубериссер оставил свою квартиру на Хойграхт и переселился в юго-восточный пригород Амстердама; там, среди бескрайних низменностей, он жил один в древнем, стоящем на отшибе доме, о котором ходила молва, будто когда-то на его месте находился священный жертвенник друидов. Своей задней стеной дом вплотную примыкал к низкому пологому холму, расположенному посреди перерезанного каналами слотермееровского польдера[195]. Фортунат заметил одинокое строение, возвращаясь с похорон Евы, — в доме давным-давно никто не жил, и молодой человек не долго думая снял его, в тот же день переехал, а за зиму обустроил на свой вкус: хотелось побыть наедине с самим собой, подальше от людей, которые после смерти возлюбленной стали для него чем-то вроде смутных теней. Из своего окна он мог видеть город, который сумрачной громадой на фоне густого леса корабельных мачт казался колючим, выдыхающим голубоватую дымку чудовищем. Когда же он брал в руки подзорную трубу и наводил ее на шпили церкви св. Николая или на другие знакомые башни и фронтоны, странное чувство охватывало его: как будто перед ним были не мертвые каменные здания, а застывшие в различные архитектурные формы воспоминания, тянувшие к нему, стараясь поймать, свои страшные призрачные руки... Однако через несколько минут иллюзия кончалась, и образы прошлого тонули в море крыш, невозмутимо катившем свои покатые и островерхие, железные и черепичные волны в туманную даль. В первое время Хаубериссер наведывался на могилу Евы, благо кладбище находилось неподалеку, однако сразу ощутил всю бессмысленность этой механической, ничего не говорящей его чувствам церемонии. Всякий раз, когда Фортунат, пытаясь вызвать у себя скорбь, старался представить свою возлюбленную лежащей там, в земле, в деревянном гробу, эта мысль казалась ему настолько противоестественной, что он частенько забывал положить на могилу принесенные цветы и так и уходил с ними домой. Само понятие «душевных страданий» стало дня него пустым звуком, утратив над ним какую-либо власть... Иногда, когда он задумывался о странной метаморфозе своей души, его охватывал ужас перед самим собой... Однажды вечером Хаубериссер сидел у окна и задумчиво смотрел на заходящее солнце. Высокий, иссохший тополь уныло торчал перед домом, а дальше, подобно чудесному оазису посреди запекшейся в коричневую корку равнины, зеленел маленький пятачок живой сочной травы с цветущей яблонькой — на всю округу это был единственный знак жизни, — время от времени к этому деревцу, как к святыне, съезжались крестьяне... «Человечество, вечный Феникс, сжигавшее себя в течение многих веков, сейчас выгорело дотла, — подумал Фортунат, окидывая взглядом безнадежно мертвый ландшафт. — Воскреснет ли оно когда-нибудь вновь?..» Мысли незаметно соскользнули к Хадиру Грюну, и в памяти всплыли его слова: «не затем пребываю в мире сем, чтобы брать, но затем, чтобы давать...» «А что даю я? — спросил себя Фортунат. — Я превратился в ходячий труп, в иссохшее дерево, подобное этому несчастному тополю!.. Кому еще, кроме меня, ведомо, что существует вторая, тайная жизнь?.. Сваммердам наставил меня на путь, неизвестный своими дневниковыми записями научил первым шагам, а я только и делаю, что похваляюсь плодами, которые судьба сама послала мне в руки!.. Мои лучшие друзья, Пфайль и Сефарди, даже не подозревают, что со мной происходит, — думают, будто я обрек себя на одиночество в тоске по умершей Еве... Люди кажутся мне призраками, бестолково, вслепую влачащимися по жизни, уродливыми гусеницами, которые пресмыкаются во прахе, не подозревая, что вынашивают в себе прекрасных легкокрылых мотыльков, — и только на этом основании я счел себя вправе удалиться от них?..» Охваченный состраданием к ближним, он уже хотел было идти в город и, встав на каком-нибудь многолюдном перекрестке, подобно бродячим пророкам, грозящим наступлением Судного дня, возгласить толпе благую весть о существовании сокровенного моста между двумя мирами — тем и этим, — но в следующее мгновение одумался... «Это все равно что метать бисер перед свиньями. Толпа меня не поймет, ведь она жаждет лишь одного: чтобы сам Господь Бог сошел с небес и она могла безнаказанно предать Его, продать и... распять. А те немногие избранные, ищущие пути, дабы спасти самих себя, услышат ли они меня? — Нет, господа проповедники окончательно дискредитировали себя». — И он невольно вспомнил Пфайля, который сказал в Хилверсюме: «Вот только надо было бы прежде спросить, хочу ли я, чтобы меня простили...» «Нет, ничего из этой затеи не выйдет, — сказал себе Фортунат и задумался. — Интересно, что, чем богаче становится внутренний опыт, тем труднее поделиться им с другими; я все дальше ухожу от людей, и, уж видно, недалек тот час, когда они не смогут услышать мой голос». И он почувствовал, что это может случиться в любое мгновение... Вновь вспомнился дневник и те необычные обстоятельства, при которых он попал к нему в руки... «Я продолжу его описанием моей жизни, — внезапно решил он, — а что из этого выйдет — решать судьбе: быть может, тот, кто пребывает в мире сем, чтобы давать — "всякому по желанию его", — сочтет необходимым сохранить эти записи как мое духовное завещание и передать их тому, для кого они окажутся полезными?.. Если благодаря этим бумагам хотя бы один человек проснется для бессмертия, мое пребывание здесь, на земле, можно считать оправданным». И Хаубериссер, намереваясь подкрепить изложенное в дневнике учение своими собственными наблюдениями, — потом он бы отнес рукопись на свою прежнюю квартиру и спрятал в тот же тайник, из которого она однажды ночью свалилась ему на голову, — сел за стол и написал: «Неизвестному, который идет за мной! Знай же, если ты читаешь эти страницы, то это значит, что рука, которая их написала, уже давно превратилась в прах. Верное чувство подсказывает мне, что записи эти явятся тебе в тот самый миг, когда станут для тебя так же необходимы, как якорь кораблю, несущемуся с разорванными парусами на прибрежные рифы. В дневнике, который предваряет эти страницы, ты найдешь учение, содержащее все нужные сведения для того, чтобы взойти на мост, ведущий в новый чудесный мир... К записям неведомого предшественника мне нечего добавить, кроме кратких заметок о моих собственных поисках и описаниях тех духовных состояний, которых я достиг благодаря вышеупомянутому учению. Если эти строки хоть немного укрепят тебя в вере твоей, что некий тайный путь, восходя по которому человек побеждает свою смертную тварную природу, воистину существует, то предназначение свое они исполнили полностью. Ночь, когда я пишу для тебя, мой неведомый последователь, это послание, уже съежилась в ужасе, чувствуя за своей спиной обжигающее дыхание настигающей катастрофы, — нет, для меня она не страшна, но для тех бесчисленных, которые еще не созрели на древе жизни, это конец; не знаю, доведется ли мне собственными глазами узреть омытый кровью "первый новый час", — быть может, эта ночь моя последняя — но, когда бы я ни покинул сей мир, завтра или много лет спустя, помни: моя рука простерта в будущее, чтобы вслепую, на ощупь, найти твою... Сожми ее так же крепко, как я сжимаю руку своего предшественника, дабы сокровенная цепь учения о бодрствовании не прервалась, и ты, в свой черед, мог завещать это духовное наследство тем, кто придет после тебя!» Уже далеко за полночь он дошел в своем жизнеописании до той критической точки, когда Хадир Грюн остановил его на пороге самоубийства. Погруженный в думы, расхаживал Хаубериссер из угла в угол. Он чувствовал, что здесь начинается та великая непреодолимая пропасть, которая отделяет сознание обычного смертного, каким бы ни был его ум тонким, а воображение богатым, от сознания духовно пробужденного человека. Да и есть ли вообще такие слова, чтобы хотя бы отдаленно намекнуть на тот фантастический переворот, который начался в его душе в ту роковую ночь и продолжается по сей день?.. Фортунат долго колебался, не закончить ли свои записи погребением Евы, потом прошел в соседнюю комнату и, порывшись в чемоданах, достал небольшую серебряную гильзу, которую заказал специально для свитка; укладывая вещи, он случайно наткнулся на картонный череп — «Дельфийский оракул, сиречь глас высших миров», — купленный год назад в кунштюк-салоне. Задумчиво рассматривал он «оракула» при свете лампы, и та же причудливая мысль, влетевшая ему в голову тем далеким летним днем, посетила его вновь: «Воистину, труднее смертному вечную улыбку обрящить, нежели, перерыв несметное множество могил, сыскать череп, коий носил на плечах в своей прежней жизни...» Слова эти звучали залогом того, что в самом ближайшем будущем он сию улыбку таки «обрящет». Прошедшая жизнь со всеми ее страстными порывами, неуемными желаниями и восторгами внезапно показалась ему такой невыразимо далекой и чужой, как будто она и в самом деле существовала лишь в этой дурацкой, неумело склеенной из папье-маше башке, которая вдруг и вправду оказалась «гласом высших миров»; и он невольно усмехнулся при мысли, что держит в руках свой собственный череп. А мир там за окном — витрина кунштюк-салона, заваленная пестрым бессмысленным хламом... Фортунат схватился за перо и написал: «Когда Хадир Грюн ушел и совершенно непонятным образом унес с собой всю мою скорбь по умершей, я хотел подойти к постели и прильнуть к рукам Евы, но, повернувшись, увидел, что какой-то человек уже стоит на коленях перед моей бездыханной возлюбленной, склонив голову ей на плечо, и, не веря своим глазам, узнал в нем мое собственное тело; себя же я больше видеть не мог. Я опустил глаза — тела не было, пустое место, однако в тот же миг человек у постели поднялся с колен и стал внимательно оглядывать свои ноги, руки — именно так я должен был выглядеть со стороны... Казалось, он — моя тень, послушно повторяющая за мной все мои движения. Я склонился над мертвой, мой двойник сделал то же самое; при этом он конечно же несказанно страдал и его сердце разрывалось от боли — сам я этого не знал, только догадывался. Та, что лежала предо мной с застывшей усмешкой на бледном лице, была для меня трупом какой-то незнакомой, ангельски прекрасной девушки — восковой фигурой, к которой мое сердце оставалось совершенно безучастным, великолепным слепком, как две капли воды похожим на мою Еву, и тем не менее это была лишь ее копия, лярва, маска... Я чувствовал себя таким бесконечно счастливым — ведь умерла не Ева, а какая-то чужая, неведомая мне девушка! — что от переполнявшей меня радости не мог вымолвить ни слова. Потом в комнату вошли трое — я узнал своих друзей и экономку; они хотели утешить мое тело, но оно было всего лишь моей "тенью" и только смеялось, ничего не отвечая на недоуменные вопросы Пфайля и Сефарди. Да и где ему, если оно и рта открыть не смело без моего соизволения, — тень она и есть тень и ничего другого, кроме как послушно исполнять приказы своего хозяина, делать не могла. Однако и мои друзья, и все те люди, множество которых я увидел на следующий день в церкви и на погребении, стали для меня такими же тенями, как и мое тело; катафалк, лошади, факельщики, венки, улицы, дома, траурное шествие, кладбище, небо, земля и солнце — все было лишь искусными декорациями, мертвыми муляжами, лишенными всякой внутренней жизни, раскрашенными картинками, не менее бутафорскими, чем это сновидение за окном, на которое я сейчас смотрю, радостный и счастливый, что оно отныне не имеет ко мне никакого отношения. С тех пор моя свобода стала прибывать не по дням, а по часам, наконец я понял, что уже перерос порог смерти; иногда по ночам я видел свое тело спящим, слышал его тихое, равномерное дыхание — сам же оставался бодрствующим; оно смыкало свои веки и засыпало, мой же взор проникал повсюду, я мог налегке перемещаться в пространстве и быть там, где пожелаю. Когда оно просыпалось, я отдыхал, а когда спало — странствовал... Стоило мне только захотеть, и я видел его глазами и слышал его ушами, но тогда все вокруг делалось каким-то смутным и безрадостным, и я вновь превращался в обычного человека: призрак в царстве призраков. Мое состояние, когда я разрешался от тела и воспринимал его безропотно подчинявшейся моим приказам тенью, — это она принимала участие в иллюзорной жизни мира сего! — было столь неописуемо фантастичным, что просто не представляю, как мне тебе его изобразить. Предположим, ты присутствуешь на синематографическом сеансе, счастье переполняет тебя (только что тебе передали какую-то радостную весть), и вдруг на экране появляется твой образ — его преследуют невзгоды, сломленный горем, он стоит на коленях у тела любимой женщины, о которой ты знаешь, что она вовсе не мертва и ждет тебя к ужину домой; ты слышишь свой голос, воспроизведенный фонографом, — твой двойник на экране то жалобно причитает, то в отчаянье проклинает свою судьбу... Ну вот, а теперь скажи, тронет тебя эта жалкая мелодрама?.. И помни, это лишь слабое подобие того, что я в действительности чувствую; мне б очень хотелось, чтобы ты сам все это испытал. Тогда бы и ты понял вслед за мной, что существует реальная возможность избегнуть смерти. Ступень, на которую мне посчастливилось взойти, — это великое одиночество (о нем подробно говорится в дневнике моего предшественника); она, наверное, была бы для меня ужаснее земной жизни, если бы ведущая в небо лествица ею кончалась, но ликующая уверенность в том, что Ева жива, толкает меня дальше... Пусть бы даже мои глаза не могли видеть возлюбленной, я бы все равно знал: мне осталось сделать на пути пробуждения лишь один-единственный маленький шажок — и мы снова вместе, но теперешний наш союз будет несравненно более крепким и реальным, чем тот, на который мы могли рассчитывать прежде... Нас разделяет лишь тонкая перегородка, сквозь которую мы уже можем чувствовать друг друга. Сколь неизмеримо глубже и уверенней моя надежда на нашу встречу сейчас, чем в те хмурые осенние дни, когда я ежечасно взывал к своей возлюбленной! Тогда было тяжелое томительное ожидание — теперь светлая радостная уверенность. Воистину, существует иной, невидимый мир, пронизывающий собой мир внешний, видимый; глас, пред коим умолкает всякое сомнение, говорит мне: Ева жива, она там, по ту сторону, терпеливо дожидается меня в своей сокровенной обители. Если твоей судьбе, мой неведомый последователь, суждено быть похожей на мою и ты потеряешь любимого человека, то не думай, что тебе когда-нибудь удастся обрести его вновь каким-либо иным способом, нежели путем пробуждения. Помни сказанное Хадиром: "Всяк не превзошедший в жизни земной науки созерцания, за гробом оную не постигнет и подавно..." Как от скверной болезни оберегай себя от различных спиритических учений — это самая страшная чума, которая когда-либо обрушивалась на род человеческий; спириты всерьез полагают, что на своих сеансах вступают в контакт с царством мертвых, что призраки, являющиеся им, в самом деле души тех, за кого себя выдают... Хорошо, что им и невдомек, кто действительно к ним приходит, если бы они об этом вдруг узнали, то разум их помутился бы от ужаса. Прежде чем искать дорогу в невидимое, дабы обрести жизнь по ту и по сю сторону, надо сначала самому стать невидимым — таким же, как я, невидимым даже для своих собственных глаз. Конечно, я еще не настолько преуспел, чтобы очи мои отверзлись для мира иного, однако мне доподлинно известно: те, кто слепыми покинули землю, "того берега" не достигли — они как брошенный на ветер обрывок мелодии, который до тех пор скитается в пространстве, пока вновь не встретится с инструментом, способным закончить начатую в нем тему; место, где они обретаются, такая же абстракция, как не имеющая протяженности воображаемая математическая точка, что-то вроде иллюзорного острова призраков, еще менее реального, чем эта земля... Воистину, бессмертен лишь человек пробужденный — солнца и боги взойдут и погаснут, только он один пребудет и исполнит то, что ему надлежит исполнить. Ибо над ним нет богов! Наша стезя недаром зовется языческим путем. То, что человек верующий принимает за Бога, всего лишь состояние, которое он мог бы достичь, если бы был способен поверить в себя, но неисправимый слепец до тех пор воздвигает пред собой бесчисленные барьеры, пока не оказывается загнанным в ловушку, из которой ему не выбраться вовек, — творит некий высший образ, дабы было кому поклоняться, вместо того чтобы самому стать этим образом. Хочешь молиться, молись своему незримому Я; это единственный бог, внемлющий молитвам, — другие подадут тебе камни вместо хлеба. Однако горе тому, кто молится идолам и чья молитва будет услышана, ибо теряет он свое Я и уж никогда больше не сможет поверить, что внимать молитвам способно лишь собственное Я. Является ли Я твоей истинной сущностью, ты узнаешь по тени, которую оно отбрасывает; я тоже раньше не знал своей сокровенной сути, пока не увидел в собственном теле тень. Приблизилось время, когда новые звезды взойдут на небосклоне, когда люди будут освещать землю своими сияющими тенями, вместо того чтобы, как прежде, марать ее позорными черными пятнами. Итак, мой неведомый друг, включайся и ты в нашу предвечную цепь, и да будет свет!» Хаубериссер поспешно встал, скатал бумаги в трубку и, опустив их в серебряную гильзу, завинтил крышку. Замер на миг, вслушиваясь в себя: такое чувство, словно кто-то подгонял его. Восточный край неба стал заметно светлее, серовато-свинцовые предрассветные сумерки превращали расстилавшуюся пред окном безжизненную равнину в гигантский шерстяной ковер с угрюмо поблескивающими стальными клинками каналов. Фортунат вышел из дома и хотел было идти в Амстердам, но уже через несколько шагов оставил свой план спрятать капсулу в старой квартире на Хойграхт, вернулся к дому и достал лопату: внутренний голос подсказал ему, что бумаги следует зарыть где-нибудь неподалеку. Но где? Может быть, на кладбище? Он повернулся в сторону соседнего погоста... Нет, не там. Его взгляд остановился на цветущей яблоньке; дойдя до деревца, он выкопал под корнями небольшую ямку и опустил в нее свой цилиндрический саркофаг... Потом, чуть забрезжил рассвет, поспешил кратчайшим путем, через поля и узенькие мостки, к городу. Внезапно в его душу проникла смутная тревога, он чувствовал, что Амстердаму угрожает какая-то опасность, и хотел предупредить друзей. Несмотря на ранний час, воздух был сух и горяч — а может, и вправду надвигалась гроза? Полнейшее безветрие как будто даже стесняло дыхание, придавая пустынной местности жутковато-мертвенный вид; солнце, подобно диску из тусклого желтого металла, висело за плотной туманной пеленой, и далеко на западе, где-то над заливом Зёйдерзее, багровели крутые уступы облаков, словно было не утро, а вечер. Боясь не успеть, Фортунат при малейшей возможности сокращал путь и шел то прямо через поля, то по каким-то заброшенным проселкам, но город, казалось, не становился ближе. День вступал в свои права, и небо постепенно менялось: легкие перистые облачка, подстегиваемые невидимыми вихрями, судорожно извивались, напоминая хвосты готовящихся к схватке исполинских рептилий, посланных на землю космической ночью. Воздушные вихри прозрачными воронками с обращенными вниз раструбами висели в небесной выси, подобно гигантским перевернутым бокалам; чудовищные ящеры, хищно разинув зубастые пасти, бросались друг на друга и, сцепившись в один пульсирующий ком, неистово катались из конца в конец меняющегося на глазах неба, и только на земле по-прежнему царил мертвый штиль — все замерло в тревожном ожидании. Черный вытянутый треугольник появился с южной стороны небосклона и стал приближаться со скоростью урагана, солнце померкло, когда эта зловещая туча проносилась мимо, на несколько мгновений погрузив окрестность в ночную мглу, а потом где-то у самого горизонта опустилась на землю: это была саранча, тьмы тем саранчи, и прилетела она с берегов Африки. Ни единой живой души не встретил Хаубериссер на своем пути, как вдруг на повороте из-за узловатых ветл появилась какая-то странная фигура — сутулая, нечеловечески высокая, в черном ветхом таларе... И хотя с такого расстояния Фортунат не мог разглядеть лицо великана, однако по осанке, по одежде, по длинным, свисающим до плеч пейсам сразу признал Хадира Грюна. Чем ближе приближался таинственный странник, тем нереальнее казался: его рост был никак не меньше семи футов, ногами при ходьбе он почти не двигал, а в контурах рыхлой, нескладной, развинченной фигуры таилось что-то зыбкое, неопределенное и подозрительное — Хаубериссеру даже как будто померещилось, что время от времени какая-нибудь часть тела — рука или плечо — на миг отделялась и тут же снова прирастала на прежнее место. А еще через несколько шагов старый еврей стал почти прозрачным, больше походя на сыпучее скопление бесчисленных черных точек, чем на человека из плоти и крови. И вот, когда эта эфемерная субстанция бесшумно проплывала мимо, Хаубериссер увидел, что это было плотное, трепещущее облако каких-то летучих инсектов, которое неким курьезным образом приняло форму идущего человека и сохраняло ее, — непостижимая игра природы, чем-то напоминающая пчелиный рой, виденный им однажды на монастырском дворе. Долго смотрел он, качая головой, вслед загадочному феномену, который все быстрее и быстрее уносился на юго-запад, к морю, и наконец словно смутная дымка растворился на горизонте... Фортунат рассеянно продолжал свой путь, ломая голову над тем, как следует толковать это таинственное видение: было оно каким-то зловещим знамением или всего лишь случайной гримасой матери-природы? То, что Хадир Грюн, дабы явиться ему, избрал столь нелепый способ, казалось маловероятным. Объятый тягостными раздумьями, вошел он в Западный парк и, стараясь как можно скорее достигнуть дома Сефарди, направился в сторону Дамрак, однако вскоре по доносившемуся издали возбужденному гулу сотен голосов понял, что в городе творится что-то неладное. Все главные улицы были заполнены народом, люди стояли плечом к плечу, в едином неистовом порыве то подаваясь вперед, то отступая назад, и пробиться сквозь эту живую стену нечего было и думать, оставалось только уповать на узкие глухие переулки Йордаана. По площадям слонялись разрозненные группки Армии спасения, молясь и гнусаво распевая псалмы: «Однако ж да возрадуется и возвеселится град Господень со источниками своими», мужчины и женщины в религиозном экстазе срывали друг с друга одежды и, пав на колени, с пеной у рта возносили к небесам славословия вперемежку с кощунственными проклятиями, фанатичные монахи, заголившись по пояс, исступленно, под жуткий истерический хохот, бичевали себя так, что кровь лилась ручьями; то тут, то там с истошными воплями валились наземь эпилептики и, сведенные мучительной судорогой, в страшных корчах катались по мостовой; приверженцы каких-то изуверских сект на глазах обступивших их простоволосых, дрожащих от страха горожан «смирялись пред ликом Господа» — опустившись на четвереньки, скакали, подобно мерзким огромным жабам, и сипло квакали: «Ква-ква-квозлюбленный Иисусик, ква-ква-квамилуй нас!..» Охваченный ужасом и отвращением, Хаубериссер блуждал в лабиринте кривых переулков, окончательно потеряв ориентацию, так как вновь и вновь путь ему преграждали шумные людские пробки, наконец, зажатый со всех сторон толпой, он уже шагу не мог ступить; каково же было его изумление, когда, отдавшись на волю стихии, он внезапно обнаружил себя припертым к похожему на череп дому по Иоденбрестраат... Витрина кунштюк-салона была закрыта жалюзи, вывеска отсутствовала; у входа возвышался позолоченный деревянный помост, и там, как на троне, восседал в колченогом обшарпанном кресле с накинутой на плечи горностаевой мантией и бриллиантовой, сверкавшей подобно священному ореолу, диадемой на жирно лоснящихся волосах «профессор» Циттер Арпад — шарлатан швырял в беснующуюся толпу медные монеты со своим чеканным профилем и что-то напыщенно вещал звучным, хорошо поставленным голосом, который заглушали ликующие крики «осанна», слышен был только регулярно повторяющийся кровожадный клич: «На костер проклятую блудницу, а ее нечестивое золото несите сюда, к моим ногам!» С величайшим трудом Фортунат протиснулся до угла дома. Передохнув, он хотел прокладывать путь дальше, к дому Сефарди, но тут кто-то схватил его за руку и увлек к ближайшей подворотне. Он узнал Пфайля. Однако пробиться к тихой заводи друзьям не удалось, в толчее их вновь развело в стороны, и все же по тем коротким сбивчивым репликам, которыми приятели успели обменяться поверх теснящегося вокруг люда, они выяснили, что обоих привело в город одно и то же намерение. — Продвигайся на Зеедейк, к Сваммердаму! — крикнул Пфайль. Но где уж там — стремниной их неудержимо сносило в противоположном направлении, а свернуть в боковой закоулок или хотя бы закрепиться в одном из крохотных двориков не представлялось возможным: все они были забиты до отказа; отдавшись на волю судьбы, молодые люди дрейфовали по городу и, если вдруг замечали в толпе хоть какой-нибудь просвет, позволявший пройти несколько шагов рядом, спешили воспользоваться этой оказией и обменяться двумя-тремя торопливыми обрывочными фразами... — Какая же редкостная дрянь... этот Арпад! — доносился голос Пфайля то спереди, то сзади, то рядом с Фортунатом, то вновь отделенный от него живой стеной. — Полиция разбежалась, и нет теперь управы на этого прохвоста... О милиции[196] уже давно ни слуху ни духу... Ведь этот сукин сын выдает себя за пророка Илию, и народ верит ему, даже молится на него... Недавно он устроил в цирке Каре настоящую бойню... Публика брала балаган чуть не штурмом... Притащил туда каких-то никому не ведомых девиц — ты ж понимаешь, эти экзальтированные полусветские дамочки! — и не долго думая спустил на них голодных тигров... Кровь лилась рекой!.. А он со скрещенными на груди руками наблюдал за побоищем из директорской ложи... Ну прямо римский цезарь в припадке августейшего безумия... Нерон, черт бы его побрал!.. Веришь, он таки женился на этой Рюкстине, а потом, чтобы добраться до банковских счетов впавшей в детство старушки, взял ее да и отр... «Отравил», — догадался Хаубериссер: какая-то процессия в одеяниях судей Фемы с надвинутыми на глаза белыми, островерхими капуцинами и факелами отрезала от него Пфайля и своим глухим монотонным хоралом — «О sanktissima, о piissima, dulcis virgo Maaa-riii-aaah»[197] — заглушила последние слова барона. Через минуту Пфайль вынырнул вновь с почерневшим от факельной копоти лицом: — За ночь он все ее состояние до последнего цента спустил в каком-то карточном клубе... Потом около месяца подвизался в роли медиума на спиритических сеансах... Публика валила валом... Весь Амстердам перебывал за столом этого прощелыги... — А что Сефарди? — крикнул Фортунат. — Три недели назад уехал в Бразилию! Кстати, тебе привет от него... Незадолго до своего отъезда он изменился до неузнаваемости... Подробности мне неизвестны... Знаю лишь одно: ему явился человек с зеленым лицом и велел нашему доктору основать в Бразилии еврейское государство, а дабы населяющие его евреи жили единым интернациональным народом, создать новый язык, который бы со временем стал для всех населяющих земной шар людей универсальным средством понимания и способствовал сближению наций... Полагаю, что-то вроде упрощенного древнееврейского... а впрочем, не знаю... Сефарди с тех пор как заново родился... Говорил, что теперь на него возложена миссия... Ну что ж, похоже, он со своим сионистским государством попал в самую точку... Почти все голландские евреи последовали за ним, и до сих пор его бесчисленные единоверцы стекаются со всех концов Европы, чтобы отплыть на Запад... Прямо-таки рой какой-то мошкары... В это мгновение группа плаксиво голосящих женщинразделила их... Услышав о «рое мошкары», Хаубериссер невольно вспомнил о странном феномене, который он наблюдал на подходе к городу... — В последнее время Сефарди общался в основном с неким Лазарем Айдоттером... Я тоже с ним познакомился... — продолжал Пфайль. — Это старый еврей, пророк своего рода... сейчас он почти не выходит из прострации... Однако, надо отдать ему должное, все его пророчества сбываются... Недавно старик предсказал, что на Европу обрушится ужасная катастрофа, которая расчистит место для нового времени... Говорил, что был бы счастлив погибнуть при этом, ибо почел бы для себя за честь проводить души миллионов погибших на ту сторону, в царство полноты... С катастрофой он, похоже, не ошибся... Ты только посмотри, что творится... Амстердам в ожидании потопа... Все словно обезумели... Железнодорожное сообщение давно парализовано, иначе я бы непременно наведался в твой Ноев ковчег... Сегодня напряжение достигло высшей точки... Черт побери, мне бы надо о многом тебе рассказать!.. Если бы не эта проклятая давка, ведь слово невозможно сказать... Чего только со мной не случалось за эти дни!.. — А Сваммердам? Он-то как? — перекричал Хаубериссер вопли ползущих на коленях флагеллантов. — Передал с посыльным, — гаркнул в ответ Пфайль, — чтобы я нашел тебя и мы вместе немедленно шли к нему... Хорошо, что мы встретились... Велел сказать, что он боится за нас; считает, что только рядом с ним мы будем в безопасности... Оказывается, его «сокровенный логос» обратился к нему однажды с тремя пророчествами, одно из которых гласило: он, Ян Сваммердам, переживет церковь святого Николая... Вот он, наверное, и заключил, что вроде как заговорен от надвигающейся катастрофы... Ну а если мы будем при нем, то и нам суждено спастись для грядущего... нового... времени... Это были последние слова барона — оглушительный многоголосый вопль со стороны расположенной вниз по течению и уже совсем близкой площади потряс воздух и распался на отдельные крики, которые множились и, становясь все громче и громче, неслись с крыши на крышу, от одного слухового окна к другому, до самых отдаленных уголков города: — Смотрите, Новый Иерусалим явился на небе! — Чудо, чудо! — Отверзлись небеса! — Спаси и сохрани нас, Господи!.. Фортунат еще видел широко открытый рот Пфайля и понимал, что тот изо всех сил пытается докричаться до него, но уже ничего не мог поделать — обезумевший людской поток подхватил его и, приподняв над землей, унес прочь, в бурный водоворот охваченной суеверным ужасом площади... Стиснутый толпой, он не мог шевелить руками — так и стоял, вытянув их по швам. Взоры всех были прикованы к небу... Там, в вышине, все еще кружили и рвали друг друга на куски сотканные из тумана гигантские крылатые рыбы, но ниже, под ними, уже громоздились горные массивы белоснежных облаков, а промеж них, в тихой долине, простерся освещенный косыми солнечными лучами мавританский город с плоскими белыми крышами и украшенными полумесяцами куполами ажурных мечетей. Темноликие люди в развевающихся бурнусах неторопливо, с достоинством прохаживались по узким улочкам, вдоль серых глинобитных домов — величественные фигуры вырисовывались так ясно, так устрашающе отчетливо, что видны были даже движения непроницаемо черных зрачков, когда мавры поворачивали головы, чтобы бросить равнодушный взгляд себе под ноги, на безумный муравейник Амстердама... За городской стеной простиралась красноватая пустыня с призрачно зыбким верблюжьим караваном, уходящим вдаль, к сливающемуся с облаками горизонту... Почти целый час висела в небе fata morgana в своей колдовской прелести, потом мираж стал постепенно расплываться, пока от него не остался один высокий стройный минарет, который, словно осыпанный мельчайшим сахарным песком, ослепительно сверкал на солнце, но вот исчез и он в рыхлых бесформенных комьях гигантского облака... Только ближе к вечеру удалось Хаубериссеру, пробиравшемуся вдоль стен осторожно, шаг за шагом, так, чтобы его не смыло все еще стремительным людским течением, взойти на мост через какой-то грахт и вырваться из толчеи. О том, чтобы добраться до Сваммердама, не могло быть и речи: для этого пришлось бы пересекать несколько улиц и площадь, и Фортунат решил вернуться в свой загородный затвор и подождать более подходящего момента для визита на Зеедейк... И вот мертвенная тишина польдера вновь вобрала его в себя. Небо превратилось в непроглядную пыльную массу. Кругом ни души, ни звука, слышно было только, как шумела в ушах кровь да грустно шуршала под ногами сухая прошлогодняя трава. Черный мрачный Амстердам в багряных лучах заходящего солнца лежал позади подобно куче зловеще тлеющих углей. Все оцепенело, затаив дыхание, зеркальная гладь прудов казалась кровавой, изредка доносился приглушенный плеск — любопытная рыба подплывала к самой поверхности и, плеснув хвостом, снова спешила в спасительную глубину. Когда спустились сумерки, огромные серые плоскости возникли из-под земли и поползли по равнинам живыми унылыми коврами — это мириады покинувших свои норки полевых мышей, возбужденно попискивая, сплошной лавиной перемещались подальше от города. Чем больше сгущалась тьма, тем беспокойней становилась природа, при этом ни одна травинка не шелохнулась. В потемневшей болотно-коричневой воде время от времени вскипали воронки шальных водоворотов — и это при полнейшем безветрии! — или вдруг ни с того ни с сего начинали разбегаться концентрические круги, словно кто-то невидимый бросал такие же невидимые камешки... Хаубериссер уже разглядел вдали знакомый голый тополь, сиротливо застывший рядом с его «Ноевым ковчегом», но тут из-под земли внезапно воздвиглись до самого неба какие-то белесые столпы и встали пред взором усталого путника, подобно исполинским колоннам, заслонив от него силуэт долгожданного дома. Призрачно и бесшумно двинулись они на Фортуната, оставляя за собой черные широкие полосы вырванной с корнем травы: смерчи шествовали к городу! В жутковатой тишине скользнули мимо невольно затаившего дыхание странника — безмолвные, коварные, смертоносные призраки катастрофы... Мокрый от пота вошел Хаубериссер в дом. Жена кладбищенского садовника, нанятая им в экономки, поставила на стол ужин; от возбуждения он не мог проглотить ни куска... Обуреваемый тревогой, бросился одетым на кровать и не смыкая глаз стал дожидаться следующего утра.Заключение
Невыносимо медленно тянулись часы — казалось, ночи не будет конца. И вот взошло солнце, однако небо оставалось непроницаемо черным, только вдоль линии горизонта тлела желтая, как сера, кайма, словно какая-то огромная темная полусфера с ярким раскаленным краем накрыла землю. Повсюду царил тусклый обманчивый сумрак; тополь у дома, далекий кустарник и городские башни матово переливались, как будто освещенные бледными мертвенными лучами потусторонних прожекторов. Простиравшаяся вокруг равнина походила на гигантское слепое зеркало. Хаубериссер смотрел в свою подзорную трубу: подсвеченный смутной призрачной фосфоресценцией, Амстердам в ужасе оцепенел и, загипнотизированный видом надвигающейся катастрофы, обреченно ожидал последнего смертельного удара. Отчаянный, зовущий на помощь колокольный трезвон был, наверное, слышен в самых отдаленных деревнях — внезапно он смолк: грозный глухой гул прокатился в воздухе, и тополь со стоном согнулся до земли. Неистовые порывы ветра стегали луга, сметая пожухлую траву и с корнем вырывая чахлый низкий кустарник... На несколько минут все утонуло в гигантском облаке пыли, потом, когда оно рассеялось, окружающий ландшафт было не узнать: пена, сплошная пена, огромным белым валом захлестнувшая равнину до самого горизонта; крылья ветряных мельниц, сорванные со своих тел, уродливые обрубки которых кое-где еще торчали из-под бушующей пелены, завороженно кувыркались высоко под облаками. Все чаще и чаще взвывал ураган, пока наконец эти бешеные всплески не слились в один непрерывный душераздирающий вой. С каждым мгновением его ярость нарастала; тополь, согнувшись почти под прямым углом, стелился в нескольких футах над землей — впрочем, от дерева остался только голый ствол, ветви, все до единой, были сорваны первым же сокрушительным шквалом. Лишь яблонька стояла неподвижно и не кланялась буре, словно прикрытая от ветра невидимой рукой, ни один из ее нежных цветков даже не шелохнулся. Балки и камни, обломки домов и целые стены, стропила и комья земли со свистом уносились вдаль, подобно смертоносным снарядам. Внезапно небо стало ярко-серым, и полумрак сменился холодным серебристым сиянием. Хаубериссер было решил, что ураган пошел на убыль, и вдруг с ужасом увидел, как кора на тополе стала крошиться, отшелушиваться и бесследно пропадать в ревущем вихре... В тот же миг, прежде чем он мог понять, что происходит, высокие фабричные трубы на юго-западе гавани, не выдержав напора воздушных масс, сломались у самого основания и, мгновенно обращенные в пыль, растворились вдали. Одна церковная башня следовала за другой — подхваченные тайфуном, они лишь в первую секунду казались скоплением темных обломков, в следующую это уже были уносящиеся к горизонту белесые туманности, потом крошечные точки и... и больше ничего... Вскоре вид из окна был сплошь заштрихован уходящими в перспективу горизонтальными линиями — с такой невероятной скоростью, почти неразличимая глазом, летела сметенная шквалом трава. Вот и на кладбище все уже, наверное, перевернуто вверх дном и оголено: мимо проносилась стая могильных плит, гробовых досок, мраморных крестов и кованых похоронных фонарей — эти тяжелые неуклюжие предметы, словно вдруг утратив вес, парили параллельно поверхности земли, ни на дюйм не отклоняясь от своей противоестественной траектории... На чердаке жалобно заскрипели массивные балки — в любой момент дом мог развалиться на куски; опасаясь, как бы наружную дверь не сорвало с петель, Фортунат хотел спуститься вниз и закрыть ее на засов, однако, уже взявшись за ручку ведущей на лестницу двери, отшатнулся: внутренний голос вовремя предупредил, что стоит ему только приоткрыть ее, и от возникшего сквозняка тут же повылетают оконные стекла, воздушные массы, с ураганной скоростью проносящиеся вдоль стен, ворвутся внутрь и дом в мгновение ока превратится в груду парящих над землей обломков. Этот «Ноев ковчег», защищенный от ветра холмом, лишь до тех пор мог оставаться на плаву, пока находился в аэродинамической пазухе и его комнаты, подобно ячейкам пчелиного улья, были герметично разделены закрытыми дверями. Воздух в комнате был ледяным и сильно разреженным, казалось, еще немного — и наступит полный вакуум; лист бумаги вспорхнул с письменного стола и, пролетев до дверей, прилип к замочной скважине... Хаубериссер снова подошел к окну: сметающий все на своем пути ураган сдул даже воду с прудов, рассеяв ее в мельчайшую пыль; луга походили на вылизанный, серовато-лоснящийся бархат, а там, где стоял тополь, теперь стелился по ветру какой-то огрызок с жидким волокнистым чубчиком. Завывание бури было таким оглушительным и монотонным, что невольно создавалось впечатление, будто кругом царила мертвая тишина. Только когда Хаубериссер взял молоток и стал укреплять гвоздями дрожащие оконные рамы, он, не услышав звука своих ударов, понял, какой чудовищный рев обрушился на его барабанные перепонки. Долго еще не осмеливался он смотреть на город: боялся, что церковь св. Николая и стоящий рядом, на Зеедейк, дом, в котором находились сейчас Сваммердам и Пфайль, сметены ураганом, наконец, робко переведя взгляд в нужном направлении, увидел целые и невредимые шпили храма, гордо устремленные к небу с маленького островка соседних зданий, — прекрасное и величественное море крыш обмелело, голландская столица была стерта с лица земли... «Да и остался ли в Европе еще хоть один город? — содрогнувшись от ужаса, спросил себя Фортунат. — Амстердам отшлифован, как кусок рыхлого податливого туфа. Ветхая полусгнившая культура разлезлась, расползлась по швам, и место ей теперь разве что на помойке». Внезапно он осознал весь кошмар случившегося. Гнетущие впечатления вчерашнего дня, душевное опустошение, вызванное царящим в городе хаосом, и, наконец, эта внезапная катастрофа повергли его в настоящий шок, от которого он только теперь стал понемногу приходить в себя. Хаубериссер стиснул голову руками: «Неужели я спал?..» Взгляд его остановился на яблоньке — деревце каким-то чудесным образом по-прежнему стояло невредимым в своем белоснежном подвенечном наряде. Вспомнил, как схоронил вчера у его корней гильзу с бумагами, и ему показалось, будто с тех пор прошла целая вечность. Разве это не он написал в своем послании, что обладает способностью разрешаться от тела? Почему же он этого не сделал вчера днем, или ночью, или сегодня утром, когда разразилось стихийное бедствие? Почему не делает этого сейчас?.. Секунда, другая — и Фортунат увидел свое тело как чужую, похожую на тень фигуру, прислонившуюся лбом к оконной раме, но мир там, снаружи, несмотря на страшную катастрофу, уже не являл собой призрачный мертвый ландшафт, как прежде, когда он взирал на него в духе: новая земля, содрогающаяся от избытка жизненных сил, простерлась пред его взором, над ней во всем своем цветущем великолепии парила Весна, подобно ставшему вдруг видимым будущему, сердце замирало в предчувствии какого-то восхитительного, несказанного счастья; все вокруг, казалось, желало обратиться в ясное непреходящее видение — вот хотя бы эта яблонька, разве она не Хадир, вечно «зеленеющее древо»?! В следующий миг Фортунат слился вновь со своим телом и увидел бушующую стихию, но теперь-то он знал, что за этим апокалиптическим кошмаром скрывается новая обетованная земля, только что открывшаяся очам его души. Он дрожал от радостного нетерпения, чувствовал, что стоит на пороге последнего высочайшего пробуждения, что его Феникс уже расправляет крылья для полета в эфир. Всем своим существом ощущал близость какого-то сокровенного, выходящего за пределы земных представлений события так отчетливо, что в лихорадочном возбуждении едва мог дышать, — как тогда в хилверсюмском парке, когда, впервые поцеловав Еву, он затрясся в ледяном ознобе, будто ангел смерти вознес его ввысь на своих крылах, подальше от праха земного, в недоступное небо, к вечно цветущим нивам изумрудного Элизиума, и его слуха вновь коснулись слова Хадира: «Ева возжаждала любви непреходящей — и было ей по желанию ее, будет и тебе оной девы ради», казалось, они исходили от белоснежной яблоньки. При мысли о бесчисленных жертвах, которые лежали там, под обломками сметенного ураганом города, Хаубериссер не чувствовал и тени печали: «они до тех пор будут восставать вновь, всегда в иной, измененной форме, пока не обретут последний, высший образ, образ пробужденного человека, который уже не может умереть... Природа тоже будет вновь и вновь обновляться, подобно вечно юному Фениксу». Внезапно он перестал дышать: кто-то стоял рядом, совсем близко, почти вплотную... Нежное дыхание коснулось его лица... Кто бы это? И тут же обмер: неужели... Ну конечно, чье еще сердце, как не сердце возлюбленной, могло биться в унисон с его собственным?! Что-то новое прорастало в Фортунате, открывая ему сокровенный, незримый мир, проницающий собой внешний, видимый. Последняя повязка готова была пасть с его глаз... — Подай мне знак, Ева, что ты здесь, рядом со мной! — тихо взмолился он. — Не обрекай мои надежды на позорный провал. — Какой бы жалкой была любовь, если бы она не могла одолеть пространство и время! — услышал он шепот своей возлюбленной, и волосы у него на голове встали дыбом. — Здесь, в этом доме, я приходила в себя от ужаса земной жизни, в этих стенах я терпеливо ждала, когда же наконец наступит час твоего пробуждения... Тихое, покойное умиротворение сошло в душу Хаубериссера, такое же радостное смиренное ожидание, преисполненное тайного, безмолвного зова Весны, было разлито по комнате — все предметы замерли пред чудом непостижимого преображения. Сердце билось мерно и торжественно. «Пространство, стены, окружающие нас вещи, — внезапно осенило Фортуната, — это лишь внешние обманчивые формы для наших земных подслеповатых глаз; словно проекции невидимого царства, темными тенями падают они сюда, в мир вещественного ...» Казалось, вот-вот отверзятся врата, ведущие в запредельные дали бессмертных. И он попытался представить, в каком свете откроется его пробудившимся чувствам окружающий мир... «Останется Ева со мной, или я приду к ней и мы будем любить друг друга, как это делают обычные смертные?... А может, мы утратим человеческий образ и станем красками или звуками, которые сольются воедино? Будут ли нас окружать предметы, как здесь, на земле, суждено ли нам парить лучами света в бесконечном универсуме или же внешний мир пресуществится вместе с нами и мы пресуществимся в нем?..» Конечно же это будет какой-то узнаваемый, вполне естественный процесс, похожий, возможно, на образование смерчей, — вчера они на его глазах возникали из ничего, из воздуха, обретая доступные внешним чувствам формы, и тем не менее он не имел ни малейшего представления, как это происходило... В предчувствии несказанного блаженства Фортунат вдруг понял: действительность чуда, пережить которое ему предстояло, должна намного превосходить все, что он сейчас в состоянии вообразить. Время шло. Наверное, был уже полдень: высоко в небе парил в туманной дымке сияющий диск. А что, ураган все еще бушует? Хаубериссер прислушался — ни звука... Решив, что заложило уши, приник к окну... Ничего, что могло бы подсказать ответ. Прудов как не бывало. Испарились. Ни капли воды, ни следа жизни. Ни одного куста, насколько хватал глаз... Редкая прилизанная трава. Ни единого облачка — недвижимая небесная твердь. Взял молоток, бросил его на пол — и вздрогнул от грохота... «Итак, снаружи мертвая тишина...» Однако, как он убедился, глядя в подзорную трубу, смерчи еще бродили по городу: огромные каменные блоки штопором, словно перышки, взмывали в воздух, в порту то и дело вырастали исполинские водяные колонны, бесшумно ломались, рушились вниз, вздымались вновь и легким, танцующим шагом, колыша стройными бедрами, уходили в открытое море... Но что это?.. Уж не померещилось ли ему? Колокольни церкви св. Николая как будто раскачивались!.. Одна вдруг рухнула как подкошенная, другая взвилась ввысь, пытаясь ввинтиться в неприступный монолит, и взорвалась там, подобно реактивному снаряду, — гигантский колокол на мгновение свободно повис меж небом и землей... Потом в полнейшей тишине низвергся вниз... Фортунат похолодел: Сваммердам! Пфайль! Нет, нет и нет — с ними ничего не могло случиться: «Хадир, вечное древо человечества, прикроет их своими ветвями!» Разве не сказал Сваммердам, что он переживет храм?.. Ведь есть же островки, вроде этого крошечного зеленого оазиса с цветущей яблоней, где жизнь, заклятая от уничтожения, сохраняется для грядущих времен?! Только сейчас звон разбитого вдребезги колокола достиг его ушей... Дом содрогнулся от удара мощной акустической волны: один-единственный, страшный, всесокрушающий взрыв — Хаубериссеру показалось, что его костяк рассыпался мириадами мелких осколков, словно хрупкий хрустальный бокал, с размаху брошенный о камень. На миг он потерял сознание... «Обрушились стены Иерихона до своего основания![198] — проник в его слух витающий где-то в пространстве торжественный голос Хадира Грюна. — Се человек, пробужденный из мертвых...» Бездыханная тишина... Потом закричал младенец... Фортунат изумленно огляделся... Стал постепенно приходить в себя. Узнал простые голые стены своего жилища, сквозь них почему-то просвечивали стены какого-то храма, покрытые сакральными египетскими фресками: он находился и тут и там — обе действительности были одинаково реальны; видел деревянные половицы, являющиеся одновременно каменными храмовыми плитами: он как будто в один и тот же миг бодрствовал и спал — оба мира пронизывали друг друга, слитые воедино и все же разделенные на два; провел рукой по известковой стене, отчетливо ощущая грубую шероховатую поверхность и тем не менее явственно сознавая, что его пальцы касаются высокой золотой статуи, в которой он признал сидящую на троне богиню Исиду. Какое-то новое, всеобъемлющее сознание вобрало в себя привычное, человеческое, обогатив Фортуната восприятием иного, неведомого мира, который, продолжая, преображая и заключая в себе старый, неким чудесным образом сохранял и оберегал его... Одно за другим, словно цветы из распускающихся почек, просыпались в нем чувства, как бы удваивая себя... И вот наконец пелена упала с глаз его; подобно тому, кто всю свою жизнь видел мир плоским, а потом вдруг разом прозрел и обнаружил, что существует еще третье измерение, он долго не мог опомниться и осознать происшедшей метаморфозы. Мало-помалу Хаубериссер понял, что достиг цели того великого пути, пройти который до конца и есть сокровенный смысл человеческой жизни: он стал обитателем обоих миров... Вновь закричал младенец... Разве не сказала Ева, что хочет быть матерью, когда вновь придет к нему?.. Хаубериссер вздрогнул, словно ожегшись... А что за маленькое голое тельце держит на руках богиня Исида? Уж не живое ли это дитя? Присмотревшись, он увидел, что статуя улыбается... Она шевельнулась... Чем яснее, отчетливей и выразительней проступали фрески и лежавшие вокруг священные культовые принадлежности, тем больше затмевал величественный храм с его красно-золотой сакральной живописью убогое жилище. Оторопело взирал Фортунат на сияющий лик богини, и какое-то смутное воспоминание медленно всплывало в нем: Ева!.. Да ведь это же она, а не золотое изваяние египетской богини, матери богов! Он зажмурился, стиснул пальцами виски и, все еще не смея верить своим глазам, воззвал: — Ева! Ева! Голые известковые стены вновь стали прорисовываться сквозь массивные храмовые плиты, меж которых по-прежнему восседала на троне великая богиня, но рядом с Фортунатом стояло теперь ее земное подобие — настоящая, из плоти и крови, юная цветущая девушка... — Ева! Ева! — С ликующим криком безграничного счастья заключил он ее в свои объятия, покрывая возлюбленную бесчисленными поцелуями. — Ева!.. Долго еще стояли они обнявшись у окна и смотрели на мертвый, поверженный во прах город. «Итак, свершилось! Давай же купно поможем грядущим поколениям воздвигнуть на обломках старого ветхого мира новое, нерукотворное царствие, — проникла в его сознание мысль, озвученная усталым голосом Хадира Грюна, — дабы пришло то время, когда б и я обрящил наконец вечную улыбку». Хижина и храм были видны одинаково явственно... Подобно двуликому Янусу, мог Хаубериссер одновременно, во всех подробностях, созерцать мир небесный и мир земной: по обе стороны — и тут и там — он был воистину живой...
Последние комментарии
5 часов 46 минут назад
14 часов 38 минут назад
14 часов 40 минут назад
2 дней 21 часов назад
3 дней 1 час назад
3 дней 3 часов назад